Новая имперская история Северной Евразии Часть 2
Новая имперская история Северной Евразии Часть 2
Балансирование имперской ситуации XVIII – ХХ вв.
Под редакцией Ильи Герасимова Авторы: Илья Герасимов, Марина Могильнер, Сергей Глебов
При участии Александра Семенова
2017
Содержание
Глава 7. Долгий XVIII век и становление модернизационной империи
Часть 1. От «пороховой империи» к «современному государству»
7.1. Феномен «пороховой империи»
7.2. Камерализм как теория современного государства
7.3. Московия трансформируется из пороховой империи
7.4. Идейная революция Петра I
7.5. Практические итоги государственных преобразований Петра I
7.6. Формирование представления о современном государстве и империи на российской почве
7.7. Конфликт идеологии камерализма и реалий сложносоставной державы
7.8. Первые шаги в сторону конструирования «имперского государства» наследниками Петра I
7.9. Анна Иоанновна и попытка заключения «общественного договора» как основы нового имперского государства
7.10. Реформы Анны и постепенное обособление государства
Часть 2. От «современного государства» к «современной империи»
7.11. Обособление феномена империи и проблема ее «ничейности»
7.12. Стихийное «одомашнивание» империи
7.13. «Изобретение» империи как единого пространства рационализации и модернизации
7.14. Екатерина II и планомерное конструирование империи по канонам просветителей
7.15. Социальная инженерия Российской империи как развитие политической теории просветителей
7.16. «Сопротивление среды» в имперской ситуации как причина «непредвиденных последствий» реформ
7.17. Имперская власть и вызовы самоорганизации исторических акторов
7.18. Единое имперское пространство как главный вызов имперской власти
Глава 8. Дилемма стабильности и прогресса: империя и реформы, XIX век
Часть 1. Современная империя в поисках нации
8.1. Новая историческая ситуация
8.2. Империя и возникновение национальной идеи
«Дух времени»: нация как воплощение «общественного блага»
Попытка расширения основания нации: «вольные хлебопашцы»
8.3. Конституционные проекты Александра I
8.4. Практические меры рационализации имперского разнообразия
Устройство Сибири
Проблема «homo imperii»
Военные поселения
8.5. Война и мир: Священный союз — нация будущего
8.6. Нация против империи Николая I
Смена лидера, преемственность миссии
Самодержавие как современный режим суверенитета
Польское восстание 1830 г. как тест
8.7. Поиски конструктивной реакции на нацию как угрозу
Реформы посткамералистского государства
Имперский национализм
Реформа государственных крестьян и колонизация
8.8. Культ суверенитета как дестабилизирующий фактор
Неузнанный реформизм
Крымская война
Часть 2. Проектирование национальной империи
8.9. Александр II: Великая реформа донациональной империи
Отмена крепостного права как завершение камералистской революции
Крестьянская реформа как обретение народа
Земская и городская реформы: безопасное включение «народа» в управление
Судебная реформа и границы нового многоуровневого гражданства
Военная реформа и мобилизация имперской нации
Колониальная экспансия как национальное самоопределение метрополии
Модернизация интеллектуальной сферы: диалектика либерализации и национализации
Цареубийство: закономерный итог либеральных реформ?
8.10. Александр III: эксперимент с построением русской империи
Оформление проекта русской национальной империи
Контрреформа имперской нации в русскую национальную империю
Ручное управление русской национальной империей и выстраивание границ нации
Русификация и национальный колониализм
Формирование национальной экономики
Империя на распутье
Глава 9. Империя и революция: Революционное движение в имперском обществе до эпохи массовой политики
9.1. Революционный момент имперской ситуации
9.2. Революция без революционной идеи: бунт
9.3. Декабристы и рождение революционных идеологий
9.4. Славянофилы: воображение нации
9.5. Ответ русскому славянофильству: западничество и украинское славянофильство
9.6. Синтез слова и дела: появление радикальной интеллигенции
Революция как преодоление раскола славянофилов и западников
Интеллигенция
Первый интеллигентский заговор
9.7. Кристаллизация революционного проекта: уточнение внешних границ, снятие внутренних ограничений
Революция vs. антиимперское восстание
Идея цареубийства
9.8. Российское революционное движение как феномен глобальной современности
9.9. Воссоединение с народом
9.10. Народничество и национальный вопрос
9.11. Преодоление пассивности нации: исполнители народной воли
9.12. Революционеры на службе исторического прогресса и империи
9.13. Появление современного революционаризма
Глава 10. XX век: империя в эпоху массового общества
Часть 1. Крах режима русской национальной империи
10.1. «Восстание масс»
Феномен современного массового общества
Первое столкновение с современной массой: Ходынка
10.2. Русская национальная империя в эпоху массового общества
Консервативный модернизм режима Николая II
Альтернативы имперского режима
Политика контроля населения
10.3. Массовая политика при утрате обратной связи
Ригидный режим и модерное общество: кризис взаимодействия
Империализм как продолжение «внутренней колонизации»
Война с Японией
10.4 Антиимперский выбор: отказ от компромисса
Новый курс власти: изменение как измена
Сценарий реакционного восстания масс: кишиневский погром
Сценарий революционного восстания масс: анархистский мятеж
10. 5. Революция массового общества
Референдум против имперского режима: союз освобождения от власти
Революция как событие
10.6. Модернистская контрреволюция режима
Использование национальной мобилизации против политической: бакинский погром
Компрометация революции: Броненосец «Потемкин» и провокация восстания
10.7. Взрыв имперской ситуации
10.8. Манифест: второй шанс имперского режима и вспышка гражданской войны
Часть 2. Самоорганизация «прогрессистской империи»
10.9. Бескомпромиссная думская система
Общеимперский парламент в эпоху национализации политики
Избирательная система социальной инженерии
Режим консервативного модернизма против партийной самоорганизации общественности
Дума как площадка бескомпромиссного столкновения национальных проектов
Нарушение равновесия: «бесстыжий вариант»
Феномен виртуальной имперскости: Третья Дума и Столыпин
Крах виртуального имперского компромисса
10.10. Общественность как имперская нация
«Многонациональность» социального воображения
Самоорганизация массового общества и расширение зоны контакта
Стихийная национализация как самоорганизация: случай ваисовцев
Самоорганизация «отдельного народа» штундистов
Столыпинские реформы как продукт самоорганизации
Самоорганизация общества как цепь непредвиденных последствий
Общеимперская общественность, «аполитичная политика» прогрессизма и начало глобализации массового общества
Прогрессистская имперская общественность на распутье
Часть 3. Война глобализации и имперская революция
10.11. Глобализация современности и национализирующиеся империи
Германия
Австро-Венгрия
Османская империя
10.12. Мировая война как национальное сопротивление глобализации массового общества
1914: Глобализация внутренних конфликтов
Первая глобальная война
10.13. Сценарии военной мобилизации Российской империи
Проект военной диктатуры
Реализация довоенных проектов национальной солидарности
Проект самоорганизованной общественности
10.14. Ставка на авторитаризм и начало демонтажа имперского государства и общества
Война как момент истины: выбор пути
Формирование структурного кризиса
10.15. Февраль 1917 г.: взрыв имперской ситуации
Распад «общего дела»
Претенденты на революционную власть
Раскол сверху
10.16. Великая имперская революция
Имперские нации
Потеря обратной связи
10.17. Великая имперская контрреволюция
Распад структур солидарности и неизбежность гражданской войны
Гражданская война как самоорганизация постимперского общества
Глава 7. Долгий XVIII век и становление модернизационной империи
Часть 1. От «пороховой империи» к «современному государству»
7.1. Феномен «пороховой империи»
Несмотря на значительную территориальную экспансию Московского царства в XVII веке, оно оставалось одной из региональных держав (причем, не самой могущественной), наряду с Речью Посполитой и Крымским ханством. При этом Московское царство существенно уступало другим территориально протяженным политическим образованиям Евразии того времени: Османской империи, Сефевидской державе в Закавказье и Иране, а также государству Великих Моголов, занимавшему большую часть Индостана и южного Афганистана. Впрочем, сравнивать Московию с этими державами или с Испанским, Французским или Английским королевством — все равно, что выяснять, кто сильнее: слон или кит. Ни с кем из них Московия непосредственно не граничила и не сталкивалась, каждая из упомянутых держав представляла собой обособленное политическое и культурное пространство, с уникальным политическим и хозяйственным укладом. Их объединял лишь сам факт достижения определенного стратегического веса во внешней политике, признававшегося соседями. Эта не слишком четкая характеристика послужила основанием для создания историками столь же расплывчатого понятия «пороховая империя» (gunpowder empire): начиная с середины 1970-х годов так называют крупные государства XVI−XVII вв., проводившие экспансионистскую внешнюю политику. Первоначально это название применяли к трем крупным исламским державам (Османской, Сефевидской и империи Моголов), но позже так начали характеризовать Китай и Японию, Испанию и Московию.
Вопрос о том, кого можно считать пороховой империей, а кого — нет, зависит от понимания сути этого термина и того, для чего он нужен. Все началось с того, что историки столкнулись с противоречием между эмпирическими данными эпохи раннего Нового Времени и привычными историческими представлениями, уходящими корнями еще в XVIII век. Так, общепризнанным фактом считался постоянный упадок Османской империи с конца XVII (или даже XVI) века, архаичность и неэффективность империй Сефевидов и Моголов, изоляционизм Московии и ее двухвековая отсталость от соседей. Однако это кажущееся самоочевидным отставание не удается обосновать какими-либо убедительными данными: уровень экономического развития, подсчитанный ретроспективно, оказывается примерно одинаковым для «Запада» и «Востока» вплоть до XVIII или даже XIX века (в зависимости от выборки стран и методологии подсчетов), уровень развития институтов централизованного государства также примерно одинаков, а военное могущество — наиболее явный и легко сопоставимый фактор — зачастую однозначно указывает на преимущество «отсталых» османов или моголов. Это обстоятельство и объясняет появление термина «пороховая империя»: речь идет о государстве, казалось бы, отсталом, но с успехом овладевшем самыми современными военными технологиями своего времени.
Впрочем, успешное овладение порохом и огнестрельным оружием не является случайным историческим курьезом и предполагает целый комплекс изменений в общественном устройстве — исторического масштаба. Эти изменения, произошедшие в Европе с середины XVI по середину XVII вв., последние полвека называют «военной революцией», приведшей к появлению новой военной тактики, развитию технологий, экономическому скачку и, в конце концов, созданию современного государства. Массовое использование огнестрельного оружия на поле боя в значительной степени обесценивает значение прежнего костяка средневековой армии — тяжеловооруженной конницы. Несмотря на важные местные различия, практически во всех странах эту роль играли представители знати, которые на свои средства покупали дорогие доспехи, породистых лошадей, обеспечивали себя оруженосцами и, нередко, выставляли еще и вспомогательный отряд. Полевая артиллерия и даже ручное огнестрельное оружие были слишком дорогими для покупки частными лицами, зато обслуживание их не требовало знатности и богатства — лишь навыка. С другой стороны, служба знатных всадников по призыву государя продолжалась лишь несколько месяцев в году, а технологичное огнестрельное оружие, хранящееся и обслуживающееся в казенных арсеналах, предполагало постоянное несение службы. Итогом распространения огнестрельного оружия стало появление постоянных массовых армий, формировавшихся за счет наемных профессиональных солдат и регулярных рекрутских наборов населения.
Производство огнестрельного оружия требует развития металлургии в промышленных масштабах, металлургия — развития горнодобывающей промышленности. И то и другое требует средств, огромные деньги необходимы и на выплату жалования наемникам — как рядовым солдатам, так и складывающейся корпорации офицеров, для которых оклад является основным источником существования. Вся тяжесть расходов падает на казну, которая обособляется от личного богатства монарха даже там, где четкое разделение на «государственные» и «царские» доходы отсутствует. Возникает отдельная сфера расходования средств, не связанная с предметами роскоши, увеселениями, дворцами правителя и направленная на удовлетворение интересов всей страны как политического целого. Эта беспрецедентно расширившаяся сфера требует рационального управления чиновниками, регулярного финансирования за счет дополнительных сборов с населения, юридического урегулирования отношений собственности и обязательств, одним словом — возникновения государственного аппарата и вообще современного государства как самостоятельного коллективного субъекта политики, экономики, культуры и права.
Поэтому, становясь «пороховым», любое раннемодерное политическое образование запускало механизм модернизации. Другое дело, что описанная кратко «магистральная линия» исторического развития далеко не сразу и довольно непоследовательно возобладала даже в тех странах, которые обычно противопоставляют пороховым империям как примеры успешного построения «централизованного государства». До поры до времени стратегическое лидерство принадлежало пороховым империям. В конце концов, само огнестрельное оружие появилось и получило распространение первоначально в Азии и лишь постепенно проникло в Европу; когда в конце XV века в Европе появился фитильный замок (для выстрела нужно было поджечь фитиль, ведущий к пороховому заряду в стволе), на Ближнем Востоке уже изобрели более технологичный кремневый замок (для выстрела высекалась искра в момент нажатия на спусковой крючок). Постоянная регулярная армия, комплектуемая за счет выходцев из непривилегированных слоев населения, появляется сначала в Османской империи (корпус янычар — тур. yeniçeri, «новый воин»). К 1550 году в Московии создается профессиональное стрелецкое войско, пришедшее на смену ополчению пищальщиков. Первоначальная численность стрельцов составляла 3000 человек, спустя столетие их число превысило 50.000. В Англии же, к примеру, современная регулярная армия возникает только в 1645 г. — Армия нового образца (New Model Army), созданная парламентом в ходе гражданской войны с королем, изначально насчитывавшая по штату (на бумаге) 22.000 человек. Только тогда впервые английская армия оказалась единой структурой с централизованным командованием, состоявшей из профессиональных солдат, готовых воевать на любой территории, проходящих унифицированную подготовку и регулярную тренировку. Тогда же в Англии (и в целом на западе Европы) впервые появляется общая военная форма — притом, что в России стрельцы носили стандартное обмундирование уже, по крайней мере, с начала XVII в., полки отличались друг от друга цветом кафтанов. Еще в 1683 году армия «пороховой» Османской империи едва не захватила после двухмесячной осады Вену — символ Священной Римской империи германской нации. Последовавший разгром османской армии под Веной в 1683 г. обычно рассматривают как свидетельство слабости пороховых империй — однако главный вклад в разгром османов внесла польско-литовская армия под командованием короля Яна III Собеского, совершенно архаичная с точки зрения военной организации. Исход сражения решил удар дворянской (шляхетской) кавалерии, в авангарде которой сражались несколько сотен или тысяч запорожских казаков — прямая противоположность идеалу регулярного войска.
К этому времени — 1680 г. — армия Российского государства достигала 165.000 человек, из которых свыше половины составляли полки «нового строя» («иноземного строя»): подразделения профессиональных военных, получавших жалованье за службу, подчинявшихся централизованной команде и воинской дисциплине, проходивших единообразное обучение и подготовку (с использованием переводных тактических наставлений). 37% всей армии составляли «солдатские» полки (пехота), 18.5% гусары и рейтары (кавалерия), 3% пушкари, 2% «иноземцы» — военные специалисты (все вместе свыше 60%). Армия управлялась и координировалась Разрядным приказом (образующим, наряду с Иноземным и Рейтарным приказами, фактически, военное министерство), подчинялась единому главнокомандующему, порядок службы регламентировался Уложением о службе, принятым еще в середине 1550-х гг., в начале царствования Ивана IV. Несмотря на то, что оружие регулярно закупалось за границей (иногда в больших объемах), в принципе, все виды вооружения производились внутри страны. После открытия залежей железной руды в районе Тулы и строительства там нескольких мануфактур выходцами из Нидерландов в 1630-х гг., в Туле было налажено производство чугуна и литье пушек и ядер (в основном, иноземными мастерами). По некоторым данным, в 1646 г. более 600 тульских орудий было куплено для самой передовой армии того времени — голландской, в начале 1647 г. на экспорт отправили еще 360 пушек.
Почему же тогда Османская империя или Московское царство XVII века воспринимаются как архаичные «пороховые империи»? Нельзя ли считать и экспансию Речи Посполитой на восток в начале XVII в. типичной политикой пороховой империи? И чем отличается от заморского экспансионизма «пороховых империй» Испании или Португалии колонизация Англией Ирландии или обширных территорий в Новом Свете? Поскольку «пороховая империя» — скорее метафора, чем научная модель, самым наглядным отличием является ставшее очевидным в XVIII веке (и усугубившееся в XIX веке) отставание Испанского королевства или Османской империи от западноевропейских и североевропейских стран — отставание, о котором в XVII веке еще никто не мог знать. Но был и более существенный фактор, отличавший уже в середине XVII века германские княжества Священной Римской империи, Республику соединенных провинций Нидерландов, Французское и Английское королевства от других, часто весьма могущественных государств. Это отличие — распространение идей камерализма как руководящих принципов организации общества.
7.2. Камерализм как теория современного государства
Kammer — по-немецки «палата», но также «кладовая». К середине XVII века камерализм стал господствующей доктриной и мощной индустрией производства суждения в трех основных областях: организации государственных финансов, системы хозяйствования (Oeconomie) и упорядочивании общества (Polizey). Бесчисленные ученые трактаты и публицистические памфлеты начиная с XVI века распространяли представление о том, что целью правителя является достижение общественного блага всех подданных, а средством к этому является рациональная и благотворная деятельность просвещенных служащих, заседавших в королевских Kammer (членов советов, или коллегий). Наиболее известными продуктами камералистского мышления были экономическая доктрина меркантилизма (обычно связываемая с именем знаменитого министра французского короля Людовика XIV Жана-Батиста Кольбера) и теория административного устройства «gute Polizey» — упорядоченного и правильно управляемого государства. Меркантилизм диктовал политику интенсивной международной торговли с положительным балансом импорта и экспорта (побольше ввозить и поменьше вывозить, защищая хозяйство страны высокими пошлинами и стараясь накапливать как можно больше драгоценных металлов). Теория полицейского государства предлагала рационализировать и регулировать все сферы общественных отношений едиными законодательными нормами, исходящими от государя. Возникшая в конце XVIII века концепция «правового государства» критиковала идеал «полицейского государства» за возможность злоупотреблений со стороны законодателя и бесконтрольного административного аппарата — но сама идея единообразного и рационального регулирования общества, впервые возникшая в рамках теории полицейского государства, осталась неизменной.
Впрочем, тексты камералистов затрагивали все аспекты жизни общества и все отрасли, способные приносить доход, от птицеводства до рудного дела. Как демонстрируют современные исследования, камерализм (Kameralwissenschaft) представлял собой колоссальных масштабов риторический механизм, главным продуктом которого было не точное экономическое или социальное знание и не инновационные практические советы производственного и административного характера, а создание и продвижение самого представления о государстве как едином рационально устроенном организме, обслуживаемом лояльными и квалифицированными чиновниками.
Вплоть до конца XVII века в социально-экономическом плане (а тем более, как мы видели, в военно-техническом) «пороховые империи» не отличались принципиально от будущих «передовых стран». Камералисты в роли ученых теоретиков и практиков-управленцев не добились — да и не могли добиться — немедленной перестройки системы хозяйственных отношений или администрирования. Реальная деятельность камералистов на государственной службе в основном сводилась к изысканию средств для хронически пустой казны любыми способами — также ничем не отличающимися от принятых в «отсталых» странах. Дополнительные налоги и сборы с населения, расширение привилегий государя и казны, нечистоплотные финансовые махинации — всем этим занимались члены королевских «камер». В явном противоречии с декларируемым служением камералистов общественному благу эти правительственные органы неизменно назывались «тайными советами» (или, по крайней мере, окружали свою деятельность завесой секретности). Главным секретом была двойственная природа Kammer: на бумаге это была палата мудрых управленцев, а на деле — кладовая, аппарат пополнения казны. Однако развитие общественного мнения и воображения в камералистском духе сглаживало многие противоречия и гасило конфликты: налоги, сборы и повинности не воспринимались как наступление тиранической власти на вековые привилегии населения, если подавались как элемент прогрессивного упорядочивания ради общего блага.
В этом и заключалась главная заслуга камерализма: абстрактная идея «государства» внедрялась в умы подданных и правителей, формировалось представление о чиновнике как служащем этому государству — не из вассального подчинения сюзерену, и не ради корыстного злоупотребления должностью («кормления»), а с целью внести вклад в общественное благо. Частью этого процесса было распространение идеи политического общества («нации») как более фундаментальной категории, чем сословия, — даже в странах с сильными кастовыми традициями. Камерализм стал основой современного, полностью секулярного социального мышления, осмысливающего общественные процессы в категориях частной выгоды, общественного блага, универсальной законности. Большинство деклараций и рекомендаций камералистов были совершенно фантастическими, но внедрение камералистского мышления в общество (которое, в соответствие с камералистской доктриной, становилось все более грамотным и рациональным) имело самые практические последствия. Те страны, которые не восприняли камерализм как комплексное мировоззрение (а не только экономическую доктрину меркантилизма или рекомендованную административную структуру) в XVIII веке оказались среди «отсталых», ретроспективно объявленных «пороховыми империями». Речь Посполитая — «шляхетская республика» — имела одну из самых обширных в Европе сфер образованной публики, обсуждавшей и интерпретировавшей новейшие идеи. Однако идея вмешательства центральной власти во все сферы жизнедеятельности популярностью не пользовалась, а попытки расширения «государства», развития и упорядочивания исполнительной власти блокировались дворянством, опасавшимся утраты свободы и привилегий. В результате, современное государство не стало общим (пускай и фантастическим) идеалом, а значит, и реальностью. Османская империя, напротив, могла внедрять частные экономические и административные рекомендации камералистов — но сами по себе они стоили немного. Необходимо было в широкой публичной дискуссии полностью переосмыслить основы общества и государства, роль правителей и их чиновников — но этого не было сделано, прежде всего, в силу отсутствия (в отличие от Англии или Франции) единой развитой «публичной сферы»: круга образованного общества, участвующего в производстве и распространении идей и мнений при помощи массовой прессы.
Вне созданной камерализмом системы представлений об обществе частные достижения «пороховых империй» не могли участвовать в направленной цепной реакции рационализации и прогресса (как это предполагает историческая схема, очерченная в начале этой главы). «Новые воины» — янычары Османской империи оказались вписаны в традиционную социальную нишу военных рабов. Это не значит, что от этого они были менее эффективны на поле боя, чем западноевропейские воины (вплоть до конца XVII века все было скорее наоборот), но их высокая боевая эффективность не становилась фактором, стимулировавшим дальнейшее развитие экономики и управления. Изменение общественно-политической ситуации в империи (снятие многих «рабских» ограничений с янычар и отмена «налога кровью» — принудительного набора христианских подростков в янычары в конце XVII в.) окончательно превратило институт янычар в архаизм и с военной точки зрения. Московские стрельцы были передовой военной силой своего времени, однако за неимением универсалистской модели государства, подобной камерализму, их место в обществе было осмыслено в категориях позднесредневекового социального воображения. Стрельцы стали одной из многочисленных партикуляристских (обособленных) категорий населения, со своим уникальным набором привилегий и повинностей перед царем. «Нормальность» стрельцов как одной из категорий населения Московского царства подчеркивалась тем, что они селились в особых слободах, с семьями, в собственных избах с огородами, в свободное от службы время занимаясь хозяйственной деятельностью — торговлей, промыслами и даже земледелием (особенно в отдаленных от Москвы городах). Благодаря этому их содержание обходилось казне дешевле, чем профессиональные армии в немецких землях, однако со временем сам смысл стрелецкого войска трансформировался под влиянием логики ситуации. Экономические и семейные интересы играли в глазах стрельцов все большую роль, военная деятельность — все меньшую, и к середине XVII в. боеспособность стрельцов как военной силы упала.
7.3. Московия трансформируется из пороховой империи
Таким образом, Российское царство имело все шансы последовать примеру Османской империи: сферы общественного мнения, поддерживаемой секулярной публицистикой и книгоизданием, не существовало. «Государева служба» предполагала, прежде всего, лояльность царю на том месте, которое довелось занимать, и она никак не соотносилась с идеей «государственной службы» для «общего блага», состоявшей в наиболее рациональном и продуктивном исполнении своих обязанностей с точки зрения этой высшей миссии.
В то же время, с самого начала XVII века московские власти проявляли большой интерес к камералистским идеям. Вероятно, сказывалась травма Смутного времени и сложная внешнеполитическая обстановка, наглядно демонстрировавшая военное и экономическое могущество североевропейских стран — которое и в этих странах, и в Московии объясняли чудодейственным влиянием передовых камералистских взглядов. Создание (после нескольких попыток) современной регулярной армии, введение в 1658 г. рекрутского набора крестьян в солдаты, принятие новой тактики боя были лишь наиболее заметным результатом влияния новых идей. Не меньшую роль играли финансово-экономические меры, призванные финансировать реформу армии. С начала 1630-х гг. организуется масштабная продажа хлеба за границу в рамках государственной монополии на торговлю, позволявшая получать цену, в десять раз превышавшую закупочную стоимость зерна. Торговля зерном играла важнейшую роль и в Речи Посполитой (ее хлебный экспорт превышал по масштабу экспорт Московии в 20 раз), однако основная часть доходов там шла землевладельцам, а не в казну. В 1640-х гг. была предпринята попытка возложить финансовую ответственность за недоимки по сбору податей на воевод — то есть рассматривать их как откупщиков на коронной службе (по французскому или голландскому образцу), однако это непопулярное решение быстро отменили. Тогда была сделана попытка — в полном соответствии с рекомендациями камералистов (особенно голландских) — отменить прямые налоги, заменив их косвенными (акцизами), в первую очередь на соль. Но пошлина оказалась слишком большой, соль вздорожала в несколько раз, что привело к ее дефициту и бунтам. В 1650-х гг. вывоз хлеба увеличился в два раза, а церкви и монастыри были обложены реквизициями в пользу казны — в соответствии с камералистской установкой на секуляризацию церковного имущества. По примеру шведских камералистов был налажен выпуск медных денег, однако без поддержки экономического роста (и, что еще существеннее, контрибуций с поверженных противников) через несколько лет произошло обесценение валюты и пятикратный рост цен (что также закончилось масштабными восстаниями). Даже противники открытого заимствования иноземного опыта действовали, по сути, в камералистской логике. Патриарх Никон, возглавивший кампанию против западноевропейских купцов и офицеров, проводил радикальную церковную реформу, суть которой сводилась к унификации и регламентации церковного обряда. При этом он опирался на «экспертизу» и «кадры» иноземцев — в первую очередь, константинопольских и украинских священнослужителей.
И Никон, и правительственные реформаторы встретили открытое сопротивление своим действиям, вплоть до открытого восстания. Реформаторов вполне обоснованно обвиняли в злоупотреблениях положением и воровстве казенных средств. В этом отношении они вряд ли отличались от европейских придворных камералистов, но главной проблемой попыток камералистских реформ в Российском царстве было именно отсутствие «камерализма» как общепринятой системы представлений и обоснования политики. Без нее отдельные камералистские меры оказывались неэффективными или, во всяком случае, не могли скрыть свою подлинную суть (выжимание денег из подданных новыми способами), а значит, и снизить уровень противодействия населения.
Распространение в обществе новых идей является длительным и нелинейным процессом — тем более при незначительной грамотности населения и отсутствии средств массовой информации. На пути камералистской «мировоззренческой революции» в России было и важное политическое препятствие. Легитимность новой династии Романовых основывалась на памяти об изгнании иноземцев после катастрофической Смуты начала XVII столетия, на поддержке со стороны боярской аристократии и служилого поместного дворянства. В принципе, ни один из этих факторов не служил непреодолимой преградой для социально-политической трансформации: количество иностранцев в стране постоянно увеличивалось, и народное возмущение вызывали скорее выдаваемые им огромные привилегии, а не их костюмы и вера; еще в середине XVII в. многие бояре сами начали заводить мануфактуры; поместное дворянство постепенно интегрировалось в структуру современной профессиональной армии. Этот процесс казался долгим и непоследовательным, поскольку накапливающиеся изменения не находили выражения в четких лозунгах, в яркой форме — что никак не умаляет значительности происходившей трансформации «пороховой империи» по инициативе правителей. В последней четверти XVII в. частные преобразования постепенно складываются в определенную систему, которая начинает обретать собственную логику и диктовать дальнейшие шаги.
После смерти в 1676 г. (после 30 лет правления) второго царя из династии Романовых, Алексея Михайловича, на престол вступил его 15-летний сын Федор Алексеевич. Его воспитанием, по поручению отца, занимался Симеон Полоцкий — уроженец Великого Княжества Литовского, получивший образование в Киево-Могилянской коллегии и Виленской иезуитской академии. В результате молодой царь свободно владел польским языком и, как полагают, знал латынь. В 1680 г. он женился по любви — точнее, по любви с первого взгляда. Во время церковного крестного хода он приметил в толпе поразившую его воображение девушку. Соблюдая традиции, он распорядился провести смотр невест, но выбор свой сделал заранее и не изменил его, несмотря на интриги влиятельных придворных (в похожей ситуации его 18-летний отец поддался давлению и не решился жениться на приглянувшейся ему во время смотра девушке). Избранницей Федора Алексеевича оказалась Агафья Грушецкая — дочь шляхтича Семена Грушецкого, управляющего имениями Великого гетмана литовского (то есть главнокомандующего войском ВКЛ), в дальнейшем перебравшегося на московскую службу. Культурное влияние ВКЛ на молодую царскую семью проявилось даже в символически значимых бытовых новшествах: молодая царица не покрывала целиком волосы, но носила небольшую кокетливую, отороченную мехом «польскую» шапочку. Она не скрывалась на женской половине дворца, а участвовала в публичных церемониях, сопровождала царя и восседала рядом с ним. Сам царь Федор Алексеевич ввел моду, подхваченную придворными, на «польский» (центрально-европейский) костюм, длинные волосы, подстриженные бородки. Некоторые начали публично курить, носить короткополые североевропейские кафтаны.
Гораздо существеннее была государственная деятельность молодого царя. В 1682 г. происходит революционная реформа государственной службы: отменяется «местничество» как принцип продвижения по службе на основании относительной знатности рода и признанных заслуг предков. Разрядные книги, в которых регистрировалась эта информация, решительно сожгли. Распространение местничества в конце XV века считается заимствованием из практики ВКЛ: в свое время в, результате включения в состав Великого княжества Литовского бывших рѹських земель, местная знать почувствовала угрозу со стороны Гедиминовичей и других литовских знатных родов. Чтобы защитить свои владения и привилегии от пришельцев, рѹськие князья и бояре настаивали на древности и заслугах своих кланов как основании для равноправия и даже собственного превосходства. Расширение Великого Московского княжества за счет ВКЛ воспроизвело эту ситуацию: теперь у Московии возникла необходимость консолидировать и упорядочивать разношерстную знать разных земель. Способствуя интеграции привилегированного сословия, местничество вызывало постоянные споры о старшинстве служилых людей и паралич властных органов, последствия которого были особенно заметны (и катастрофичны) во время сражений. Чиновники, руководствующиеся в своей службе соображениями старшинства и большей знатности рода, по сути, оставались вассалами сюзерена, исполнявшими обязанности из преданности государю, а не порученному им делу. Без ликвидации местничества невозможно было и помыслить — вслед за камералистами — идеальное государство как систему анонимных институтов, функционирующих вне зависимости от личности чиновника и даже правителя, в интересах «общественного блага».
В 1676−1678 гг. была проведена перепись населения, по итогам которой поземельное налоговое обложение сменилось подворным — более адекватно учитывающим наличные человеческие ресурсы, первый шаг на пути к личному налогообложению. Одновременно продолжали расти косвенные налоги, пропагандировавшиеся камералистами: в структуре доходов казны их доля превысила 53% (доля прямого подворного налога составила 44%). Была предпринята попытка рационализировать деятельность приказов, если не ликвидируя те, что частично дублировали функции друг друга, то, по крайней мере, подчиняя их одному руководителю (в качестве «департаментов» одного «министерства»). Федор Алексеевич готовил открытие высшего учебного заведения (Академии), для которой был заготовлен устав («привилегия») и приглашены преподаватели (из Константинополя, но получившие образование в Италии). Однако, поскольку в стране отсутствовали и средние, и начальные учебные заведения (за исключением монастырских школ), то сначала в 1681 г. была открыта Типографская школа при Печатном дворе. Несколько десятков учеников (всех званий) получали в ней начальное образование, а по мере освоения курса переходили на ступень среднего.
В 1682 г., на шестом году правления, Федор Алексеевич умер, и царями-соправителями были провозглашены младшие сыновья Алексея Михайловича: сын от первой жены, 15-летний Иван, и младший сын от второй жены, 10-летний Петр. Инспирировав мятеж стрельцов, реальную власть захватила 25-летняя Софья Алексеевна, объявленная регентшей при недееспособном Иване (имевшем серьезные физические и, возможно, умственные проблемы) и малолетнем Петре. В ходе стрелецкого мятежа были убиты влиятельные сторонники клана матери царевича Петра, а сама вдовствующая царица и младший соправитель Петр были отправлены из Кремля в подмосковную резиденцию. Следующие семь лет страной впервые правила женщина, чье изображение чеканилось на золотых монетах, а сама она участвовала во всех публичных церемониях, традиционно считавшихся (по крайней мере, до Федора Алексеевича и царицы Агафьи) сугубо «мужским» пространством. Получившая, как и все дети царя Алексея Михайловича от первого брака, хорошее образование, Софья Алексеевна (1657–1704) говорила по-польски, знала латынь, одевалась по «польской» моде (заведенной царицей Агафьей).
Правление Софьи отмечено продолжением прежнего курса на «камерализацию» России. Так, значительная часть изданных ею указов касается мелочной регламентации городского быта — и в этом царском вмешательстве в «мелочи» (совершенно в духе германских и голландских правителей) лучше всего проявился фундаментальный поворот политической культуры Московии. Вмешиваясь в частную сферу жизни подданных в высших интереса общего блага, царевна-регентша запрещала стрельбу из ружей в домах и выбрасывание мусора со дворов на улицу; регламентировалась скорость езды упряжек по городу и места разрешенной стоянки лошадей на территории Кремля. Одновременно принимались большие стратегические решения: открылась Славяно-греко-латинская академия (прообраз университета); после более двух столетий войн за территории ВКЛ был заключен «Вечный мир» с Речью Посполитой и Московское царство вступило в Священную лигу — союз Священной Римской империи, Речи Посполитой и Венецианской республики против Османской империи. Тем самым, Российское государство впервые вступило на общих основаниях в систему большой международной политики. Выполняя принятые перед союзниками обязательства, московские войска совершили два масштабных похода против вассала Османской империи — Крымского ханства. Войска не проникли за Перекоп на сам Крымский полуостров, однако впервые инициатива в противостоянии с Крымом перешла к Москве, которая продемонстрировала способность привести огромную армию (свыше 100 тыс. человек и сотни орудий) через степи, к внутренним территориям ханства. Вторжение на полуостров стало лишь вопросом времени.
7.4. Идейная революция Петра I
Таким образом, на протяжении XVII века правители Российского царства вполне целенаправленно пытались рационализировать свою «пороховую империю» в соответствие с камералистским идеалом правильно упорядоченного государства с сильной централизованной властью, производительной экономикой и мощной армией. Отдельные принимаемые меры не давали ожидаемого волшебного результата, поскольку им недоставало главного — всеобщей мировоззренческой революции. Только распространение нового понимания государства и его задач делало осмысленными отдельные реформы с точки зрения достигнутых результатов — или, во всяком случае, в восприятии обладающих этим пониманием современников и позднейших историков.
Неизвестно, сколько времени занял бы мировоззренческий переворот при дальнейшей стихийной «камерализации» Московского царства — и произошел бы он вообще в масштабах всей страны, однако династический кризис конца XVII века привел к радикальной революции мировоззрения и политики, тесно связанной с личностью царя Петра Алексеевича — Петра I (1672–1725). Самого младшего ребенка царя Алексея Михайловича не готовили в правители, и отсутствие систематического воспитания в традиционной политической культуре Московского царства в сочетании со стремлением обосновать незаконность власти конкурентов на престол (прежде всего, сводной сестры Софьи Алексеевны) сделали из Петра идеального «ниспровергателя устоев». Петр обосновывал свое право на власть не просто происхождением, но обладанием особым пониманием целей власти и видения курса развития страны — что уже само по себе являлось элементом «идеологического» камералистского отношения к власти как инструменту достижения неких высоких целей.
Вполне возможно, что к 1725 году (времени смерти Петра) Россия достигла бы не меньших результатов в экономическом и политическом отношении и в результате постепенной эволюции в русле предшествующего периода (к тому же, куда меньшей ценой): три десятилетия — большой срок. В одном отношении, однако, достижение Петра I бесспорно: он сумел навязать новый образ России ее обитателям и, в значительной степени, соседям. Вместо полуосознанной роли самобытного царства, способного собрать немалое войско («пороховой империи»), он внедрил представление о России как современном централизованном государстве, построенном на новейших принципах политики и административной науки (то есть на абсолютизме и камерализме). Неважно, что реальность была далека от официальной риторики, а сами попытки создать «хорошо управляемое полицейское государство» внутренне противоречивы и малоэффективны — в этом отношении Петр лишь последовательно воплощал камералистский проект. Концептуальная революция политического воображения была основополагающим и самодостаточным элементом этого проекта; реальный рациональный и эффективный государственный аппарат был создан лишь в XIX веке — и на западе, и на востоке Европы.
Первоначально царствование Петра I отличалось, скорее, консерватизмом по сравнению с его предшественниками: дело в том, что самостоятельным правителем он стал довольно поздно. Вплоть до достижения им семнадцатилетия (когда иные из его предшественников уже активно проявляли себя на троне) правителем страны была его сводная сестра Софья. В результате обострения политического противостояния между придворными партиями в июле-августе 1689 г. происходит дворцовый переворот, регентшу Софью заключают в монастырь, освобождая место на вершине власти для Петра — но и после этого управление царством мало его интересует. До своей смерти в начале 1696 г. соправителем Петра оставался старший сводный брат, больной Иван Алексеевич. Реально же власть была в руках матери Петра Натальи Кирилловны и ее родственников из числа мелкопоместных провинциальных дворян, почти не затронутых камералистской культурой. Лишь после ее смерти (в начале 1694 г.) 22-летний Петр начинает заниматься государственными делами.
До этого все его интересы сводились к военным забавам и светским развлечениям по европейскому образцу — совершенно типичному времяпрепровождению европейских принцев эпохи абсолютизма (то есть камералистски оформленной абсолютной монархии). В своей подмосковной резиденции молодой Петр набрал два полка профессиональных солдат, с которыми проводил маневры и парады — в дальнейшем они станут основой гвардии Петра: Преображенский и Семеновский лейб-гвардейские полки. На близлежащих речках и озерах Петр пытался строить маломерные боевые суда.
Остальное время Петр старался проводить в соседней Немецкой слободе — подмосковном сеттльменте, в который заставили переселиться всех иностранцев по указу 1652 г. — в рамках реформ нового патриарха Никона. Местная колония «экспатов» (переселившихся на чужбину иностранцев) была разношерстным собранием довольно маргинальных типажей разных североевропейских стран. Юного Петра подкупала и привлекала царившая там свобода нравов (вероятно, куда большая, чем на родине этих людей), практичность, выражавшаяся в пренебрежении многими условностями, и прагматизм как наиболее очевидное проявление рациональности. Кроме того, именно в Немецкой слободе можно было найти специалистов в единственной интересующей его сфере: военном деле.
Таким образом, Петр достиг взрослого возраста (по меркам эпохи), не имея ни представления об управлении Московским царством и его нуждах, ни интереса к этому. Однако неправильно представлять его живущим в изоляции от окружающей социальной реальности и политики, сосредоточенным лишь на военных играх и пирушках: просто для него был актуальнее другой социальный и культурный контекст, который он воспринимал через призму непритязательного общества обитателей Немецкой слободы. Можно предположить, что особое влияние на формирование политического идеала юного Петра оказала Священная Римская империя германской нации (под властью династии Габсбургов) — причем увиденная иронично-завистливым взглядом выходцев из немецких лютеранских земель, составлявших большинство населения подмосковной слободы.
Так, построенная в 1686 г. при непосредственном участии четырнадцатилетнего Петра возле его загородной резиденции крепость (ставшая центром его военных игр) была названа им Прешбург — то есть Пресбург (современная Братислава), столица венгерского королевства в составе империи Габсбургов. В 1683 г., во время похода османов на Вену, город пал, но его замок так и не был захвачен, став символом непреступной крепости. В это же время Петр собирает кружок приближенных — русских и иностранцев — под названием «Всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший Собор». Как ясно уже из названия, кружок был создан для проведения разгульных пирушек, однако значение его было куда большим. «Собор» просуществовал фактически до конца жизни Петра, представляя пространство эмансипации от любых традиционных норм: речевых, религиозных, гендерных и т.п. Во многом он напоминал внутренний круг высших опричников при Иване Грозном — та же форма закрытого ордена, номенклатура церковных званий участников («дьяконы», «архидьяконы», «диаконисы» и т.п.), только вместо совместных убийств члены петровского ордена занимались совместным весельем. Примечательно, однако, что во главе «Собора» стояли две высшие фигуры: «князь-папа» и «князь-кесарь» (то есть император). В концентрированном (и потому искаженном) виде «Собор» служил моделью идеализированной Европы, олицетворяемой Римским Папой и императором Священной Римской империи, избираемым собранием имперских князей-выборщиков. Значение «соборных» шуточных отношений и иерархий выходило далеко за рамки пирушек: так, получивший шуточный титул «князя-кесаря» в «соборных» застольях Федор Ромодановский (1640−1717) перенес его в политическую реальность. Начиная с середины 1690-х гг. он фактически являлся главой правительства и одновременно возглавлял Преображенский приказ с функциями тайной полиции — при этом даже в официальных документах он именовался «князем-кесарем».
Примечательно, что сам Петр вовсе не стремился к формальному главенству в создаваемых им структурах: у «Всешутейшего Собора» были свои «князь-папа» и «князь-цезарь», которым воздавались ритуальные почести (сам Петр к 1706 г. занимал лишь четвертый по значимости в «соборной» иерархии ранг «протодиакона»); у гвардейских полков были свои командиры, и Петр числился лишь рядовым чином Преображенского полка, постепенно продвигаясь по служебной лестнице (к 1706 г. дослужившись до чина полковника). Даже на «настоящем» государственном поприще он стремился избегать формального главенства: во время его многомесячных и даже многолетних отлучек из Москвы, начиная с середины 1690-х гг., он без колебаний вверял всю полноту власти «князю-кесарю» Ромодановскому, которого называл в самых серьезных письмах «королем» и даже «пресветлым царским величеством», подписываясь «холопом» и «последним рабом».
При этом Петр ни на минуту не позволял забыть, кто являлся подлинным господином страны, однако создается впечатление, что его больше интересовала не сама власть, а возможность создания «виртуальной реальности», в которой он мог свободно реализовывать свои интересы и желания. Из описания петровских затей 1680-х — 1690-х гг. возникает образ эдакого немецкого армейского капитана или полковника на жаловании в некой обобщенной европейской среде — при этом с неограниченными материальными и человеческими ресурсами в его распоряжении. Это нечто вроде современной ролевой компьютерной игры, в которой игроку удалось отключить ограничения на количество попыток достижения поставленной задачи и объем доступных припасов. Речь идет не о поиске безответственных развлечений — Петр был готов к труду, лишениям и не раз рисковал своей жизнью — а о придании более высокого статуса виртуальной реальности по сравнению с окружающими социальными и культурными реалиями. Петр не пытался изменить (рационализировать, реформировать) существующие институты и отношения, с которыми он был плохо знаком и которыми мало интересовался, — он стремился воплотить в жизнь некий сложившийся в его воображении готовый образ. Это объясняет демонстративную перформативность многих его начинаний (то есть действий, предпринятых ради самого процесса исполнения) и даже иррациональность их: так бывает, когда обретение желаемого (конкретного) антуража важнее достижения некой (обычно абстрактной) цели.
Так, первым значительным решением Петра как самостоятельного правителя стал военный поход против Азова — османской крепости Азак в устье Дона, у впадения его в Азовское море. Против 7-тысячного азовского гарнизона весной 1695 г. была двинута 30-тысячная армия со значительной артиллерией. Первая кампания потерпела неудачу: понеся значительные потери, московские войска вынуждены были отступить. Проанализировав причины неудачи (отсутствие полной блокады крепости со стороны моря), Петр повелевает развернуть спешную постройку военных судов. Уже в мае 1696 г. 70-тысячная армия при поддержке двух десятков галер и сотен мелких судов вновь осадила Азов, и в июле крепость капитулировала. В отличие от походов против Крыма 1687 и 1689 гг., организованных правительством царевны Софьи, в азовских походах трудно найти политический или стратегический смысл. Крымское ханство представляло прямую и реальную военную угрозу Московскому царству — в отличие от небольшого османского гарнизона Азова; конфликт с Крымским ханством лишь косвенно вовлекал московских правителей в противостояние с могущественной Османской державой (сюзереном формально независимого Крыма) — нападение на Азов означало открытую войну. В случае победы над Крымом Московское царство получало доступ к акватории Черного моря (даже если просто удалось бы навязать выгодный двусторонний договор ханству). Взятие Азова давало лишь доступ к внутреннему Азовскому морю, выход из которого в Черное море надежно контролировался Крымом (см. карту). Зато к Азову было реально перебросить войско вниз по Дону и снабжать его провиантом и водой, а для того, чтобы вступить в сражение в Крыму, сначала требовалось решить сложнейшую организационную задачу по преодолению обширной безводной Ногайской степи огромной армией и обозом. Ради достижения глобальных стратегических целей нужна была война с Крымом; для войны как таковой рациональнее было напасть на наиболее удобно расположенного легитимного противника — кроме турецкого Азова других подходящих кандидатов и не было.
После триумфального возвращения из победоносного азовского похода Петр принимает второе важное решение: указом от 22 ноября 1696 г. он мобилизует несколько десятков дворян для прохождения обучения за границей (это должно было расширить круг его единомышленников и осмысленных помощников — знатоков всего «немецкого»). А спустя две недели, указом 6 декабря, в турне по европейским странам отправлялось многочисленное «Великое посольство», в составе которого под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова за границу поехал и сам царь Петр. Так еще раз проявились два главных интереса Петра: война и европейский образ жизни. Испытав себя на настоящей войне, Петр теперь захотел увидеть Европу в натуре, а не в виде подмосковной колонии «экспатов».
Характерно, что и в заграничном путешествии, которое продлилось без малого полтора года, Петр играл формально незаметную роль — хотя все ключевые переговоры проводил лично и все важные решения принимал сам. Официально задачей посольства было укрепление антиосманской коалиции и побуждение союзников по Священной лиге к активным военным действиям против Османской державы. Однако невозможность общеевропейской войны с турками стала ясна почти немедленно, и оставшееся время огромное посольство в 250 человек выполняло роль «службы тыла» при венценосном путешественнике. Петр много месяцев провел на судовых верфях Голландии и Англии, обучаясь кораблестроительному ремеслу и основам инженерного проектирования морских судов. В Пруссии он прошел ускоренный курс обучения у артиллерийского подполковника, который даже выдал ему соответствующий аттестат. Во время путешествия — особенно в Голландии и Англии — Петру устраивали экскурсии на мануфактуры и ветряные мельницы, в анатомический театр и арсеналы, в музеи, церкви, университет и парламент. Он лично участвовал во вскрытии трупов и сборке часов, сам изготовил гравюру и провел опыты с микроскопом: он общался с Антонио Левенгуком и, возможно, c Исааком Ньютоном. Не упуская возможности пуститься в загул в плебейском кабаке, он также проводил официальные переговоры практически со всеми государями посещаемых стран. Благодаря постоянному присутствию поблизости официального посольства эскапады царя, нанимающегося простым плотником на верфь или изучающего искусство часовщика, не пересекали опасную черту, за которой терялся бы контроль над «виртуальной реальностью», которую по своей прихоти организовывал Петр и за пределами своего царства, меняя свои роли и маски. Его не мог побить или рассчитать мастер, не пустить на порог владелец фабрики или ученый; даже короли должны были удовлетворять интересы Петра, не вписывающиеся в дипломатические обычаи.
Как видно, Петр вернулся домой с твердым намерением воссоздать европейскую материальную среду в масштабах своего царства — ведь не мог же он всю жизнь прожить в Голландии под прикрытием Великого посольства. Прибыв 25 августа 1698 г. в Москву, он уже на следующий день вызвал в свою резиденцию в Преображенском селе боярскую верхушку на доклад. Петр встречал бояр с ножницами и собственноручно ими кромсал традиционные боярские бороды. 29 августа последовал царский указ «О ношении немецкого платья, о бритии бород и усов, о хождении раскольникам в указанном для них одеянии», запретивший с 1 сентября ношение бород. По свидетельству Андрея Нартова, обучавшего Петра токарному делу,
Петръ Великий, желая Россию поставить на степень европейскихъ народовъ, нравственныхъ какъ просвещениемъ наукъ и художествъ, такъ обращениемъ и одеждою, выдалъ указъ брить бороды и носить платье короткое немецкое, говоря при томъ придворнымъ боярамъ. «Я желаю преобразить светскихъ козловъ, то-есть, гражданъ, и духовенство, то-есть, монаховъ и поповъ, первыхъ — чтобъ они безъ бородъ походили въ добре на европейцевъ, а другихъ — чтобъ они, хотя съ бородами, въ церквахъ учили бы прихожанъ христианскимъ добродетелямъ такъ, какъ видалъ и слыхалъ я учащихъ въ Германии пасторовъ».
В последующие пять лет было издано 19 указов, регламентировавших прически и одежду. Североевропейская мода объявлялась обязательной для всего населения, за исключением крестьян, священников и извозчиков (но и для них вводились строгие ограничения). Традиционную русскую одежду запрещалось изготавливать и продавать. Ношение бород допущенным к «европеизации» городским слоям населения разрешалось только после уплаты специальной пошлины. Как уже говорилось, подстригание и даже полное бритье бороды и ношение принятой в регионе Восточной и Центральной Европы одежды («по польской моде») получило распространение, по крайней мере, за четверть века до этого, и изображение московитов длиннобородыми старцами в шубах с рукавами до пола является карикатурным. Впрочем, еще большим преувеличением служат заявления Петра о том, что до него в России не существовало регулярной профессиональной армии или рациональной системы управления. Возможно, он даже искренне заблуждался, делая такие заявления: в любом случае, русская версия современности отличалась по многим своим внешним проявлениям от североевропейской, в которой он себя чувствовал как дома.
Однако «смена вывески» через переодевание подданных и переименование социальных и политических институтов была лишь составной частью стремления Петра насадить некий условный «европейский» стандарт в России. Воспринимая «европейскость» через комплексное и непосредственное переживание «образа жизни», Петр, по-видимому, не выделял отдельные его элементы как фундаментальные, а другие как «производные»: политические институты и фасон платья, организация производства и кулинария воспринимались в неразрывной связи.
Так, вслед за запрещением бород последовал указ о введении в городах органа самоуправления — выборной бурмистровой палаты (в феврале 1699 г.). С одной стороны, насаждался очередной неологизм с иностранным звучанием (причем напоминавшим, скорее, польское burmistrz, чем немецкое Bürgermeister). С другой, создавался действительно новый институт местного самоуправления, которое Петр попытался вывести из-под прямого контроля воевод. Это был лишь один из первых шагов в бесконечной череде административных реформ, отменяющих предыдущие решения и вводящих все новые должности и органы: уезды переименовывались в провинции, воеводы — в комендантов и обер-комендантов, появлялись ландраты, комиссары, рентмейстеры, гевальтегиры (попросту — тюремные старосты) и т.п. Органы власти, прежде отчужденные от населения Московского царства сословной и политической дистанцией, теперь обретали дополнительную символическую отчужденность буквально иноземного происхождения. По сути, Петр и вправду заново «завоевывал» свою страну, подтверждая особый статус своей власти — подобно тому, как это делал с опричниной Иван IV. Однако, в отличие от Ивана, завоевание страны Петром носило, прежде всего, символический характер и насаждало вполне определенную социально-политическую модель, которую он воспринимал в двух основных проявлениях.
Дело в том, что при всей сумбурности преобразовательной деятельности Петра I, который за три десятилетия активного правления одних указов издал около 4000, неизменными приоритетами для него оставались два направления: война и перелицовка России на европейский манер. Причем, «европейскость» являлась довольно избирательным конструктом самого Петра: так, за ношение «щеголями» «гишпанских панталон» следовало даже более суровое наказание (продолжительное битье кнутом), чем за ношение «русского платья»; перенесение административной системы Дании или Швеции на русскую почву никак не предполагало параллельного заимствования и юридических норм, защищавших частную собственность и личную свободу. Столь же своеобразным было отношение Петра к войне: одновременно типичным для абсолютных монархов XVII−XVIII вв. (образцом для которых служил постоянно воевавший французский «король-солнце» Людовик XIV) и при этом напоминающим великих завоевателей древности.
Судя по действиям Петра, война для него была естественным состоянием государства (а не временной катастрофой, как для его предшественников), подтверждающим престиж страны и правителя — поэтому противник в войне должен был быть обязательно достойный. В этой логике ведущаяся война подсказывала реалистические политические цели, а не наоборот (вопреки афоризму прусского военного теоретика XIX в. Карла фон Клаузевица «Война есть продолжение политики иными средствами»). Так, война за пограничную крепость Азов привела к появлению масштабной кораблестроительной программы на юге, в Воронеже, к переселению туда десятков тысяч крестьян для обеспечения строительства кораблей — и, разумеется, нарушению Бахчисарайского мирного договора 1681 г. с Османской империей. Едва вернувшись из «Великого посольства», Петр начинает подготовку к войне со Швецией: закупается оружие, набираются новые полки. Ради новой войны срочно заключается мирный договор с Османской империей — в значительной степени перечеркивая усилия, затраченные в предыдущие годы на наращивание военной мощи на юге. Едва пришло известие о подписании Константинопольского мирного договора с Османской империей (18 августа 1700 г.), как была объявлена война Шведскому королевству (19 августа). Инициатива при объявлении войны всецело исходила со стороны Московского царства, причем никакими государственными интересами она не обосновывалась. Единственной причиной войны называлась «обида», нанесенная в начале путешествия «Великого посольства» в 1697 г., когда шведский губернатор Риги не позволил осмотреть укрепления этого города иностранцам, включая путешествовавшего инкогнито царя:
Изволили мы, великий государь, наше царское величество, с королевством свейским за многие их свейские неправды и нашим царского величества подданным учиненные обиды, наипаче за самое главное безчестие, учиненное нашим царского величества великим и полномочным послам в Риге в прошлом 1697 году, которое касалось самой нашей царского величества персоны… всчать войну.
Начавшись летом 1700 г., Северная война продолжалась 21 год, вплоть до подписания Ништадтского мирного договора 30 августа 1721 г. Прагматические цели войны определялись уже по ходу дела — так оформлялась идеология «прорубания окна в Европу», обосновывалось строительство Санкт-Петербурга на Неве и возвращение «исконно русских земель на Балтике» (начисто отсутствовавшие на начальном этапе войны). Нет никаких свидетельств осознания в окружении Петра и экономической необходимости для начала войны (и самого существования такой необходимости): вся европейская торговля была сосредоточена в руках иностранных купцов и велась с успехом через Архангельск. Война со Швецией скорее препятствовала развитию торговли на Балтике. Однако если воспринимать войну как смысл существования государства и доказательство его могущества, действия Петра выглядят совершенно логично: в поездке по Европе он обнаружил для себя более подходящего противника, чем далекая Османская империя, и по возвращении поспешил начать с ним войну.
При этом никакой враждебности к Шведскому королевству или его правителю Карлу XII Петр не испытывал, демонстрируя то, что сегодня называется «спортивным поведением» и в дни поражений, и в моменты побед. Выражение «война — спорт королей» получило распространение в английской литературе по крайней мере к 1670-м гг., так что Петр в этом отношении проявлял качества образцового европейского правителя своего времени. Однако выбор Швеции в качестве стратегического противника был продиктован не только «спортивно-государственным» тщеславием, но и глубоким интересом и симпатией Петра, который открыто называл шведов своими учителями. Отношение к войне как одной из форм продуктивных взаимоотношений (вроде торговли или научных экспедиций) роднило Петра — вполне типичного европейского государя эпохи абсолютизма — с великими завоевателями древности.
«Учеба» у шведов не сводилась к перениманию военных технологий и тактики: фактически, шведский опыт лег в основу административного устройства России. Не довольствуясь имеющейся информацией об организации шведского государства, в 1716 г. Петр отправляет в Швецию специального резидента, уроженца Гамбурга Генриха Фика с заданием добыть «план» современного государства шведского образца. Фик выполнил задание, тайно вывезя сотни инструкций и регламентов, на основании которых была разработана реформа 1719 г., вводившая систему управления на основе специализированных коллегий. Архитектором реформы стал сам Генрих Фик, зачисленный на русскую службу и получивший должность советника в первой из созданных коллегий — Камер-коллегии.
Таким образом, война оказывалась оборотной стороной и основным двигателем европеизации — другой страсти Петра. После двух десятилетий стихийной (если не хаотической) деятельности в этом направлении расплывчатое понятие «европеизации» все более отчетливо начинает означать «камерализм». Петра интересует все то, что способствует созданию государства как гигантской обезличенной машины и необходимо для ее работы (деньги, специалисты, рабочая сила), — и оставляет равнодушным все, что, по его мнению, не связано напрямую с этой задачей: британский или шведский парламент, вольности французского дворянства или испанская мода. Камералистское мировоззрение стихийно присутствовало уже в той версии «европейскости», которую Петр узнал в Немецкой слободе — наряду со вкусом в одежде или стандартами общения. После возвращения из «Великого посольства» Петр принимает классические камералистские решения: за сумасбродным подстриганием бород следует введение специальной пошлины с бородачей — разумеется, во имя просвещения, но с прямой выгодой для казны. В феврале 1699 г. издается указ о введении гербовой бумаги — единственно разрешенном материале для составления документов, что означало монополию государства на нотариальное заверение всех юридических актов. С одной стороны, рационализировалось и упорядочивалось делопроизводство, с другой — под прикрытием рационализации вводился очередной (и немалый) налог на социально активное население. А в августе 1700 г. (через пять дней после объявления войны Шведскому королевству) было объявлено о создании нового Рудокопного приказа, который брал под контроль добычу полезных ископаемых и занимался снабжением монетного двора драгоценным металлом. Это решение напрямую вытекало из камералистской доктрины о первостепенном экономическом значении шахт для государства (поскольку предполагалось, что богатство страны всецело зависит от ее внутренних ресурсов, прежде всего, ископаемых — и того, что удастся удержать у себя в результате торговли или войны с соседями). При этом Петр опередил многие передовые камералистские королевства и княжества, в которых процветала Berg-Kammeralwissenschaft (горно-камералистская наука), но первые Берг-коллегии и Берг-академии появились четвертью века позже.
Наконец, в апреле 1702 г. был издан манифест о приглашении иностранцев на поселение в Россию, который продемонстрировал, что Петр полностью овладел и риторикой камерализма. Манифест открывался преамбулой, демонстрировавшей радикальный разрыв с политической традицией предшественников Петра:
Довольно известно во всех землях, которые Всевышний Нашему управлению подчинил, что со вступления Нашего на сей престол, все старания и намерения Наши клонились к тому, как бы сим Государством управлять таким образом, чтобы все Наши подданные, попечением Нашим о всеобщем благе, более и более приходили в лучшее и благополучнейшее состояние; на сей конец Мы весьма старались сохранить внутреннее спокойствие, защитить Государство от внешнего нападения и всячески улучшить и распространить торговлю. Для сей же цели Мы побуждены были в самом правлении учинить некоторые нужные и к благу земли Нашей служащие перемены, дабы Наши подданные могли тем более и удобнее научаться, поныне им неизвестным познаниям, и тем искуснее становиться во всех торговых делах.
Оказывается, земли Московского царства отданы Богом Петру лишь «в управление» («как то Христианскому Монарху следует»), а не в собственность; и это не его наследственная вотчина, полученная от предков, а самодостаточное и самостоятельное образование — государство. Если Иван IV гордо заявлял о своем праве на произвол («А жаловати есмя своих холопей вольны, а и казнить вольны же!»), то Петр объявляет, что царская власть подчинена определенной цели, и эта цель — «всеобщее благо» и процветание подданных. В полном соответствии с риторикой камерализма главной заботой правителя объявляется защита государства от агрессии извне и забота о процветании торговли.
Эти слова не имели прямого отношения к реальности: Петр I нарушал мирные договоры и первым нападал на соседей (будь то Османская империя или Шведское королевство), правил деспотично, широко используя принудительный труд и обрекая на пожизненную солдатчину сотни тысяч человек. Экономика была подорвана постоянно растущими военными расходами и многократно увеличившимся налоговым бременем: по некоторым оценкам, между 1680 и 1724 гг. сбор одних прямых налогов вырос почти в десять раз (с 494 до 4731 тысяч рублей). Помимо этого государство постоянно изыскивало способы к многократному увеличению косвенных налогов: за ношение бороды и за пользование гербовой бумагой, но также за продажу водки и табака, арбузов и огурцов. Только между 1710 и 1725 гг. совокупные доходы казны выросли более чем втрое (с 3 до 10 млн. руб. в год).
Но в этом и заключался феномен камерализма, который создавал новый тип политического воображения, способный обеспечить многократное увеличение налоговых поступлений. Военные потребности государей привели к возникновению и расцвету «камеральных наук», обещавших повысить доходы путем рационализации устройства страны. В результате этой рационализации камералисты фактически создали саму современную концепцию государства как совершенной машины, работающей по своим правилам, для всеобщего блага «винтиков», ее составляющих. Распространение этой идеи позволило многократно повысить дисциплину общества, экономя на полицейских расходах: тот объем податей, который в прежние времена не могла собрать с населения и огромная оккупационная армия, теперь почти добровольно (во всяком случае, сознательно) выплачивался подданными «государству». Тот уровень принуждения и обложения, который не простили бы государю «пороховой империи», современное общество готово простить государству. В отличие от самой могущественной «пороховой империи», чьи ресурсы трудно быстро концентрировать и перебрасывать в нужном направлении, общество современного государства можно быстро «мобилизовать» (на войну, ударный труд, колонизацию и пр.), причем в основном за счет самомобилизации и самодисциплины подданных.
Петр освоил не только язык (риторику) камерализма, но и логику его, и само мировоззрение. Недаром именно на этом языке обращался к нему, формулируя проект учреждения коллегий в России, знаменитый философ и математик, по совместительству крупный деятель Kameralwissenschaft Готфрид Вильгельм Лейбниц, принятый в чине тайного юстиц-советника на русскую службу в 1712 году:
Опыт достаточно показал, что государство можно привести в цветущее состояние только посредством учреждения хороших коллегий, ибо как в часах одно колесо приводится в движение другим, так и в великой государственной машине одна коллегия должна приводить в движение другую, и если все устроено с точною соразмерностью и гармонией, то стрелки жизни непременно будут показывать стране счастливые часы.
7.5. Практические итоги государственных преобразований Петра I
Проведенная Петром концептуальная «камералистская» революция, распространение представления о государстве как разумно устроенной и управляемой машине имели гораздо более значительные и долговременные последствия, чем многие его реальные или заявленные достижения.
Так, напряжением всех сил, в результате продолжавшейся более 20 лет войны России удалось отвоевать у Швеции южное побережье Финляндского залива — в основном, старинные земли Ливонии, а также часть южной Карелии. При этом по Ништадскому договору 1721 г. Россия выплачивала Швеции компенсацию в 1.3 миллиона рублей (примерно 15% совокупного годового дохода казны) и разрешала закупать беспошлинно хлеб на 50 тысяч рублей в год (что с учетом пятикратного превышения стоимости ржи, овса и ячменя в Западной Европе по сравнению с российскими ценами экономило Швеции до 200 тысяч рублей в год). Менее удачно закончилась русско-турецкая война 1710−1713 гг., в значительной степени спровоцированная российской стороной. Авантюрный Прутский поход 1711 г. едва не привел к пленению самого Петра I со всеми приближенными. По итогам подписанного мирного договора Россия отказывалась от всех завоеваний середины 1690-х гг.: Азов возвращался Османской империи, построенный новый порт Таганрог, укрепленный самыми современными (и дорогими) фортификационными сооружениями, был разрушен. Колоссальные инвестиции в кораблестроительную программу на Воронежских верфях (там было построено более 200 кораблей, на строительство было согнано более 20 тысяч человек со всей страны) пропали. Верфи были закрыты, большая часть судов сгнила, крупнейший корабль, построенный по чертежам самого Петра, — 58-пушечный «Гото Предестинация» («Божье предвидение») — был продан Османской империи. Впрочем, сходная судьба постигла и колоссальный Балтийский флот после окончания Северной войны. Спустя десять лет после подписания мира боеспособными оставались лишь 25-30% от списочного состава судов — в казне просто не было средств для поддержания на плаву всего огромного флота. Таков был итог деятельности Петра по достижению первой объявленной цели правления — защите государства «от внешнего нападения».
В «распространении торговли» — второй главной цели — так же непросто подвести однозначный баланс созидательных и разрушительных шагов Петра. Внешняя торговля поощрялась уже самой интенсификацией международных контактов. Причем, в полном соответствии с камералистской доктриной, в торговле поддерживался положительный баланс экспорта над импортом. Так, в 1710 г. в главный порт международной торговли Архангельск ввезли иностранного товара на 1.6 миллионов рублей, а вывезли российских товаров на три миллиона (почти двухкратный профицит экспорта над импортом). Однако начиная с 1713 г. Петр начинает добиваться перенаправления всей зарубежной торговли в балтийские порты, прежде всего в недавно основанный Санкт-Петербург. Еще в 1715 г. в Петербург пришло меньше двух десятков торговых судов, а в Архангельск — 230. Но прямые приказы и понижение пошлин для провоза товаров на Балтику сделали свое дело: в 1725−1726 гг. в Архангельск зашли 50 кораблей, а в Петербург 450 (а считая вместе с Ригой и Нарвой — 1600). Таможенные сборы в Архангельске уже не дотягивали до 20 тысяч рублей в год, а в Петербурге стали приближаться к 300 тысячам. В 1725 г. через петербургский порт продали российских товаров на 1.5 млн. рублей и закупили на 450 тысяч, что приближало оборот Петербургского порта к былым оборотам Архангельска. Таким образом, ценой разрушения складывавшейся десятилетия внешнеторговой системы, ориентированной на Архангельск, удалось наладить торговлю на Балтике. Если сравнивать только Петербург с Архангельском, энергичные меры Петра привели скорее к упадку внешней торговли. Но, учитывая успехи в Северной войне, позволившие России взять под контроль порт Нарвы, и особенно масштабные операции через Ригу, можно говорить о многократном расширении торгового оборота. Впрочем, еще больших показателей можно было добиться, и не разоряя Архангельск, а просто добавив к этому направлению операции через Ригу.
Внутренняя торговля в Московском царстве была развита гораздо слабее внешней. В то время как внешнеторговый оборот Архангельска составлял миллионы рублей в 1703 г., объем внутренней торговли в крае (включая местную ярмарку) не превысил 11 тысяч рублей. Внешняя торговля находилась в руках иностранных купцов, обладавших большими капиталами, а внутри страны подавляющее большинство купцов имело ограниченные средства в силу неразвитости денежной экономики, в которой аккумулировать существенные средства удавалось только казне. Местное население было бедным или, во всяком случае, малоденежным, предпочитая обходиться товарами собственного или соседского производства, за исключением нескольких стратегических продуктов (прежде всего, соли). «Улучшения торговли» в этих обстоятельствах можно было добиться покровительственной финансовой политикой: к примеру, развитием коммерческих банков и выдачей кредитов купцам. Петр I, однако, избрал другой путь: он поощрял передачу как можно большего числа хозяйственных операций на откуп — будь то продажа определенных категорий товаров (например, сахара), пивоварение или транспортные услуги. Система откупов существовала в Московском царстве давно, хотя никогда прежде не достигала масштабов, к примеру, Франции, где частные откупщики занимались сбором королевских налогов.
Эффект от передачи коммерческой деятельности откупщикам лучше всего иллюстрирует пример того же Архангельска. Так, в 1711 г. казна получила 278 р. пошлины с владельцев полутора сотен грузовых поморских судов типа карбаса, которые курсировали между пристанью и купеческими морскими кораблями, перевозя товары. Годовой доход каждого судна составлял около 25 рублей, с которых полагалось заплатить 2 рубля пошлины (8%), остальное оставалось хозяину (в том числе на ремонт и на содержание команды). Мелкий чиновник, сосланный в Архангельск, испросил себе (в компании с несколькими перевозчиками) в откуп на три года монопольное право на эту сферу деятельности. Он обещал более чем удвоить поступления в казну, но при этом из дохода каждого судна (25 р.) собирался изымать 20 р. — в десять раз больше, чем прежде. Разумеется, этот проект был удовлетворен, ведь казна получала гарантированный доход (в удвоенном размере и без необходимости организовывать процесс сборов). Откупщики-перевозчики концентрировали в своих руках прежде распыленные ресурсы, что позволяло накапливать капитал. Оборотной стороной этого процесса была монополизация хозяйственной деятельности (в данном случае, транспортных услуг), что приводило к росту дороговизны и падению качества услуг. Внутренняя торговля развивалась путем получения исключительных привилегий на осуществление коммерческой деятельности от казны — в полном соответствии с камералистской теорией и практикой, поскольку упорядочение предпринимательства сопровождалось резким повышением доходов государства.
Что же касается приведения подданных «в лучшее и благополучнейшее состояние», то ключевым в этой фразе является слово «подданные». Само это понятие начинает применяться к жителям Московского царства только в XVII веке, преимущественно в качестве прилагательного (обозначая индивидуальную преданность государю). Важным элементом концептуальной революции Петра I стало переосмысление отношения к власти разных категорий населения — и знатных, и «безродных» — как равнозначных с точки зрения подчинения государству. Указом 30 декабря 1701 г. были отменены прежние разнообразные формы обращения к царю: «холоп твой» (от имени служилых людей), «богомолец твой» (если человек принадлежал к духовному сословию) или «сирота твой» (подобающее представителям низов, податному сословию). Вместо этого было приказано «всякого чину людям писать в челобитных нижайший раб». Выбор термина, который, по мнению современных историков, Петр намеревался использовать как аналог западноевропейского «покорный слуга», может шокировать. Однако «раб», означавший полную степень подчинения (что не соотносилось ни со статусом крепостного крестьянина, ни даже холопа), лучше всего выражал нужную Петру политическую идею: полного и безоговорочного подчинения государству. Все прежние, самые уничижительные, формы обращения не годились, потому что подчеркивали разные формы личной зависимости от царя. Причем даже «холоп» являлся двусмысленным понятием, включавшим, в том числе, состояние работника за вознаграждение, обладавшего собственными хозяйственными интересами. Петр навязывал представление о всеобщей и «всесезонной» (в отличие от службы старого дворянского ополчения) обязанности населения служить государству. Все, от крестьян до князей, оказывались «мобилизованными» государством. У этого термина есть два значения: помимо принудительного призыва на определенную службу, обществоведы говорят о «мобилизации» в смысле вовлечения населения в деятельность политических институтов (по отношению к которым уже нельзя оставаться пассивным сторонним наблюдателем). Так, если прежде для дворян государева служба являлась главным источником дохода, то теперь она становилась залогом самого сохранения дворянского статуса — причем на условиях государства. Каждый дворянин-землевладелец был обязан фактически пожизненно служить на постоянной гражданской или военной службе. Получение хотя бы начального образования было обязательным условием для служебного продвижения и даже женитьбы. Для офицерской карьеры необходимо было начать службу рядовым в одном из гвардейских полков. Принятие Табели о рангах (закона о порядке прохождения службы и очередности присвоения чинов) в 1722 г. открыло дорогу к получению дворянства через службу для любых слоев населения, включая крепостных крестьян (если им удавалось выслужиться из рядовых в офицеры). Сами по себе служба дворян или привлечение крестьян на принудительные работы (на постройку верфей или крепостей) не являлись новостью по сравнению с обычаями XVII века. Новым было фактическое уравнение всех жителей в новом качестве «подданных» (и только в нем), причем не в смысле верности царю, а подчиненности государству и налагаемым им повинностям и обременениям.
7.6. Формирование представления о современном государстве и империи на российской почве
При жизни Петра I «государство» оставалось новым и почти социологически-абстрактным понятием, и на практике использовалась более привычная «переходная» категория «отечество». Еще в XVII в. «отечество» начинает широко использоваться в значениях, отличных от «вотчины» (родовых владений), что дает возможность для передачи смысла, отдаленно напоминающего «речь посполитую» Литовско-Польского содружества: «общее происхождение» как основание для «общего дела». Одновременно «отеческая» власть государя распространяется на всю страну (не исключая и бывших «сирот» — податные сословия), тем самым обезличиваясь и создавая возможность помыслить совершено безличное «государство». Это политическое понимание «отечества» (которое приходит на место отношения к стране как собственности-«вотчине») объясняет противоречие между кажущейся сегодня ультра-патриотической риторикой (прославление Отечества), характерной для Петра, и его демонстративным пренебрежением всем московским и поддержкой всего иностранного. Отечество для Петра — это государство как универсальный механизм из камералистской утопии. Культурные особенности и традиции являлись второстепенным элементом дизайна этого механизма.
Понятие «отечество» также прекрасно подходило для программы европеизации всех основных институтов общества, проводившейся Петром. Например, патриархально звучащая формула «Отец Отечества» применительно к государю одновременно воспроизводила почетный римский императорский титул (Pater Patriae). Как мы видели, Петр соотносил свое царское звание с императорским достоинством с раннего возраста, со времен постройки крепости Прешбург и основания «Всешутейшего Собора». Можно предположить, что его привлекала не столько пышная титулатура, сколько возможность перевести царский титул в универсальные категории североевропейской современности. Судя по его поступкам и высказываниям, Петру претили любые «партикулярные», особые и обособленные состояния. Проводя насильственную камералистскую революцию в Московском царстве, он добивался в качестве одного из ее результатов признания местного высшего титула «царя» самобытной «пороховой империи» регулярным общеевропейским «императором». Об этом стремлении красноречиво свидетельствуют крайне последовательные шаги, предпринимавшиеся Петром после возвращения из Великого Посольства. А то, что они не сопровождались открытой пропагандой притязаний на имперскость, может являться свидетельством того, что Петр не считал свои права на императорский титул чем-то, что требуется пространно обосновывать.
Уже в 1701 г. он обратился к императору Священной Римской империи Леопольду I с необычной просьбой: присвоить титул графа империи боярину Ф. А. Головину. Федор Головин с 1699 г. возглавлял московскую дипломатию, и адекватный «перевод» его домашнего аристократического звания в понятный европейским контрагентам титул графа был вполне логичен в рамках курса на камералистскую универсализацию общества. Однако затем (в 1702 г.) последовала просьба произвести в графы безродного сподвижника Петра Александра Меншикова (а в 1705 г. Меншиков был пожалован в князья империи). В 1706 г. сын и преемник Леопольда I, император Иосиф I по просьбе Петра сделал графом Священной Римской империи Г. И. Головкина, выходца из бедной дворянской семьи, сменившего умершего в 1706 г. Головина. Уже одно то, что подданными Петра I (а не просто состоявшими у него на службе) оказывались графы и князья Священной Римской империи, создавало двусмысленную ситуацию. А после того, как отношения с империей охладились (в 1707 г. Иосиф I заключил договор с Карлом XII, королем Швеции — главным «учителем-врагом» Московского царства в Северной войне), Петр начал присваивать имперские титулы самостоятельно. Первым российским графом стал родовитый боярин и видный военачальник Б. П. Шереметев еще в 1706 г., а в 1710 г. Петр выдал сразу четыре графских диплома. Одним из них граф Священной Римской империи Головкин объявлялся «Российского государства графом». Идентичность двух имперских титулов подчеркивала и параллелизм властителей, жалующих эти титулы:
...якоже брата нашего любезнейшаго, пресветлейшаго и державнейшаго Иосифа, избранного Римского цесаря и иных, ему данной диплом в себе содержит [графское звание], …сею нашею царскаго величества милостивою жалованною грамотою купно во в сем подтверждаем … якоже во свидетельство сей нашей к помянутому нам вернолюбезному графу Гаврилу Ивановичу Головкину милости и достойнаго возвышения прилагаем нашу и Всероссийскаго нашего царствия печать, при подписании нашей царской руки.
Не называя себя напрямую императором, Петр передавал претензию на этот статус через указание на свою власть «короля королей»:
Аще данная нам от Всевышнего самодержавная власть во Всероссийском нашем наследном и принадлежащих к оному пространнейших царствиях и государствах тако распространяется…
«Самодержавная» власть означает не единовластие (большинство стран эпохи были монархиями), а обладание высшим суверенитетом, ничем и никем не обусловленным и не дарованным (за исключением Всевышнего). Эта власть распространяется как на наследственное «королевство», так и на обширные подчиненные «царства и государства» — подобно тому, как наследственный Австрийский эрцгерцог являлся «избранным Римским цесарем». Соответственно, у этого имперского составного государства появляется название, отличное от прежнего Московского царства: Петр говорит о себе «самодержец Всероссийский нашего Всероссийского царствия и государств». Отечество-государство начинает называться «Всероссийским царствием» или просто Россией, что означает совокупность всех отдельных подвластных территорий и политических отношений господства (включая и Московское царство).
После разгрома шведской армии Карла XII в генеральном сражении под Полтавой 27 июня 1709 г. (8 июля по новому стилю), выдающийся украинский церковный деятель, получивший фундаментальное богословское образование в немецких протестантских университетах и иезуитской коллегии в Риме Феофан Прокопович посвятил этому событию панегирическую оду. В ней он назвал Петра отцом отечества («На отца отчествия мещеши меч дерзкий!»), что не осталось незамеченным царем. Петр I приблизил к себе Феофана Прокоповича (1681−1736), который с середины 1710-х гг. фактически проводил церковную реформу и играл ключевую роль в идеологическом обосновании политики Петра. Звание «отца отечества» было такой же политической новацией, заимствованной из европейского идейного контекста, как и идея подчинения Церкви государству (воплощением ее в жизнь через создание «министерства Церкви» — Священного Синода — и занялся Прокопович). По случаю полтавской победы в Москве было устроено триумфальное шествие, которое было воспринято образованными наблюдателями как подражание императорским триумфам в Риме («Оно несомненно было величайшим и великолепнейшим в Европе со времен древних римлян.»). Тогда же, в феврале 1710 г., английский посол Чарльз Уитворт на торжественной аудиенции обратился к Петру I с использованием императорского титула, что возмутило датского посла Юста Юля, который записал в дневнике:
…как в России, так и за границею находятся люди, которые [искали] — и в особенности теперь, после Полтавской победы, ищут — понравиться царскому двору императорским титулом, побуждая в то же время царя добиться ото всех коронованных особ Европы [признания за ним] этого титула. … [Итак] вследствие счастия и успехов, выпавших в настоящей войне на долю [России], высокомерие [русских] возросло до такой степени, что они стремятся переделать слово «царь» в «Reiser» или «Caesar».
В феврале 1711 г. Петр учредил Правительствующий Сенат, которому были предоставлены самые широкие полномочия (фактически, вся полнота власти на время отлучек царя), но никак не оговаривалось, как их можно было применять на практике. Никто из сенаторов и не рисковал действовать без прямого поручения царя. Почти целое столетие ушло на то, чтобы найти продуктивное применение новому органу власти и встроить его в систему государственного управления. Его появление в 1711 г. носило сугубо символический характер: сенат был непременным атрибутом (и антуражем) классической императорской власти (в древнем Риме), именно сенат подносил императору звание «Отца отечества».
Следующим показательным шагом было решение Петра издать большим тиражом в 310 экземпляров обнаруженную в архиве посольской канцелярии грамоту 1514 г. императора Максимилиана I великому князю Василю III, в которой Василий назывался «великим государем цесарем». Грамоту издали в мае 1718 г. на русском и немецком языках, прямо сообщая в предисловии, что она служит доказательством давности принадлежности императорского титула правителям Московии. Издание использовали в «презентационных целях», кроме того, по словам ганноверского резидента Фридриха Христиана Вебера, «Письмо это Его Царское Величество велел показывать в подлиннике всем и каждому…»
Официальное провозглашение Петра I императором оставалось лишь вопросом времени, точнее, благоприятного и подходящего момента. Этот момент наступил с завершением Северной войны, затянувшейся на 21 год. 22 октября 1721 г. члены Сената обратился к Петру I с просьбой
принять от нас, яко от верных своих подданных, во благодарение титул Отца Отечествия, Императора Всероссийского, Петра Великого, как обыкновенно от Римского Сената за знатные дела императоров их такие титулы публично им в дар приношены…
Своеобразное отношение Петра к этой войне как школе «европеизации» (в большей степени, чем как к возможности осуществить обширные завоевания) подчеркивает значение принятия им императорского титула: это скорее заключительный шаг в направлении «европейской нормализации» и «перевода», а не проявление новых (по сравнению с аппетитами Московского царства) империалистических претензий. По словам самого Петра, «Все ученики науки в семь лет оканчивают обыкновенно, но наша школа троекратное время была. Однако ж, слава Богу, так хорошо окончилась, как лучше быть невозможно…» Поэтому Петр и не совершал дополнительную коронацию как император, а «просто» принял новый титул как эквивалент прежнего, царского, только проясняющий его истинное значение.
Возможно, удивительная нерациональность основания Санкт-Петербурга в 1703 г. на болотах в дельте Невы, подверженной регулярным наводнениям и затоплениям, а затем и объявление его столицей в 1712 г., связано с желанием Петра обосновать свои претензии на имперскость. Иррациональное упорство вообще не характерно для деятельности Петра I: многие его решения могли оказываться в итоге контрпродуктивными или вовсе губительными, но они всегда преследовали конкретную и рациональную тактическую цель: разбить врага, пополнить казну, собрать войско и т.п. Почти все его поступки вписываются в логику камералистского мышления и политической культуры абсолютизма. На этом фоне перенос столицы в небольшую крепость на болотах, на территории другой страны (эти земли отошли к России только по мирному договору 1721 г.), в разгар войны с неясными перспективами кажется безумным капризом. Ежегодно на строительство города сгонялось до 30 тысяч работников (в основном крепостных крестьян), которые работали по два-три месяца, сменяя друг друга. Мобилизация этих временных трудовых армий обременяла и помещиков, отпускавших крестьян, и казну: труд строителей Петербурга оплачивался по стандартным расценкам в один рубль в месяц. Смертность на строительстве могла достигать 1% (вероятно, в рамках нормы того времени) — во всяком случае, археологических свидетельств массовых захоронений строителей до сих пор найти не удалось. С 1717 г. строителей стали набирать по вольному найму, для чего собирали по 300 тысяч рублей в год специальным налогом.
Однако в этом финансовом, инженерном и географическом «безумии» мог быть прямой политический расчет: согласно распространенным представлениям, «империя» тесно связывалась с обширными завоеваниями и подчинением чужих династий и государств. Но какие «имперские» завоевания мог предъявить Петр I? Победа в Полтавской битве 1709 г. имела действительно важное стратегическое значение, но она была одержана на территории, которую Петр считал частью своего царства. Захват Ливонии, а тем более соседних малозаселенных земель не шел ни в какое сравнение с завоеваниями правившего в это время во Франции Людовика XIV — который, между тем, оставался «простым» королем и не претендовал на императорский титул. В лучшем случае, власть царя распространялась на герцогов южнобалтийских земель — император же должен был повелевать королями. Шансов подчинить Шведское королевство России было немного, но перенос собственной столицы на окраину чужого королевства производил почти такой же эффект, как захват столицы Швеции: теперь Стокгольм оказывался на периферии новой столицы России (перенесенной на бывшую периферию Швеции).
Очевидно, усилия Петра I и его дипломатов не пропали даром, и его попытка обосновать свои притязания на императорский титул была сочтена достаточно убедительной. Почти немедленно императорский титул Петра был признан союзниками (Пруссией и Голландией) и партнером-противником (Швецией, в 1723 г.). Османская империя признала Россию империей в 1739 г. (по итогам войны 1735−1739 гг., в целом удачной для России), Британия и Священная Римская империя — в 1742 г. (нуждаясь в России как союзнике в «войне за Австрийское наследство»). К середине XVIII века Российская империя уже прочно заняла свое место на «ментальной карте» Северной Евразии. Тем самым был сломан почти тысячелетний стереотип в умах обитателей континентальной Европы, согласно которому империя была такой же уникальной и единственной, как и Римский Папа — и кроме Священной Римской империи по соседству не могло быть никакой другой. С признанием Российской империи (и на фоне упадка старой Священной Римской империи) открывалась возможность для провозглашения новых европейских империй: Французской, Британской, Голландской и пр. Как и в случае с бывшим Московским царством, речь шла не столько о создании новых политических образований, но о переосмыслении давно сложившихся отношений власти как «имперских».
С этой точки зрения, вклад Петра I в создание Российской империи в большей степени был вкладом «переводчика» и «дизайнера». Он создал скорее новый образ России (и дал само современное название стране), чем политический или экономический механизм. Нельзя даже сказать, что Петру удалось сформировать современное государство, принципиально отличающееся от государства Московского царства. Примечательным отличием административной системы, созданной Петром, было отсутствие самой «системы» в смысле рутинных механизмов управления. Вплоть до последних лет своей жизни он опирался на служащих двух гвардейских полков — Преображенского и Семеновского — в качестве проводников и исполнителей его воли, в обход старых или новых административных органов. Так, даже в 1724 г. половина солдат и офицеров Преображенского полка из дворян числилась в отлучке — в основном, выполняя различные поручения Петра. Доходило до того, что гвардия оказывалась неспособной выполнять свою прямую задачу — обеспечивать охрану царя, сопровождая его в походе или в поездке.
Гвардейцы выполняли самые разнообразные поручения: участвовали в генеральном сражении и организовывали птичий двор в Астрахани; выполняли дипломатические миссии к монархам Северной Европы и контролировали посадку растений в Летнем Саду строящегося Санкт-Петербурга. Гвардия была выведена из-под юрисдикции регулярных судов и даже военного ведомства (приказа, а после военной коллегии), то есть ее особое положение было сознательным решением Петра, а не издержками непоследовательных реформ. Позволяя императору осуществлять «ручное управление» страной, гвардия скорее разрушала шаткое здание государственности, чем помогала укреплять его. Рядовой гвардейского Семеновского полка мог быть отправлен в «Тульскую провинцию» для «понуждения воеводы» и контроля за ним: никакая Табель о рангах не могла упорядочить систему государственной службы, пока рядовой (пусть и гвардейского полка) мог отдавать распоряжения главе провинции (в терминах XIX века — тульскому губернатору). Вера Петра I в универсальность компетенции его гвардейских порученцев не знала границ: бомбардир Преображенского полка Григорий Скорняков-Писарев, снискавший заслуженную репутацию одного из наиболее образованных гвардейцев, в 1722 г. получил приказ составить «Новый летописец» — современную историю России, для чего со всех монастырских библиотек начали собирать летописи. Петр I заложил основы развития современной системы образования в России, успел утвердить устав Академии Наук — но написание истории страны предпочел поручить заслуживающему доверие гвардейскому офицеру.
7.7. Конфликт идеологии камерализма и реалий сложносоставной державы
Последовательно проводившаяся Петром I камералистская мировоззренческая революция скорее ставила под удар перспективы Российской «империи» в смысле сложносоставного политического пространства. Камерализм был идеологией небольших и относительно однородных германских княжеств, и попытка распространить унифицированные регулярные порядки на всю Россию была чревата глобальными потрясениями. В этом отношении камерализм вступал в противоречие с имперскими притязаниями Петра.
Так, начавшее формироваться со времен покорения Казани Иваном IV Донское казачье войско играло важную роль в обеспечении безопасности Московии с юга, со стороны Крымского ханства. Защита значительного участка степного пограничья и стратегической транспортной артерии — Дона — стоила Московскому государству сравнительно дешево (главным образом, расходы были связаны с периодической поставкой боеприпасов — пороха и свинца), коль скоро степные колонисты-казаки являлись самостоятельной вооруженной силой. Однако ценой лояльности этого бесплатного пограничного войска была его внутренняя автономия: на казачьей территории власть царя действовала лишь номинально. Аналогичную роль играла Военная граница с Османской империей на Балканах (от Адриатики до Трансильвании) в Австрийском королевстве, где «граничары» (вооруженные поселенцы «военной краины» — сербы, хорваты, валахи и пр.) во время войны составляли треть австрийского войска даже в конце XVIII века. В обмен за службу граничары освобождались от большинства государственных повинностей. Однако Петру I всякие исключения из правил (а пуще того, сферы вне его контроля) претили, а старинный лозунг «с Дона выдачи нет» (который притягивал на Дон беглых крепостных крестьян, преступников и дезертиров из армии) Петр воспринимал как вызов своей власти. Несмотря на жестокое наказание односельчан бежавших крестьян и сослуживцев дезертировавших солдат, люди продолжали бежать на Дон, особенно с масштабных кораблестроительных работ под Воронежем. 6 июля 1707 г. Петр издал указ о сыске беглых на Дону.
В сентябре особый отряд начал прочесывать казачьи станицы на Верхнем Дону, бесцеремонно обращаясь как с рядовыми казаками, так и с казачьей старшиной, демонстрируя полное презрение к донской автономии. В ответ в начале октября сформировался небольшой повстанческий отряд в полторы сотни человек под предводительством атамана городка Бахмут Кондратия Булавина, который разгромил и вырезал значительную часть правительственной экспедиции. Опасаясь появления царского карательного войска и разорения Дона, действия против повстанцев возглавил сам донской атаман Максимов. Он разбил войско повстанцев, однако Булавину удалось бежать в Запорожскую сечь. (Собственно, бахмутские казаки Булавина — потомки выходцев с украинских земель — считались донскими казаками отдельной группой, отношения с которой иногда бывали конфликтными). В начале апреля 1708 г. Булавин вернулся на Дон вместе с запорожскими сторонниками, и вскоре численность повстанцев достигла 20 тысяч человек. 1 мая восставшие захватили столицу Войска Донского Черкасск и разгромили донского атамана. 9 мая Булавин был провозглашен новым атаманом. На подавление восстания правительству удалось собрать войско численностью около 30 тысяч человек, в том числе два полка, присланные украинским гетманом Иваном Мазепой. К концу июля основные части восставших были разгромлены, Булавин убит, Войско Донское присягнуло на верность царю. В результате этих событий восемь донских городков были разрушены, у Войска Донского была отнята часть земель, и оно потеряло автономию.
Не успели царские войска разгромить последние отряды донских повстанцев, как в конце октября 1708 г. «Гетман и Кавалер Царского Пресветлого Величества войска Запорожского» Иван Мазепа (1639−1709) бежал в лагерь шведского короля Карла XII, который двигался с войском по Слободской Украине. За гетманом Мазепой последовали до 10 тысяч запорожских казаков — вдвое меньше, чем численность восставших против царской власти казаков на Дону полугодом ранее. В общем, переход во время войны, в непосредственной близости от театра военных действий на сторону противника не имел оправдания и по средневековым канонам феодального вассалитета. Вассал мог «отъехать» на службу другому сеньору (что было широко распространено в ВКЛ), но не во время военного похода. С точки же зрения формировавшегося тогда современного представления о государственном подданстве (на основе политического идеала абсолютистской (не контрактной) власти государя над подданными и камералистского учения о государстве, верховным воплощением которого и является государь) — поступок гетмана Мазепы был государственным преступлением. Однако Петра он привел в ярость, прежде всего, как акт личного предательства: он слепо доверял Ивану Мазепе, прислушивался к его советам (особенно в том, что касалось польской политики) и щедро награждал его. Помимо обширных земельных пожалований, Петр добился для него титула князя Священной Римской империи всего за год до того, а в 1700 г. наградил первым российским орденом Андрея Первозванного — Мазепа стал вторым (после Федора Головина) кавалером ордена. Ивану Мазепе уже приходилось менять присягу верности государю (начинал он свою службу при польском дворе), хотя и не при таких драматичных обстоятельствах. Он был расчетливым царедворцем и политиком, и его лояльность Петру I не имела ничего общего с личной преданностью. Считается, что мечтавший о наследственной княжеской или королевской власти над Малороссией Мазепа установил связь с Карлом XII и его кандидатом на польский престол Станиславом Лещинским еще в 1707 г., после серии поражений армии Петра I в Северной войне. Впрочем, и тогда он будто бы сказал: «Без крайней, последней нужды я не переменю моей верности к царскому величеству… Пока не увижу, что царское величество не в силах будет защищать … всего своего государства от шведской потенции».
Тем более нелогичным кажется решение Мазепы бежать в лагерь Карла XII спустя ровно месяц после крайне чувствительного удара Петра I по «шведской потенции»: 28 сентября 1708 г. в битве у деревни Лесной (в полусотне километров от беларуского Могилева) 16-тысячный отборный корпус под командованием выдающегося шведского генерала Адама Левенгаупта, двигавшийся на соединение с основной армией короля, был разгромлен сопоставимым или меньшим войском под командованием самого Петра. В результате к Карлу XII Левенгаупт привел лишь шесть тысяч солдат с ружьями, а все тяжелое вооружение, боеприпасы и запас продовольствия на три месяца в огромном обозе были захвачены российским войском. В этом контексте решение Мазепы выглядит скорее политическим шагом, чем проявлением личного оппортунизма: оставаться на стороне Петра I становилось явно менее рискованным.
Однако Петр выделял и награждал Мазепу как своего подданного, не имевшего иных политических интересов, кроме интересов царя и создаваемого на принципах камерализма Российского государства. Петр препятствовал планам гетмана объединить украинские земли, отторгнув от Польши Правобережную Украину: он желал сохранять договор о границе с польским королем. Но главный удар по надеждам гетмана Мазепы сохранить автономию Малороссии под своей монаршей (княжеской) властью был нанесен камералистской областной реформой Петра: согласно указу, подписанному 18 декабря 1708 г. (меньше чем через два месяца после бегства Мазепы), вся территория Московского царства делилась на восемь губерний и управление ими встраивалось в единую систему администрации. Практически вся Левобережная Украина передавалась в Киевскую губернию, и ее губернатор — при всей широте полномочий — оказывался лишь назначаемым высокопоставленным чиновником, а никак не монархом, пусть и в вассальных отношениях с царем — будущим императором. Планы реформы обсуждались заранее, и о предстоящем ущемлении автономии Малороссии Мазепа узнал по крайней мере еще в марте 1707 г. на военном совете в Жолкве (под Львовом). Возможно, несмотря на запоздалость своего решения примкнуть к Карлу XII в октябре 1708 г., он видел в этом последний шанс помешать камералистской реформе Петра, превращающей Малороссию в заурядную провинцию России. Карл XII и его кандидат на польский престол Станислав Лещинский обещали гетману Мазепе ту автономию Малороссии и ту подлинно княжескую власть (на условиях вассалитета по отношению к польскому королю), которые отбирались в результате реформы Петра I.
Другое дело, что для этих надежд Мазепы оснований было немного: эпоха вассального суверенитета закончилась. Еще в 1687 г. император Священной Римской империи Леопольд I настоял на изменении конституционных основ унии Австрии и королевства Венгрии: отныне выборы короля Венгрии отменялись, право на трон закреплялось за династией Габсбургов и передавалось по наследству. Фактически, Венгрия стала частью Австрии. 1 мая 1707 г. вступил в силу «Акт об унии», принятый шотландским и английским парламентами, в результате чего возникло соединенное королевство Великобритания. Сама Речь Посполитая, которая должна была стать новым сюзереном Малороссии и гарантом ее автономии, давно уже воспринималась всеми как Польское королевство, и о реальной автономии Великого княжества Литовского (формально отдельного политического образования) речи не шло. Учитывая, что Малороссия не имела и в прошлом статуса суверенного королевства или княжества, а ранг Запорожского гетмана не признавался равным наследственному правителю ни в Речи Посполитой, ни после — в Московском царстве, то перспективы сохранить независимость у Малороссии — как и любой «пороховой империи» — перед лицом камералистской революции в Европе были невелики.
Так Петр I, стремясь насадить «регулярное» (камералистское) государство, создавал одну кризисную ситуацию за другой, вызывая сопротивление различных элементов московской «пороховой империи», обширность и «имперскость» которой покоилась на недосказанности и неопределенности отношений подчинения и зависимости. Благодаря решительному применению насилия в масштабах, превосходивших возможности не менее его склонных к насилию оппонентов, Петру в целом удалось навязать более однозначные и жесткие правила подчинения царской (и государственной) власти. Но что означал новый имперский статус России (помимо обратного перевода на латынь ее прежнего царского статуса), и в чем заключалась цель существования складывающегося современного государства, оставалось неясным. Сам Петр довольно туманно формулировал миссию Российского государства, оставив эту задачу наследникам, которых он сам так и не назначил.
7.8. Первые шаги в сторону конструирования «имперского государства» наследниками Петра I
Указ Петра I от 5 февраля 1722 г. о наследовании престола впервые законодательно регламентировал правила передачи монаршей власти в этой части Евразии. Последовательно проводя линию на создание публичного политического института государства, отдельного от частного владения верховной властью семьей князя или царя, Петр отменил наследственное право на трон. Наследник должен был назначаться действующим правителем на основании принципа личной годности, вовсе не обязательно из числа его родственников — подобно тому, как это некогда было принято в Византии. Только в отличие от Восточной Римской империи (как и Западной), назначенный наследник в России даже не обязательно должен был быть мужчиной. Впрочем, Петр I скоропостижно умер в январе 1725 г. в возрасте 52 лет, не успев воспользоваться собственным указом и назначить наследника.
На протяжении последующих 37 лет на российском престоле сменились шесть императоров, большей частью в результате дворцовых переворотов (всего их пришлось восемь на этот период). После смерти Петра два года правила его вторая жена Екатерина I (урожденная Марта Самуиловна Скавронская, дочь ливонских — литовских, латышских или эстонских — крестьян); после ее смерти, в 1727–30 гг. — внук Петра I, подросток Петр II (Алексеевич); в 1730–40 гг. — дочь сводного брата и соправителя Петра I, Анна Иоанновна; один год императором считался младенец Иван VI (Иоанн Антонович), внучатый племянник Анны; в 1741–1761 гг. страной правила младшая дочь Петра I и Екатерины I, Елизавета Петровна; после ее смерти около полугода императором был внук Петра от другой дочери, Петр III (урождённый Карл Петер Ульрих Гольштейн-Готторпский), которого в 1762 г. сместила с престола его жена Екатерина II (урождённая София Августа Фредерика Анхальт-Цербстская), уже не имевшая вообще никаких родственных связей с династией Романовых. Череду дворцовых переворотов традиционно (и, в общем, справедливо) связывают с двусмысленностью петровского указа о престолонаследии, многократно расширившего круг относительно законных кандидатов на трон. Таким образом, соперничающие аристократические группировки и целые социальные слои (например, гвардия или служилое дворянство) получили возможность добиваться определенных политических целей путем воцарения на престоле «своего» кандидата, часто в результате переворота. Результатом такого стихийного утверждения соревновательной политики стала, конечно же, возросшая нестабильность правления (впрочем, вряд ли намного большая, чем кадровый произвол и законодательный раж абсолютных монархов вроде Петра I, правивших по нескольку десятилетий).
Куда важнее, однако, стало появление самой обратной связи законодателя и подданных, позволявшей корректировать государственный курс в соответствии с интересами наиболее влиятельных социальных сил. По сути, на протяжении второй трети XVIII века происходило приспособление камералистской модели нового государства Петра к реалиям России, унаследовавшей от Московской «пороховой империи» обширные территории и разношерстное население разной степени интегрированности. Эпоха дворцовых переворотов XVIII века позволила заложить основы Российской империи как современного по типу государства — методом проб и ошибок, но зато наиболее экономным путем поиска наименьшего сопротивления (очередной переворот, как правило, знаменовал смену доказавшего непопулярность курса). Отличительной чертой этого процесса самоорганизации современного (во всяком случае, модернизирующегося) имперского государства являлось сохранение исходного камералистского мировоззрения даже оппонентами петровских преобразований.
Все началось с создания в феврале 1726 г. (спустя год после смерти Петра I) по указу его вдовы, императрицы Екатерины I, Верховного тайного совета — фактически, правительства страны, в который входили семь-восемь высших сановников петровского времени. Традиционно Верховный тайный совет воспринимался историками как воплощение олигархического (греч. oligarchía — власть немногих) правления высшего слоя аристократии. Собственно, нет ничего неожиданного в том, что управление страной в начале XVIII в. оказалось сосредоточенным в руках группы аристократов; гораздо существеннее то, что кажущийся сегодня пережитком средневековья Верховный тайный совет являлся новейшим порождением камералистской доктрины. Тайные советы (Geheimes Ratskollegium, Geheimes Konseil, Geheimes Kabinett) являлись стандартным институтом координации нарождающейся бюрократии государем (прежде не соприкасавшимся непосредственно с административной рутиной), чья сакральная власть распространяла теперь ауру таинственности и на деятельность высшего эшелона чиновничества. Так что «Верховный тайный совет» был всего лишь дословным переводом сложившейся немецкой формулы. Причем к 1720-м годам лишь наиболее передовые камералистские режимы успели обзавестись рабочим Geheimes Konseil: так, в Ганновере Тайный совет начинает играть ключевую роль после того, как в 1714 г. курфюрст Георг Людвиг принял британскую корону, фактически передав управление курфюршеством Совету, члены которого назывались «министрами».
Российский Верховный тайный совет начал с выработки детального регламента своей деятельности (совершенно нетипичное занятие для органа аристократической олигархии), а затем сосредоточился на том, чем занимались «тайные советы» и «кабинеты» в немецкоязычных странах: изысканием дополнительных средств для казны и сокращением расходов. Созданное Петром I государство давило непосильным бременем на хозяйство страны, сочетая неэффективные и некомпетентные кадры обширного по тому времени аппарата и избыточную структуру учреждений, во многом дублирующих друг друга в результате непродуманности и непоследовательности реформ Петра. «Верховники» (члены Совета) пытались облегчить это бремя, действуя по трем направлениям: сокращая государственные учреждения и их штат (в том числе — армию и флот), рационализируя систему управления (в том числе сокращая подати и порядок их взыскания) и печатая неполновесные деньги для покрытия текущих расходов. Пересматривая решения Петра I (включая те, что противоречили другим его решениям), Совет формально выступал в роли контрреформатора. Однако, действуя всецело в камералистской логике и в рамках заложенной Петром политической модели, он фактически лишь удалял нежизнеспособные или нереалистичные элементы новой государственной конструкции. Что же потребовало отмены в первую очередь, чем пришлось пожертвовать?
С одной стороны, были сняты ограничения на внешнюю торговлю: вновь открыт Архангельский порт, пересмотрен протекционистский таможенный тариф 1724 года, вновь разрешена свободная торговля некоторыми товарами, целиком переданная на откуп (прежде всего, табаком). Эти решения входили в противоречие с камералистским культом протекционизма, но по сути вели к укреплению государственного хозяйства. Оживление торговли шло на благо как населению, так и казенным финансам, поскольку расширялась база для взимания податей и пошлин. (К примеру, тариф 1724 г. обкладывал пошлиной в 37,5% экспорт за границу пеньки и пряжи, парализуя его; теперь же пошлина снижалась до 5%.) Прямо противоположный характер — и по форме, и по сути — носило решение отменить выплату жалованья гражданским чиновникам низового и среднего звена, параллельно с радикальным сокращением аппарата. Царские указы, узаконивавшие эти инициативы Верховного тайного совета, прямо говорили о необходимости возвращения оплаты чиновников «как было до 1700 году», когда должностные лица получали вознаграждение от просителей, чьи дела они должны были решать (буквально — взятки). Тем самым признавалось, что России было не по карману «регулярное» камералистское государство, в котором чиновники действовали во имя «общественного блага» и за счет «общественных средств», собранных в виде налогов: не как частные лица, но представители государственной власти. Та же самая мотивация (максимальное удешевление стоимости государства) проявилась в решении собирать подушную подать в деревнях не с крестьян — непосредственных налогоплательщиков — а с помещиков, деревенских старост или управителей имениями. Тем самым государство перекладывало функцию низового фискального аппарата — самого многочисленного, дорогого и неэффективного в цепочке сбора податей — на частных лиц. Сам принцип личного налогообложения превращался из юридического в сугубо счетный: как и в старой Московии, фактически налог собирался с территории, принадлежавшей владельцу, который и являлся субъектом отношений с государством. Крепостной крестьянин вступал в финансово-юридические отношения с помещиком, который собирал подати, но никак не с государством. Таким образом, фактически, государство не распространяло свою юрисдикцию дальше помещичьих усадеб. Петра I наверняка не устроила бы эта ограниченность государственного контроля над обществом — но таков был реальный потенциал, реальный «размер» современного российского государства. Парадоксальным образом, единственным способом сохранить его и дать возможность развиваться было освободить его от тех полномочий, на исполнение которых не хватало финансов, людей и навыков. Во многих областях это означало возвращение к уровню 1700 года — впрочем, как мы уже видели, далеко не самого архаического.
Более двусмысленный характер носила корректировка петровской политики по отношению к украинским землям. Сам Петр I высоко ценил Украину как ресурс — экономический, военный, а особенно идеологический. Предоставив роль главного идеолога Российской империи и фактически «министра государственной религии» Феофану Прокоповичу, он предпочитал и на низовых ответственных «идеологических» постах видеть украинцев. Так, в декабре 1717 г. он отдал распоряжение «в Преображенский полк сыскать доброго попа, а лутче из малоросийских». Но готовность допустить к управлению империей украинцев (наряду с квалифицированными людьми любого другого происхождения) никак не предполагала признания Петром особого статуса украинских земель (в то время «Малороссии»). Напротив, в своем стремлении воплотить в реальность камералистскую административную утопию, Петр враждебно воспринимал любые претензии на культурную или политическую особость — будь то московское боярство или украинская старшина. Для него не было разницы, устанавливался ли камералистский порядок в немецком герцогстве (относительно компактном, монокультурном и моноконфессиональном) или в сложносоставной «пороховой империи» вроде Московского царства.
Но разница, очевидно, была, и протест гетмана Мазепы против превращения Малороссии в рядовую губернию России был лишь наиболее острым выражением нараставшего недовольства. Относясь к Малороссии как к ценному ресурсу, Петр отправлял в богатые украинские деревни на постой армейские полки, жаловал украинские земли вместе с крестьянами своим фаворитам (в нарушение всех мыслимых норм), а начиная с 1720 г. приступил к ликвидации украинской автономии. В 1720 г. в Глухове (ставке гетмана Малороссии) была учреждена судебная коллегия, укомплектованная коронными чиновниками, — то есть суд был выведен из-под юрисдикции гетмана. В 1722 г. к гетману Скоропадскому были приставлены командиры российских полков, расквартированных в Малороссии. Затем в Глухове была учреждена малороссийская коллегия, лишившая гетмана фактически всех властных полномочий, а после смерти Скоропадского ставшая официальным правительством. Предполагалось, что после смерти последнего гетмана новый так и не будет избран и сама должность исчезнет — именно таким образом был в свое время ликвидирован институт Московского Патриарха. Попытки лидеров казацкой старшины выразить протест — даже в самой верноподданнической форме — приводили Петра в ярость. В 1723 г. он приказал заточить в Петропавловскую крепость казацких лидеров во главе с Павло Полуботоком (Павлом Полуботком), исполнявшим обязанности гетмана. Имущество богатейшего казацкого полковника Полуботока было конфисковано, сам он умер в заточении.
Верховный тайный совет, вопреки сопротивлению Екатерины I, последовательно добивался восстановления прежнего статуса украинских земель. Была уничтожена Малороссийская коллегия, восстановлена власть гетмана, отменены подати, введенные после ликвидации гетманщины, делами Малороссии начала заниматься Иностранная коллегия (вместо Сената), а населению Московского царства была запрещена покупка земель под юрисдикцией гетмана, «чтоб оттого малороссиянам не было учинено озлобления». «Верховников» трудно заподозрить в симпатиях украинской независимости — даже если встать на традиционную точку зрения, согласно которой они проводили консервативную антипетровскую политику в интересах старомосковской аристократии. И старый московский «пороховой» империализм, и новый «камералистский» империализм вели дело к поглощению Украины (Малороссии) — но никак не к защите ее самостоятельности. Очевидно, что как и в прочих случаях, «верховники» ориентировались в украинской политике в первую очередь на здравый смысл, фиксируя своими решениями то положение вещей, которое государственная власть была в состоянии поддерживать без чрезмерного напряжения ресурсов. Имперская власть не имела никакого другого механизма управления украинскими землями, кроме как военной силы десяти полков, расквартированных в Малороссии, — или уже сложившейся гетманской администрации. Дешевле и эффективнее было положиться на зачаточные государственные структуры гетманщины.
Впрочем, речь не шла о пассивном восстановлении допетровского «статус кво» в Украине. Напротив, принимавшиеся «верховниками» решения впервые вполне осознанно и последовательно были направлены на интеграцию Малороссии (а не на ее формальное насильственное подчинение). Кульминацией разворота украинской политики стали «решительные пункты», сформулированные Верховным тайным советом в 1728 г., подтверждавшие старинные украинские вольности и права. Восстанавливалось избрание гетмана (но лишь по особому императорскому указу). Главным судебным органом становился Генеральный суд, судивший по малороссийскому праву, под председательством гетмана и с выборными судьями (но три из шести членов суда представляли Московское царство). В генеральную старшину и полковники выбирались по два-три кандидата (но окончательное назначение оставалось за императором по представлению гетмана). Кроме того, было решено начать работу по переводу на «великороссийский» язык магдебургского и саксонского права, применявшегося в украинских землях, и составления в перспективе малороссийского уложения. Таким образом, Верховный тайный совет одновременно восстанавливал гетманскую административную систему и реформировал ее в соответствии с современными камералистскими принципами и во взаимодействии с имперской административной системой. В этой логике, окончательное превращение гетманщины из полустихийной системы военной демократии (или, по определению некоторых историков, военной диктатуры) в регулярное современное государство должно было привести к унификации с имперским государством и естественной и ненасильственной интеграции. В условиях отсутствия некой единой и нормативной «русской» культуры (как и единой стандартной «украинской»), проблема культурно-языковых различий не упоминалась ни российскими имперскими инициаторами интеграции Малороссии, ни сторонниками украинской независимости от России. В ситуации, когда литературный «великоруссий» язык развивался главным образом усилиями Феофана Прокоповича и других выпускников Киево-Могилянской академии (единственного полноценного высшего учебного заведения к востоку от Речи Посполитой), формирующаяся Российская империя в культурном отношении была столь же чужда украинской традиции, как и московской — или являлась продуктом украинской просвещенной мысли не в меньшей степени, чем московской политической культуры.
7.9. Анна Иоанновна и попытка заключения «общественного договора» как основы нового имперского государства
Проявляя изрядную политическую дальновидность и демонстрируя коллегиальную работу в лучших традициях камералистской доктрины, Верховный тайный совет оставался, в то же время, кружком аристократов, которые руководствовались не только высшими государственными интересами, но и личными амбициями, клановой лояльностью и корыстью. Внутри совета вспыхивала острая борьба за влияние на монарха, за распределение высоких должностей. Однако погубили «верховников» не внутренние склоки, а завышенные политические требования. По иронии судьбы, занимавшийся проверкой идеологических построений Петра I на реалистичность, Верховный тайный совет сам стал жертвой российской социальной реальности, для которой он оказался слишком передовым, оторванным от политической культуры основной массы социально активного населения — различных слоев дворянства.
Верховники успешно пережили двух императоров и имели все шансы сохранять свою роль и дальше: они счастливо сочетали в себе принадлежность к верхушке знати, приближенной к императору благодаря статусу, и обширные государственные навыки, недоступные обычно придворным того времени. Большинство отпрысков древних княжеских родов (Долгоруких, Голицыных) были гораздо большими Рюриковичами, чем наследники Петра I на престоле, и прислушиваться к их мнению императорам было не так зазорно, как если бы они имели дело с обычным камералистским «тайным кабинетом» безродных чиновников. В то же время, три десятилетия службы у Петра I — идейного адепта камерализма и, вероятно, крупнейшего практика государственного строительства своего времени — хорошо подготовили «верховников» к управлению государством. Пожалуй, даже пресловутая камералистская коллегиальность деятельности Верховного тайного совета имела практическое положительное влияние на его эффективность, несколько уменьшая влияние корыстных интересов отдельных членов совета на принятие решений. Отсутствие очевидных прямых дееспособных наследников престола после смерти Петра I и его жены Екатерины I, в сочетании с двусмысленным законом о наследовании престола делало Совет ключевым политическим игроком, от которого зависел выбор наследника.
После смерти Екатерины I, преодолев яростное сопротивление отдельных своих членов, Верховный тайный совет передал власть сыну царевича Алексея — опального и осужденного на смерть за измену в 1718 г. сына Петра I от первого брака. Петру Алексеевичу не было и 12 лет, когда он взошел на престол в мае 1727 г. До его 16-летия он должен был находиться под опекунством Верховного тайного совета, а кроме того, член совета А. Д. Меншиков добился обручения императора со своей дочерью — что должно было еще более возвысить бывшего петровского фаворита Меншикова, но также и упрочить влияние «верховников» на императора. План Меншикова потерпел поражение, сам он с семьей был отправлен в ссылку, но влияние Совета не ослабело, так как невестой императора стала представительница клана Долгоруковых, давшего и половину членов Совета. Но в январе 1730 г. 14-летний Петр II умер от оспы, и императорский трон вновь оказался вакантным.
Перебрав кандидатуры возможных претендентов, члены Верховного тайного совета остановились на 37-летней Анне Иоанновне, дочери сводного брата и соправителя Петра I. Овдовев сразу после свадьбы с герцогом Курляндским, официально бездетная и незамужняя Анна Иоанновна уже 20 лет как проживала в Курляндии (бывших ливонских землях в Западной Латвии) и не была связана с каким-либо аристократическим кланом или придворной группировкой в Санкт-Петербурге. Она казалась идеальной кандидатурой для исполнения представительских функций императрицы, не мешающей государственной деятельности Верховного тайного совета. Потерпев неудачу с попытками поставить под контроль предыдущего императора Петра II при помощи женитьбы на родственницах членов Совета (или не видя перспектив с подысканием подходящей кандидатуры в мужья Анне Иоанновны), «верховники» решили пойти юридическим путем и предложили герцогине курляндской подписать «кондиции» — условия ее вступления на российский престол.
По сути, речь шла о заключении контракта между кандидатом на трон и Верховным тайным советом, который, очевидно, воспринимал себя подлинным выразителем интересов имперского государства — не династических или групповых аристократических — и в этом качестве юридически правомочной стороной. Это подтверждается самим языком «кондиций». Хотя этот короткий документ представлял собой лишь набросок полноценного манифеста, перечислявший кратко сформулированные пункты условий, и не предназначался для публикации, даже в нем преамбула объявляла целью императорской власти стремление «к благополучию всего нашего государства и всех верных наших подданных...» Анна Иоанновна фактически «принималась на работу», на должность высшего лица в государстве, владеть которым она не могла: ей запрещалось выходить замуж и определять наследника (хотя последнее прямо предполагалось петровским законом о престолонаследии), а также распускать Верховный тайный совет. Без согласия Совета Анна Иоанновна не могла объявлять войну и заключать мир, вводить новые налоги и жаловать государственные земли помещикам, присваивать чины выше полковничьего и самостоятельно вводить новые расходные статьи — одним словом, все то, что определяется понятием «государственный суверенитет». Большая часть этих прерогатив не имела значения для личных или групповых корыстных интересов аристократов-олигархов, и в данном случае «верховники» скорее защищали интересы еще слабо развитого камералистского государства от произвольного вмешательства неподготовленного и вполне «случайного» человека на троне.
Анна Иоанновна приняла эти условия и подписала «кондиции» 28 января 1730 г.: она ничего не теряла, отказываясь от роли полноправного императора-администратора (типа Петра I) и перебираясь из Курляндии, вассального Речи Посполитой протектората Российской империи, в Россию. «Верховники», действуй они в логике аристократической олигархической группировки, сохранили бы свои договоренности с новой императрицей в тайне и контролировали бы их выполнение путем закулисных интриг. Однако они, видимо, полагали, что действуют в публичном пространстве и в интересах «общего блага», поэтому 2 февраля огласили текст «кондиций» на собрании членов Сената и представителей генералитета. Дело было в Москве, куда дворяне со всей России съехались в январе на предполагавшуюся свадьбу Петра II, задержались на его похороны и остались ожидать провозглашения нового императора. Огласив условия приглашения на трон Анны Иоанновны, «верховники» предоставили дворянам, как единственным полноценным «гражданам» имперского государства, определить принципы нового государственного устройства, соответствующего положениям «кондиций». Они должны были подавать проекты на рассмотрение Совету.
Видимо, «верховники» ожидали — в логике воображаемой камералистской утопии — единодушной поддержки их действий в «высших государственных интересах» со стороны благодарной мелкой «шляхты», чье мнение прежде вообще никогда не спрашивали. Поддержка со стороны «граждан» придавала «кондициям» статус «общественного договора» с монархом — в соответствии с теорией происхождения государства английского философа Дж. Локка (1632–1704). Не случайно, видимо, в бумагах князя Дмитрия Голицына, лидера Верховного тайного совета и инициатора обращения к съехавшимся в Москву дворянам, в начале ХХ века был обнаружен рукописный перевод второго трактата «О государственном правлении» Локка. Именно в нем Локк сформулировал свою версию концепции «общественного договора», направленного на достижение общего блага и основанного на «естественных правах». Как говорилось в предисловии к переводу,
Всяк человек должен знать, как ему надобно жить в собрании гражданском, житием мирным, покойным и безмятежным, по законом натуралным; потому что в том состоит все нравоучение... Здесь господин Лок… предлагает о гражданстве свое разсуждение, соединя оная разная мнения во одно, и показует начало и основание гражданства кратко и порядочно, но все по резону.
Однако события приняли непредвиденный философом (и князем Голицыным) поворот. Оказалось, что съехавшиеся в Москву «граждане» представляли собой не рациональных индивидуумов, согласовывающих свои личные стремления с универсально понимаемым «общим благом», а резко поляризованные группы интересов. Эта поляризация проявилась уже в самом языке «верховников» и участвовавших в обсуждении дворян, которые четко разделяли «генералитет» и «шляхетство» (или «фамильных» и «шляхетство»). Первая категория включала в себя обладателей высших (действительно генеральских) чинов по Табели о рангах или старую родовую знать, чей достаток и политическое влияние были гарантированы служебным положением и личным богатством. Вторую категорию сегодня принято называть дворянством, хотя сами себя эти люди (так же, как и официальные документы) называли «шляхетством», на польско-литовский манер.
В эпоху Петра I огромное количество иностранных слов вошло в русский язык, иногда дублируя существующие русские термины «для красоты», а чаще для обозначения новых социальных реалий и отношений. Однако крестьян, к примеру, не стали переименовывать в «пейзан» — очевидно, их статус и экономическая функция не слишком изменились. Зато сословие, распоряжавшееся землей и крестьянами, стали называть «шляхетством», что должно было обозначать некое новое качество прежних помещиков-дворян. Действительно, между шляхтой Речи Посполитой и старым московским дворянством была огромная разница, как юридическая, так и — самая яркая — культурная. Шляхетство предполагало (в идеале) сословную корпоративную солидарность и юридическую и экономическую личную независимость, воплощавшуюся в культурной категории «чести». Несмотря на значительное число обедневшей шляхты, впавшей в зависимость от аристократических магнатов-землевладельцев, в принципе шляхтич по своим привилегиям ничем от магнатов не отличался и имел такие же права собственности и юрисдикции над своими крестьянами, как аристократ. Политически же в «шляхетской республике» Речи Посполитой шляхта составляла класс полноценных граждан.
Московские «помещики» во многих отношениях не отличались от «боевых холопов» бояр, а многие дворянские семьи и происходили от этой категории зависимых слуг. Пожалование землей и крестьянами от царя обусловливалось продолжительностью несения военной службы в поместном войске, и ни о какой частной собственности или юридическом иммунитете (независимой от царя судебной власти в своей округе) речи не шло. Дворянство делилось на категории с неравным статусом (к примеру, на «московских» и «городовых») и само было частью более широкого слоя «служивых людей», чей статус и достаток всецело зависел от службы. Шляхта Речи Посполитой всегда была перед глазами у дворян Московии, воевавших с ней не одно столетие и переживших оккупацию Москвы в период Смуты. После начала Северной войны российский армейский контингент почти постоянно присутствовал на территории Речи Посполитой, многие дворяне (в особенности, офицеры гвардии) месяцами жили среди польско-литовских шляхтичей, наблюдая их в повседневной обстановке, вне военных столкновений. Называя себя шляхетством, российские помещики претендовали на вполне определенный (польско-литовский) статус дворянства, и, подтверждая это коллективное наименование (начиная с 1711−1712 гг.), Петр I и его преемники номинально признавали притязания российских служивых людей на привилегированный статус. Однако, требуя от российских дворян внешнего вида, манер и образованности «европейских» дворян, Петр I оставил без изменения их правовое положение, вернее, серьезно осложнил его. Московские помещики должны были служить в поместном ополчении, собираемом на время военных кампаний, — Петр ввел постоянную и пожизненную службу для всех дворян-мужчин начиная с 15 лет (причем начинаться она должна была с низших, солдатских чинов). Указ о единонаследии 1714 года фактически стирал грань между наследственными вотчинами бояр и землевладением помещиков, но при этом запрещал дробление ставших теперь родовыми поместий между наследниками. Счастливый обладатель наследства не мог заниматься имением, так как должен был находиться на службе, отпуск с которой получить было трудно и лишь на короткий срок, а его братья и сестры обрекались на скудное существование. Новый «шляхетский» статус имперского дворянства находился в резком противоречии с их положением «крепостных» на государственной службе.
И вот к этой массе угнетенного служилого «шляхетства» обратился «генерал» князь Голицын, предлагая выработать основы общественного договора о правомочной государственной власти. Однако собравшиеся в Москве зимой 1730 г. дворяне не были ни сплоченным сословием, ни гражданами, уверенными в своих естественных правах. Джон Локк и его последователи в Верховном тайном совете считали деспотизм правителя главной угрозой законам и собственности. Локк писал, что
политическая власть — это та власть, которую каждый человек, обладая ею в естественном состоянии, передал в руки общества и тем самым правителям, которых общество поставило над собой с выраженным или молчаливым доверием, что эта власть будет употреблена на благо членов общества и на сохранение их собственности.
Но российское шляхетство как раз и не чувствовало, что существующие законы обеспечивают их свободное распоряжение собственностью и даже собственными судьбами. Это стало понятно, когда в Верховный тайный совет было подано от шляхетства семь коллективных проектов устройства системы правления. Хотя эти проекты неизменно апеллировали к пользе «государства и общества» или «отечества» (как уже говорилось, «отечество» являлось переходным понятием, предшественником современного «государства»), единодушие между ними наблюдалось лишь в части требований улучшения положения шляхетства. Несколько сотен дворян, подписавшихся под этими проектами, требовали отмены закона о единонаследии 1714 г., ограничения (или хотя бы четкого определения) сроков службы, отказа от требования начинать службу рядовыми, упорядочивания чинопроизводства. Что же касается политического устройства, то одни проекты предлагали следовать шведской модели конституционной парламентской монархии, другие ориентировались на систему выборной королевской власти Речи Посполитой, третьи допускали шляхетскую республику. И хотя высшие органы власти в этих проектах конструировались крайне расплывчато, большинство из них не предполагало сохранения Верховного тайного совета в прежнем виде, как ограниченного по составу несменяемого правительства. В общем, политический процесс проходил в соответствии не столько с либеральной доктриной Джона Локка, сколько с консервативной теорией его предшественника и оппонента Томаса Гоббса (1588−1679), который считал естественным состояние войны «всех против всех».
В трактате Гоббса «Левиафан» (1651) создание государства в результате общественного договора признается скорее вынужденной мерой, когда участники договора отказываются от части своих «естественных прав» в пользу государства, чтобы защитить друг от друга оставшиеся, наиболее важные права. Монархия, с точки зрения Гоббса, является оптимальной формой правления этого государства (англ. сommonwealth — Common Wealth в написании XVII в., — буквально переводившееся в начале XVIII в. как «общество» на русский), коль скоро наиболее полно выражает единство политической воли, воплощаемой «Левиафаном»-государством, и отчуждение им части прав граждан. Локк, по сути, видел государство надстройкой над уже сложившимся самоорганизовавшимся сообществом, выполняющим его волю ради общего блага. Гоббс же описывал ситуацию формирования государства непосредственно из состояния хаоса, впервые организующего социальное общежитие на рациональных началах. Судя по языку дворянских проектов, даже говоря об «обществе», их авторы имели в виду «государство» (commonwealth) и не представляли себе другой формы самоорганизации (чем коренным образом отличались от польско-литовской шляхты, объединенной на принципах корпоративной и региональной солидарности в «общество»). Содержание проектов также указывало на то, что общность требований защиты сословных прав может стать тем «общим знаменателем», ради которого можно будет принести в жертву вызывавшие разногласия глобальные вопросы политического устройства. Схема Гоббса более адекватно описывала социальную ситуацию и настроения среди собравшихся в Москве дворян, несмотря на то, что идеологи «кондиций» сами придерживались политической теории Локка.
15 февраля 1730 г. в Москву прибыла Анна Иоанновна. Была принесена присяга на верность одновременно императрице и государству, однако оставалось непонятно, как именно они между собой соотносятся. Инициаторы политической реформы из Верховного тайного совета в это время пытались выработать свой вариант устройства власти, учитывавший пожелания шляхетства (изложенные в семи проектах), но о своих намерениях и параметрах возможного компромиссного решения никому не сообщали. Взбудораженное развернувшимися смелыми обсуждениями, шляхетство терялось в неведении и подозревало «верховников» в заключении сепаратного соглашения с Анной и в намерении сохранить власть Совета. Новая императрица не принимала участия в обсуждениях, но времени зря не теряла. Еще на подъезде к Москве она начала осыпать милостями гвардейцев: производить в чины, награждать солдат деньгами, выдавать водку и, в качестве кульминации, 21 февраля разрешила отставку сразу 169 гвардейским чинам (осчастливив и тех, кто смог отправиться в свои поместья, и тех, кто получил возможность занять их места в гвардии). Одним из немногих близких Анне людей в Москве был ее двоюродный брат Семен Салтыков — майор Преображенского полка, поэтому милости новой императрицы падали не просто на благодатную, но на хорошо подготовленную и организованную почву.
25 февраля к Анне Иоанновне в Лефортовский дворец явилась большая депутация дворян, подавших челобитную с просьбой собрать представителей всего шляхетства («по одному или по два от фамилий») и совместно с ними определить будущую форму правления. Фактически, податели челобитной (не то 150, не то 800 человек), среди которых были и крупные сановники, перехватывали у «верховников» инициативу политической реформы и предлагали обсудить ее параметры непосредственно с императрицей, а не с группкой олигархов. Анна подписала челобитную, ставившую под вопрос и ее собственный статус. Но после этого восстали присутствующие гвардейские офицеры, угрожавшие немедленной расправой над теми, кто смел предъявлять условия императрице. Гвардейцы были в меньшинстве (меньше сотни), но они оказались самой сплоченной и единодушной группой (а также хорошо вооруженной). Спешно была подана вторая челобитная, просившая Анну «принять самодержавство таково, каково ваши славные и достохвальные предки имели, а присланные к вашему императорскому величеству от Верховного совета и подписанные вашего величества рукою пункты уничтожить.» Анна приняла и эту челобитную; она публично разорвала злополучные «кондиции», был составлен новый вариант присяги, признававшей абсолютную императорскую власть, а «верховники» подверглись опале.
История воцарения Анны является важным свидетельством того, что «виртуальная реальность», увлекавшая Петра I (камералистская идея государства), оказалась понятой и принятой довольно широкими кругами его подданных. Понимали они ее по-разному, вкладывая разное содержание в понятие «государства» — как выяснилось в ситуации, когда от них потребовалось сформулировать свои идеи и стремления. Однако даже провал конституционной реформы и восстановление «самодержавства» в конце февраля 1730 г. означали победу самого принципа современного государства, у которого появились первые граждане — субъекты государства, а не просто подданные. Само появление слова «государство» в современном значении (а также переходных понятий «отечество» и «общество») в политическом языке этого времени свидетельствует о произошедшей перемене. Государство-господство «пороховой империи» (точнее всего описываемое немецким историческим понятием Herrschaft) означало власть государя и лично ему преданных вооруженных вассалов и слуг над «землей» (территорией и населением). Высшим обоснованием этой власти являлось завоевание и покорение — как в случае Джучиева улуса, опричнины Ивана Грозного или даже масштабного «перекодирования» всей социально-политической сферы Петром I. Современное же государство, осмысленное политическими философами эпохи камерализма, оправданием себе называло служение общему благу и претендовало на выражение интересов общества, а не подавление его (от этого происходит и английский термин commonwealth — первоначально буквально «общее благополучие»). Не подписав с Анной Иоанновной формального юридического соглашения, собравшееся шляхетство все же заключило с ней контракт в качестве субъектов нового государства — просто формой правления этого государства была выбрана абсолютная монархия. Этот вариант оказался примиряющим самые различные групповые интересы, защищая мелких дворян от своекорыстного произвола со стороны олигархов-«верховников», а аристократов — от перспективы резкой потери статуса в результате неблагоприятного для них исхода выборов нового государя. Анна Иоанновна получила права абсолютного монарха, но произошло это в результате политической борьбы среди шляхетства, на условиях, устроивших большинство, и в рамках нового политического воображения власти. То, что при этом возобладал сценарий, описанный Гоббсом, а не Локком, вероятно, не было случайностью или следствием лишь недостаточного свободолюбия российских дворян, но отражало специфический — имперский — характер складывающегося в России современного государства. Существовавшие условия не позволяли опираться на относительно единое и самостоятельное «общество» (отправная точка в сценарии Локка), заставляя искать некий политический «общий знаменатель» между разными локальным сообществами: территориальными, сословными, конфессиональными.
Это объяснение находит подтверждение в тех решениях, которые были приняты сразу после восшествия на престол Анны, будто бы объявленной самодержицей «по старине»: реформе положения шляхетства, попытке восстановить «правильное» камералистское государство и хозяйство, а также новых инициативах по интеграции шляхетского «сообщества».
7.10. Реформы Анны и постепенное обособление государства
Действуя в интересах «общего блага» субъектов новой государственности — шляхетства, Анна выполнила конкретные пожелания, присутствовавшие во всех семи проектах и в самих «кондициях». Прежде всего, был отменен принцип «единонаследия» поместий, притом, что положение указа 1714 года о фактическом приравнивании поместий к вотчинам было подтверждено и юридически оформлено. Впервые дворянская служба получила четкую регламентацию: она должна была начинаться в 20 лет, после получения образования, и продолжаться ровно 25 лет. Уровень образования дворянских подростков трижды проверялся, начиная с семилетнего возраста, не получившие достаточного домашнего или школьного образования определялись в матросы. Учреждение Кадетского корпуса для дворян, дававшего научное и военное образование, позволило выпускникам начинать службу сразу в офицерских чинах в армии или в классных чинах на гражданской службе.
Одновременно предпринимались попытки привести государственные учреждения в соответствие с камералистским идеалом. Сенат вновь был объявлен высшим правительственным органом, и число сенаторов было доведено до 21 (такая численность «Вышнего правительства» предполагалась проектом, подписанным 364 дворянами в феврале 1730 г.). Серия указов регламентировала работу Сената, разделенного теперь на пять специализированных «экспедиций»; вводились еженедельные доклады по текущим делам у императрицы. Региональные администраторы (воеводы) должны были раз в два года отчитываться о проделанной работе, их переназначение зависело от этого отчета. Пересмотр штатов восстановил сокращенную было в целях экономии численность чиновников и офицеров, а также выплату их жалованья (причем российские и иностранные подданные уравнивались в уровне вознаграждения). Было решено восстановить былую мощь флота. Сбор налогов с населения передавался от армии гражданским чиновникам; специально созданные учреждения, высчитывавшие недоимки и пытавшиеся их возвращать, ликвидировались (как не вписывающиеся в стройную административную систему). В 1733 г. в 23 провинциальных городах создается полиция (прежде действовавшая лишь в Санкт-Петербурге и Москве).
Наведение «камералистского» порядка в экономике выразилось в дальнейшей либерализации экспортного тарифа, в результате чего в короткий срок экспорт железа из России вырос в пять раз, а хлеба — в 22 раза, принося в страну звонкую монету. По производству железа Россия вышла на первое место в Европе, не в последнюю очередь благодаря созданию камералистской супер-структуры под невероятным названием «Генерал-берг-директориум», в результате слияния нескольких отдельных учреждений. Чеканка «правильной» монеты и обмен разномастных монет старого чекана по определенным правилам должны были навести порядок в денежном хозяйстве.
Наконец, предпринимались совершенно сознательные шаги в направлении дальнейшей внутренней интеграции империи, на разных уровнях. Одним из первых было создание нового гвардейского Измайловского полка — в селе Измайлово под Москвой прошло детство Анны. Особо приближенный к императрице полк (с 1735 г. она сама стала его шефом) был набран из жителей новоприсоединенных окраин империи: рядовые — из состава полков украинской ландмилиции, а офицеры «из лифляндцев и курляндцев и прочих наций иноземцев и из русских». Основанный в 1732 г. (по французскому и прусскому образцу) Кадетский корпус был рассчитан на прием 200 воспитанников, из которых 50 должны были представлять завоеванные в ходе Северной войны балтийские земли. При этом специально оговаривалось, что «можно определить к Российским [кадетам] чужестранных, а к Эстляндским и Лифляндским Российских служителей, дабы тем способом всякой наилучше другим языкам обучаться и к оным привыкать мог.» Учитывая, что все кадеты обучались русскому и немецкому языкам (наряду с французским и латынью), кадетский корпус должен был стать «плавильным котлом» общеимперского шляхетства. Одновременно открывались новые солдатские школы в гарнизонах, а также новокрещенские школы для немусульманских народов Среднего Поволжья,
для обучения как некрещёных вотяков, мордвы, чуваш, так и разных народов новокрещёных детей славяно-российского языка, … и в тех школах ученикам быть в каждой по 30 человек и обучать в Казанской некрещёных детей каждого народа по 10 человек от 10 до 15 лет, а в уездных трёх школах, разных же народов... от 7 до 15 лет…
Обучение включало в себя предметы как классического, так и церковного образования (например, латынь и церковную живопись), но при этом от учеников требовалось не забывать родной язык.
Украинская политика по-прежнему была направлена на ограничение влияния старшины и постепенное распространение общеимперских институтов на Малороссию. После смерти гетмана Даниила Апостола в 1734 г. было принято тайное решение не допускать выборов нового гетмана. Вместо него действовало Правление гетманского правительства из трех представителей Санкт-Петербурга и трех представителей украинской старшины. Одновременно с фактической отменой гетманщины в 1734 г. были помилованы запорожцы и основана Новая Запорожская сечь (под присмотром возведенного поблизости форта с имперским гарнизоном). В этом проявилась «популистская» (ориентированная на «простой народ») доктрина имперских властей, предполагавшая, что большинство украинцев были недовольны корыстной старшиной (истинной виновницей «измены» 1708 г.) и возлагали все надежды на коронные власти. Поэтому украинцев гетманщины старались не раздражать прямым вмешательством коронных чиновников, продолжая линию на постепенную институциональную интеграцию. Куда бесцеремоннее имперское правительство управляло Слободской Украиной (вокруг Харькова, Сум и дальше на восток), которая уже к концу XVII века фактически вошла в состав Московского царства.
Всего за десятилетие царствования Анны Иоанновны было издано порядка 3.5 тысяч указов, что по интенсивности законодательной деятельности превосходит даже феерическую активность Петра I. Никто не мог ожидать такого от инертной курляндской герцогини, и никакое обретение «самодержавной» власти не способно было подвигнуть ее к столь интенсивному законотворчеству. Объяснить этот феномен можно лишь одним: взойдя на трон, Анна вынуждена была стать элементом нового государства как самостоятельной «машины управления» — пока еще достаточно примитивной, но уже работающей помимо воли верховного властителя.
Можно попытаться косвенно оценить относительную долю «государства» в комплексном феномене российской монархии: накануне правления Петра I, в 1680 г., 15% всех поступлений в казну Московского царства расходовалось на правящую династию. В 1734 г., при Анне Иоанновне, все расходы на двор, пенсии членам царской фамилии и на содержание дворцовых конюшен составляли 5.23% от государственного бюджета. (Эта цифра оставалась практически неизменной на протяжении всего последующего имперского периода, понижаясь до 4.5% в 1906 г. и радикально сокращаясь до 0.5% в 1916 г.)
Автономность складывающегося нового имперского государства, а также ограниченность его реальных возможностей наглядно проявились в истории корректирования решений, принятых в первые годы правления Анны Иоанновны. Так, всего через полтора года после упразднения правительства под названием Верховный тайный совет (в 1731 г.) был учрежден Кабинет министров: оказалось, что Сенат, даже после наделения дополнительными полномочиями, не годится на роль эффективного органа власти. Около года Анна пыталась исполнять роль истинной самодержицы, регулярно являясь на заседания кабинета и заслушивая доклады министров, но уже в 1732 г. посетила лишь два заседания. Указом 1735 г. три подписи кабинет-министров были приравнены к подписи императрицы, что наглядно продемонстрировало автономность государства от фигуры монарха. Кабинет министров, как прежде Верховный тайный совет, начал издавать законы и указы.
С другой стороны, оказалось, что эта автономная государственная машина еще очень слабо контролирует страну. Первоначальный отказ от использования армии для сбора податей и закрытие специальной «доимочной канцелярии», занимавшейся учетом задолженности по налогам, диктовались идеалом «регулярного» государства «общего блага»: солдаты собирают дань с завоеванной территории, а благонамеренные подданные сами платят необходимый взнос государству. Оказалось, что гражданский фискальный (налоговый) аппарат отсутствует, чиновников в провинции мало, поступление сборов катастрофически сократилось, пришлось восстановить прежние порядки, заведенные «верховниками».
То же произошло с амбициозной попыткой восстановить полный штат государственных чиновников (армейских и гражданских) петровского времени, с полной полагающейся им оплатой. Оказалось, что даже это сравнительно немногочисленное чиновничество не по карману экономике страны — тем более после того, как власти попытались навести порядок в денежном деле, отказавшись от чеканки облегченной монеты. В 1736 г. последовал указ о выдаче чиновникам половины жалованья мехами («сибирскими товарами»), затем московские чиновники были переведены на половину оклада петербургских, а в 1737 г. было регламентировано состояние принимавшихся на службу чиновников. Служащие в канцеляриях должны были владеть не менее чем 25 крестьянами, в Сенате — не менее чем 100 крестьянами. Тем самым признавалось, что жалованья не хватает на достойную жизнь (чтобы «себя честно, чисто и неубого содержать»). В отличие от «пороховой империи», камералистский идеал и стандарт современного государства предполагает, что чиновник — профессиональный государственный служащий, полностью обеспечивающийся за счет государства, а потому зависящий только от него. Любые формы «самообеспечения» (за счет личного богатства или взяток) являются отступлением от этого идеала и элементом «коррупции» в смысле появления у чиновников других (экономических) интересов, кроме тех, что положены ему по службе государству.
Сменяющиеся правители Российской империи в первой половине XVIII века раз за разом повторяли один и тот же цикл: сначала пытались восстановить идеальный камералистский дизайн государства по петровскому образцу, затем, столкнувшись с нехваткой ресурсов, принимали прагматичное решение в пользу компромиссных вариантов. Но с каждой следующей попыткой удавалось сохранить все больше качеств идеального «регулярного» государства.
В конце 1730-х гг. в России современное государство находилось в зачаточном состоянии: на оплату чиновников средств не хватало, сбором налогов занималась армия или помещики (частные лица и частные собственники), территория, входившая в состав империи, не имела единой системы управления. В то же время, это государство уже существовало отдельно от воли монарха-самодержца, действуя в интересах и для «общего блага» некой группы учредителей-граждан. Это российское государство было имперским, потому что складывалось в логике Гоббса: члены достаточно разрозненной социальной группы передали ему часть своих полномочий, чтобы защитить остальные блага и привилегии, и уже на этом общем фундаменте начало формироваться некое «общество» — например, в ходе совместного обучения в Кадетском корпусе. Постепенная кристаллизация единого общества происходила на основе укрепляющегося единого государства — а не наоборот.
Часть 2. От «современного государства» к «современной империи»
7.11. Обособление феномена империи и проблема ее «ничейности»
Страна (подвластная территория), государство и империя — разные категории. Столетиями власть над территорией поддерживалась в основном не посредством обезличенных государственных институтов, а через иерархические отношения вассалитета и частичное делегирование полномочий местным авторитетным лидерам общин. Но и после появления современной государственности (при всем значении ее для форматирования политического пространства и формирования представлений об исторической общности), государство не смогло полностью подменить собой другие формы консолидации населения: династическую лояльность, культуру (язык и конфессию), экономические связи. Государство — не единственная, а в исторической перспективе и не главная форма социальной связи людей.
Камералистский идеал и практика построения модерного государства предполагали универсальное воплощение — что в небольшом германском княжестве, что в обширной Российской империи. Ничего специфически «имперского» в проекте создания «регулярного государства» не было. Господствующее положение зависело от того, кто признавался полноценным субъектом («гражданином») государства, по какому принципу определялась принадлежность к привилегированному слою: по религии, сословной принадлежности, языку, территории проживания или заслугам по службе. Московская «пороховая империя» оставила в наследство Российской империи противоречивую «карту» привилегированных и угнетенных. С одной стороны, представители православных московских родов явно входили в первую категорию, а обитатели окраин (особенно в Сибири) — во вторую. С другой стороны, даже не крестившиеся татарские мурзы (вопреки формальным запретам) вплоть до начала XVIII в. продолжали владеть православными крепостными крестьянами, на руководящие посты в правительстве и армии назначались иностранцы, и со времен патриарха Никона высшими иерархами православной церкви все чаще становились выходцы из украинских земель. Тяготы же государственных повинностей и законов население испытывало практически в равной степени, независимо от этноконфессиональной принадлежности или места проживания.
Особенностью создававшейся Российской империи было то, что она была и новым, и почти одинаково чуждым феноменом для всех подданных. Представления о родном «крае» (стране) были разными у жителей Архангельска и Москвы, Казани и Смоленска, а также Риги и Полтавы, а потому понятие «империи» всегда включало в себя чужие и чуждые земли. Чужеродность империи была даже большей, чем у формировавшегося параллельно современного «государства», которое замещало старые («феодальные») формы власти и по инерции оказывало предпочтение представителям высших сословий, постепенно становясь для них «своим». Империя же была внешней рамкой как для бывшей Московии, «перезавоеванной» Петром I, так и для украинских и балтийских земель. Эта чуждость и вненаходимость империи по отношению к старым историческим землям воплощалась в экстерриториальности ее столицы Санкт-Петербурга, расположенной в принципиально ненаселенной и «неисторической» местности (буквально — «утопической»).
Однако экстерриториальность и чужесть империи не означали априорно ее враждебности, изолированности или даже «реальности» — в смысле существования самостоятельной «имперской идеи», «имперских интересов» и, тем более, «имперского сознания». Собственно, поначалу империя заключалась в том, что обширные подконтрольные территории (еще недавно — отдельные края или страны) вовлекались в орбиту единого процесса государственного строительства. Процесс был единым, но местные условия накладывали на него свои ограничения и навязывали специфические формы, поэтому империя возникала как формальные и неформальные отношения взаимного «перевода». Одна и та же цель — набор батальона рекрутов или сбор 1000 рублей податей — предполагала разную степень усилий, разную тактику и даже различный статус чиновников в разных частях империи. Конечно, и имперские формации древности, и «пороховые империи» раннего Нового времени сталкивались с той же проблемой и вынуждены были прибегать к изощренной системе делегирования суверенитета (т.е. передачи части полномочий) местным правителям и создавать особые режимы управления в разных провинциях. Но Российская империя создавалась в рамках «камералистской революции» политического воображения с ее идеалом «хорошо упорядоченного государства» и провозглашенной целью «общего блага». В этой логике сохранение верховной власти любой ценой не рассматривалось больше как легитимная и даже «естественная» цель. Откровенная нерегулярность политической структуры, ее непродуманность или случайность в XVIII веке воспринимались уже как признак отсталости, которая все больше начинает отождествляться с «пороховыми империями». И хотя камералистский идеал труднодостижим даже в городе-государстве, не говоря уже об обширной и крайне неоднородной России начала XVIII века, культ единого и стройного государственного здания и лозунг достижения «общего блага» лишь укреплялись после смерти Петра I. В этих условиях функцией империи становился не просто «взаимный перевод» разнообразных региональных, конфессиональных и экономических факторов и состояний, а «приведение к общему знаменателю» — хотя бы внешнее. Тем самым создается проблема «имперской политики»: на место «технической» задачи старых империй по сохранению единства завоеванных территорий приходит конструктивная «творческая» задача определения сути этого «общего знаменателя».
Как мы уже видели, совершенно отчетливо эта проблема была осознана уже Анной Иоанновной — возможно, потому, что она острее своих предшественников воспринимала принципиальную «чужесть» империи, прожив половину жизни в Москве, а половину — в Курляндии (формально независимой, но на практике включенной в сферу российского влияния). Учреждение Кадетского корпуса и формирование гвардейского Измайловского полка являются наглядными примерами «имперских» инициатив. Совместное обучение в Кадетском корпусе русскоговорящих выходцев из московских земель и немецкоговорящих балтийских дворян с обязательным освоением русского и немецкого языков делало из них не «русских» и не «немцев», а нечто третье — «имперских». Однако немедленно возник вопрос о том, что означало это «имперство», в чем заключался тот «общий знаменатель», к которому требовалось привести разрозненные земли и малосопоставимые привилегированные социальные группы из разных краев.
Характерным свидетельством появления этого «имперского вопроса» стал миф о «засилье иностранцев», возникший именно в правление Анны и сформировавший потом устойчивый образ «бироновщины» в общественной памяти и позднейшей историографии. (Эрнст Иоганн Бирон — курляндский дворянин, многолетний фаворит Анны, оказывавший большое влияние на принятие решений, впоследствии избранный герцогом Курляндии.) Как писал о Бироне такой трезвомыслящий историк, как А. С. Пушкин,
Он имел несчастие быть немцем; на него свалили весь ужас царствования Анны, которое было в духе его времени и в нравах народа. Впрочем, он имел великий ум и великие таланты.
Фактически, при Анне в верхних эшелонах власти «нерусских» было не больше, чем при ее предшественниках (включая Петра I) и преемниках. Более того, именно Анна Иоанновна еще в начале своего правления уравняла в правах и в жалованье состоявших на российской службе иностранцев и местных уроженцев, ликвидировав установленную Петром дискриминацию по отношению к российским подданным. Сама она была последней представительницей старого московского воспитания на троне — в отличие от взошедшей на престол в 1741 г. (через год после ее смерти) под лозунгом защиты от засилья иноземцев младшей дочери Петра — Елизаветы, которая ввела при дворе моду на французский язык и культуру. И уж точно Анна Иоанновна ни разу не была замечена в публичном унижении московских традиций, которое неоднократно позволял себе Петр I, превратившийся в воображении критиков «бироновщины» и «засилья иноземцев» в символ «истинной русскости».
По-видимому, единственной причиной «антирусской» репутации правления Анны стало именно наглядное проявление в это время империи как нового формата «своего» пространства — и шок от ее фундаментальной чужеродности. При Петре I «империя» значила немногим более, чем синоним «царства». Подданные царства вели себя как завоеватели на присоединенных землях, а обитатели захваченных территорий вынуждены были мириться с присутствием захватчиков. Но несколько десятилетий спонтанной и целенаправленной интеграции не прошли даром, и к 1730-м годам прежние представления о «своей стране» — будь то Московия или Малороссия — уже не соответствовали реальности.
Лихорадочно конструируемое камералистское государство, «гражданство» в котором было открыто с конца 1720-х гг. «шляхетству» со всей империи, было важным, но не единственным каналом интеграции. Православная церковь, традиционно служившая основным маркером «своего» социального пространства и поддерживавшая границу между Московией и украинскими землями благодаря достаточно четкому разделению церковных иерархий Московской патриархии и Киевской митрополии, оказалась другим «имперским» фактором. Петр I начал политику продвижения украинских священнослужителей — высокообразованных выпускников Киево-Могилянской академии (а часто и католических коллегиумов и университетов), продолженную его преемниками. В результате, к 1730 г. из 21 кафедры высшего православного духовенства в Российской империи (епископов, архиепископов, митрополитов), лишь три занимали священнослужители, родившиеся и получившие церковное образование на территории бывшей Московии. Почти все остальные были выходцами из украинских земель.
Еще в начале 1720-х гг. картина не была столь однозначной, но серия назначений и перемещений церковных иерархов привела к абсолютному доминированию украинских церковных деятелей как раз к началу царствования Анны. Эта тенденция только усилилась в последующие годы: в 1739 г. на смену епископу нижегородскому Питириму (выходцу из семьи старообрядцев) был назначен Иоанн Дубинский, выпускник Киево-Могилянской академии; после смерти архиепископа ростовского Иоакима (уроженца Суздаля) в 1741 г. его преемником стал родившийся на Волыни Арсений Мацеевич, получивший церковное образование во Львове и Киеве. Учрежденные в 1742 г. архиепископские кафедры в Москве и Санкт-Петербурге были сразу отданы украинским клирикам. На протяжении нескольких десятилетий исключительно выходцами из украинских земель замещались кафедры в Казани (более полувека) и Пскове (45 лет), Твери и Тобольске. Быстро продвигаясь в церковной иерархии, выпускники Киево-Могилянской академии проводили на вакансии в своих епархиях бывших однокашников или просто знакомых и родственников, формируя особую социальную сеть, охватывающую всю империю. Эти люди не разделяли никакой особой и единой «украинской» позиции (между «малороссийскими» иерархами велась отчаянная борьба, они присоединялись к противоположным враждующим церковным «партиям»). Однако вместе они представляли совершенно иной тип церковнослужителей, получивших наиболее фундаментальное для того времени образование в университетах Речи Посполитой и германских княжеств. Они систематически изучали схоластическую философию, полемическое богословие эпохи контрреформации (как католическое, так и протестантское — например, Феофан Прокопович), а в иезуитских коллегиях их готовили к активному взаимодействию с внешним миром, начиная с рациональной постановки миссионерской деятельности и кончая знакомством с передовыми научными достижениями. Не менее важным было освоение священниками — выходцами из Малороссии и Речи Посполитой — светской культуры эпохи барокко, включая практические навыки в разных литературных жанрах и публицистике.
Нет никаких свидетельств того, что между украинскими священниками и прихожанами или чиновниками на бывших московских землях существовал какой-либо языковой барьер. Никто не подвергал сомнению «истинность» их православия (кроме соперников по внутрицерковной борьбе). Тем более остро должен был переживаться формирующимся «шляхетством» из старомосковских земель разительный контраст нового православного духовенства с привычной церковной культурой Московского царства: по всем статьям «свое» — но совершенно «чужое». Однако для самих высокообразованных священнослужителей из украинских земель открывающееся широкое поприще в масштабах Российской империи, по-видимому, было вполне «своим», предоставляя широкие возможности для церковного служения и приложения полученных знаний и навыков. Они оказались идеальными сотрудниками по реализации и экспансии камералистского проекта современного государства, о чем свидетельствуют их удивительные жизненные траектории.
К примеру, святой Иннокентий Кульчицкий родился в начале 1680-х годов на Черниговщине в старой шляхетской семье, обучался в Киево-Могилянской академии, по окончании которой принял монашество. Останься Иннокентий в Малороссии, он мог бы прожить всю жизнь простым монахом, учитывая ограниченность местных церковных вакансий при относительно высокой конкуренции выпускников киевской академии и церковных заведений Речи Посполитой. Однако около 1708 г. он переводится в Москву, преподавателем в Славяно-греко-латинскую академию, оттуда — в Санкт-Петербург, где вскоре назначается корабельным иеромонахом на фрегат «Самсон», а потом и обер-иеромонахом флота. В 1721 г. Петр I назначает Кульчицкого руководителем Русской Духовной миссии в Пекине. Ожидая разрешения въехать на территорию империи Цин, он три года провел в Бурятии, где открыл духовную школу в Селенгинске. Так и не получив разрешения от цинских властей, в 1727 г. Кульчицкий по решению Священного Синода определяется епископом Иркутским и Нерчинским, основывая первую епархию в Восточной Сибири. Помимо церковной — просветительской и миссионерской — деятельности, Кульчицкий содействовал первой камчатской экспедиции командора Витуса Беринга (1725−1729) — первой в России морской научной экспедиции, нанесшей на карту северо-восточное побережье Азии.
Поколением младше Кульчицкого был Арсений Мацеевич (недавно также причисленный к лику святых), выходец из древнего волынского шляхетского рода. Он учился во Владимире-Волынском, во Львове, закончил Киево-Могилянскую академию, после чего (в 1726 г.) был сразу вызван в Москву на должность инквизитора (которую исполнял столь увлеченно, что под пыткой умер пожилой ярославский игумен). В 1729 г. направлен в Чернигов, но почти сразу оттуда — в Тобольск, где провел три года, проповедуя. Едва вернувшись из Западной Сибири, в 1734 г. Мацеевич был включен в состав второй камчатской экспедиции Беринга (1733−1743), с которой путешествовал два года. По возвращении в Санкт-Петербург Мацеевич преподавал Закон Божий в Санкт-Петербургской гимназии, но спустя несколько лет, в 1741 г., вернулся в Тобольск, теперь уже в сане митрополита и главы Сибирской и Тобольской епархии — как оказалось, ненадолго: в 1742 г. он переводится в Ростов в сердце бывшего ВКМ, где двадцать лет возглавляет митрополичью кафедру. В отличие от Кульчицкого, Мацеевич был последовательным противником петровской реформы церкви, ее подчинения светской власти, а также политики секуляризации (конфискации в пользу государства) церковных земель. Он несколько раз отказывался приносить присягу сменяющимся на престоле монархам, считая неприемлемой содержащуюся в ней формулу императорской власти. В конце концов, он вступил в острый конфликт с властями, был лишен сана, расстрижен в крестьяне и под именем «Андрея Враля» заключен в Ревельскую (Таллиннскую) крепость. Однако принципиальная «анти-императорская» позиция Мацеевича не отменяла поистине панимперский масштаб его деятельности, во многом параллельной биографии Кульчицкого и многих других украинских священников. Перемещаясь между Киевом и Иркутском, Санкт-Петербургом и Черниговом, они распространяли сферу служения и личного общения на обширной территории, создавая новое единое пространство современной православной церкви, совместимой с идеалом камералистского государства и его запросами. Этим они вносили вклад в создание империи как структуры «приведения к общему знаменателю», сложной системы адаптации местных условий к общей норме и «перевода» этой нормы в представления и образы, понятные местному населению. В результате, в частности, торжествовала не «московская» и не «киевская», а именно «имперская» церковь, что могло болезненно восприниматься многими как утрата «своего» (московского или малороссийского) пространства — в данном случае, духовного.
Таким образом, в результате появления в 1730-е гг. общероссийского «шляхетства» на месте прежних разрозненных привилегированных и служилых социальных групп, претворения в жизнь проекта Петра I по «огосударствлению» церкви и ликвидации ее обособленности, а также формированию первых работающих институтов камералистской государственной машины возникает новая реальность «империи» — как ситуация и система отношений. Провозглашенная в 1721 г. Российская империя спустя два десятилетия начинает обретать собственное содержание, не сводящееся к титулу правителя и косметической перелицовке Московского царства. Кроме территории, мало что позволяет говорить о преемственности Российской империи середины XVIII века и Московского царства: возникающую империю отличают социальная структура и политическая культура, расположение столицы и архитектура, литературный язык и бытовое поведение. Ни «московиты», ни «немцы», ни «малороссы» не могли претендовать на «владение» этой империей, что вызывало тревогу и постоянные подозрения в том, что ее узурпировали «другие». Поддерживало эти подозрения и то обстоятельство, что на законных основаниях к власти в Российской империи начали приходить люди, лишь косвенно связанные даже с правящей династией: после смерти Анны Иоанновны регентом (временным правителем) стал ее фаворит Бирон, после отстранения Бирона от власти правление перешло к племяннице Анны Иоанновны — Анне Леопольдовне (урожденной Елизавете Катерине Кристине, принцессе Мекленбург-Шверинской), правившей от имени своего годовалого сына Ивана Антоновича.
На волне этих подозрений в конце 1741 г. младшая дочь Петра I, 32-летняя Елизавета, при поддержке гвардейского Преображенского полка совершила дворцовый переворот, свергнув Анну Леопольдовну. Главным аргументом в поддержку легитимности прихода к власти Елизаветы было то, что она была родной дочерью Петра I, и поэтому переворот был встречен шляхетством с энтузиазмом. Рассказывали, что Елизавете удалось повести за собой гвардейцев, объявив: «Ребята, вы знаете, чья я дочь, идите за мной!» Парадоксальным образом, ниспровергатель московских обычаев Петр I воспринимался ныне как символ «русскости» — очевидно, в 1740-х гг. ее понимали иначе, чем полвека назад. Речь шла теперь не о реставрации московской старины, а об «одомашнивании» новой и чужеродной социальной реальности империи. Петр I был частью личной биографии современников Елизаветы Петровны, единственным связующим звеном между Российской империей и практически упраздненным им же Московским царством.
7.12. Стихийное «одомашнивание» империи
Как оказалось, готового решения, как сделать Российскую империю «не иноземной», не существовало. Елизавета не застала Московии, но даже идеализированная воображаемая «русская старина» (например, по версии старообрядцев) была ей чужда. Елизавета хорошо владела французским языком и была поклонницей французского стиля. Она обожала балы и наряды, любила носить «брюки» (мужские панталоны), считая, что у нее красивые ноги. Единственной возможностью появиться в мужской одежде были балы-«метаморфозы», куда дамы и кавалеры являлись в нарядах противоположного пола. Елизавета проводила их до тех пор, пока ей не перевалило за сорок, а в первые месяцы после восшествия на престол — по два раза в неделю. Известно, что после ее смерти осталось 15 тысяч платьев — никакая версия традиционной «русскости» не допускала такого образа жизни.
Казавшейся самоочевидной характеристикой «родной страны», которой должна была стать Российская империя, была православная вера. Несмотря на свой легкомысленный нрав, Елизавета была верующим человеком, однако возможности для политического использования православия были ограничены. Инославные конфессии (католики, лютеране и др. неправославные христиане) пользовались признанием правительства со времен Петра I, их деятельность регулировалась специальными государственными органами (с 1734 г. — Юстиц-коллегией Лифляндских, Эстляндских, и Финляндских дел). Иудеи и мусульмане не воспринимались как часть угрозы «засилья иноземцев». А выходцы из украинских земель, занимавшие в империи господствующие позиции в сфере «идеологии», считались образцовыми православными. Тем не менее, немедленно по восшествии на престол, в 1742−1743 гг., Елизавета издала целую серию указов, направленных на «защиту православия» как главного атрибута «своей» страны.
Православное духовенство получило некоторые льготы (например — освобождение от постоя войск в их домах), которые при всей их важности для священников никак не делали империю более «своей». Священнослужителям инославных вероисповеданий запрещалось обращать православных в свою конфессию (включая крещение младенцев), что явно не могло уменьшить предполагаемое «засилье иноземцев» (главным образом, лютеран) во власти. В начале декабря 1742 г. был принят указ об изгнании из империи иудеев, отказывающихся принять православие, а двумя неделями ранее — указ о разрушении всех мечетей в обширной Казанской губернии и запрещении возведения новых. Эти акты были направлены против этнокофессиональных групп, которые не рассматривались в качестве доминирующих в империи: никому не приходило в голову заявить, что татары-мусульмане (или евреи) стремятся к господству. Между тем, именно антииудейские и антимусульманские меры оказались самыми решительными и масштабными. Это лишний раз доказывает, что главным раздражителем для окружения Елизаветы была не столько «бироновщина» (преобладание «немцев» во власти), сколько отсутствие однозначной «идентичности» нового феномена империи: оставалось неясным, какова ее цель, кто в империи занимает привилегированное положение, а кто подчиненное, и в чем именно заключаются привилегии? Поэтому чистке подверглись те, кого можно было «вычистить» — а не те, кто пользовался реальным влиянием.
Сравнительно незначительное еврейское население включенной в империю Малороссии, населявшее малоконтролируемую периферию страны, подверглось спорадическим атакам. Мусульмане же населяли территории в центре, поэтому испытали преследования в большем масштабе. За два года после ноябрьского указа 1742 г. были разрушены 418 из имевшихся 536 мечетей в Казанской губернии, 98 из 133 мечетей в Сибирской губернии и 29 из 40 в Астраханской губернии. Параллельно усиленными темпами шло насильственное обращение в христианство мусульман и анимистских («языческих») народов Поволжья — до 20 тысяч человек в год (для сравнения, за период 1719−1730 гг. в Казанской губернии удалось обратить в православие чуть больше двух тысяч человек).
Прежде всего, поражает беспрецедентность и эффективность антиисламской кампании. Несмотря на громкую риторику «православного царства», избирательные карательные экспедиции и издаваемые спорадически грозные указы, в Московском царстве ничего подобного даже не пытались предпринять на практике, ни в эпоху завоевания Казанского ханства Иваном IV, ни позже. Очевидна роль современного государства — пусть и недостаточно развитого — в кампании 1740-х годов: только действиями скоординированной «машины» управления можно было в кратчайший срок, на огромной территории, сравнительно немногочисленными полицейскими силами добиться того, на что прежде потребовалась бы огромная оккупационная армия. Также только современное (камералистское) государство могло сформулировать и преследовать «идеологическую» цель, поскольку основывалось на рациональных принципах политики, было системным. Домодерная власть могла чинить насилие в массовых масштабах, но по-настоящему избирательное и последовательное насилие (включая геноцид — уничтожение целиком этноконфессиональных групп) требует «научного» подхода при определении жертв и не менее «научного» и избирательного подхода к их преследованию.
Вторым важным обстоятельством «крестового похода» 1742 г. было то, что основа политики массовой христианизации поволжских народов была заложена еще при Анне Иоанновне (а значит, проблема «чуждости» империи ощущалась остро и правительством «бироновщины»). Указ от 17 сентября 1740 г. определял штат и подробно расписывал деятельность Конторы новокрещенских дел — церковно-государственной службы систематической христианизации. Кроме главы конторы (архимандрита) и двух священников, непосредственно занятых обращением («протопопов»; в дальнейшем их число удвоилось), штат организации включал занимавшегося организационной стороной «комиссара», пять переводчиков, канцеляриста для ведения делопроизводства, двух копиистов и трех солдат. Это и был тот «государственный аппарат», который в дальнейшем использовался для выполнения указов Елизаветы Петровны. Хотя сегодня штат Конторы кажется более чем скромным, ничего подобного не существовало до появления камералисткого государства, когда обращением в христианство занимались отдельные подвижники-миссионеры или (без особого результата) священники местных храмов.
Другое дело, что указ Анны Иоанновны формально не допускал никаких насильственных мер, несмотря на постоянные требования применить их со стороны местных церковных иерархов, прежде всего — Луки Конашевича, выпускника Киево-Могилянской Академии, недавно назначенного Казанским епископом. Священный Синод сначала не поддерживал агрессивные планы Конашевича — но лишь до воцарения Елизаветы, всецело полагавшейся в вопросах веры на своего духовника Федора Дубянского, родившегося на Черниговщине и окончившего Киево-Могилянскую Академию. Указы Елизаветы, вероятно, были напрямую инспирированы Конашевичем, который фактически возглавил «крестовый поход» в Поволжье, заслужив демоническую репутацию среди татар и прозвище «Аксак Каратун» («Хромой Черноризец»).
Таким образом, хотя инициатива насильственной христианизации «инородцев» исходила от местного духовенства (в особенности от высокообразованных выходцев с украинских земель), окончательное решение оставалось за императрицей, которая выступала теперь одновременно в трех ипостасях: монарха-самодержца, высшего лица в государстве и главы Российской империи. Очень скоро выяснилось, что антиисламская кампания мало что дает для консолидации империи, зато создает огромные проблемы для государства: отвлекает большие ресурсы, провоцирует нестабильность и создает неразрешимые юридические коллизии. Так, «служилые татары» и «служилые мурзы», интегрированные в систему государственной службы, подвергались двойному налогообложению (на мусульман переверстывались подати с их крестившихся соседей), в нарушение их законных привилегий. Уже в марте 1744 г. было остановлено разрушение мечетей. Реагируя на жалобы, Сенат начал выносить частные решения, ограничивавшие или отменяющие дискриминационные меры в отношении того или иного татарского села. В 1750 г. были существенно урезаны полномочия Конторы новокрещенских дел. Затем отменили большую часть дискриминационных мер против некрещеных (в том числе дополнительные налоги и повинности). Наконец, 9 октября 1755 года Синод постановил перевести Луку Конашевича, саботировавшего новый курс правительства, из Казани в Белгород «в предварение всеобщего смятения, а также в прекращение часто случавшихся по той же причине со светскими правительствами несогласий». В августе 1756 г. было разрешено строительство новых мечетей в Казанской, Воронежской, Нижегородской, Астраханской и Сибирских губерниях, что означало окончательный отказ от попытки превращения империи в «православное царство».
7.13. «Изобретение» империи как единого пространства рационализации и модернизации
Параллельно борьбе с «иноземцами» и «инородцами» в 1740-х годах развивался и другой подход к «освоению империи». Первоначально стихийный и, вероятно, неосознанный, постепенно он кристаллизовался в сознательную и успешную политику. Речь идет об «изобретении» империи как нового единого пространства — в отличие от попыток втиснуть империю в рамки той или иной местной архаической традиции. Причем в данном случае речь буквально шла об изобретении: изобретении нового общего языка, новой общей культуры и истории. В сочетании с формированием единого экономического пространства, унификацией системы управления и законодательства, этот процесс привел к тому, что структурная ситуация империи как системы «поиска общего знаменателя» (пугающая своей неопределенностью и чуждостью) обрела наглядные признаки единой «страны». Это не значит, что империя перестала быть внешней и даже враждебной силой для многих ее жителей, утратила свою функцию проявлять и подчеркивать неравенство. (Строго говоря, именно современное государство претворяет имперскую структуру неравенства в конкретную политику господства и дискриминации.) Просто в создании нового имперского пространства принимали участие разные группы, представлявшие различные местные традиции, и изначально никто не мог претендовать на монопольное «обладание империей».
Так, при Петре I официальное название Московского царства — «Российское государство» — трансформируется в самоназвание страны. Предикат (прилагательное «российское») становится самодостаточным субъектом (существительным «Россия»). Люди начинают называть страну Россией, что подразумевает всю территорию под властью императора, а не только московские земли. Это связано, прежде всего, с новым пониманием слова «государство», которое, как уже говорилось, прежде означало «владение». Камералистская революция Петра I привела к распространению современного понимания государства как самостоятельного феномена, не сводящегося к власти монарха или границам исторической «земли». Написанные в 1666−1667 гг. записки бежавшего в Швецию дипломата Григория Котошихина (наиболее известный из немногочисленных политических текстов XVII в. на русском языке) еще упоминают исключительно «Московское государство» и «Московское царство» (подчас оба варианта в одном предложении). Язык не позволял назвать свою страну «Московией», а жителей «московитами» — так могли говорить только иностранцы, к тому же, с враждебным политическим подтекстом, поскольку Великое княжество Московское было лишь частью владений (государства) царя. Но спустя несколько десятилетий Петр I уже свободно называет страну Россией — без указания на правителя или историческую землю, подчинившую себе соседние территории («Московское царство»). Например, в июле 1711 г. он рассуждает в письме о «пользе России». В трактате 1722 г. «О правде воли монаршей» главный идеолог Российской империи, киевлянин Феофан Прокопович легко роняет: «у нас в России…» — и тут же добавляет «в царствующем Санктпитербурхе» (буквальная калька прежнего «Московского царства»), чтобы уточнить для читателя новаторское употребление нового названия страны. Что еще важнее, одновременно появляется совершенное новшество — выражение «россиянин». Например, в стихотворении на смерть Петра в 1725 г. Антиох Кантемир не только пишет о «России цветущей», но упоминает и ее жителей-«россиян». В официальных документах этот неологизм появляется еще раньше: текст ратификации мирного договора с Османской державой 1712 г. уделяет особое внимание «российскому государству и россиянам». Причем речь идет именно об универсальной категории принадлежности империи, одинаково свойственной «как руским, так и казакам, которые пребывают в подданстве у его царского величества». Допускается, что казаки могут быть как среди «россиян», так и «в стороне блистательной Порты».
Концепция «россиян» уже сама по себе была революционной, поскольку определяла население исключительно по названию нового — имперского и камералистского — государства, абстрагируясь от традиционных ключевых характеристик «племени», «земли» и религии. Распространение представлений о реальности существования единого общеимперского населения поставило в 1730-х годах вопрос о «российском языке» — новом и едином языке «россиян», отличном как от «руського» языка ВКЛ и украинских земель, так и от «руского» языка северо-восточных княжеств Рѹськой земли и ВКМ. В 1735 г. Василий Тредиаковский (1703−1769) опубликовал «Новый и краткий способ к сложению стихов Российских». В 1739 г. многие положения филологического трактата Тредиаковского оспорил Михаил Ломоносов (1711−1765) в «Письме о правилах российского стихотворства». Не вдаваясь в суть их полемики, которая имела колоссальное значение для выработки современных норм стихосложения, необходимо отметить, что оба они рассуждали о «российском» языке — создавая его фактически заново. В 1755 г. этот процесс формирования нового панимперского языка увенчался изданием «Российской грамматики» Ломоносова. Новый литературный «российский» язык был в равной степени далек от существовавших местных восточнославянских языков (или одинаково близок им). Ломоносов создавал грамматику российского языка именно как языка имперского, не отменяющего местное своеобразие, но служащего посредником и инструментом «приведения к общему знаменателю» этих местных традиций. Определяя критерии новой грамматики, он писал:
В правописании наблюдать надлежит, 1) чтобы оно служило к удобному чтению каждому знающему российской грамоте, 2) чтобы не отходило далече от главных российских диалектов, которые суть три: московский, северный, украинский, 3) чтобы не удалялось много от чистого выговору…
Отдавая предпочтение выученному им в юности «московскому диалекту» (родным для Ломоносова был северный поморский «говор», который отличался от московского даже сильнее, чем руський (украинский) язык), Ломоносов подчеркивал, что российский письменный язык не может основываться на этом диалекте, иначе «должно большую часть России говорить и читать снова переучить насильно». В то же время, он обосновывал необходимость сохранения в алфавите буквы Ѣ (избыточной в московском диалекте) тем, что ее исключение
Малороссиянам, которые в просторечии Е от Ѣ явственно различают, будет против свойства природного их наречия.
Фигура Ломоносова вообще воплощает собой создание нового универсального имперского (российского) субъекта из представителя одной из местных культурных традиций. Он родился в поморской деревне в Архангельской губернии и в возрасте 19 лет в декабре 1730 г. — спустя полгода после коронации Анны Иоанновны — отправился в Москву учиться. К этому времени основой его культурного кругозора («вратами учености» по его определению) являлись три главные книги: грамматика церковнославянского языка руського церковного деятеля и просветителя Мелетия Смотрицкого, впервые опубликованная в 1618−1619 гг. в ВКЛ; «Стихотворная Псалтырь» (перевод библейских псалмов) Симеона Полоцкого — выпускника Киево-Могилянской коллегии и Виленской иезуитской академии, первая поэтическая книга, напечатанная в Москве в 1680 г.; а также «Арифметика» (учебник по математике 1703 г.) Леонтия Магницкого, крестьянина из-под Твери, самостоятельно освоившего математику. После обучения в Москве и немецких университетах Ломоносов закладывает основы нового «российского» канона просвещения: новую теорию стиха и новую грамматику, основы современного естествознания на «российском» языке, а также новую «российскую» историю.
Главный исторический труд Ломоносова «Древняя российская история от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава первого или до 1054 года» вышел уже после его смерти. Однако при жизни у него было много поводов публично высказать свое мнение о «российской» истории, главным образом в полемике с официальным историографом Российской империи, академиком Герхардом Миллером (1705−1783). В 1749 г. Миллер произнес речь на торжественном заседании Императорской Академии Наук и художеств в Санкт-Петербурге «Происхождение народа и имени российского». В этой речи Миллер, в полном соответствии с летописными сведениями, изложил версию о варяжском происхождении политической организации, «народа и имени российского». При этом варягов он идентифицировал со шведами, главным стратегическим противником Российской империи в первой половине XVIII века (последняя война со Швецией завершилась лишь несколькими годами ранее, в 1743 г.). Ломоносов обрушился на Миллера с исторической критикой и политическими обвинениями, что стало началом спора «норманистов и антинорманистов» (сторонников и противников признания роли «норманнов») в историографии. Традиционно считается, что Ломоносов защищал «русское национальное сознание», уязвленное предположением о неспособности древних славян к самостоятельной государственности. Однако важно помнить, что писал он не «русскую», а «российскую» историю, то есть историю имперскую, а не «национальную». Образцом для Ломоносова служила история Древнего Рима, о чем он объявил в первых же строках своего труда:
Сие уравнение [России и Рима] предлагаю по причине некоторого общего подобия в порядке деяний российских с римскими, где нахожу владение первых королей, соответствующее числом лет и государей самодержавству первых самовластных великих князей российских; гражданское в Риме правление подобно разделению нашему на разные княжения и на вольные городы, некоторым образом гражданскую власть составляющему; потом единоначальство кесарей представляю согласным самодержавству государей московских.
В трактовке Миллера Ломоносова возмущало не само предположение о неславянском происхождении первых князей в Новгороде и Киеве, а тезис о заимствовании «государственности». Его собственная версия полностью отвергала всякую идею о русской «чистоте крови»: он считал основой «российского народа» соединение славянских и чудских (финно-угорских) племен, издревле проживавших на этой территории. Предками финнов Ломоносов считал скифов, предками славян — сарматов, заимствуя «сарматизм» польских историков (теорию еще XV века, согласно которой вольнолюбивые ираноязычные кочевники древности являлись предками сословия шляхты). Племенное («этническое» или «национальное») единство совершенно не интересовало Ломоносова, но историческому народу, способному на создание империи, полагалось самому быть творцом своей политической организации. Следуя римским образцам, Ломоносов не смог удержаться от соблазна вывести первых «русских» князей от римских императоров:
Из вышеписанных видно, что многие римляне преселились к россам на варяжские береги. Из них, по великой вероятности, были сродники коего-нибудь римского кесаря, которые все общим именем Августы, сиречь величественные или самодержцы, назывались. Таким образом, Рурик мог быть коего-нибудь Августа, сиречь римского императора, сродник. Вероятности отрещись не могу; достоверности не вижу.
Однако главным в его системе российской истории была не мифологическая генеалогия первой правящей династии, а сам взгляд на прошлое России как имперскую историю местного многоплеменного населения, которое смогло совместными усилиями создать великую общую державу.
С некоторым отставанием происходило институциональное оформление нового имперского проекта. Окончательный отказ от попыток возродить архаический идеал «православного царства» и сворачивание антимусульманского «крестового похода» к середине 1750-х гг. ознаменовали резкий поворот в «политике империи» императрицы Елизаветы. Создается целая сеть учреждений, призванных сформировать содержание нового российского проекта: в 1755 г. в Москве открыта первая гимназия и университет, в 1757 г. — Академия художеств, в 1758 г. открывается гимназия в Казани, призванная обслуживать обширный регион бывшего Казанского дворца (Поволжья и Сибири). В 1754 г. была создана комиссия для составления нового свода законов, призванного заложить юридические основы новой Российской империи. В этом же году были отменены внутренние таможни и пошлины в пределах империи, в том числе и на границе с Малороссией. Империя становилась «своей» не через навязывание привычной версии чьей-то старины, но через творческое изобретение и развитие совершенно нового «российского проекта», открытого для участия более многочисленных категорий населения, чем предполагали существовавшие прежде режимы.
Процесс консолидации Российской империи предоставлял новые возможности тем, кто был готов к взаимодействию в рамках имперского пространства, и таил угрозу для тех, кто был заинтересован в сохранении обособленности и самобытности. Изначальная «ничейность» и «экстерриториальность» верховной имперской власти не означала политику толерантности или невмешательства в дела местных сообществ и культур. То, что посредством государства навязывалась более универсалистская имперская, а не, скажем, более узкая русско-православная («московитская») политическая культура, не отменяло сам факт вмешательства и навязывания определенных норм. В 1750-х гг., когда контуры нового понимания империи только начинали обретать отчетливость, трудно было сказать, насколько настойчиво будут навязываться имперские нормы и будет ли империя как система «нахождения общего знаменателя» одинаково благожелательной (или чуждой) ко всем, кто оказался в сфере ее влияния.
Как бы то ни было, фундаментальной особенностью возобладавшего курса стал принципиальный модернизм проекта Российской империи (которую после французской революции 1789 г. станет принято причислять к «старому режиму»). Какие бы жестокие, несправедливые, реакционные меры ни принимались правителями Российской империи, само осознанное стремление воплотить в политическом режиме механизм «общего знаменателя» для разнородного подвластного пространства превращало империю в футуристический проект реализации лучшего будущего. Открытое или тайное признание неудовлетворенности существующим положением вещей и постоянный реформизм властей с самого начала стали неотъемлемой частью имперского проекта как поиска сохранения неустойчивого равновесия в меняющемся мире. Последовательный реформизм и принципиальная нацеленность на рациональное решение проблем сами по себе не могут являться историческим оправданием имперской экспансии и господства, однако они позволяют понять природу увлеченности российской имперской элиты модерным знанием, которое к середине XVIII в. начинает называться в разных европейских языках «Просвещением». На индивидуальном уровне это увлечение могло быть данью моде, слепым или поверхностным подражанием, но в целом только на языке Просвещения можно было сформулировать стихийно складывающийся со времен Петра I проект Российской империи как режима, принципиально отличающегося от «пороховых империй» Московского царства, Речи Посполитой или Османской державы. Необходимы были общие и достаточно сложные теоретические понятия, чтобы описать политический режим, который был направлен не на сохранение status quo — власти династии, господства религии, эксплуатации провинций — но стремился установить некие новые, небывалые еще принципы (пусть даже имея конечной целью поддержание того самого status quo).
7.14. Екатерина II и планомерное конструирование империи по канонам просветителей
Вступившая на престол в 1762 г. императрица Екатерина II традиционно (и вполне заслуженно) ассоциируется с «золотым веком» Российской империи. Связано это, скорее, не с особо блистательными практическими достижениями правительницы, а с удивительно гармоничным стилистическим совпадением «духа эпохи» Просвещения с идеологической риторикой режима. Еще точнее, особую эффектность публичному образу Екатерины II придала сознательная и последовательная попытка сформулировать программу имперской власти именно как механизма управления структурной имперской ситуацией. Этим Екатерина II отличалась от тех правителей (особенно в конце имперского периода), которые использовали имперскую власть «не по прямому назначению», пытаясь подавить имперское разнообразие, вместо приведения его к «общему знаменателю» через империю.
Екатерина II целенаправленно разрабатывала и воплощала в жизнь новый проект Российской империи, начавший оформляться еще в начале 1750-х гг. Решающее влияние на ее политические взгляды оказали труды французского просветителя Монтескье (Шарля-Луи де Секонда, барона Ля Брэд и де Монтескье, 1689−1755), сформулировавшего теорию разделения властей, предложившего свою версию классификации политических режимов и концепции правового государства. В этом отношении с российской императрицей могли соперничать только основатели республики США: в работах «отцов-основателей» число ссылок на Монтескье уступает лишь ссылкам на Библию. В 1767 г. Екатерина составила «Большой наказ» депутатам новой уложенной (кодификационной) комиссии, являвшийся ее политическим и философским манифестом. Из 655 статей этого документа более половины являлись прямыми заимствованиями или компиляциями из текстов Монтескье, остальные — из работ других видных философов Просвещения, авторов амбициозного многотомного проекта «Энциклопедия, или толковый словарь наук, искусств и ремесел», воплотившего в себе самое передовое знание эпохи (35 томов вышли в 1751−1780 гг.). «Большой наказ» Екатерины II был издан на французском и немецком языках и был официально запрещен в 1769 г. во Франции за радикальность высказывавшихся в нем идей.
То, что философы-просветители, критики старого порядка, идейно подготовившие восстание американских колоний Британии и французскую революцию 1789 г., оказались востребованными архитекторами Российской империи — не случайная ирония истории. Российский имперский проект Екатерины II был таким же продуктом эпохи Просвещения, как и революционный республиканизм. Он также был основан на вере в рациональное преобразование природы и общества, на признании решающей роли правильно сформулированных законов для достижения свободы и справедливости. Сама Екатерина стремилась воплотить просвещенческий идеал «философа на троне», выступающего в роли «политической функцией» природы режима и местных условий, а не самодура — собственника земель и людей.
Урожденная София Августа Фредерика Анхальт-Цербстская (1729−1796), дочь мелкого немецкого князя, дослужившегося до должности коменданта портового города Штеттин (Щецин) в Королевстве Пруссия, не имела никакого отношения ни к России, ни к династии Романовых. По воле случая она стала женой такого же мелкого немецкого властителя (население его столицы составляло несколько тысяч человек) — герцога Карла Петера Ульрих Гольштейн-Готторпского, доводившегося внуком Петру I и внучатым племянником его заклятому противнику, шведскому королю Карлу XII. Бездетная императрица Елизавета Петровна в 1742 г. объявила Карла Петера Ульриха своим наследником, и таким образом этот немецкий юноша, а позже и его немецкая невеста оказались в Российской империи, приняли православие (под именем Петра Федоровича и Екатерины Алексеевны) и выучили российский язык. После смерти Елизаветы в конце 1761 г. Карл Петер Ульрих стал российским императором под именем Петра III, но спустя полгода был свергнут в результате дворцового переворота своей женой и вскоре умер при неясных обстоятельствах. Отношения между супругами не сложились с самого начала, в дальнейшем психологическая несовместимость только усиливалась растущей культурной дистанцией и политическими расхождениями. Для Софии Августы Фредерики (Екатерины Алексеевны) переворот был единственным способом сохранить личную свободу и, возможно, жизнь, избежав реальной угрозы развода и ареста, но, совершив переворот, она на полном серьезе приняла на себя роль профессионального правителя. Екатерина сознательно выстраивала свою жизнь в соответствии с литературным и философским каноном биографии эпохи Просвещения, предполагавшим сознательное саморазвитие («становление»): от случайных обстоятельств происхождения — к выработке гармоничной личности в соответствии с определенными принципами. (Позже литературное воплощение этого канона назовут «романом воспитания» — Bildungsroman.) В 1778 г. она набросала собственную эпитафию, основные положения которой многократно повторяются в ее письмах и мемуарах:
Здесь покоится тело Екатерины II… Она приехала в Россию, чтобы выйти замуж за Петра III. [В] 14 лет она составила тройной план: нравиться своему супругу, Елизавете и народу — и ничего не забыла [т.е. не упустила], чтобы достигнуть в этом успеха. 18 лет скуки и одиночества заставили ее много читать. Вступив на русский престол, она желала блага и старалась предоставить своим подданным счастье, свободу и собственность. Она охотно прощала и никого не ненавидела. Снисходительная, жизнерадостная, от природы веселая, с душою республиканки и добрым сердцем, она имела друзей. Работа для нее была легка. Общество и искусства ей нравились…
Являясь с формальной точки зрения самозванкой и узурпатором (незаконным захватчиком) престола, в контексте политической культуры Просвещения Екатерина оказывалась едва ли не идеальным правителем, чья власть основана не на случайности рождения наследницей престола, а на личных заслугах и годности, развитых в ходе целенаправленной работы над собой. В этом контексте не было и противоречием (а тем более лукавством) неоднократное заявление Екатерины в частной переписке о своем республиканизме: профессиональный правитель должен был разделять личные пристрастия и государственный долг. Собственно, большинство ведущих философов эпохи Просвещения (включая Монтескье или Вольтера) скептически относились к демократии. Их собственный республиканизм заключался, прежде всего, в определении политической свободы как состояния независимости субъекта от произвола правителя или других людей и подчинения только коллективно утвержденным законам. Монтескье писал, что «Свобода есть право делать все, что дозволено законами», и Екатерина в «Наказе» дословно повторяла эту идею. В республиканской политической традиции, основанной на принципе разделения властей, главное значение имеет не то, кто возглавляет исполнительную власть в правовом государстве: президент или монарх, избранный или наследственный. При верховенстве закона главное в республике — кто разрабатывает и принимает законы, а не кто следит за их исполнением.
Философы-просветители в целом серьезно восприняли интеллектуальные претензии Екатерины II, хотя некоторые (к примеру, Дени Дидро) со временем разочаровались в искренности ее «внутреннего республиканизма». Конечно, им льстило внимание и уважение правительницы обширной империи, нередко — щедрой покровительницы, однако за редким исключением их переписка с ней была глубоко содержательной: во всяком случае, Екатерину признавали равноправным интеллектуальным партнером. «Просветители» не разделяли единой идеологии, и, помимо общего принципа критического мышления и по-разному понимаемого свободолюбия, их работы мало что объединяло. Во второй половине ХХ века в идеях Просвещения будут находить истоки таких разных современных мировоззрений, как коммунизм и нацизм, либерализм и анархизм. Так что нельзя сказать, что Екатерина II воплощала какое-то «неправильное» или «поверхностное» Просвещение: она разбиралась в идейном контексте эпохи, отождествляя себя с одними идеями и дистанцируясь от других. В определенном отношении, она была более революционным деятелем эпохи Просвещения, чем те, кто критиковал ее за непоследовательность и ограниченность реформ. Екатерина поставила перед собой грандиозную задачу: превратить Российскую империю в «правомерное государство» верховенства закона. Вся амбициозность этой цели, придавшей окончательную определенность российскому имперскому проекту, становится понятной только изнутри политической теории Монтескье, сформировавшей Екатерину как государственного деятеля. Монтескье выделял три основные политические формы (республику, монархию и деспотию) и ставил категоричный «научно обоснованный» диагноз: империя может быть только деспотией.
Республика по своей природе требует небольшой территории, иначе она не удержится. … Монархическое государство должно быть средней величины. Если бы оно было мало, оно сформировалось бы как республика; а если бы оно было слишком обширно, то первые лица в государстве, сильные по самому своему положению, находясь вдали от государя, имея собственный двор в стороне от его двора, обеспеченные от быстрых карательных мер законами и обычаями, могли бы перестать ему повиноваться; их не устрашила бы угроза слишком отдаленной и замедленной кары. …Обширные размеры империи — предпосылка для деспотического управления. Надо, чтобы отдаленность мест, куда рассылаются приказания правителя, уравновешивалась быстротой выполнения этих приказаний; чтобы преградой, сдерживающей небрежность со стороны начальников отдаленных областей и их чиновников, служил страх; чтобы олицетворением закона был один человек; чтобы закон непрерывно изменялся с учетом всевозможных случайностей, число которых всегда возрастает по мере расширения границ государства.
Екатерина II решила бросить вызов авторитету своего кумира и доказать, что империя может существовать как правомерная (сегодня мы сказали бы «конституционная») монархия. Возможность республиканского правления в Российской империи казалась ей уже совершенно безответственной утопией с точки зрения «пространственной политологии» Монтескье, который, между прочим, писал:
Исполнительная власть должна быть в руках монарха, так как эта сторона правления, почти всегда требующая действия быстрого, лучше выполняется одним, чем многими; напротив, все, что зависит от законодательной власти, часто лучше устраивается многими, чем одним.
Екатерина II приступила к делу во всеоружии социальных теорий идеологов Просвещения, полагаясь на вытекающие из этих теорий практические рекомендации. Буквально реализуя идею общественного договора Гоббса, а еще в большей степени Локка, эти теории предполагали для начала созыв законодательного собрания. В республике (ограниченной по размеру) собираются все полноценные граждане, в монархии избираются представители социальных и территориальных сообществ. Совместно они вырабатывают и принимают основные законы — немногочисленные, но закладывающие основы всех сфер жизни общества. Задача правителя затем — следить за последовательным соблюдением всенародно принятых законов. Как писал Монтескье,
Большинство древних республик имело один крупный недостаток: народ имел здесь право принимать активные решения, связанные с исполнительной деятельностью, к чему он совсем неспособен. Все его участие в правлении должно быть ограничено избранием представителей. Последнее ему вполне по силам... Представительное собрание следует также избирать не для того, чтобы оно выносило какие-нибудь активные решения, — задача, которую оно не в состоянии хорошо выполнить, — но для того, чтобы создавать законы или наблюдать за тем, хорошо ли соблюдаются те законы, которые уже им созданы... Во всяком государстве всегда есть люди, отличающиеся преимуществами рождения, богатства или почестей; и если бы они были смешаны с народом, если бы они, как и все прочие, имели только по одному голосу, то общая свобода стала бы для них рабством и они отнюдь не были бы заинтересованы в том, чтобы защищать ее, так как большая часть решений была бы направлена против них.
В полном соответствии с этим планом (включая идею непропорционально высокого представительства привилегированных слоев в законодательном собрании), манифестом от 14 декабря 1766 г. Екатерина II объявила о созыве Уложенной комиссии — фактически национальной законодательной ассамблеи. Для выборов депутатов была разработана специальная процедура, включая детальную регламентацию «баллотирования» — тайного голосования шарами, опускаемыми в избирательный ящик. Предполагалось, что депутаты должны будут представлять гражданское общество в виде отдельных сословий населения (дворян, горожан и свободных земледельцев), а также государство в лице представителей ведомств.
Первое затруднение возникло на этапе разграничения населения по избирательным категориям. Не всегда было понятно, как местная социальная структура соответствует четким сословным границам — в Малороссии и на Белом Море, на Урале и на Средней Волге. Не признавая духовенство самостоятельным сословием (поскольку священники, подчинявшиеся Священному Синоду, фактически находились на государственной службе) и не допуская их к выборам, организаторы оказались в затруднительном положении во многих небольших населенных пунктах, где священники составляли самую образованную и сознательную прослойку населения. Недаром на земских соборах прежних столетий представители духовенства играли ведущую роль. Тем не менее, на торжественное открытие Комиссии в Московском Кремле 30 июля 1767 г. со всей империи прибыли 564 избранных депутата: 28 депутатов представляли правительство, 161 дворян (29%), 208 — горожан (33%, причем от столичных городов в этой категории также были избраны дворяне), 79 — от крестьян (14%). Кроме того, 54 депутата были избраны от казаков, а 34 — от «иноверцев», включая татар, башкир, марийцев и сибирские народы. Мало кто из этих депутатов владел русским (а тем более российским) языком, поэтому им разрешалось избирать себе «опекунов»-переводчиков. Проезд и проживание депутатов оплачивались из казны.
Первый год своего существования Уложенная комиссия занималась очень интенсивно — 5 дней в неделю. Для детального обсуждения конкретных проблем комиссия избрала 15 частных комиссий по пять человек в каждой, общей деятельностью руководил маршал (председатель) Уложенной комиссии, утвержденный Екатериной II из трех кандидатов генерал А. И. Бибиков — умный, но совершенно чуждый политических амбиций. Летом 1768 г. комиссия начала заседать по четыре, потом по два раза в неделю, к концу года число присутствующих депутатов сократилось вдвое, а начавшаяся осенью тяжелая война с Османской империей приостановила активную деятельность комиссии вовсе. Единственным непосредственным итогом обсуждений депутатов стало поднесение Екатерине — после почти двухнедельных дискуссий — звания «Великой» и «мудрой матери отечества».
Это обстоятельство обычно приводится в доказательство бесплодности или лицемерности екатерининской инициативы, что ничуть не умнее язвительных комментариев по поводу показания градусника: результат может разочаровывать, но градусник лишь измеряет внешние условия. Оказалось, что, как и зимой 1730 г., единственной объединяющей платформой для собравшихся «граждан» обширной Российской империи была лояльность государству и монарху. Возможно, если бы вновь собрались лишь несколько сот дворян из бывших московских земель (как в 1730 г.), им бы удалось добиться большей координации и взаимопонимания. Но Екатерина II радикально расширила круг потенциальных граждан-учредителей нового государства, фактически уравняв его с неоднородным имперским пространством, и оказалось, что единого имперского общества еще не существует. Политическая ситуация вновь воспроизводила логику Гоббса, а не Локка. Приехавшие депутаты привезли с собой около полутора тысяч наказов своих избирателей, чтение и обсуждение которых показало крайнюю противоречивость выдвигавшихся пожеланий.
Конечно, и сама организация работы Уложенной комиссии была бестолковой. Ее председатель генерал Бибиков понятия не имел, как организовывать и координировать работу законодательной ассамблеи, метался от одного формата работы к другому, от одной темы «повестки дня» к другой — но кто представлял себе роль «спикера» тогда, в Российской империи или в любой другой стране? По ходу заседаний выяснилось, что для продуктивной законотворческой деятельности необходимо представлять себе существующую законодательную базу — но никакого свода законов не существовало в это время (и не появится еще более полувека). Не говоря уже о том, что в Комиссии (и в России в целом) не было ни одного профессионального юриста, способного не просто оценить общие положения философии права просветителей, но претворить их в конкретную юридическую норму.
При всех очевидных недостатках Уложенной комиссии, ее деятельность выявила не менее серьезные проблемы самой теории, положенной в ее основу. Вопреки убеждению идеологов Просвещения, «общественный договор» является абстрактной моделью и метафорой, а не реальным юридическим актом. Оказалось, что в законодательной ассамблее принимает участие не «естественный человек» с некоторыми универсальными «естественными» правами и интересами, а конкретный представитель местного сообщества, которому бывает трудно найти общий язык с другими. Общность интересов и языка их выражения (если не самих идей) вырабатывается длительное время в результате совместного участия в единой сфере образования, в общественных дискуссиях (например, в публицистике и литературе), в политическом процессе. Когда в 1789 г. сходная по составу представительная ассамблея (Генеральные штаты) была созвана во Франции, в гораздо более интегрированном и «просвещенном» обществе, то первоначально лишь половина депутатов проявили гражданскую сознательность и сплоченность, объявив себя Национальной конституционной ассамблеей. Каждый дальнейший шаг в направлении уточнения «общественного договора» сопровождался сужением круга тех, чьи интересы он отражал. При всей колоссальности политического и философского наследия Великой французской революции, с точки зрения политической философии таких просветителей, как Монтескье, Национальная ассамблея 1789 г. окончилась не меньшим провалом, чем Уложенная комиссия Екатерины II: политическим террором якобинцев, гражданской войной, установлением диктатуры. При всем философском радикализме просветителей, ни Монтескье, ни Вольтер не допускали и мысли о терроре и гражданской войне как методах установления «общественного договора». Узнав в 1785 г. (задолго до революции 1789 г.) о критике ее Наказа и Уложенной комиссии со стороны умершего к тому времени Дени Дидро, Екатерина возмущенно написала:
Это сущий лепет, в котором нет ни знания вещей, ни благоразумия, ни предусмотрительности; если бы мой «Наказ» был составлен во вкусе Дидро, то он мог бы перевернуть все вверх ногами [то есть буквально — совершил бы революцию]. А я утверждаю, что мой «Наказ» был не только хорошим, но даже превосходным произведением, вполне соответствующим обстоятельствам, так как в продолжение 18 лет, которые он существует, он не только не причинял какое-либо зло, но все то хорошее, что произошло затем, и в этом согласны все, является лишь следствием принципов, установленных этим наказом.
Но самое главное, практически ничто из философского наследия просветителей не помогало понять, как создавать правовое государство в имперской ситуации — не в смысле пространственно протяженной деспотии, а в стране, включавшей разные исторические земли, языковые и этноконфессиональные группы. И Монтескье, и Вольтер рассуждали в самых общих категориях «народа» (говоря о населении страны) или вовсе «человечества». В середине XVIII века население и Французского королевства, и многих германских государств (в особенности, Прусского королевства) разговаривало на множестве диалектов и даже языков. «Этнокультурная слепота» просветителей привела к тому, что их взгляды были истолкованы в этих странах со временем как аргумент в пользу гомогенизации населения путем проведения насильственной политики культурно-языковой ассимиляции, превращения «народа-населения» в «народ-нацию» с единой стандартной культурой.
Очевидно, Екатерина II осознавала этот принципиальный пробел в политической теории просветителей, потому что решила компенсировать его опытным путем — единственным способом скорректировать неудовлетворительную теорию. В марте 1767 г. было объявлено о подготовке необычного путешествия-экскурсии императрицы вниз по Волге: от Твери (старинного центра Северо-Восточных рѹських земель) до Казани (столицы бывшего Казанского ханства). Путешествие Екатерины с обширной свитой (включая иностранных послов) началось 2 мая, по пути делались остановки на день-два в городах, организовывались встречи с местными дворянами, купцами, духовенством. Не оставляя сомнений насчет идеологического значения предпринятого путешествия, Екатерина II взяла в дорогу только что вышедший — и уже запрещенный цензурой во Франции — исторический роман Жана Франсуа Мармонтеля «Велизарий» о византийском полководце будто бы славянского происхождения. Главы романа распределили между спутниками Екатерины, и к концу путешествия был готов коллективный перевод, который и был издан в следующем году с подзаголовком «переведен на Волге». Хотя главы распределялись для перевода по жребию, Екатерине удивительным образом досталась именно Глава 9 (особенно возмутившая французских цензоров), с обширными рассуждениями о необходимости веротерпимости, осуждением тиранической абсолютной власти правителя и отрицанием любой верховной власти, кроме власти законов как воплощения «воли всего сообщества». В то время как подданные Российской империи готовились представить местные интересы и нужды в Уложенной комиссии, императрица отправилась лично ознакомиться с «ситуацией на местах». Успешный перевод запрещенного на родине просветителей «Велизария» являлся символической декларацией: то, что невозможно во Франции, осуществимо в России.
В Казани экспедиция Екатерины задержалась на пять дней: после встречи с дворянством принимали участие в народном гулянье, императрица встречалась с православным духовенством и учителями гимназии. Отдельно был организован прием мусульманского духовенства и общинных лидеров Старой и Новой татарских слобод Казани, Екатерина проехала через татарские кварталы, а сопровождавший ее в путешествии граф Владимир Орлов, директор Академии Наук, с интересом присутствовал на службе в мечети. На третий день пребывания в Казани Екатерина написала Вольтеру письмо, в котором напрямую связывала свою поездку с подготовкой «Большого наказа» Уложенной комиссии, над которым она продолжала работать:
Я предвещала Вам, что вы получите письмо из какого-нибудь дальнего азиатского угла, — исполняю свое обещание теперь. ... Эти законы [ожидаемые от Уложенной комиссии], о которых уже так много говорят теперь, в конце концов, еще совсем не выработаны. И кто в состоянии ответить теперь, что они окажутся действительно хороши и разумны? В сущности, только потомству, а не нам, будет под силу решить этот вопрос. Вообразите себе только то, прошу вас, что назначение их — служить и Азии, и Европе: а какая существует там разница в климатах, людях, обычаях, — даже в самих идеях!...
Наконец-то я в Азии; я ужасно хотела видеть ее своими собственными глазами. В городе, здесь население состоит из двадцати различных народностей, совсем не похожих друг на друга. А между тем необходимо сшить такое платье, которое оказалось бы пригодно всем.
Общие принципы еще могут найтись; но зато частности? И какие еще частности! Я чуть не сказала: приходится целый мир создавать, объединять, сохранять. Я, конечно, не совладею с этим делом, тем более что и так у меня дела по горло.
Перед отъездом из Казани она подвела итоги своего путешествия в письме другому корреспонденту:
Эта империя совсем особенная, и только здесь можно видеть, что значит огромное предприятие относительно наших законов, и как нынешнее законодательство мало сообразно с состоянием империи вообще.
7.15. Социальная инженерия Российской империи как развитие политической теории просветителей
Уложенная комиссия не сумела оправдать ожиданий, возлагавшихся на нее теорией, «общие принципы», изложенные Екатериной в «Большом наказе», не смогли упорядочить множественные «частности», представляемые отдельными депутатами. Однако она не отказалась от амбициозного намерения осуществить новый российский имперский проект — «целый мир создавать, объединять, сохранять». Более прагматичный правитель (придерживающийся принципа Realpolitik) объяснил бы провал Уложенной Комиссии отвлеченным характером политической теории Просвещения — но доверие Екатерины к этой теории было так велико, что она сделала выводы из неудачного опыта в полном соответствии с социологией Монтескье. После вынужденного перерыва, вызванного острым военно-политическим кризисом 1768−1774 гг., Екатерина возвращается к «социальной инженерии» нового имперского общества, и предпринятые ею последовательные законодательные меры позволяют довольно уверенно реконструировать ее логику.
7 ноября 1775 г. было принято «Учреждение для управления губерний Всероссийской империи» — детальный план единого административного устройства империи. Территория страны делилась на наместничества (позже их число доведут до 50 и переименуют в губернии) с населением 600−800 тысяч человек каждое. Наместничество делилось на 10-12 уездов, в среднем по 50 тысяч человек. Это административное деление решительно перекраивало карту устойчивых «исторических земель». Екатерина стремилась
для избежания медлительности от пространства земли и множества дел происходящей … дать каждой губернии величину умеренную, дабы правительства безостановочно успевали в своей должности.
Ее слова звучат заочным ответом Монтескье, который не верил в возможность правильного управления империями из-за их протяженности и удаленности от центра власти. Реализуя принцип установления единых общих правил, в рамках которых возможно разнообразие личного выбора, эта реформа Екатерины не просто унифицировала деление территории, но окончательно вводила современное государство в Российской империи. Фактически, каждое «наместничество» получало собственное правительство, весьма разветвленное: в его ведении был общественный порядок, хозяйственная деятельность, сбор налогов, «общественное призрение» (забота о нетрудоспособных членах общества), образование и суд. Наместник буквально являлся воплощением верховной государственной власти «на местах»: он назначался императрицей и по статусу приравнивался к сенаторам. Уездная администрация подчинялась губернской (наместнику), но избиралась дворянством. Таким образом, прежнее «типовое» камералистское государство приспосабливалось к условиям империи: каждое наместничество (губерния) являлось как бы «нормальной монархией» среднего размера, но встроенной в общее политическое и юридическое пространство под контролем имперских властей (императрицы и сената). Эти «монархии», возглавляемые назначаемыми наместниками (т.е. буквально «вице-королями»), управлялись «сверху» (из Санкт-Петербурга) на условиях централизма и авторитаризма. Однако от уровня губернского города и дальше «вниз» органы власти приобретали коллегиальный и даже выборный характер. Глава администрации назначался, но работал вместе с выборными органами власти. В той же логике выстраивалась и судебная система, которую по «Учреждению» 1775 года впервые попытались отделить от исполнительной власти, приблизить к населению и даже разделить уголовное и гражданское судопроизводство. Местные суды были полностью выборными — и в уездах, и в городах. Суды второй инстанции включали назначаемого председателя суда и избираемых заседателей. Высшей судебной инстанцией являлся уже имперский Сенат, которому наконец-то было найдено место в архитектуре имперской государственности. Опубликованный в 1782 г. «Устав о благочинии» подробнейшим образом регламентировал структуру и компетенции фактически заново создававшейся полиции — причем именно как «местной» службы, подчинявшейся коллегиальному органу на уровне губернии, а не Санкт-Петербургу. «Устав» разбивал город на части и кварталы в ведении отдельных полицейских чинов, а также распределял правонарушения на те, что наказывались полицией, и те, что после полицейского следствия разбирались в судах.
Таким образом, для «рядовых граждан» (нескольких категорий лично свободных людей, признававшихся законодательством), «снизу», органы власти представали избираемыми и коллегиальными; с точки же зрения Санкт-Петербурга, «сверху», государство выглядело жестко администрируемым и централизованным. Согласование двух разных принципов государственности происходило в звене «наместничество (губерния) — уезд», что позволяло гибко приспосабливаться к местным условиям и допускать элементы представительного правления при сохранении управляемости обширной империей. По крайней мере, в этом заключался замысел детально проработанной реформы государственного управления 1775 года.
Ключевое значение имело то, кого в новой системе имперской государственности признавали «гражданами». Новые органы управления и новые суды были основаны на сословном принципе: только равные по статусу могли выбирать себе органы власти и судей. Судя по всему, вторым уроком, который Екатерина извлекла из опыта Уложенной Комиссии, стал вывод о необходимости законодательного оформления основных категорий «граждан» будущего имперского государства. Как показали выборы в Комиссию, в масштабах страны не существовало единых групп интересов, что, с точки зрения политической философии Монтескье, заведомо обрекало «законодательную ассамблею» на недееспособность. Монтескье считал разделение общества на сословия и классы таким же ключевым условием правильного социально-политического устройства, как и разделение властей — все равно, в монархии или республике:
Монархическое правление имеет одно большое преимущество перед деспотическим. Так как самая природа этого правления требует наличия нескольких сословий, на которые опирается власть государя, то благодаря этому государство получает большую устойчивость; его строй оказывается более прочным, а личность правителей — в большей безопасности.
…Итак, разделение на классы населения, имеющего право голоса, составляет основной закон республики.
Схожего мнения о неизбежности и необходимости социального неравенства (при равенстве всех перед законом) придерживался и Вольтер, писавший: «не неравенство тягостно, а зависимость». Получалось, что в неструктурированном имперском обществе и нельзя было ожидать развитой гражданственности в смысле коллективной социальной солидарности. Исправляя этот изначальный структурный дефект, в апреле 1785 г. опубликовали два пространных документа: «Грамота на права, вольности и преимущества благородного дворянства» и «Грамота на права и выгоды городам Российской империи» (известные как «Жалованная грамота дворянству» и «Жалованная грамота городам»). Первая детально расписывала права и привилегии дворянства (в новом, уже устоявшемся смысле «шляхетства»), окончательно формируя единое сословие, размывая формальные иерархии титулов и древности рода, а также различия между региональными категориями привилегированных слоев. Так, дворянское достоинство было признано за казацкой старшиной украинских земель, включая тех простых казаков, которые к этому моменту занимали выборные должности генеральных старшин, полковников, есаулов, хорунжих, полковых и городских судей, сотников. Одновременно, в новое всеимперское дворянское сословие были включены аристократы-мусульмане и даже «служилые татары» — беспрецедентный шаг для европейской монархии. «Жалованная грамота городам» таким же образом из мозаики социальных групп больших и малых городов, на бывших землях ВКЛ и в Сибири, пыталась сформировать единый феномен «имперского города», населенного тремя универсальными сословиями: дворянами, купцами и «среднего рода людьми» — мещанами. Была подготовлена и третья грамота — государственным крестьянам, но по различным политическим соображениям она не была опубликована.
Вместе с «Учреждением» о губерниях 1775 года эти акты закладывали основы обновленной Российской империи как «правомерного» государства. Не случайно документы городам и дворянам юридически определялись в тексте как «жалованные грамоты»: «грамота» звучала архаично в конце XVIII века, но это была буквальная калька английского «билля» (от libellus на средневековой латыни — первоначально «рукопись, грамота»). Не иначе, Екатерина II рассматривала эти законы как аналог английского Билля о правах 1689 года, «Акта, декларирующего права и свободы подданного и устанавливающий наследование Короны», важного элемента английской неформализованной конституции.
Необходимо упомянуть и еще один важный элемент «екатерининской конституции».
Еще в 1773 г. от имени Священного Синода («министерства религии») был издан указ с длинным названием, официально провозглашавший государственную политику веротерпимости: «О терпимости всех вероисповеданий и о запрещении архиереям вступать в дела, касающиеся до иноверных исповеданий и до построения по их закону молитвенных домов, представляя все сие светским начальствам». Вторая половина названия подчеркивала «просвещенческое» понимание свободы (в данном случае, вероисповеданий) как всеобщее подчинение закону, а не другому субъекту (другой конфессии). Ничего подобного не существовало на родине просветителей, ни в законодательстве, ни на практике: во Франции еще в 1752 году была предпринята очередная попытка окончательно извести гугенотов (протестантов), объявив недействительными все крещения и браки, совершенные их духовенством. В 1762 г. торговец из Тулузы Жан Калас подвергся мучительной казни колесованием по надуманному и предвзятому приговору суда — как гугенот в католическом государстве. Только в 1787 г. гугеноты были уравнены в правах с католическим населением Франции — но о признании, к примеру, ислама равноправной конфессией, наряду с католичеством, не могло быть и речи. Лишь прусский король Фридрих II, которым в молодости восхищалась будущая императрица Екатерина, заявил еще в 1740 г.:
Все религии равны и хороши, если их приверженцы являются честными людьми. И если бы турки и язычники прибыли и захотели бы жить в нашей стране, мы бы и им построили мечети и молельни.
Пруссия действительно демонстрировала высочайшую степень толерантности к самым разным христианским конфессиям и к иудеям, однако своих мусульман и язычников в ней, в отличие от России, почти не было. Екатерина же не остановилась на разрешении строительства мечетей и отправления обрядов, что свидетельствует о том, что двигали ею не абстрактные «правозащитные» соображения.
По ее указу в 1788 г. было создано в Уфе Оренбургское магометанское духовное собрание (ОМДС), которое занималось проверкой квалификации кандидатов на все должности в мусульманском приходе, контролировало ведение метрических книг (регистрацию рождений и смертей), издавало фетвы (авторитетные богословские разъяснения), служило высшим авторитетом в области брачного и семейного права мусульман. Создание высшего органа мусульманского духовенства было совершенно неординарным решением: в исламе нет «церкви» и формальной иерархии, это сеть самоуправляемых приходов, избирающих себе священнослужителей. Впрочем, то, что ОМДС не имело разветвленной структуры и органов промежуточного звена (на уровне губерний) говорит о том, что Екатерина ориентировалась не столько на образец христианской церковной организации, сколько на модель османской системы миллетов — самоуправляющихся конфессиональных общин, единственной действующей системы организации многоконфессионального общества в XVIII веке. Сама «архитектура» ОМДС выдавала его функцию не только координатора исламской общины России, но и инструмента ее интеграции в имперское государство. Во главе ОМДС стоял муфтий, кандидатура которого предлагалась мусульманами на утверждение императора. Должности трех членов Собрания (казыев) являлись выборными. Причем, если муфтии всегда были выходцами из сословия башкир и представляли мусульман Урала, то казыи выбирались улемой (духовными авторитетами) мусульман Поволжья, на практике — казанской татарской элитой. ОМДС подчинялся правительству (с начала XIX века — министру внутренних дел), и с точки зрения государственного управления дело выглядело так, что имперская власть контролировала всех мусульман страны. Но с точки зрения мусульманских приходов ОМДС являлся выразителем воли мусульман, избиравших членов Собрания и номинировавших его руководителя. Обе основные территориальные группы мусульман — приуральская и поволжская — получали представительство в Собрании. (В 1794 г. было создано отдельное Духовное управление в Симферополе для мусульманских общин новоприсоединенных Крыма и Литвы). Таким образом, выполняя роль своеобразного «адаптера» между государственной властью и обществом, Мусульманское Духовное Собрание позволило внутренне упорядочить и юридически включить в государственную систему и имперское общество разрозненный мир мусульманских приходов, сохраняя при этом их автономию и принцип выборности духовенства.
Интересно, что для иудеев ничего аналогичного ОМДС не было создано. Вероятно, это было связано с внезапностью появления необходимости интегрировать новую этноконфессиональную группу (после включения населенной евреями территории Беларуси в состав Российской империи в 1772 г.), когда ничего подобного путешествию в Казань для личного ознакомления с местной спецификой Екатерина II не успела предпринять. Возможно также, что она просто не воспринимала иудеев как радикально «иных» — в отличие от мусульман, и не считала необходимым создавать для них особый режим интеграции. Все сохранившиеся свидетельства говорят о нейтрально-доброжелательном отношении Екатерины к евреям (что резко контрастирует с агрессивным антисемитизмом ее кумира Вольтера). Едва взойдя на престол, она сменила сам язык обсуждения иудаизма — в самом буквальном смысле, потребовав использовать слово «евреи» вместо традиционного и обремененного антииудейскими и антисемитскими коннотациями слова «жиды». В 1772 г. всему населению новоприсоединенных земель оставили тот статус, которым они пользовались в Речи Посполитой, что в случае евреев предполагало сочетание правовой дискриминации и частных привилегий. Спустя десять лет на них распространили — как и на всех остальных — упомянутые выше законы 1785 года. Евреи получили те же права и обязанности, что и прочие городские жители, приписанные к мещанскому или купеческому сословиям. Как выразилась по этому поводу Екатерина, «всяк по званию и состоянию своему долженствует пользоваться выгодами и правами без различия закона и народа» — то есть «независимо от религии и национальности».
Судя по всему, именно ее беспроблемное отношение к задаче еврейской интеграции помешало успеху благих намерений реформатора: считалось, что евреи — замкнутая и относительно однородная корпорация городского населения, с развитым общинным самоуправлением («кагал»). Значит, нет необходимости ни в дополнительных усилиях по внутренней организации группы, ни в ее интеграции в имперское общество и государство: достаточно отменить старые запреты и ограничения… Однако евреи не были ни однородной, ни преимущественно городской группой. Барочное общество Речи Посполитой, воспринимавшееся в конце XVIII века уже как абсолютный пережиток прошлой эпохи, законсервировало средневековый статус евреев как религии-сословия, с четкой экономической специализацией. Основная экономическая деятельность евреев была связана с сельской местностью, с адаптацией фактически средневековой сельской экономики шляхты и крепостных крестьян к запросам новых времен. В руках евреев была продажа деревенских товаров в городе, а городских — в деревне, а также снабжение деревни ремесленными изделиями. Они брали на себя все экономические функции шляхты как землевладельцев: организацию сельскохозяйственного производства, лесозаготовок, производство и продажу алкоголя. Юридически это все являлось привилегией шляхты, не желавшей и не умевшей заниматься хозяйством, а потому передававшей эти функции евреям на правах арендаторов. Заодно евреи принимали на себя ответственность за социальное напряжение, возникающие в результате эксплуатации крепостных крестьян. Евреи не хотели записываться в городские сословия по Уложению 1785 года и переезжать в города. Возможность ведения торговли на всей территории Российской империи открывала новые возможности для немногочисленной группы еврейских торговцев — и немедленно стравливала их с купцами внутренних губерний. В отличие от них еврейские торговцы имели богатый опыт трансграничной торговли и налаженные коммерческие связи. Их товары были дешевле — оттого ли, что получались контрабандно, в обход таможни, как утверждали недоброжелатели, или просто в результате более эффективной цепочки поставщиков. В 1790 г., по жалобе московских купцов, специально подчеркивавших, что они действуют из возмущения нечистоплотной конкуренцией со стороны еврейских торговцев, а «не из какого-либо к … их религии отвращения и ненависти», евреи были выселены из Москвы. Жалобы на евреев и конфликты приобретали массовый характер, и в декабре 1791 г. Екатерина II подписала указ, призванный решить проблему еврейских торговцев — причем вновь никак не выделяя евреев из общего ряда выходцев с бывших земель Речи Посполитой. Им всем — и христианам, и иудеям, — было разрешено записываться в городские мещанские и купеческие сообщества лишь беларуских губерний, где они родились. Евреям, кроме того, разрешалось беспрепятственно переселяться на колонизуемые земли Новороссии в Северном Причерноморье. Так возникла Черта оседлости — первоначально касавшаяся всех зона, ограничивающая передвижение населения западных губерний. Со временем (в XIX веке), ограничения на мобильность христиан были ослаблены, а иудеев — усилены, именно тогда Черта оседлости стала основой политики антиеврейской дискриминации.
7.16. «Сопротивление среды» в имперской ситуации как причина «непредвиденных последствий» реформ
В рамках «конституционного» проекта Екатерины II попытку интеграции евреев (как одной из локальных общин) в общее имперское пространство можно рассматривать в качестве своеобразного теста для всего проекта построения «правомерного государства» в формате Российской империи. Оказалось, что имперская среда обладает свойством трансформировать до неузнаваемости самые, казалось бы, прямолинейные инициативы. Имперское по своей сути общество может существовать и без формального провозглашения империи: для него характерны не просто пестрота и разнообразие, а многоплановое разнообразие, не вмещающееся в простые классификации. В этой структурно имперской ситуации каждое явление существует одновременно в нескольких измерениях, и воздействие на одно из них часто приводит к непредсказуемым последствиям в других. Так, готовность предоставить евреям, дискриминированной группе населения Речи Посполитой, равные права с остальными подданными Российской империи, привела к обратному результату — к созданию нового режима изоляции (а, в дальнейшем, и дискриминации). Оказалось, что равноправие конфессиональной общины одновременно означает предоставление преимуществ (по мнению соседей — нечестных) экономической группе, в то же время приводя к нарушению установленного общеимперского социального (сословного) порядка.
Частные меры имеют больше шансов устоять против искажения изначальных намерений, чем универсалистские решения. Так, мусульманские духовные собрания, направленные на одну-единственную группу населения, исповедавшую ислам (и даже на несколько региональных подгрупп мусульман), в целом успешно справились с поставленной задачей. А вот установление единой сословной структуры по всей империи указами 1785 г., продиктованное желанием упорядочить «гражданское общество» и создать организационные предпосылки для социальной солидарности, принесло с собой неожиданные и нежелательные последствия. Включение малороссийской старшины в состав имперского дворянства, со всеми его привилегиями, повлекло за собой распространение крепостного права на украинские земли (при том, что сама Екатерина II на протяжении практически всего своего правления искала способ отменить крепостное право в Российской империи). Законодательное оформление единой для всей империи сетки сословий должно было решить политическую проблему неструктурированности имперского общества и отсутствия групповой солидарности, ставших одной из причин провала работы Уложенной комиссии. Но казавшееся удачным решение политической проблемы немедленно усугубило проблемы социально-экономические: во второй половине 1780-х годов сословная организация общества являлась буквально пережитком другой эпохи. Сословие — это нерасчленимое переплетение прирожденного правового статуса, экономической специализации и политических привилегий, характерное для средневековых обществ. Не то, чтобы сословное деление препятствовало развитию современной экономики и политической системы, оно просто никак не отражало новую реальность и фактически превращалось в пустую формальность даже в тех странах, где сословия складывались естественным образом на протяжении столетий и некогда играли важную роль. В России с самого начала введения «современных» сословий Екатериной II и до их формальной ликвидации в 1917 году сословный режим служил источником постоянных конфликтов. Специальное городское сословие мещан массово занималось сельским хозяйством и огородничеством (особенно в провинции), в городах все большую долю в торговле занимали «крестьяне». Дворянство являлось, по сути, единственным сословием полноценных «граждан» имперского государства, которые во всех остальных отношениях (социальном, экономическом, политическом) имели мало общих черт как группа. Сословия организовывали имперское общество, но одновременно дезорганизовывали экономическую деятельность и запутывали правовую систему.
Не менее двусмысленно сознательное построение империи проявило себя во внешнеполитической сфере — первоначально основной арене проявления «имперскости» России и «имперской ситуации» региона Северной Евразии. Несмотря на амбиции Петра I и принятый им громкий титул, его «империализм» имел довольно скромные практические последствия. Главным итогом трех десятилетий непрерывных войн Петра стало распространение власти российского императора на восточное побережье Балтики с населением около 300 тысяч человек. Экспансия в южном направлении — против Османской империи и против Персидской державы — закончилась ничем, для удержания временных территориальных приобретений не хватило ресурсов. Колоссальное перенапряжение экономики привело к тому, что наследники Петра предпочитали проводить осторожную внешнюю политику, стараясь не провоцировать соседей. Руководители российской дипломатии с увлечением принимали участие в международных интригах, входили в альянсы и даже пытались конструировать собственные, но ничего специфически «имперского» в российской внешней политике не обнаруживалось. К середине 1730-х гг. растущее раздражение против непрекращающихся набегов из Крыма на украинские земли привело к масштабной войне 1735−1739 гг. Формально это была война с Османской империей, но основные боевые действия велись против ее вассала — Крымского ханства, как и в XVI и XVII веках. Российская армия впервые осуществила полномасштабное вторжение на Крымский полуостров, разорив и разграбив главные городские центры ханства, а также захватила несколько пограничных турецких крепостей на Днестре, на границе с так называемой «Ханской Украиной». Тем не менее, подписанный в 1739 г. мирный договор фактически подтверждал довоенное положение дел, о территориальных приобретениях или распространения влияния на Крым речи даже не шло.
В 1741−1743 гг. Россия воевала со Швецией, предпринявшей попытку реванша за поражение в Северной войне. В 1756 г. Россия оказалась вовлечена в Семилетнюю войну Британии и Франции за североамериканские колонии, которая на европейском театре военных действий превратилась в противоборство коалиций союзников этих двух стран. Главной силой британской коалиции была Пруссия, стремившаяся к захвату соседних земель, прежде всего в Австрии. Россия была в числе полудюжины союзников Франции. Серия побед над Прусским королевством, захват Восточной Пруссии и приведение к присяге ее населения (включая самого знаменитого сегодня жителя прусского Кенигсберга, философа Иммануила Канта) окончились для Российской империи ничем: после смерти императрицы Елизаветы Петровны взошедший на престол Петр III поспешил вернуть все завоеванное прусскому королю Фридриху II, чьим военным гением он восхищался, и заключить с ним союз. (Этот резкий политический разворот усилил недовольство Петром III и стал одной из причин его свержения.) Таким образом, за первые полвека своего существования Российская империя на практике продемонстрировала лишь заботу о защите своих владений (от Швеции или Крымского ханства). Между тем, только по итогам Силезских войн 1740-х гг. Прусское королевство Фридриха II всего за шесть лет увеличило свою территорию на 64%, а население — более чем вдвое, на 3.2 миллиона человек.
Впрочем, существовала одна область внешнеполитической деятельности, в которой Российская империя проявляла себя наступательно, а не «реактивно», отвечая на внешние угрозы. Только воспринималась эта область скорее как продолжение внутренней политики, во всяком случае, как постоянный и привычный фон решения «настоящих» внешнеполитических задач. Речь идет о Речи Посполитой, ближайшем соседе и основном сопернике Московского царства начиная с XVI в., к которому перестали относиться как к главной внешней угрозе лишь к началу правления Петра I. Северная война 1700−1721 гг. превратила польско-литовские земли в театр военных действий, и с этого времени начинается систематическое присутствие российских войск на этих землях и вмешательство России во внутренние дела Речи Посполитой, включая избрание короля (в 1709 г.).
Столь драматичная смена ролей (еще столетием ранее московские бояре присягали польскому королевичу как царю, Речь Посполитая едва не поглотила Московское царство) не являлась следствием изощренного политического замысла и была продиктована логикой войны. Петр I поддерживал своего союзника, короля Августа II, против претендента на престол Станислава Лещинского, поддерживаемого шведами. Не была необычной ни сама ситуация борьбы претендентов за польскую корону, ни то, что один из них — Август II Польский — одновременно являлся курфюрстом Саксонии Фридрихом Августом I. Выборными королями польско-литовского содружества не раз становились монархи из других земель, говорившие на французском, шведском или немецком языках и сохранявшие права на свои наследственные земли. Они всегда опирались на иностранную военную силу. Поэтому вовлечение Российской империи в польско-литовскую политику не представляло ничего экстраординарного, тем более, что сам факт избрания на престол действующего саксонского курфюрста уже предполагал включение Речи Посполитой в сферу территориальных интересов и политических альянсов иностранного государства — Саксонии, протестантского немецкого княжества в составе Священной Римской империи.
Новым было лишь возникающее в это время в соседних странах под влиянием камерализма представление о государстве как силе, обеспечивающей неразрывную связь правителя со страной. Власть монарха оказывалась лишь проявлением высшей государственной власти, а право на престол — всего лишь особой привилегией высшего должностного лица в государстве. Монарх мог быть чужеземцем (подобно Екатерине II в России), но малейший намек на присутствие у него иных государственных интересов (как у герцогини Курляндии, чистокровной московитки Анны Иоанновны) подрывал его легитимность. В то же время, возникающее современное государство оказывалось автономной силой и по отношению к его «гражданам» (которые обладали формальным или неформальным влиянием на политику). Формирующаяся государственная «машина» обеспечивала последовательность принятия мер в рамках выбранного политического курса, эффективную мобилизацию ресурсов (людей, налогов), разводя сферу публичного и сферу частного (в том числе частных интересов, зависимых от психологического настроя, подкупа, просто смерти конкретного лица).
Речь Посполитая сохраняла политическую организацию «пороховой империи» в то время, когда вокруг, стихийно или целенаправленно, развивались структуры регулярного государства.
В следующий раз Россия вмешалась в избрание польского короля после смерти Августа II, в 1733 г., и вновь главная цель вмешательства находилась далеко от Варшавы и Кракова. Еще пятью годами раньше российская дипломатия занимала вполне пассивную позицию по вопросу о преемнике стареющего Августа II, не имея определенного фаворита и соглашаясь на любую кандидатуру, поддержанную Священной Римской империей. Все изменилось в начале 1730-х, когда польско-литовский сейм начал обсуждать поглощение Курляндского герцогства, формально вассала Речи Посполитой, фактически — протектората Российской империи. Взошедшая недавно на престол Анна Иоанновна, герцогиня Курляндская, была твердо намерена сохранить отдельный статус герцогства (о присоединении его к России речь не шла). Более того, незадолго до смерти Август II начал вести переговоры с прусским королем о разделе Речи Посполитой в обмен на признание его наследственной власти над оставшимися территориями — что совершенно не устраивало Россию, стремившуюся сохранять status quo. В лучших традициях дипломатии XVIII века заключаются союзы и тайные договоренности между заинтересованными соседними странами о кандидате на польский престол, а в итоге после смерти Августа II, в 1733 г., Российская империя поддержала совсем другого претендента — сына умершего короля, который пообещал проводить лояльную по отношению к России политику.
Спустя 30 лет, когда польский трон вновь опустел, под давлением России королем был избран Станислав Август Понятовский, бывший фаворит Екатерины II, проведший пять лет в Санкт-Петербурге. Вновь к Речи Посполитой отнеслись как к «домашней» территории: вместе с новым королем из России в Варшаву прибыл посланником генерал-майор князь Николай Репнин, ставший едва ли не самым влиятельным человеком в стране. Рассказывали, что без него не начинали представление в театре даже после того, как король Станислав Август занимал свое место в ложе. Куда существеннее было то, что Репнин грубо вмешивался во внутренние дела Речи Посполитой, пресекая попытки Станислава Августа реформировать ставшую явно архаической политическую систему страны. На возражения депутатов сейма Репнин отвечал: «такова воля императрицы», особо упорных оппонентов отправлял в ссылку в Калугу — как будто он был губернатором где-нибудь в Пскове. Иллюзия «домашности» и «карманности» Речи Посполитой, в отношении которой нет необходимости прибегать к дипломатическому этикету, сыграла злую шутку над правителями России.
Взгляды Екатерины II на Речь Посполитую, вероятно, во многом определялись ее кумиром — Монтескье, который писал:
цель законов Польши — независимость каждого отдельного лица и вытекающее отсюда угнетение всех. … Худшая из аристократий та, где часть народа, которая повинуется, находится в гражданском рабстве у той, которая повелевает, какова, например, аристократия Польши, где крестьяне — рабы дворянства.
То есть Речь Посполитая в классификации Монтескье относилась к категории аристократии (а не республики), причем, к ее худшей, неправомерной разновидности. Превосходство России заключалось не просто в военной мощи, а в том, что она должна была вскоре, по замыслу Екатерины, трансформироваться из деспотии в правовую монархию — практически, идеальный тип для большого государства.
Согласно Монтескье,
Имея по соседству государство, находящееся в упадке, государь отнюдь не должен ускорять его гибель, так как в таком случае он находится в самом счастливом из всех возможных положений. Ничто не может быть для него выгоднее, чем иметь у себя под боком государя, который получает за него все удары и оскорбления фортуны. И очень редко бывает, чтобы в результате завоевания такого государства действительная сила завоевавшего увеличилась настолько же, насколько при этом уменьшилась его относительная сила.
В полном соответствии с этой рекомендацией, Екатерина II (вслед за своими предшественниками) старалась поддерживать status quo в соседней стране, пресекая слабые попытки формирования современной государственности — благо, всегда было достаточно недовольных представителей шляхты, готовых торпедировать любое посягательство государства на «независимость каждого отдельного лица». Еще в 1733 г., перед открытием избирательного сейма, призванного выбрать нового короля, специальный конвокационный сейм выработал новые требования к кандидату: им мог быть только уроженец Речи Посполитой, католик, не имеющий своего войска и наследственной державы. Этот шаг в направлении «нормализации монархии» не устраивал Россию и других соседей Польско-Литовского содружества — причем не «в принципе», а потому, что отдавал предпочтение конкретным неугодным претендентам. Как всегда, нашлась партия делегатов, которая не согласилась с реформой и при поддержке соседних держав сорвала ее. В 1764 г. король Станислав Август попробовал реформировать законодательство, в частности, отменив древний принцип «liberum veto» (позволявший любому депутату сейма заблокировать любое решение), который в предшествующие десятилетия практически парализовал все попытки создания современной государственной машины. Однако реформы натолкнулись на противодействие Российской империи, которая выступила в роли гаранта политических устоев Речи Посполитой — причем в версии XVI в., игнорируя культурно-политические изменения предшествующего столетия (контрреформацию, полонизацию, превращение католичества в государственную религию). Инструкции главы российской внешней политики Никиты Панина и самой Екатерины II князю Репнину содержали нехитрый политический план: восстановление права провозглашать liberum veto и образовывать конфедерации должно было сохранить состояние политической анархии в Польско-Литовском государстве. Для того чтобы сохранить влияние России в этой ситуации «системной анархии», необходимо было заставить сейм признать равные права всех конфессий (как это было в XVI веке) и ввести квоты для представительства протестантов и православных. Предполагалось, что эти «диссиденты» («инакомыслящие» по отношению к католическому большинству) окажутся проводниками российского влияния.
Помимо прагматической логики Realpolitik Екатерина II продемонстрировала в «польском вопросе» приверженность принципу сохранения «исторического уклада»: как мы видели, в середине 1760-х гг. ее рациональный проект империи еще основывался на идее компромисса «естественных прав» и обычаев с нормами единого государственно-правового пространства. Проблема была в том, что при этом складывалась «имперская ситуация», лишь отчасти отражаемая социальными и политическими институтами империи. Реальное разнообразие и существующие на разных уровнях противоречия не исчезали, будучи включенными в рациональную систему империи, а создавали странную многомерную реальность. В этой реальности нет ничего однозначного, кажущийся кратчайшим путь к ясной цели приводит к неожиданным и обычно нежелательным результатам. Расчет опереться на «естественные права» провалился одновременно во внутренней политике (Уложенная комиссия) и в политике по отношению к соседней стране, проводившейся в той же логике.
7.17. Имперская власть и вызовы самоорганизации исторических акторов
Включив Речь Посполитую в сферу и логику «домашней» имперской политики и полностью игнорируя ее как самостоятельного внешнеполитического партнера, Екатерина II спровоцировала череду колоссальных политических потрясений. Они привели в середине 1770-х гг. к пересмотру первоначальной стратегии построения современной империи, но также обозначили пределы самой возможности изменять социально-политическую реальность в соответствии с намеченным планом. Оказалось, что даже обладающий почти безграничными ресурсами самодержец-реформатор не может полностью преодолеть «сопротивление материала»: с одной стороны, ограничением служат внешнеполитические обстоятельства, с другой — проводимые преобразования вызывают непредвиденные последствия, способные изменить смысл реформ.
Попытка России восстановить в полном объеме «конституцию» Речи Посполитой времен Люблинской унии привела к глубокому расколу в стране, поскольку в реальности сторонники сохранения древних шляхетских привилегий и те, кто был готов признать равноправие православных и протестантов (две составные части старой «конституции»), теперь представляли два противоположных политических лагеря. Репнину удалось выполнить инструкции Санкт-Петербурга и навязать волю императрицы сейму, собравшемуся в Варшаве в октябре 1767 г. 27 февраля 1768 г. сейм утвердил документы, уравнивающие «диссидентов» в правах с католиками и признающие Россию в качестве гаранта сохранения старой политической системы. Решения сейма были ратифицированы Станиславом Августом и Екатериной II, а 29 февраля в крепости Бар на юге страны, недалеко от границы с Крымским ханством, недовольная шляхта созвала конфедерацию, требующую отменить решения сейма. 26 марта король Станислав Август обратился к Екатерине II с просьбой помочь против армии Барской конфедерации, и вскоре начались боевые действия. Российский экспедиционный корпус без труда громил силы конфедератов, однако события вскоре вышли за пределы «традиционной» борьбы политических группировок. В сложной политической обстановке «барочной» Речи Посполитой попытка навязать силой российского оружия современный просвещенческий принцип равенства всех конфессий буквально реанимировала атмосферу религиозных войн эпохи контрреформации и тридцатилетней войны XVII в. Никто не воспринимал достижение формального равенства как компромисс: для Барских конфедератов это означало ущемление господствующего положения католической веры и зависимость страны от России, для православного (главным образом, крестьянского) населения это означало победу над католиками и также установление российского господства.
В мае 1768 г. на правом берегу Днепра, недалеко от Чигирина, вспыхнуло восстание «колиив» — православных крестьян и гайдамаков (вооруженных отрядов южного пограничья, промышлявших разбоем). Движение колиив (скорее всего, от названия забойщиков скота в украинских селах) было спровоцировано тем, что политический конфликт в стране обрел форму религиозной войны, и подпитывалось острыми социально-экономическими противоречиями в регионе, где существовало традиционное этноконфессиональное «разделение труда»: православные крестьяне находились в зависимости от католической шляхты — землевладельцев, а евреи выполняли посреднические функции. По форме колиивщина не отличалась от кровавых событий середины XVII в.: восставшие массово убивали евреев и «поляков», вырезав население нескольких крупных городов региона, включая Умань. Однако это было нечто большее, чем очередная вспышка религиозного фанатизма. Восставшие считали, что действуют по прямому приказу императрицы Екатерины II и в интересах Российской империи, то есть являются участниками политического процесса.
Собственно, восстание началось с получения одним из его предводителей, бывшим запорожским казаком Максимом Зализняком, «Золотой грамоты» Екатерины II с указанием защищать православную церковь и истреблять ее врагов (вероятно, эту подделку изготовил игумен Свято-Троицкого Мотронинского монастыря недалеко от Черкасс, куда собирался поступить иноком Зализняк). Лидеры движения выдавали по монете (якобы петербургской чеканки, на самом деле добытой в результате грабежей) за каждого убитого «врага православия», что дополнительно стимулировало убийства «неправославных», включая многочисленных старообрядцев. Даже генерал-губернатор Малороссии граф Румянцев поначалу допускал, что повстанцы могли располагать некой подлинной грамотой императрицы. Ситуация усугублялась тем, что повстанцы действовали в непосредственной близости от границы с Крымским ханством, где по договору с Османской державой Россия не имела права развертывать войска. Таким образом, колиивщина брала на себя борьбу с Барской конфедерацией там, где не могли действовать войска Российской империи (на деле уничтожая преимущественно мирное население, не имевшее никакого отношения к конфедератам), демонстрируя на примитивном и прямо варварском уровне определенную гражданскую и политическую позицию.
Российское правительство поспешило направить войска для подавления колиивщины, защищая население Речи Посполитой в соответствии с принятыми на себя обязательствами гаранта стабильности — но было уже поздно. Повстанцы спровоцировали в конце июня пограничный конфликт в местечке Балта (в современной Одесской области). Хотя российская сторона пыталась оправдаться за инцидент и публично наказала виновников нападения в присутствии представителей Османской империи, султан Мустафа III воспользовался этим поводом для объявления войны в начале октября 1768 г. Таким образом, всего за один год успешные усилия Екатерины II по насаждению желаемого порядка в Речи Посполитой привели к полной дестабилизации этой страны и ввергли Российскую империю в большую и затяжную войну, завершившуюся только летом 1774 г.
В принципе, Османская держава традиционно рассматривалась российской дипломатией как основной стратегический противник, но воевать с ней в обозримом будущем никто не собирался, а тем более в одиночку. Вероятно, несмотря на плотные дипломатические контакты, в Санкт-Петербурге не вполне отдавали себе отчет, до какой степени одностороннее усиление России за счет установления контроля над Речью Посполитой раздражало соседние страны и вызывало их беспокойство. Напрямую к войне с Россией подталкивала османского султана Франция, но и Австрия, и Пруссия опасались чрезмерного усиления России и ожидали ее ослабления в результате войны с Османской империей. Неожиданно успешные действия российской армии и флота на разных фронтах постепенно превращали озабоченность соседей (включая недавних союзников России) в отчетливую враждебность. Впрочем, поначалу никто не ожидал от России больших успехов.
Османская империя являлась великой державой, в том числе великой европейской державой, чей потенциал многократно превышал человеческие и экономические ресурсы Российской империи. Численность османских вооруженных сил, действовавших против российских войск, была в несколько раз выше. Черное море было практически полностью включено внутрь контролируемой Османской державой территории, отделенной от Российской империи полосой безводных степей. Традиционная тактика наступления к морю или Дунаю, без поддержки «второго фронта» союзников на Балканах, обещала России повторение прежних малоудачных походов, лишь тревожащих дальнюю периферию Османской державы. Однако правительство Екатерины II продемонстрировало новый — поистине «имперский» — уровень стратегического мышления. Подобно тому, как Екатерина II впервые подошла осознанно и рационально к задаче построения империи внутри страны (после десятилетий стихийных экспромтов ее предшественников), также и в ходе «русско-турецкой» войны 1768 г. была впервые сознательно сформулирована программа российского империализма (пришедшая на место стихийной внешней экспансии и абстрактных дипломатических игр). Практически одновременно с началом боевых действий на суше по всему Северному Причерноморью (от Азова на востоке до Хотина в Бессарабии на западе), в Средиземное море была отправлена эскадра боевых кораблей Балтийского флота. Выйдя в июле 1769 г. из Кронштадта, обогнув Европу, эскадра прибыла в Эгейское море, оказавшись в непосредственной близости от центра Османской империи, угрожая ее внутренним коммуникациям. Захватив турецкую крепость в удобной Наваринской бухте на Пелопоннесе, российская эскадра сделала ее базой для операций по всему Эгейскому морю, вплоть до Дарданелл. В дальнейшем база была перенесена в бухту Ауза (Naousa) на острове Парос в 200 км к юго-востоку от Афин. Одновременно велась агитация на Балканах и среди греческого населения, провоцируя восстания христиан против Османской империи.
Российский флот пользовался поддержкой местного населения и выступал в качестве представителя имперской власти, приняв в российское подданство 27 островов Эгейского Архипелага. Основанная в Аузе крепость превратилась в столицу «российского архипелага»: были построено Адмиралтейство и верфь для ремонта и строительства кораблей, административные здания и дома офицеров, проведен водопровод. На соседнем острове Наксосе была открыта школа. Всего в 1769−1773 гг. в Эгейское море были отправлены из Кронштадта пять эскадр, включавших более 40 кораблей и 12200 человек (вместе с десантом). Столь значительное и продолжительное присутствие российского флота, блокировавшего пролив Дарданеллы и в серии сражений фактически уничтожившего основные военно-морские силы Османской империи в Средиземном море, превратило периферийный конфликт за влияние в Приднестровье и южных (малопольских) воеводствах Речи Посполитой в смертельное противостояние двух империй. При этом в условиях войны на два фронта Османская империя оказывалась в куда более уязвимом положении.
Проведя несколько победоносных кампаний в Северном Причерноморье, российские сухопутные войска под командованием Петра Румянцева одержали ряд важных побед на территории современной Северной Болгарии. 21 июля 1774 г. был подписан Кючук-Кайнарджийский мирный договор (в болгарском селе Кайнарджа), который признавал все Северное Причерноморье, включая Крым, зоной влияния Российской империи (Крым разрывал вассальные отношения с Османской державой и номинально считался российским протекторатом). Россия получила право иметь флот на Черном море и право прохода через проливы Босфор и Дарданеллы в Средиземное море. Российская империя признавалась покровителем христиан в Дунайских княжествах под властью Османской империи (Валахии и Молдавии, в будущем объединенных в Королевство Румыния). Кроме того, Османская империя обязывалась выплатить контрибуцию в 4.5 миллиона рублей.
Другим результатом этой внезапной и неожиданно триумфальной войны стала разработка в начале 1780-х гг. стратегического плана перекраивания существующего геополитического порядка. Известный как «греческий проект», этот план, разработанный Екатериной II и ее ближайшим окружением и представленный на рассмотрение императору Священной Римской империи Иосифу II, касался наследия Османской империи после ее падения. Во время войны 1768−1774 гг. Вольтер в переписке с Екатериной настаивал на необходимости присоединения европейских владений Османской державы к России и переносе столицы империи в Константинополь. Однако «греческий проект» Екатерины не предусматривал изменения границ самой Российской империи. Вместо этого на севере Балкан предполагалось создание буферного независимого государства между Россией и Австрией (примерно в границах будущей Румынии), с передачей Австрии территорий на западе Балкан. Основную же часть Османской империи планировалось превратить в возрожденную Византийскую империю, правитель которой должен был официально отказаться от притязаний на российский престол. Основой стратегической близости новой Византии должно было стать православие, а также родственные чувства правителей: Екатерина II настояла, чтобы ее внуки получили имена Александра (р. 1777 г., будущий император Александр I) и Константина (р. 1779). Александру (названному в честь Александра Невского и Александра Македонского) предстояло править Российской империей, Константину (названному в честь римского императора Константина, основателя Константинополя) — Византией. Екатерина II писала о Константине:
Меня спрашивали, кто будет крестным отцом. Я отвечала: только мой лучший друг Абдул-Гамид [султан Абдул-Хамид I, правивший в 1774−1789 гг.] мог бы быть восприемником, но так как не подобает турку крестить христианина, по крайней мере, окажем ему честь, назвав младенца Константином.
«Греческий проект» казался планом не более фантастическим, чем реальность появления и господства российского флота в Средиземном море: не очень качественно построенные суда под управлением офицеров, чей опыт обычно ограничивался водами Восточной Балтики, совершили переход порядка 12 тысяч километров и в течение нескольких лет вели активные боевые действия против превосходящих сил опытного и умелого противника. Скорее, утопичной была сама имперская внешняя политика, цена которой оказалась огромной, а результат — противоречивым. Как выяснилось, разгром врага во время войны не является единственным залогом победы. Сегодня трудно определенно установить стоимость войны 1768−1774 гг. для казны Российской империи. Известно, что основные расходы только на «архипелагскую экспедицию» составили не менее шести миллионов рублей — так что считавшаяся огромной контрибуция в 4.5 миллиона, полученная с Османской империи, компенсировала лишь часть этих расходов. Также не существует точной статистики человеческих потерь, но известно, что из архипелагской экспедиции не вернулись более трети участников (4516 человек из 12200). Внешние займы во время войны привели к появлению — впервые — суверенного государственного долга Российской империи. Окончательные расчеты по займам начала 1770-х гг. была завершены лишь более чем через сто лет.
Еще более дорогой платой за победу в войне с Османской империей стала уступка союзникам России, которые на фоне ее военных успехов занимали все более враждебную позицию. От поддержки Барской конфедерации, отвлекавшей значительные силы Российской империи, Австрия грозилась перейти к прямой поддержке Османской империи. В этой ситуации прусский король в начале 1772 г. сделал предложение, от которого Екатерина II не смогла отказаться: санкционировать уступку Пруссии северных воеводств Речи Посполитой, разделявших Восточную Пруссию и основную территорию королевства. За это «по справедливости» другая заинтересованная соседняя страна, Австрия, должна была получить земли на юго-западе Речи Посполитой (включая Галицию), а Россия могла компенсировать себя Ливонией и Восточной Беларусью (см. карту). Российская сторона в разгар напряженной войны подписала соглашение о разделе в феврале 1772 г., и в августе армии подписавших соглашение стран оккупировали полагающиеся им территории. Пруссия получила 36.000 км2 с населением почти 600 тысяч человек и контроль над сообщением Речи Посполитой с Балтийским морем; Австрия — 83.000 км2 с населением в 2.6 миллиона; Россия — 92.000 км2 и 1.3 миллиона человек. Всего Речь Посполитая потеряла треть своей территории и почти половину населения. Это был тактический успех: Австрия немедленно прекратила поддержку конфедератов и угроза враждебных действий против России исчезла. Но то, что вся российская политика в отношении Речи Посполитой, следовавшая рекомендациям Монтескье, потерпела крах, было понятно сразу. Григорий Орлов, фаворит Екатерины II и ее соратник, открыто заявлял с досадой, что авторы проекта раздела Речи Посполитой заслуживают смертной казни.
Однако никакой корректировки внешней политики не было сделано — в отличие от внутренней.
Непривычно тяжелые условия мирного договора, подписанного Османской державой в 1774 г., вызывали недовольство в стране. В то же время, промежуточный статус Крыма как протектората Российской империи создавал нестабильную ситуацию. Когда Россия, в соответствии с договором, выводила войска с полуострова, там немедленно вспыхивали мятежи и происходили попытки свержения лояльного России хана. Ввод войск и восстановление прежней администрации вызывали недовольство в Стамбуле. В итоге, в 1783 г. Екатерина II приняла решение разрубить этот «Гордиев узел» и присоединить Крым и Тамань к Российской империи — в нарушение договора 1775 г. Османские власти, казалось, смирились с этой аннексией. Но когда в 1787 г. Екатерина II организовала пышную поездку в Крым (переименованный на греческий лад в Тавриду) в сопровождении иностранных дипломатов и даже императора Священной Римской империи Иосифа II — в качестве демонстрации первого этапа реализации «греческого проекта» — чаша терпения Османской державы переполнилась. Без достаточной подготовки в августе 1787 г. была начата война против России. На этот раз она проходила в более благоприятных для России условиях: Австрия выступила союзником в войне, на Черном море действовал российский флот, войска с самого начала были сосредоточены в непосредственной близости от театра военных действий (в Причерноморье и Приднестровье), и им не требовалось сначала преодолевать сухую степь для того, чтобы сразу затем вступить в бой с противником. Тем не менее, война затянулась до самого конца 1791 г. Подписанный 29 декабря 1791 г. Ясский мирный договор окончательно закрепил Крым и Тамань за Россией, передвинул границу дальше на запад к Днестру, а также наложил на Османскую державу огромную контрибуцию в 7 млн. рублей. После того, как в договоре была зафиксирована эта сумма, российская сторона официально отказалась от ее получения: очевидно, Екатерина II учла урок Кючук-Кайнарджийского договора и решила смягчить тяжесть условий мира — чтобы сделать его более прочным. Таким образом, неожиданная и нежелательная война с Османской империей 1768 г. окончательно завершилась спустя почти четверть века, породив последовательно проводившуюся внешнеполитическую программу и сформировав глобальный геополитический замысел. Ценой этого импровизированного «триумфа империализма» стало поражение продуманной политики в отношении Речи Посполитой: вторая война с Османской империей привела к окончательному краху политику сохранения польско-литовского содружества как зависимого от России буферного государства.
Продолжение прежнего курса в Речи Посполитой в изменившихся условиях (шок от раздела страны, экономические трудности из-за фактической потери выхода к Балтике) превратило изначально «легитимистскую» политику Петербурга (то есть отстаивающую формальную сторону основ законности нынешней власти, пусть даже потерявшую уже актуальность) в реакционную (то есть препятствующую обновлению и приспосабливанию к требованиям времени). За два десятилетия после раздела страны 1772 г. в Речи Посполитой сформировалась влиятельная партия сторонников модернизации. Им удалось добиться реформы управления, заложив основы современной государственности (включая постоянное правительство и систему налогообложения, а также регулярную армию). Было реформировано школьное дело. В ходе широкой общественной полемики были выработаны принципы нового устройства страны, воплощенные в Конституции, принятой 3 мая 1791 г. — первой конституции в Европе (и второй в мире, после Американской конституции 1776 г.). Речь Посполитая получала реальный шанс преодолеть архаичность своей социально-политической системы — что не устраивало соседей (прежде всего, Россию), заинтересованных в ослаблении страны.
Созванный в 1788 г. сейм, в котором все большим влиянием начинали пользоваться сторонники реформ, разорвал в начале 1789 г. отношения протектората с Российской империей и, чтобы защитить страну от возможного российского вторжения, заключил тайный договор с Пруссией, пообещав новые территориальные уступки. Несмотря на то, что принятая этим сеймом Конституция 1791 г. закрепляла принцип наследственной (вместо традиционно выборной) монархии, для Екатерины II она оказалась куда большим раздражителем, чем отказ сейма от Российского протектората: конституционные реформы теперь для нее ассоциировались с радикализирующейся на глазах Французской революцией 1789 г. Россия поддержала Торговицкую конфедерацию, созванную несколькими крупными магнатами Речи Посполитой, желавшими возвращения прежних привилегий, а в мае 1792 г. ввела свои войска на территорию страны. Армия сейма была разбита российскими войсками, Пруссия отказалась выполнять свои обязательства по отношению к новому конституционному правительству, не отказываясь от претензий на обещанные территории, и в январе 1793 г. договорилась с Россией о втором разделе Речи Посполитой. Россия присоединила себе Подолье, Волынь и большую часть беларуских земель, Пруссия — территории на западе страны, включая Мазовию и Великую Польшу. Территория Речи Посполитой сократилась примерно до одной трети от первоначального размера.
В 1794 г. восстание под руководством провозглашенного «диктатором республики» Тадеуша Костюшко, участника войны за независимость в Америке, было сокрушено российскими войсками. В октябре 1795 г. состоялся третий раздел оставшихся земель Речи Посполитой между Россией, Пруссией и Австрийским королевством, в результате которого некогда великая «пороховая империя» навсегда исчезла с карты Европы (см. карту).
7.18. Единое имперское пространство как главный вызов имперской власти
Таким образом, иллюзия неограниченного контроля над Речью Посполитой привела к политическому кризису, спровоцировавшему большую войну с Османской империей, ценой успеха в которой стала потеря прежнего исключительного влияния в Речи Посполитой и крах попыток сохранить ее буквально в неизменном виде. Аннексия самых бедных беларуских земель Речи Посполитой в 1772 г. не компенсировала это стратегическое поражение, лишь создавая новые проблемы имперской власти (например, необходимость выработать политику по отношению к многотысячному еврейскому населению на присоединенных землях). Сама ставка Екатерины II в 1760-х гг. на благотворность исторического «естественного состояния», которое лишь требуется верно выразить и закрепить законодательно (наиболее наглядно проявившаяся в проекте Уложенной Комиссии), оказалась не просто ошибочной, но разрушительной. Единое имперское пространство уже являлось социальной реальностью — сложной «открытой системой», в которой невозможно было провести однозначные границы (чье именно «естественное состояние» предполагалось гарантировать?) и учесть все влияющие на него факторы. Точнее, эта новая реальность не позволяла существовавшим в ней людям устраивать свою жизнь по-своему и не давала легальной возможности приспособиться к ней. Признаваемое «естественным» (то есть, само собой разумеющимся) состояние жителей внутренних территорий Российской империи не больше отвечало обстоятельствам времени, чем «исконная конституция» Речи Посполитой, которую пытались навязать ее жителям во второй половине XVIII века. Для того чтобы удерживать в равновесии и под контролем постоянно порождающую противоречия «имперскую ситуацию», необходимо было регулярно «переформатировать» социальное пространство империи в целях достижения оптимального баланса интересов и снятия остроты конфликтов.
Драматическим доказательством реальности этого единого имперского пространства и губительности его неорганизованного «естественного» состояния для власти, претендующей на то, чтобы «просто» контролировать ситуацию, стало восстание под предводительством Емельяна Пугачева (сентябрь 1773 — 1775 гг.). Восстание было поднято яицкими (уральскими) казаками, обитавшими по среднему и нижнему течению р. Урал, на юго-западе современной Оренбургской области и северо-западе Казахстана. Восстание вскоре охватило огромную территорию Приуралья, Нижней и Средней Волги и потребовало для подавления переброски войск с театра военных действий в Приднестровье. Не касаясь в этой главе подробного хода восстания, необходимо подчеркнуть участие в нем самых разнообразных групп населения, которым «полагалось» в их «естественном» состоянии сторониться друг друга и даже враждовать: казаков и калмыков, старообрядцев и мусульман, русских крестьян и кочевников-башкир, татар и марийцев. Восстание показало, что в реальности эти люди взаимодействуют и находят общий язык (как в прямом, так и в переносном смысле), чего никак не предполагали правители России. Это восстание очень напоминало колиивщину 1768 г.: современники (впрочем, как и позднейшие историки) воспринимали его как странный пережиток предыдущего столетия. Оно шокировало масштабами жестокости, когда вырезались целые социальные группы, семьями. Только, в отличие от колиивщины, вместо «евреев» и «поляков» уничтожались все «благородные» и «образованные», офицеры и чиновники. Как и в случае колиивщины, за архаической жестокостью скрывался откровенно «политический» характер восстания (что было нехарактерно для архаических бунтов). Если лидеры колиивщины уверяли сторонников в том, что действуют по велению «золотой грамоты» Екатерины II, то лидеры восстания 1774 г. объявляли своего предводителя — донского казака Емельяна Пугачева (1742−1775) — чудесно спасшимся императором Петром III, собирающимся наказать вероломную жену Екатерину II. При этом они не заблуждались насчет личности Пугачева, с самого начала заявив ему: «Хоша ты и донской казак, только-де мы уже за государя тебя признали, так тому-де и быть.» Внешне демонстрируя повиновение, казаки контролировали даже личную жизнь Пугачева, расправляясь со всеми, кто мог оказывать влияние на него (будь то любовница или офицеры, спасенные было им от смерти). Не находя никакой возможности для представления их реальных интересов и нужд в официальной социально-политической системе, недовольные подданные империи попытались сформировать свою альтернативную политическую систему — сформулированную на языке империи.
Личность Пугачева была столь же случайна на месте предводителя восстания, сколь символична и характерна, воплощая в себе новый — имперский — социальный тип. Пугачев родился на Дону в православной семье — притом, что большинство донских казаков были старообрядцами. Он принимал участие в Семилетней войне. После того, как Станислав Август стал королем Речи Посполитой, Пугачева отправили с командой казаков искать и возвращать в Россию бежавших в Речь Посполитую старообрядцев. В 1770−1771 гг. Пугачев воевал в Приднестровье против Османской империи, отличился при взятии Бендер. Заболел, вернулся на Дон, но в отставку его не отпустили. Довольно случайно вступил в конфликт с властями — даже не из-за своих собственных интересов: решил помочь своему родственнику бежать со службы. После череды арестов и побегов его положение стало действительно угрожающим, и он предпринял удачную попытку «сменить биографию»: для этого надо было пробраться на территорию Речи Посполитой, а затем, выдав себя за старообрядца, возвращающегося по указу Екатерины II в Россию, получить на границе новый паспорт и проследовать к указанному месту поселения где-нибудь в Заволжье или Приуралье. Для этого ему пришлось преодолеть свыше полутора тысяч километров только в одну сторону, используя свой опыт конвоирования старообрядцев. По крайней мере с этого момента Пугачев начинает изобретать свою «социальную персону»: он выдает себя за старообрядца и сочиняет историю о спрятанных им сокровищах — чтобы стимулировать украинских старообрядцев помочь ему перейти границу. Получив новый паспорт и прибыв к месту поселения в Заволжье, за тысячу с лишним километров и от границы, и от места его рождения, он начал подговаривать тамошних старообрядцев бежать на Кубань,
к турецкому султану, обещая по 12 рублей жалованья на человека, объявляя, что у него на границе оставлено до 200 тысяч рублей да товару на 70 тысяч, а по приходе их паша-де даст им до 5 миллионов.
Его арестовали и доставили в Казань, где казанский губернатор признал его обычным «вралем» и велел на время следствия снять с него кандалы. Вновь выдав себя за набожного старообрядца, Пугачев бежал из тюрьмы в июне 1773 г. при поддержке местной старообрядческой общины, а уже спустя несколько месяцев был признан вожаком казацкого восстания в качестве «Петра III». То есть Емельян Пугачев — не просто человек, выпавший из традиционной социальной структуры (казачьей службы) и сочинивший себе новую биографию («враль»), но и лично пересекший несколько раз европейскую часть Российской империи в нескольких направлениях и вступавший во взаимодействие со множеством людей из разных краев и социальных групп. Не существовало никакой определенной, «естественной» и «исконной» социальной ниши, которую человек вроде Пугачева мог бы занять, и чьи коллективные интересы — позови его Екатерина II в Уложенную Комиссию — он мог бы там отстаивать.
Поэтому масштабные реформы Екатерины II, начатые в середине 1770-х, являлись не только доктринерским экспериментированием с идеями просветителей и не просто ответом на восстание Пугачева (как губернская реформа могла напрямую предотвратить повторение бунта?), а принципиально новым подходом к созданию современного «правомерного государства» — именно как имперского государства. Сложившееся у современников (и разделяемое большинством историков) представление о правлении Екатерины II как «золотом веке» империи, которая не знала поражений и процветала, связано с самим фактом сознательного конструирования империи Екатериной. Ее усилия просто не с чем сравнить, так как никто из ее предшественников (включая Петра I) не имел определенного и столь же разработанного видения социального и политического устройства России как сложносоставного и мультикультурного общества. В тех случаях, когда «социальная инженерия» Екатерины II оказывалась удачной и позволяла эффективно организовать («мобилизовать») те или иные социальные группы, результат казался поразительным — будь то исключительно плодотворная кадровая политика, давшая российской армии блестящих полководцев, или интеграция локальных элит в общеимперский правящий политический класс дворянства. Пустое прожектерство, просчеты, неоправданная растрата человеческих и материальных ресурсов не могли скомпрометировать эти удачи, потому что воспринимались как «норма» любого правления. Достижением Екатерины II были не отдельные реформы или завоевания, а создание самой институциональной (и концептуальной) «имперской рамки», которая на многие десятилетия предопределила политическую логику ее преемников.
Устойчивость и «естественность» этой рамки проявилась после смерти Екатерины II (1796), во время неполного пятилетнего правления ее сына, императора Павла I (1754−1801). Существовавшее с самого начала отчуждение между Екатериной и Павлом перешло со временем в острую неприязнь. Екатерина лелеяла планы сделать наследником любимого внука Александра в обход сына, а Павел, вступив на трон, последовательно старался стереть саму память о почти 35-летнем правлении матери: сносились целые дворцовые комплексы, подвергались опале екатерининские сановники, отменялись ее решения. Несмотря на одержимость духом противоречия наследию матери, на практике Павел I действовал в рамках имперской парадигмы (господствующего образца мышления), заданной Екатериной.
Так, Павел заслужил репутацию «притеснителя» дворянства, нарушавшего «вольности», дарованные Екатериной. Действительно, он запретил выходить в отставку офицерам, не прослужившим и года; отстранил от выборов в местные органы дворян, уволенных со службы за проступки; в 1799 г. заставил дворян платить фактически «подушную подать» (налог) в размере 20 рублей (в то время как крестьяне платили около рубля); в несколько этапов ограничил права органов дворянского сословного представительства и самоуправления. Сам Павел был чужд идеалам Просвещения и стремился воплотить в жизнь свой «неоготический» идеал дворянства как рыцарского сословия самоотверженного служения. Однако это служение понималось им уже всецело в рамках современного государства. Поэтому его ограничительные меры парадоксальным образом только усиливали эффект социальной инженерии Екатерины II, направленной на формирование правомерного государства и класса его полноправных граждан (и «купировали» архаические пережитки сословных привилегий, которыми обставлялось это гражданство). В отличие от допетровских времен, необходимость служить теперь оправдывала не владение собственностью (землей и крестьянами), а статус полноправного «гражданина». Как и введенная Павлом (и отмененная после его смерти) «подушная подать» с дворян, служба становилась элементом отдания гражданского долга государству. Другое дело, что, разрушая архаические сословные органы дворянства, Павел не собирался предоставить дворянам взамен более современные формы гражданского представительства (в дополнение к гражданским обязанностям) — и был убит в результате дворянского заговора 1 марта 1801 г., оставив своим преемникам решать эту задачу.
Так же вполне созвучны идеям Екатерины II были шаги, предпринятые Павлом в отношении крепостных крестьян: законодательная регламентация максимальной продолжительности работы на помещика, запрет продажи крестьян без земли или разлучения членов семьи при продаже, преследование жестокого обращения с крестьянами. Екатерина II, строившая планы отмены крепостного права, в соответствии со своей правовой доктриной считала невозможным вмешательство государства в сферу частных отношений дворян с крепостными. Павел не просто представлял более «интервенционистское» направление в политической теории (допускающее вмешательство законодателя в частную сферу), он сделал шаг к признанию крепостных крестьян (а не только государственных, как Екатерина II) субъектами государства.
Наконец, Павел продолжил политику имперской веротерпимости, нормализовав положение старообрядцев (в частности, впервые разрешив им строительство храмов).
***
Таким образом, к концу XVIII века параллельные и взаимосвязанные процессы построения современного государства и формирования империи, как механизма адаптации унифицированного политического аппарата к разнообразию местных условий, прошли несколько этапов. Бывшая «пороховая империя» Московского царства, вместе с украинскими землями и под их формирующим влиянием (как периферии соперничающей «пороховой империи» — Речи Посполитой), оказалась вовлечена в процесс насаждения «регулярного» камералистского государства. Этот стихийный процесс был осмыслен как сознательная и целенаправленная политика Петром I, которому проблема империи казалась главным образом вопросом убедительного «перевода» традиционного царского титула на язык современной европейской политической культуры. Лишь спустя несколько десятилетий, к середине XVIII века, в царствование Елизаветы Петровны на смену стихийному «империостроительству» приходит осознание необходимости выработать продуманную имперскую политику. Необходимость такой политики становится очевидной по мере успехов в построении «регулярного» государства, которое сталкивается с принципиальной «нерегулярностью» многокультурного и многоконфессионального общества под властью императора.
Екатерина II приняла на себя миссию рационального конструирования Российской империи на основе новейшей политической теории западноевропейского Просвещения, первоначально ограничивая при этом сферу рациональной «имперской инженерии» исключительно внутренней политикой. Ее первоначальная ставка на грамотное законодательное оформление некоего изначального «естественного» состояния доказала свою ошибочность — как во внутренней политике (Уложенная Комиссия), так и в политике в отношении Речи Посполитой. Ошибка стоила дорого, приведя к Пугачевскому восстанию внутри страны, к кризису в Речи Посполитой и к войне с Османской державой. Учась на своих ошибках, правительство Екатерины II приходит к активной социальной инженерии внутри страны и выработке подлинно «империалистической» внешней политики (то есть в корне перекраивающей политическую карту). Блестящие результаты (будь то губернская реформа или завоевание Причерноморья и Крыма) не компенсировали тяжелых неудач (неспособности решить крестьянский вопрос или во многом вынужденного уничтожения Речи Посполитой), а создавали вместе некую новую — еще более усложненную — реальность. Как доказало правление главного политического противника Екатерины II — ее сына Павла I, — модель модернизирующей империи и современного государства окончательно укоренилась в России, и никакие идейные разногласия в правящем классе не могли принципиально изменить ее.
Однако сам успех «империостроительства» Екатерины II породил главную проблему для окончательно сформированной ею социально-политической системы. К концу ее царствования фактически вся территория Северной Евразии оказалась включенной в общие политические границы. Колоссальное разнообразие локальных культур и традиций, составлявшее структурную имперскую ситуацию этого обширного региона, стало отличительной чертой поглотившей его Российской империи. Можно сказать, что растянувшийся на два тысячелетия процесс самоорганизации Северной Евразии на этом этапе действовал в формате Российской империи. Имперская ситуация формально объединилась с конкретной империей как политико-культурной организацией разнообразия. Результатом этого объединения стала принципиальная внутренняя неодномерность, непредсказуемость и неоднозначность Российской империи и любой имперской политики.
В империи кажется, что все под контролем верховной власти — «imperium». На самом деле, важнейшим фактором принятия решений и даже придания смысла явлениям и структурам оказывается имперская ситуация. Процесс политического объединения и подчинения Северной Евразии не оставил совершенно независимых групп, способных целиком выражать свою волю — но их совокупность в общей политической системе создала ситуацию «непредсказуемых последствий», которая не позволяла навязывать свою волю в одностороннем порядке даже императору. Имперская ситуация становится главным «историческим субъектом», чья «коллективная воля» оказывает определяющее влияние на ход истории. Любое универсальное решение преломляется в логике «имперской ситуации», нередко приводя к прямо противоположным последствиям. Желание сохранить Речь Посполитую в ее изначальном «естественном» состоянии парадоксальным образом приводит к разделу и уничтожению этого некогда великого государства. Екатерина II считала необходимым отменить закрепощение крестьян — однако логика имперской ситуации привела к распространению крепостного права на землях Малороссии, которые прежде не знали его.
Империя как форма политической организации и имперская ситуация — разные понятия, представляющие разные уровни теоретической абстракции. Сознательное «империостроительство» Екатерины II и поглощение Российской империей всех локальных культур и соперничающих «пороховых империй» Северной Евразии окончательно объединили эти две категории в истории региона. Распространение авторитарной власти императора не смогло подавить местные очаги самоорганизации и структурные условия, питавшие эти очаги. Парадоксальным образом, «имперская ситуация» как главный двигатель самоорганизации региона оказалась структурирована политической организацией исторической Российской империи.
Глава 8. Дилемма стабильности и прогресса: империя и реформы, XIX век
Часть 1. Современная империя в поисках нации
8.1. Новая историческая ситуация
К концу XVIII в. Северная Евразия вступила в принципиально новый этап в своей истории. Современное (камералистское, «регулярное») государство распространило свое влияние на всю Российскую империю, которая, в свою очередь, охватила почти всю территорию региона. Как мы видели в предыдущих главах, это пространство не очерчивалось некими самоочевидными ландшафтными границами или предысторией единой политической организации. Даже Монгольская держава на пике ее могущества распространялась на территории, лишь отчасти совпадающие с будущей Российской империей: установив контроль над степным коридором Дешт-и-Кыпчак, монгольские правители стремились расширить свое влияние на юг, на богатые древние культуры, а не на северные лесистые зоны. Северная Евразия представляла собой единство лишь теоретически, как пространство соревнующихся сценариев социально-политической самоорганизации, лишь в малой степени обусловленной инерцией «исторического наследия» некой государственности прошлого. Включение большей части Северной Евразии в единую политическую организацию Российской империи само по себе никак не отменяло этого многогранного разнообразия (см. карту). Скорее наоборот, успех Российской империи объяснялся тем, что на определенном историческом отрезке она предложила некую форму координации этого разнообразия ценой сравнительно умеренного уровня насилия (и определенных льгот для наиболее активных и влиятельных групп местного населения). Таким образом сложилась система неустойчивого равновесия: многоуровневое разнообразие разных земель Северной Евразии («имперская ситуация») оказалось включенным в реальную империю, которая пыталась координировать локальные интересы и противоречия при помощи института современного («регулярного») государства — по определению нацеленного на однообразную и закономерную организацию общества.
Эта очень общая схема не отражает некий «объективный исторический процесс», да и сами исторические деятели эпохи размышляли в другой логике и в иных категориях. При этом важно понимать, что формула «империя пытается урегулировать разнообразие имперской ситуации при помощи института государства» является лишь нашей сегодняшней попыткой наиболее экономно описать наблюдаемую в прошлом динамику с помощью современных категорий, основанных на современных представлениях. То, что мы сегодня подразумеваем под «государством», является ничуть не более «само собой разумеющимся» понятием, чем «имперская ситуация»: для осмысленного применения обоих терминов необходимо знакомство с более или менее обширной социологической и исторической литературой, включающей разные трактовки, по поводу которых не утихают споры. Эта (или любая другая) формула важна не сама по себе, а в связи с определенными вопросами, которые мы задаем по поводу прошлого. Другой набор вопросов делает актуальнее иные теории, понятия, периодизацию истории, выделение главных и второстепенных событий и персонажей.
Так, мы начали эту работу с вопроса о том, что заставляет нас воспринимать огромный регион Северной Евразии как некое целое — и предположили, что его изначальной отличительной чертой — для сегодняшних наблюдателей — была именно неоформленность как в восприятии обитателей, так и на ментальных картах великих письменных культур, граничащих с ним. Однако к концу XVIII в. мы обнаруживаем, что это бывшее «белое пятно» оказалось полностью освоено как международной культурной средой (знающей теперь про Сибирь и Волгу, Украину и Крым), так и общей политической организацией. Произошло это оформление посредством Российской империи, которая предоставила общую рамку для описания разнородного пространства Северной Евразии как целого, изнутри и извне, на ее условиях. То, что некогда Российская империя осуществила этот синтез, позволяет нам сегодня помыслить Северную Евразию как целое — но не только это. Российская империя лишь вывела на новый уровень процессы самоорганизации, протекавшие в регионе. Чередующиеся на протяжении столетий состояния конфликта и синтеза приводили к постепенной интеграции земель от Дальнего Востока до Буга, при этом многочисленные местные различия не стирались, а лишь упорядочивались по тем или иным правилам. Так как не существовало одинаково авторитетного для всех идеального сценария общественного устройства (в отличие от обществ, возникавших на основе римской, персидской или китайской политической традиции), интеграция происходила путем усложнения социальной организации, поиска «общего знаменателя» в системе, одинаково новой для всех. «Ничейная» Северная Евразия к XVII в. наконец-то упорядочила сама себя, когда несколько региональных держав — «пороховых империй» — без остатка поделили между собой сферы влияния на всех ее «неисторических» землях, спустя почти тысячу лет после начала процесса «окняжения». Несмотря на регулярные конфликты и соперничество, сложившийся порядок, в принципе, устраивал всех — поскольку нет свидетельств того, что с XVII до конца XVIII вв. какая-то из сторон пыталась полностью уничтожить или поработить другую (будь то период Смуты в Московском царстве или Потопа в Речи Посполитой). Каждая из пороховых империй региона расширялась и усиливалась тогда и ровно настолько, когда и насколько ослабевал сосед, заполняя возникающий политический вакуум — вполне в логике процессов самоорганизации. То есть упорядоченность Северной Евразии — как в смысле устойчивой политической системы региональных держав, так и на уровне ментальной географии — была достигнута задолго до возникновения Российской империи. И эта упорядоченность не отменяла внутреннюю пестроту сосуществующих конфессий, языков, земель и т.п. С точки зрения современного наблюдателя, успех социально-политической самоорганизации и самоструктурирования региона лишь усиливал «имперскую ситуацию» многомерного разнообразия.
Неустойчивое равновесие нескольких региональных держав нарушилось после успеха «камералистской революции» в России и неуспеха в Польше-Литве и в Крыму. Нельзя сказать, что правители России противились расширению за счет соседей, но стабильность их явно устраивала больше. Очевидно, что при последовательной «империалистской» воле можно было присоединить герцогство Курляндское еще в 1730-х гг., а не ждать 1795 г. и третьего раздела Речи Посполитой; что Крым можно было аннексировать не в 1783 г., а почти полувеком раньше; да и по отношению к Речи Посполитой можно было проводить куда более активную политику. С другой стороны, надо признать, что аннексия соседних пороховых империй далась сравнительно легко в сугубо военном отношении: по крайней мере, для этого потребовалась армия, численность которой не превышала нескольких процентов от общего населения экспансионистского государства, а вовсе не целый «вооруженный народ», как в эпоху монгольского завоевания региона. Не опровергая преимущественно насильственный характер действий России по присоединению Крыма или территорий Речи Посполитой, перечисленные обстоятельства указывают на то, что создание Российской империи не сводилось только к захватническому «империализму». Не просто «покорение», а интеграция в империю как соседних, так и внутренних земель (к примеру, населенных мусульманами Поволжья и Приуралья) означала готовность имперских властей выступить перед ними в роли посредника в связях с «большим миром». Вполне отчетливое осознание обязательства перед инкорпорированными группами населения в риторике правителей второй половины XVIII в. ошибочно принимают за программу «цивилизационной миссии» империи, но не следует заблуждаться: никакой «высшей культурой» имперская власть не обладала, тем более что ни для мусульман, ни для католиков официально православная власть Санкт-Петербурга и не могла воплощать культурный идеал. Однако, признав себя частью империи, получившие статус «граждан» местные привилегированные слои из разных уголков Северной Евразии оказывались на равных с элитой старых письменных культур. Они теперь представляли не экзотические окраины «цивилизованного мира», а включенную в общее культурное пространство великую державу с регулярным государством. То есть Российская империя выступала в качестве средства окончательной «коллективной глобализации» прежде полуизолированных локальных сообществ Северной Евразии, включения их в культуру «современности», понимаемой как «европейскость».
Таким образом, структурная «имперская ситуация» региона, постоянно перерабатывавшая различия и неравенство при помощи механизмов самоорганизации, получила институциональное воплощение в форме модерной империи. Эта империя опиралась не столько на военную силу, универсалистскую культуру или единое экономическое пространство, сколько на механизм современного государства. Точнее, опираясь на все вышеперечисленные «традиционно имперские» факторы, она организовывалась и управлялась при помощи государства как обезличенного социального механизма служения «общему благу». Не исключено, что нагрузка имперского камералистского государства на население была на несколько порядков меньше, чем вероятная «цена» государства такого же уровня сложности, созданного каждой из бывших «пороховых империй» по отдельности. (Эта гипотеза вытекает из общих социологических моделей функционирования сложных систем и помогает объяснить сравнительно низкий уровень сопротивления имперской экспансии, однако не существует пока исторических исследований, подтверждающих или опровергающих ее.)
Всякая империя воспринимает себя как «тысячелетнюю»; всякое государство стремится к поддержанию неизменного порядка вещей. Однако в структурной «имперской ситуации» многогранности различий, унаследованных Российской империей от поглощенных ею земель Северной Евразии, поддержание стабильности требовало постоянных маневров со стороны государства. Сама устойчивость власти зависела от решения двух задач, подчас противоречащих друг другу: служить механизмом «глобализации», обеспечивая признание местных элит за пределами региона, и примирять внутренние противоречия и различия. Государство вынуждено было заменить собой стихийные процессы самоорганизации, постоянно создавая новые, более сложные социально-правовые рамки, позволяющие на новом уровне сглаживать различия и противоречия между регионами, культурами и сословиями такими способами, которые поддерживали его высокую международную репутацию. Другими словами — постоянно проводить реформы (лат. reformo − изменять).
В Российской империи реформизм стал государственной политикой и основным обоснованием ее легитимности начиная с правления Петра I, когда казалось, что можно обойтись стилистическими исправлениями. Собственно, империя и была провозглашена как исправленная и рационализированная форма старого Московского царства. Сменявшие друг друга на престоле в XVIII веке наследники Петра, в особенности Екатерина II, объявляли себя продолжателями «дела Петра» и проводниками его курса. Так как опорой империи являлось государство, то высшей целью постоянного переоформления (реформирования) империи провозглашалось «общее благо» — однако чем дальше, тем труднее было определенно сформулировать, в чем именно заключается это благо. Сам идеал камералистского государства и современной рациональной империи, стихийно заимствованный Петром I в качестве образца, был укоренен в определенном культурном контексте, идейной традиции и даже материальной культуре. Для краткости и простоты этот идеал Российской империи стали называть «европейскостью», и еще в 1836 г. один из самых глубоких мыслителей этой эпохи, А. С. Пушкин, писал: «Надо бы прибавить (не в качестве уступки, но как правду), что правительство все еще единственный европеец в России…» Однако, при всей своей емкости и кажущейся конкретности, идея «европейскости» не прибавляла ясности программе достижения «общего блага».
Двусмысленность идеи «Европы» как особой «цивилизации» (пришедшей на смену прежнему понятию «христианский мир») привела к важной подмене в XVIII в. Идеалы и ценности, выработанные мыслителями эпохи контрреформации и английской революции, создателями светских систем морали, политических и экономических теорий, начали идентифицироваться не просто с особой культурой, а с определенной территорией и ее населением. Многогранная и внутренне противоречивая традиция рационального мышления, которую с середины XVIII века вслед за французскими авторами начали называть «Просвещением», была воспринята как отличительная черта «Европы». Эта «просвещенная Европа» противопоставлялась «отсталой Азии», как прежде христианский (точнее — католический) мир противопоставлялся миру ислама. Развитие светской культуры и раскол в католицизме заставили переосмыслить привычное с раннего средневековья религиозное противостояние как конфликт современности и отсталости. Замена «католицизма» на «европейскость» законсервировала старую идею непримиримого цивилизационного конфликта «высшей» и «низшей» культуры и одновременно еще больше запутала принципы разграничения. Прежде все жители королевства или халифата были христианами или мусульманами, и потому политические границы довольно точно совпадали с географическими границами и границами культуры. Но разве все подданные французского королевства были носителями культуры просвещения в XVIII веке? Почему космополитическая образованная элита Османской империи была менее «просвещенной» (а значит, «европейской»), чем немецкие крестьяне или даже парижские ремесленники?
С одной стороны, идея «европейскости» позволила преодолеть раскол Реформации в северо-западном христианстве и объединить в рамках новой светской культуры протестантов Скандинавского полуострова и католиков Апеннинского. С другой стороны, переосмыслив Европу как континент-цивилизацию, идея европейскости навязывала географические границы как границы культуры, игнорируя при этом важность социальных границ. То есть европейскость должна была заканчиваться там, где заканчивались географические пределы Европы (по той или иной версии), оставляя открытым вопрос о том, как описать территории вне самопровозглашенной Европы, когда на них распространится культура Просвещения? Во второй половине XVIII в. появилась концепция «Восточной Европы» для обозначения как раз такого переходного состояния «исторически неевропейских» земель, осваивающих универсалистскую и наднациональную «европейскость» (наполовину «Европа», а наполовину «Восток», в смысле «Азия» — цивилизационный антипод Европы.) Но как быть, когда эта культура проникнет за Урал или распространится среди подданных Османской империи? И как объяснить вклад в универсалистскую «европейскую» культуру Просвещения тех, кто жил за пределами «Европы» (а этот вклад со временем все возрастал)?
«Европейскость» как рамочный феномен, вне конкретного культурного канона, представляла собой особый тип и склад мышления (эпистему), которые легко перешагивали границы и приживались на местной культурной почве. В реальности «европейцами» в новом идеологическом понимании были члены коспомолитической образованной элиты («республики знания»), независимо от их географического местоположения. Взаимодействуя друг с другом, они развивали глобальную культуру секулярного рационального знания, но в силу инерции мышления начала XVIII в. эта международная и глобальная культура оказалась присвоенной «Европой». Вначале просто не было другого способа выразить разрыв с типом культуры предшествующей эпохи «старого режима» — поэтому воспользовались готовым штампом мышления о противостояния «миров» христианства и ислама (истинной веры и пагубного заблуждения). А затем понятая таким образом «европейскость» начала играть ключевую роль в подтверждении легитимности власти в странах с современным государством, а также в обосновании их права на колониальное владычество как «цивилизационную миссию». Общества с наиболее развитой сферой публицистики, специализированной философской, юридической и исторической мыслью внесли наибольший вклад в развитие нового типа мышления, и этот же интеллектуальный потенциал позволил им успешно монополизировать «европейскость» и внедрить представление о «Европе» как особой цивилизации в определенных географических границах.
Это сочетание универсальной сути европейскости и узко-географической привязки формального «европейского» статуса создавало дополнительные сложности «неевропейским европейцам»: они должны были проявлять солидарность с географической «Европой» даже тогда, когда их собственные страны вступали в конфликт с одной из европейских держав. Так сформировалась еще одна грань конфликта между европейскостью как идеей и местом, когда «место» связывалось с конкретными сиюминутными внешнеполитическими интересами Франции или Англии (часто не имеющими ничего общего с «европейскими ценностями»).
Необходимость постоянного реформизма вызывалась изменчивостью самого понимания «европейскости» («современности») как сути российского камералистского государства. Оказалось, что недостаточно один раз «прорубить окно в Европу» (как написал о строительстве Петербурга еще в середине XVIII в. итальянский путешественник Франческо Альгароте), потому что «Европа» — это не место, а постоянно развивающийся тип культуры. Не понимая этого, образованный класс Российской империи испытывал дополнительное давление ошибочного представления о необходимости воспроизводить конкретные (зачастую случайные) формы той или иной самопровозглашенной «европейской страны», а «европейцы» не могли отличить подлинно модернистские решения имперских властей от внешней формы.
Структурная противоречивость исторической задачи империи, пытающейся урегулировать разнообразие имперской ситуации при помощи института государства, усугублялась двумя факторами. Первый был связан с новизной самого феномена «реформ». Этот термин появился в современном значении в начале 1780-х гг. в Англии, в связи с движением за «парламентскую реформу». В политической культуре Просвещения реформы воспринимались как воплощение некоего рационального замысла, а не просто исправление выявленных недостатков (чем правители занимались издревле). Поэтому феномен «реформизма» связан с возникновением продуманной государственной политики, когда все частные изменения и улучшения должны были служить некой общей программе. Смысл общей программы был ясен — «европеизация». Необходимость планомерности и всеобъемлемости реформ обосновали просветители, но оставалось неясным, как это реализовать на практике — и во Франции, и в России. Современное подразделение реформ на экономические, политические, социальные и культурные, различение фундаментальных конституционных изменений и частных ведомственных преобразований и т.п. является итогом трех столетий накопления опыта государственного управления, развития обществоведения и специализированной терминологии. В конце XVIII в. реформаторы вынуждены были заимствовать у соседей казавшиеся им удачные достижения целыми блоками, если считалось, что они воплощают необходимые принципы реформы. Поэтому, вдохновляясь теориями британских или французских философов, российские реформаторы при воплощении общих принципов ориентировались на знакомый им практический опыт и реалии соседних стран — германских княжеств и, в особенности, Речи Посполитой.
После начала Северной войны Речь Посполитая стала образцом «Европы» для многих тысяч российских дворян, служивших на ее территории офицерами на протяжении месяцев и даже лет в составе различных экспедиционных корпусов. Когда начался новый виток российского вмешательства в «польские дела» (с 1760-х гг. и вплоть до третьего раздела Речи Посполитой в 1795 г.), на польско-литовских землях квартировались и воевали уже дети и внуки тех офицеров, что при Петре I открыли для себя европейскость в облике шляхетского общества. Эта «шляхетская Европа», которую своими глазами увидели многие из российского привилегированного сословия, представляла собой весьма специфический тип общества. Как уже говорилось, идеал современного (камералистского) государства не получил широкой поддержки граждан «шляхетской республики». Поэтому внутреннее упорядочивание и рационализация управления достигались не столько через развитие новых институтов, сколько путем облечения существующего многообразия старых укладов и социальных статусов в более стройные и гармоничные культурные формы. Тенденция обновления («модернизации») архаичных, едва ли не средневековых институтов через придание им новой идейной или эстетической окраски характеризуется как «барочная» политическая культура — современная эпохе барокко в архитектуре и искусстве и столь же гибридная по своей изысканной форме и традиционному содержанию. Барочная политическая культура Речи Посполитой во второй половине XVIII в. являлась историческим пережитком (во многом ответственным за коллапс этой державы), однако это не помешало ей оказать влияние на практическую сторону формирования Российской империи.
Реформы Екатерины II, о которых говорилось в предыдущей главе, были направлены именно на институциональное оформление империи как современного государства и общества. Но когда ей потребовалось воплотить идею Монтескье о необходимости четкого структурирования общества как залога развития гражданственности, готовый образец обнаружился в барочном сословном обществе Речи Посполитой. (Формально передовое французское общество было не менее сословным, но Польша-Литва была привычнее и ближе России, в том числе и в языковом отношении.) Отсюда и попытка создать единое «среднее» сословие из многочисленных категорий непривилегированного городского (посадского) населения, которое также получило польское наименование — мещанство (польск. mieszczanin – горожанин). И окончательное торжество нового для России статуса дворянства, которое еще при Петре I предпочитало называть себя «шляхетством», а с «Жалованной грамотой » 1785 г. получило широчайшие привилегии, неслыханные прежде для служилых людей и землевладельцев, сравнимые только со статусом граждан в «шляхетской республике» — Речи Посполитой. Среди дворянства утверждается образ жизни, сочетавший роскошь и феодальный тип хозяйствования с культивированием личного и гражданского достоинства и культом просвещения. Крестьянство же, вопреки склонности императрицы видеть во всех своих подданных, независимо от класса, конфессии и этничности обладателей единой человеческой природы, равно достойных опеки и процветания, оказалось в еще более угнетенном и закрепощенном состоянии — как в Речи Посполитой. Заимствование «барочной европейскости», как оказалось, не ограничивалось стилистическим колоритом и спустя несколько десятилетий было осознано как пережиток, не соответствующий новому пониманию европейскости. Этот пример наглядно показывает внутреннюю противоречивость программы «европейского реформизма»: создавая новые институты, реформы одновременно порождают проблемы, требующие разрешения в следующем раунде реформ.
Вторая трудность на пути выработки и проведения реформ была связана с множественностью их субъекта (инициатора и архитектора). В XIX веке все большую конкуренцию верховной власти за звание «единственного европейца» в России составляла интеллигенция — продукт начатой в XVIII веке культивации просвещенной элиты, чей престиж зависел от способности обсуждать высокие идеи, а не от экономической роли или происхождения (inteligencja − очередной польский термин, который получил распространение в польском обществе после 1830 г.). Тем самым, правительство утрачивало монополию на выработку курса реформ, а значит — и оправдание абсолютного контроля над империей своей исключительной ролью в рационализации «имперской ситуации» многомерного разнообразия региона. Впрочем, и само «правительство» не являлось монолитным. Государственная логика и интересы представителей складывавшейся бюрократии часто расходились с логикой и интересами монарха и его ближайших советников. Поэтому любой реформистский проект сверху попадал под критический огонь различных фракций внутри разраставшегося слоя образованной элиты, которая имела свои собственные представления о прогрессе. Российская интеллигенция, несмотря на свою демократичность, продолжала традиции свободного мудрствования просвещенной аристократической элиты эпохи барокко (структурно представляя еще один пережиток ранней версии европейскости). Пренебрежительно относясь к служивому чиновничеству и бюрократическому государству, интеллигенция и сама оказывалась мало востребованной властью (во всяком случае, в желаемом качестве учителей жизни). Интеллигенция выталкивалась в сферу идеологического творчества и оппозиционной политики и, будучи оторвана от принятия практических решений, в еще меньшей степени учитывала «сопротивление материала», разрабатывая универсальные и часто утопические сценарии модернизации государства и общества.
«Расщепление» субъекта реформаторской деятельности, а также постоянная эволюция понимания «европейскости» влияли на результат реформ: разрешая противоречия имперской ситуации и повышая устойчивость империи, они вели к подрыву абсолютной власти императора, усложнению самого института государственной власти и нарушению интересов одних групп влияния за счет усиления других. Стремление стабилизировать расшатанную реформами ситуацию приводило к контрреформам — своего рода регрессивному типу реформизма, направленного на придание уже измененной системе устойчивости.
Разрабатывая проекты реформ в масштабах империи, правительство и интеллигенция принимали на себя функцию, которую прежде выполняли стихийные процессы самоорганизации разных групп и земель в регионе. Осознание этой роли просвещенными реформаторами проявилось в ожесточенном споре о том, кто именно выражает «подлинные интересы народа». Было очевидно, что социальный порядок должен соответствовать нуждам и интересам включенных в империю сообществ, и достичь гармонии в масштабах Российской империи можно было путем проводимых государством реформ.
8.2. Империя и возникновение национальной идеи
«Дух времени»: нация как воплощение «общественного блага»
В XIX век Россия вступила под властью Александра I (1777–1825). Он взошел на трон в результате заговора недовольной аристократии против его отца, императора Павла I, убитого 12 марта 1801 г. Если правление Павла, как уже говорилось в прошлой главе, внешне демонстративно порывало с наследием Екатерины, то вступление на престол его сына возрождало программу екатерининского просвещенного абсолютизма: 23-летний император заявил, что станет править «по законам и по сердцу своей премудрой бабки». Однако он не ограничился восстановлением ее указов, отмененных Павлом. Александр и узкий круг его единомышленников-реформаторов смотрели на империю через призму несколько иных идеологических представлений, чем Екатерина II. Для них модерная империя, созданию которой посвятила себя Екатерина, была уже реальностью, а не проектом. Кроме того, им приходилось иметь дело с иной версией европейскости, главным отличием которой от екатерининских времен было появление феномена «нации». С детства готовившийся в правители, получивший прекрасное «обществоведческое» образование Александр I не только рано уловил новый «дух времени», но и попытался реализовать национальный проект в Российской империи, сразу на нескольких уровнях.
Александр родился через полтора года после принятия Декларации Независимости Континентальным конгрессом американских колоний, восставших против британского владычества (4 июля 1776 г.), ему не было и 12 лет, когда началась Французская революция (14 июля 1789 г.), то есть он формировался как личность уже в послереволюционную эпоху. Можно было по-разному относиться к французской революции (на разных ее этапах) и к американской войне за независимость, но нельзя было игнорировать произошедшее радикальное изменение интеллектуального и политического климата Европы. Свержение тиранического (то есть признанного общественным мнением незаконным) правления из правовой или литературной утопии превратилось в практическую возможность и даже реальность.
Символом практически неограниченных возможностей новой эпохи стала судьба Наполеоне Буонапарте (1769–1821), родившегося в италоязычной провинции французского королевства на о. Корсика на 8 лет раньше Александра Павловича Романова (будущего Александра I). В 1785 г. он младший лейтенант артиллерии, в 1788 г. — лейтенант, безуспешно пытавшийся поступить на российскую службу, в 1793 — капитан, и уже бригадный генерал в 1794 г. С 1796 г. Буонапарте начинает командовать армиями республики, а в ноябре 1799 г. провозглашает себя первым консулом Франции — фактически став диктатором. Молодой Александр восхищался Наполеоном и мечтал тоже стать вершителем истории. Они и к верховной власти пришли почти одновременно: Александр — после цареубийства 1 марта 1801 г., первый консул Наполеон Бонапарт (сменивший итальянское звучание имени на французское) в 1802 г. провел закон о пожизненности своих полномочий, а в 1804 г. короновался как император Франции.
Помимо фантастических возможностей, открывающихся перед незаурядной личностью, новейшая французская история подавала пример иного рода, куда более двусмысленный с точки зрения российской имперской ситуации. Французская революция 1789 г. дала начало представлению о солидарности сограждан как «нации» и о том, что в подлинно передовом («европейском») обществе единая и единственная нация составляет основу и высшую цель государства. Абстрактная юридическая категория «граждан» из трактатов просветителей обрела признаки культурного и политического единства.
Первоначально речь шла о революционной нации — о гражданах, сплотившихся во имя политических идеалов свободы, невзирая на различия социального статуса, культуры и языка. Именно французская революционная нация приняла младшего офицера, корсиканца, говорившего в детстве на итальянском диалекте, как равного и выдвинула его в руководители государства. Придя к власти, Наполеон приложил усилия к переосмыслению нации — теперь как сообщества равных гражданских прав, закрепленных в разработанном по его инициативе Гражданском кодексе («кодексе Наполеона»). Кодекс впервые собрал, упорядочил и привел в соответствие с современными реалиями разномастные правовые акты, действовавшие на территории королевства. Работа над кодексом, опубликованным в 1804 г., началась в конце 1800 г. и прошла целый ряд этапов: от собственно кодификаторской работы составителей, через обсуждение и экспертизу практикующих юристов (прежде всего, членов апелляционных судов), к поэтапному голосованию в парламенте. Таким образом, принятие нового законодательства обрело подлинно политическое значение самоутверждения гражданской нации.
Итогом бурной деятельности Наполеона, завоевавшего было почти всю Европу, но разгромленного и окончательно потерявшего власть в 1815 г., стало формирование третьей версии «нации» — в смысле народа. Особенно важную роль в новом переосмыслении нации сыграли немецкие интеллектуалы: участвуя в развитии единой немецкой культуры, они являлись гражданами множества государств, в основном сохранявших старый политический порядок. Борьба с французской гражданской нацией провоцировала в них солидарность не политическую и гражданскую, а культурную, «этнографическую». Забегая вперед, скажем, что своеобразным синтезом этих трех пониманий нации во второй половине XIX века стали разные варианты народничества и популизма, наделявших этнографическую группу особым революционным духом или обосновывавших ее право на исключительные гражданские права. Все эти варианты нации существуют по отдельности или в сочетаниях до сих пор, и все они являются в равной степени «корректными» — выбор одного или другого определяется конкретными историческими обстоятельствами, коль скоро речь идет лишь о способе представления солидарности населения и о принципах признания гражданства в государстве. Идея нации в любом понимании бросает вызов государству, пытающемуся примирить противоречия имперской ситуации. Ибо нация всегда означает представление об однородной группе — политически, юридически или культурно. Но ничего однородного в имперской ситуации не бывает, и попытка государства навязать однородность в масштабах всей политической системы ведет к масштабному насилию.
Вступив на престол с твердым намерением провести масштабные преобразования, император Александр I опирался на группу единомышленников и советчиков, образовавших так называемый «Негласный комитет». Само название их кружка отсылало к традиции камералистских «тайных кабинетов» столетней давности, а состав подчеркивал принципиально «имперский» политический контекст их деятельности. Совершенно органичный для реалий Российской империи, Негласный комитет принципиально не подходил для претворения сценария «нации» — в любой версии, поскольку каждый из его участников придерживался собственного понимания нации, противоречащего другим.
Так, граф Виктор Павлович Кочубей (1768–1834), наследник древнего казацкого (украинского) рода, получил прекрасное частное образование в Петербурге и во Франции, в Лондоне изучал «политические науки». Профессиональный дипломат и убежденный англоман, он воспринимал «нацию» в старом смысле: как страну на внешнеполитической арене. Поэтому он отстаивал идею «национальной системы, основанной на пользе России», и противился дальнейшему расширению ее территории как угрозе мировому балансу сил.
Граф Павел Александрович Строганов (1772–1817) был из тех Строгановых, что стояли у истоков покорения Сибири. Правда, родился и воспитывался он не в Приуралье, а в Париже, будучи, подобно Кочубею, продуктом «имперской глобализации». Его воспитателем был Жильбер Ромм, математик, ставший членом французского революционного Конвента. Ромм подписывал смертный приговор королю Людовику XVI, а после падения якобинской диктатуры сам был приговорен к смертной казни. Его ученику Строганову с началом революции исполнилось всего 17 лет. Под именем Поля Очера (по названию поместья Строгановых в Пермской губернии, Очер) Павел Строганов стал секретарем основанного Роммом патриотического общества «Друзья закона», а 7 августа 1790 г. вступил в клуб якобинцев. После этого отец поспешил вызвать сына в Россию. Русский аристократ Строганов буквально стал членом французской революционной нации, сменив имя и социальный статус.
Еще один член «Комитета», польский аристократ князь Адам Чарторыйский (1770–1861), также изучал государственное устройство в Англии и сочувствовал идеям Французской революции. На родине он практиковал «шляхетскую демократию», в 25 лет занял должность маршала Подольского сеймика, т.е. председателя местного дворянского парламента. Чарторыйский сражался против России в период второго раздела Речи Посполитой вместе с предводителем польского восстания 1794 года Тадеушом Костюшко. За это Екатерина II приказала конфисковать владения Чарторыйских. В результате переговоров она, однако, согласилась отказаться от этих планов, если молодые князья Адам и Константин поступят на российскую службу и переедут в Петербург. Этот польский аристократ на службе империи привнес в круг Александра I дух поднимающегося этнокультурного (польского) национализма, подобно тому, как русский граф Строганов представлял французский республиканский идеал политической нации, а украинец Кочубей отстаивал государственническое понимание нации. Имперский контекст позволял им сотрудничать и дружить, что было бы невозможно в рамках одного из разделяемых ими сценариев «нации».
Проект Негласного комитета был составлен Строгановым в написанной по-французски записке, поданной Александру I в мае 1801 г. Строганов писал, что задачей комитета было помогать императору «в систематической работе над реформою бесформенного здания управления империей». Предполагалось сначала изучить положение дел в стране, затем реформировать органы управления и, наконец, закрепить новую систему «уложением (constitution), установленным на основании истинного народного духа». Никакой сиюминутной необходимости в столь масштабных преобразованиях уже, казалось бы, законченного здания империи не было, но сотрудники Александра I отчетливо осознавали необходимость постоянного реформирования как условия сохранения легитимности имперского государства. Как писал в 1808 г. автор реформы государственного устройства и законодательства Михаил Михайлович Сперанский (1772–1839), который, не будучи аристократом, как «молодые друзья» императора (он родился под Владимиром в семье бедного священника), дослужился до должности государственного секретаря, т.е. второго человека в государстве:
Итак, время есть первое начало и источник всех политических обновлений. Никакое правительство, с духом времени не сообразное, против всемощного его действия устоять не может.
«Дух времени» заключался в очередном пересмотре представления о европейском (то есть современном) общественном устройстве: к идее регулярного государства теперь добавлялось восприятие населения как «нации» (в одном из нескольких возможных пониманий). «Общественное благо», ради которого действовало государство, теперь определялось интересами нации как коллективного субъекта («истинного народного духа», по словам Строганова). Несмотря на неопределенность новой идеи «народа», Александр I вступил на престол с твердым намерением привести страну в соответствие с «духом времени».
Планы реформ изначально включали распространение просвещения на все слои населения (нация как единство культуры), отмену крепостного права (нация в смысле гражданского равенства), установление конституционного правления (создание политической нации). Параллельно предполагалось совершенствование регулярного государства — спустя сто лет после победы камералистской революции в России эта задача выглядела куда конкретнее. Она включала в себя развитие административного аппарата на основе разделения законодательной, исполнительной и судебной властей, а также систематизацию и рационализацию имперского законодательства. Задуманный по образцу Кодекса Наполеона фундаментальный свод законов должен был ликвидировать «имперскую ситуацию» в юридической сфере, устранив возможности для произвольных трактовок закона, всевозможные исключения из общих правил и режим особых установлений. Речь шла о рационализации, систематизации и централизации практик государственного управления и переформатирования пестрого населения в более однородную нацию (в том или ином понимании) ради ликвидации наметившегося отставания от идеальной «европейскости». Однако империя как реальный контекст, в котором эти планы должны были воплотиться, значительно их скорректировала.
Попытка расширения основания нации: «вольные хлебопашцы»
Наиболее скандальным для репутации европейской империи являлось сохранение института крепостного права в России, признаваемого пережитком средневековья в любой версии современности (английской и французской, республиканской и монархической). И Александр I, и его сподвижники были убеждены в необходимости отмены крепостничества и были шокированы, когда поняли, что самодержавный государь просвещенной империи не имел возможности одним мановением руки решить эту задачу.
Проблема заключалась в том, что представлявшееся архаическим обычаем крепостное право являлось в России очень недавним и современным институтом, почти «нечаянно» встроенным в здание современной империи наряду с другими элементами «барочного общества» в ходе решения других задач. Безусловно, ограничение свободы распоряжаться собой (местом жительства, имуществом) возникло очень давно. Но на украинских землях юридического прикрепления селян к земле не было, а в Московском царстве ключевой являлась категория владения, а не частной собственности. Примерно раз в столетие составлялись своды законов, фиксировавших без особой системы некие общие юридические принципы и конкретные правовые нормы (наподобие Соборного Уложения 1647 г.). Однако ни сферы юридической теории, ни даже комментариев практического правоприменения, сопоставимых с западноевропейскими образцами, на Москве не существовало. Теоретически ближе всего к категории частной собственности по римскому праву были вотчины (наследственные земли) бояр или обладание рабами (холопами), но на практике распоряжение этой собственностью было ограничено, и ее можно было лишиться. Царь мог отобрать вотчину у впавшего в немилость боярина, но к этому могло привести и просто «неправильное» поведение собственника: одни законы запрещали жертвовать вотчины церкви, другие лишали вотчин некрещеных мусульман. На практике власть не была отделена от собственности, и верховный властитель (царь) являлся и верховным собственником земли. В высшем смысле и крестьяне, и служилые люди — помещики, и бояре с наследственными угодьями были «царевы», поэтому их взаимные отношения подчинения и собственности являлись временными и условными. Непосредственное распоряжение землей находилось в руках общины, абсолютная собственность принадлежала царю, а временные поместья за службу и даже вотчины фиксировали ситуацию в среднесрочной перспективе. Нагляднее всего «дух закона» и правовую культуру Московского царства передает следующая статья Соборного Уложения:
А будет которыя помещики и вотчинники крестьян своих учнут с поместных своих земель сводити на вотчинныя свои земли, … чтобы тех крестьян с вотчинных земель отдати на поместныя земли, с которых они сведены, и тем новым помещиком тех крестьян с вотчинных земель на поместныя земли отдавати со всеми их крестьянскими животы, и с хлебом стоячим и с молоченым.
От того, что крестьян передавали из поместья в вотчину и обратно, в другое поместье, со всем имуществом и посевами, их правовой статус никак не менялся. Где бы они ни находились, они оставались «царевы», от чьего имени ими распоряжались временные «заместители» царской воли. В общем, до тех пор, пока крестьяне находились на территории царства, их точное местонахождение не имело значения, они не могли быть «беглыми» в прямом смысле. В целях оптимизации сельскохозяйственного производства и повышения ценности пожалованных за службу вотчин царская власть могла ограничивать свободу перехода крестьян с места на место и формально поддерживать требования бывших владельцев вернуть переселенцев — но лишь до известного предела, чтобы не поставить права частных владельцев выше принципа верховной собственности государя. Подобно крестьянам, не могли собой вольно распоряжаться служилые люди (дворяне) и даже бояре. В то же время, также как и они, крестьяне сами могли покупать населенные другими крестьянами земли.
Радикальный переворот происходит в первой трети XVIII в., с законом Петра I о единонаследии 1714 г. (уравнявшим юридический статус поместья и вотчины) и, особенно, с законами «верховников». Статус крестьян практически не изменился, зато землевладельцы были наделены правом частной собственности. Причем, новая категория частной собственности вводилась дискриминационно, распространяясь лишь на новый класс шляхетства, чей полноправный социальный и юридический статус окончательно оформился при Екатерине II. С точки зрения нового юридического режима, основанного на принципе частной собственности, традиционное положение крестьян на помещичьих землях было осмыслено как особое — «крепостное» — право. Представление о дискриминированности крепостных было вызвано не тем, что крестьян лишили неких древних свобод, а тем, что на них не распространили те же новые юридические принципы, что и на других бывших «холопов царя» — дворян. В этом смысле «крепостное право» было новым феноменом, вытекающим не столько из желания усилить эксплуатацию крестьян (как произошло в случае «вторичного закрепощения крестьян» в Речи Посполитой в XVII в.), сколько из попытки «нормализовать» дворян как полноправных граждан камералистского государства. Как уже говорилось, Екатерина II категорически противилась попыткам довести этот процесс до логического конца и формально признать крестьян частной собственностью помещиков (в статусе рабов). Однако необходимость придерживаться принципов регулярного общественного устройства вынудила ее не только наделить привилегированное сословие украинских земель (казацкую старшину) статусом дворянства Российской империи, но и распространить крепостное право на украинских земледельцев.
Намерение Александра I отменить крепостное право наталкивалось на весьма недавний и вполне прогрессивный принцип частной собственности, гарантом незыблемости которого выступало камералистское государство и лично император. Не озаботившись регламентацией в современных правовых категориях юридического статуса крестьян и крестьянской общины, предшественники Александра I фактически исключили их из общего правового поля, признав полноценным правовым субъектом лишь помещика. «По умолчанию» в сферу частной собственности помещика было включено все многообразие поземельных отношений, даже те, что на практике осуществлялись самими крестьянами (индивидуально или опосредованно, общиной). Любая попытка юридически закрепить в категориях собственности реально осуществляемое крестьянами «владение» означало вмешательство верховной власти в сферу частноправовых отношений и насильственное лишение дворян части собственности — то, что составляло суть тиранического правления. Напрасно граф Строганов доказывал, что аристократия в большинстве поддерживает идею отмены крепостного права, а недовольства неорганизованных помещиков не стоит опасаться: для Александра I якобинская революционность мало отличалась от тирании как антипода истинной «европейскости». Поэтому практические меры, предпринятые им для решения «крестьянского вопроса», оказались несоразмерно скромными по сравнению с первоначальным замыслом.
В 1803 г. был издан указ о «вольных хлебопашцах» — так запоздало определялся современный юридический статус свободных крестьян-собственников. Указ не имел обязательного характера и лишь регламентировал порядок добровольного освобождения крепостных их владельцами. За время его действия помещики освободили с землей не более 100.000 «вольных хлебопашцев» (1.5% от общего числа крепостных). Закон, пытавшийся представить всех участников поземельных отношений в качестве юридических субъектов, оговаривал, что для освобождения, помимо воли помещика, требуется согласие крестьян на условия освобождения. На деле крестьяне порой такого согласия не давали, поскольку помещики отпускали их поодиночке, а не всем селением, в то время как крестьяне пользовались землей общинно. Количество земли, с которой можно было отпускать крестьян, а также необходимость и размер выкупа (компенсация помещику за потерю части собственности) в законе не оговаривались.
В 1816–1819 гг. произошло освобождение от крепостной зависимости крестьян остзейских (прибалтийских) губерний по схеме, не требовавшей вмешательства законодателя в отношения собственности. Помещики отказывались от всяких прав на крестьян, но также от всяких обязательств перед ними; вся земля признавалась собственностью помещика, а крестьянам отводилась роль арендаторов, на условиях, продиктованных помещиком. Этот опыт остался локальным экспериментом и не был внедрен в масштабах империи, поскольку свобода без собственности вела к ухудшению положения крестьян и, как следствие, к росту недовольства, а предсказанного теорией улучшения нравов в краткосрочной перспективе не наблюдалось. В итоге при Александре I лишь небольшая часть мелких земледельцев империи оказалась включенной в сферу прямых государственных отношений, демонстрируя труднодостижимость идеала гражданской нации.
8.3. Конституционные проекты Александра I
Ощущение большей внешней законченности оставили административные реформы: в 1802 г. были учреждены министерства (иностранных дел, военных сухопутных сил, морских сил, внутренних дел, финансов, юстиции, коммерции и народного просвещения), в состав которых вошли прежние коллегии. Правда, немедленным результатом реформы стало усиление общей неразберихи: оформление структуры министерств, разграничение сфер деятельности между ними, а также определение полномочий министров и их отношений с верховной властью заняли целое десятилетие. Главное значение создания министерств заключалось в переходе к более совершенной государственной системе: от коллегиального управления первоначальной камералистской модели — к началу построения централизованной бюрократической машины «вертикали власти». Но и эта реформа на самом деле являлась лишь меньшей частью более амбициозного плана, оставшегося нереализованным.
В 1809 г. по поручению Александра I его главный советник в тот период, Михаил Сперанский, составил развернутый проект реформирования Российской империи в конституционную монархию — «Введение к Уложению государственных законов». Отправными идеями проекта Сперанского было признание политических прав у подданных империи (обладающих определенным минимумом собственности) и завершение процесса разделения властей. Недавно созданные министерства рассматривались как высший орган исполнительной власти. За сенатом окончательно закреплялась роль высшей судебной инстанции. В дополнение к ним планировалось формирование высшего органа законодательной ветви власти — Государственной Думы. Над этими высшими органами трех ветвей власти учреждался Государственный совет, координирующий их деятельность и служащий посредником между органами власти и императором как верховным гарантом политической системы и источником власти.
Параллельно со структурным разделением государственной власти на три самостоятельные ветви предполагалось переформатировать территориальную структуру империи. Если прежнее деление на волости — уезды — губернии преследовало цель связать пространство империи равномерной сетью административных центров, то новая структура, предлагаемая Сперанским, призвана была оптимизировать представительство местных интересов во власти. Первым, низовым уровнем, становилась волость, обязательно с городом или новообразованным волостным центром. Все ветви государственной власти были представлены на уровне волости. Так, первой ступенью законодательной власти была волостная дума, выборы в которую проводились раз в три года владельцами недвижимости. Собираясь на период выборов, волостная дума избирала из своего состава постоянно работающее правление, а также депутатов в вышестоящую окружную думу. Округ — вторая ступень территориального деления — был в несколько раз больше уезда, в каждой губернии было 2−5 округов с населением в 50 тыс. человек каждый. Окружная дума выбирала постоянный окружной совет, а также членов окружного суда и депутатов в губернскую думу. Губерния составляла третью ступень иерархии, с населением от 100 до 300 тыс. человек. Кроме губернского совета и суда, губернская дума выбирала депутатов в Государственную думу. Эта стройная политическая система выводила на принципиально новый уровень понятие «регулярного государства», но при этом признавала невозможность распространения его на всю территорию империи, потому что параллельно с основной политической системой учреждались пять «областей» с особым внутренним устройством и приспособленным к местной специфике законодательством:
Именование областей присвояется тем частям империи, кои по пространству и населению своему не могут войти в общий распорядок управления. Сии области суть: 1) Сибирь, по хребет Уральских гор; 2) край Кавказский и Астраханский с Грузиею; 3) край Оренбургский; 4) Земля донских казаков; 5) край Новороссийский.
Сперанский не уточнял, получали ли «области» какое-то представительство в Государственной думе, а также насколько специфичным было местное законодательство. Среди областей, выпадающих из «регулярного» государственного устройства, была и Грузия, включенная в состав империи лишь несколькими годами ранее (в 1802 г.), и уже давно интегрированная Сибирь. Особый («колониальный») статус признавался за «русской» Донской областью, в то время как недавно присоединенные земли Польши-Литвы или Финляндии включались по плану в «регулярную» часть политической системы на общих основаниях.
Несмотря на то, что проект Сперанского разрабатывался по указанию Александра I и получил его одобрение, на практике из всего задуманного удалось лишь довести до ума систему министерств и учредить (в 1810 г.) Государственный совет, в котором Сперанский получил должность государственного секретаря — по сути, главы правительства. Остальные части проекта, придававшие смысл и Государственному совету, и министерствам, остались нереализованными. Непосредственной причиной провала конституционной реформы стали придворные интриги против Сперанского, в результате которых он потерял свой пост в марте 1812 г. и на несколько лет попал в опалу. Но куда важнее были структурные проблемы, которые можно назвать «сопротивлением среды», точнее — имперской ситуации, которую конституционный проект Сперанского недостаточно учитывал. Мало того, что амбициозный проект четырехступенчатой системы, разработанной Сперанским, требовал для реализации многочисленные кадры квалифицированных чиновников, подробные регламенты работы новых государственных органов и новое законодательство (собственно «Уложение»). Столь же масштабной задачей являлось обустройство пяти областей, вынесенных за рамки «регулярной» политической системы. Про них «Введение к Уложению» не говорило вообще ничего определенного, кроме единственной фразы: «Области имеют особенное устройство с применением к ним общих государственных законов по местному их положению». Значит, прежде чем ликвидировать губернии в Сибири и Новороссии, надо было подготовить хотя бы общую схему устройства там «областей». Недостаточно было просто вынести все «имперское» за рамки «регулярного государства» — требовалось придумать, как на самом деле объединить их в общей системе. Екатерина II сознательно ставила перед собой задачу «целый мир создавать, объединять, сохранять» и сумела сконструировать империю так, что она не вступала в конфликт со структурной имперской ситуацией. Сперанский запланировал гораздо более сложное и современное государственное устройство, основанное, фактически, на общности единой политической нации (в его терминах — пользующихся политическими правами граждан «в их соединении»), но эта политическая нация охватывала собой лишь часть империи.
Подрывая прежнее фундаментальное единство имперского пространства ради осуществления современного проекта политической нации, план реформы Сперанского оказался уязвим для критики со стороны других столь же современных проектов. Неслучайно главными врагами Сперанского, добившимися его отставки, были не закоснелые реакционеры, а образованные модернисты, просто придерживавшиеся других взглядов на нацию. Один из них — барон Густав Армфельт, шведский аристократ, прославившийся вкладом в развитие музыкального театра (в том числе в качестве драматурга и даже актера), связанный рождением и земельными владениями с Финляндией. Когда по итогам очередной шведско-российской войны Финляндия была присоединена к Российской империи (1809), Армфельт не просто перешел на российскую службу, но развернул пропаганду финляндского патриотизма. Обращаясь к аристократической элите края, преимущественно шведской по происхождению и культуре, он призывал: «Мы больше не шведы, русскими стать не можем, поэтому отныне будем считать себя финнами». Возглавив комитет по делам Финляндии в Петербурге, Армфельт убедил Александра I дать Финляндии автономный статус великого княжества, с собственной конституцией и парламентом в составе империи, а в 1812 г. — еще и передать в ее состав Выборгскую губернию («старую Финляндию»), отвоеванную Россией у Швеции почти сто лет назад. Все прежние завоевания включались в состав Российской империи на общих основаниях, в том числе земли, полученные после разделов Речи Посполитой. Решение наделить Финляндию широчайшей политической и экономической автономией было беспрецедентным для России, как беспрецедентной была и трансформация шведского аристократа Армфельта в сознательного архитектора финляндской (еще не финской) нации. Понятно, что для отстаивавшего интересы «финляндской нации» Армфельта проект унифицированной политической нации Сперанского представлял смертельную угрозу: ведь исключительный статус «областей» предоставлялся только малонаселенным окраинам, лишенным европеизированной элиты. Существующая империя открывала возможности для развития финляндской нации-государства, а проектируемое Сперанским современное конституционное государство — нет.
Другим смертельным врагом Сперанского был Николай Карамзин — основоположник современной русской литературы и историографии. В 1811 г. он написал и представил в кружке сестры Александра I Екатерины Павловны, имевшей на императора особое влияние, «Записку о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» — конспект многотомной «Истории государства Российского» и одновременно манифест противников либеральных реформ. Идеологически это был совершенно реакционный текст, отрицающий любые преобразования, включая отмену крепостного права — в необходимости которой не сомневался ни один император со времен Елизаветы. Но в основе политической реакционности Карамзина лежал его модернизм: европейски образованный человек и проводник европейских культурных стандартов в русской литературе и исторической науке, он одним из первых осознал проблему подмены «идей» «местом» в европейской культуре. Еще в начале 1790-х гг. он писал: «Творческий дух обитает не в одной Европе; он есть гражданин вселенной. Человек везде – человек». Карамзин последовательно боролся против восприятия географической Европы как обладательницы монопольных прав на «европейскость», отстаивая в «Записке» 1811 г. самостоятельное «цивилизационное» значение России как исторического государства-нации:
Россия же существует около 1000 лет и не в образе дикой Орды, но в виде государства великого, а нам все твердят о новых образованиях, о новых уставах, как будто бы мы недавно вышли из темных лесов американских!
Претензия на абсолютную самодостаточность России сформулирована здесь на языке и в логике современной («европейской») культуры, с использованием ее идеи исторического прогресса как подъема по цивилизационной лестнице (отсюда упоминание «лесов американских»). Сама возможность такого высказывания была непредставима до включения «неисторических» регионов Северной Евразии в общее пространство «европейской» культуры благодаря посредничеству Российской империи; до освоения современной концепции истории как эволюции «народа», который последовательно создает череду разных государственных образований, на мало совпадающей территории. Усвоив современную европейскую эпистему (способ восприятия и рационализации реальности) и не воспринимая ее более как европейское заимствование, Карамзин протестовал против использования конкретных политических рецептов из Европы (не осознавая, что его собственные рецепты были столь же европейскими, только из другой эпохи):
Для старого народа не надобно новых законов: согласно со здравым смыслом, требуем от Комиссии [по составлению уложения] систематического предложения наших. …Остаются указы и постановления, изданные от времен царя Алексея до наших: вот — содержание Кодекса! Должно распорядить материалы, отнести уголовное к уголовному, гражданское к гражданскому, и сии две главные части разделить на статьи. … Таким образом собранные, приведенные в порядок, дополненные, исправленные законы предложите в форме книги систематически, с объяснением причин; не только описывайте случаи, но и все другие возможные решите общими правилами, без коих нет полных законов и которые дают им высочайшую степень совершенства.
Предложенная Карамзиным работа по систематизации и рационализации законов и выведения на их основании общих юридических принципов (последнее требование) потому и не была проведена в России в течение «около 1000 лет», что предполагала юридическую экспертизу, основанную на принципах римского права — феномена, не известного к востоку от Речи Посполитой до начала XVIII в. Являясь продуктом европейского Просвещения и крупным деятелем современной («европейской») культуры в России, Карамзин атаковал Сперанского практически с тех же позиций, что и Армфельт. Только вместо создания финляндской государственной нации, Карамзин-историк и Карамзин-политик конструировал тысячелетнюю русскую нацию, которая в ходе исторического развития создала собственное и совершенно самодостаточное государство. Реформа этой государственной традиции (отраженной в старинных законах) равнялась для него отказу от идеи русской нации. Причем, подобно Армфельту, выступая против проекта политической нации, русский протонационалист Карамзин вполне лояльно относился к «многонародной» и многоукладной империи, которая давала проектируемой русской нации больше, чем требовала взамен:
Государство наше состоит из разных народов, имеющих свои особенные Гражданские уставы, как Ливония, Финляндия, Польша, самая Малороссия. Должно ли необходимо ввести единство законов?... «Какая нужда, — говорит Монтескье, — одним ли законам следуют граждане, если они верно следуют оным?» Фридрих Великий, издавая общее Уложение, не хотел уничтожить всех частных статутов, полезных в особенности для некоторых провинций…
Отправив Сперанского в ссылку, Александр I не отказался от самой идеи превращения Российской империи из «правомерного государства» в полноценное конституционное. За неимением рабочего проекта общеимперской конституции, он начал с предоставления политических прав окраинам империи. По сути, тем самым он пошел навстречу имперской ситуации, рассматривая исключения как норму (в то время как Сперанский пытался все «исключения» из основного сценария вытеснить на периферию, в «области»). Еще в марте 1809 г. Александр подписал манифест о государственном устройстве Финляндии — фактически, конституцию. В мае 1815 г. к Российской империи официально присоединена была значительная часть бывшего Польского королевства. Подобно финским землям, новая территория не была интегрирована в общеимперскую административную сеть губерний, а получила особый статус Царства Польского. 20 июня была объявлена конституция, которая закрепляла не только основные политические права граждан Царства, но и его польский этнонациональный характер. Правителем Царства (наместником императора) мог быть только поляк, а государственным языком объявлялся польский. Закрепляя «навечно» польские земли в составе империи, конституция, тем не менее, оформляла их как национальное государство:
Польский народ на вечные времена будет иметь национальное представительство на сейме, состоящем из короля и двух палат (изб), из коих первую будет составлять сенат, а вторую послы и депутаты от общин…
Казалось, что Александр I отказался от идеи регулярного государства (одинаково устроенного и действующего по всей стране) ради старого принципа локальных изменений, подстраивающихся под местные условия (в соответствии с логикой имперской ситуации). Выступая в 1818 г. в польском сейме, Александр I объявил о намерении распространить конституционный порядок «на все страны, которые промыслом даны мне в управление». Конечно, если воспринимать его официальный императорский титул буквально, то Александр управлял несколькими десятками «государств», но значило ли это, что, вслед за Великим княжеством Финляндским и Царством Польским, отдельные конституции получит Казанское Царство или Великое княжество Рязанское? На самом деле, Александр не оставил намерения преобразовать всю страну по единому плану, но начать решил с локальных экспериментов. Одновременно с открытием польского сейма, в мае 1818 г., император там же, в Варшаве, поручил своему представителю в Царстве Польском, Николаю Новосильцеву, разработать проект общероссийской конституции.
Новосильцев (1761–1838), в прошлом член Негласного комитета, дипломат и президент Академии Наук, должен был разрабатывать конституцию в Варшаве как в лаборатории, изнутри наблюдая работу конституционного национального государства в условиях Российской империи. Текст конституции под названием «Уставная грамота Российской империи» (Charte constitutionnelle) был закончен к осени 1820 г. Он был гораздо подробнее «Введения к уложению» Сперанского, включая почти 200 статей. Главным же отличием (помимо несколько иной системы организации представительного правления) проекта Новосильцева было то, что он предлагал единую систему для всей империи:
Статья 1. Российское государство, со всеми владениями, присоединенными к нему, под каким бы наименованием то ни было, разделяется, сообразно с расписанием у сего приложенным, на большие области, называемые наместничества.
«Области» в плане Сперанского нужны были как прибежище всего «нетипичного», как серая зона остаточной имперской ситуации. У Новосильцева вся империя делилась на двенадцать областей-наместничеств с определенной степенью автономии. Каждое наместничество включало несколько прежних губерний «по мере народонаселения, расстояния, обширности и смотря на нравы, обычаи и особенные или местные законы, жителей между собой сближающие». Эта структура следовала логике губернской реформы Екатерины II, которая совмещала централизм государственного управления наместничествами-губерниями с возможностью представительства местных интересов. Только в отличие от реформы 1775 г., масштабы представительства многократно расширялись: вместо сословного оно становилось общегражданским и не ограничивалось низовым уровнем, а доходило до двухпалатного парламента. Как торжественно провозглашала 91 статья Уставной грамоты, «Да будет российский народ отныне навсегда иметь народное представительство». Несмотря на некоторую непоследовательность в определении критериев наделения политическими правами (проект смешивал сословный и имущественный статус), речь шла о создании единой политической нации в масштабах империи.
Даже если по конституции Новосильцева Великое княжество Финляндское и Царство Польское получили бы статус отдельных областей, они должны были потерять свой обособленный характер наций-государств. При всей гибкости новой системы, разрешавшей издание особых областных законов, самобытных «царств» поляков и «княжеств» финляндцев она не допускала. Как планировалось примирить принципы конституции Новосильцева с обещаниями, торжественно данными императором финляндцам и полякам, — непонятно. Судя по всему, главную сложность в глазах Александра представлял даже не конфликт принципа отдельных культурно-территориальных наций с принципом единой российской политической нации, а сугубо «техническая» проблема количества и качества чиновников, призванных обслуживать такую сверхсовременную и сложную государственную систему. Этот вывод следует из последовательности действий Александра I: получив текст конституции, он поручил генерал-губернатору Александру Балашову внедрить в подчиненных ему пяти внутренних российских губерниях элементы нового государственного управления (видимо, для их проверки на практике).
Александр Балашов (1770–1837), тогда министр полиции, был третьим главным участником смещения Сперанского (наряду с Армфельтом и Карамзиным). В 1819 г. он получил назначение генерал-губернатора округа, только что образованного из пяти губерний. Наместник с военными полномочиями обычно назначался на неспокойные, недавно присоединенные окраины, Балашов же возглавил старые внутренние губернии с преимущественно русским православным населением: Воронежскую, Орловскую, Рязанскую, Тамбовскую и Тульскую. По воспоминаниям Балашова, Александр I объяснил ему смысл и важность нового назначения: это был первый округ из 12, который он намеревался создать под управлением способных генерал-губернаторов с целью децентрализации управления. То есть, в то время как Новосильцев только приступал к работе над конституцией, Александр I уже создал первое из 12 будущих наместничеств. В марте 1823 г. Балашову было поручено провести в своем округе реформу управления и полиции, включая изменение штата чиновников и разработку новых должностных инструкций. Видимо, считалось, что главным стрессом для государственной системы с введением Уставной грамоты станет создание вертикали представительных органов, а значит, к этому моменту необходимо будет иметь уже сформированный аппарат двух других ветвей власти — исполнительной и судебной. К лету 1824 г. в округе Балашова был закончен проект губернского совета (правительства), в декабре он начал действовать на практике в Рязанской губернии, в январе 1825 г. подобный совет появился на уездном уровне. В течение года новые структуры были распространены на все подчиненные Балашову губернии, прототип будущего наместничества конституционной империи действовал в тестовом режиме на практике. Но 19 ноября 1825 г. император Александр I неожиданно умер, Балашов получил отставку, и эксперимент по перестройке государственного аппарата с прицелом на введение Уставной грамоты был прекращен.
8.4. Практические меры рационализации имперского разнообразия
Устройство Сибири
Выработка новой политической системы, применимой ко всей территории империи без исключений, было важным, но не единственным условием преодоления системного сопротивления «имперской ситуации». Одной из острых проблем оставалась специфика окраинных регионов, отличающихся от внутренних районов империи столь существенно, что вставал вопрос: а можно ли их вообще встроить в единое пространство политической нации?
За полгода до назначения Балашова генерал-губернатором пяти внутренних губерний Александр I назначил Михаила Сперанского, в то время (после четырехлетней ссылки) служившего пензенским губернатором, генерал-губернатором Сибири, с задачей провести там реформу управления. Учитывая, что в своем «Введении к уложению» Сперанский полностью проигнорировал вопрос устройства окраинных «областей», включая всю азиатскую часть империи (Сибирь), новое назначение кажется неслучайным. Сибирь была главным тестом на реформируемость «нерегулярных» окраин.
Со времен Петра I имперские власти пытались установить прямое эффективное управление этим обширным и малонаселенным регионом, постоянно сталкиваясь с проблемой нехватки человеческих и материальных ресурсов. В 1708 г. Петр создал специальную администрацию для Сибири, в 1719 г. Сибирь разделили на пять провинций, а общую власть передали генерал-губернатору с почти неограниченными полномочиями, но крайне слабыми инструментами реального контроля над местными чиновниками и органами самоуправления. Сто лет спустя, когда Сперанский прибыл туда в статусе генерал-губернатора, задача управления Сибирью, освоения и колонизации региона стояла все так же остро. Это была слабозаселенная, преимущественно нерусскими народами, территория со специфической социальной структурой (там не было слоя дворян, практически не было крестьян, кроме переселенцев, не существовало крупных культурных центров) и богатыми, но слабо освоенными природными ресурсами. Поэтому часть элиты воспринимала Сибирь как колонию — «русскую Индию, Мексику или Канаду». Другие выступали за скорейшую интеграцию Сибири в Россию, создание там полной социальной структуры империи и распространение на край общих правил и законов. Сперанскому, как видно из его «Введения к уложению» 1809 г., был чужд имперский принцип специальных режимов управления для отдельных территорий. Он считал, что правительство и правовая система государства должны руководствоваться общими принципами, избегая как произвола, так и всякого рода исключений.
В Сибири он тоже начал с общих проектов административной и судебной реформ, но параллельно знакомился с краем, занимался его этнографией, и постепенно стал понимать его специфику. В результате одним из важнейших сибирских нововведений Сперанского стал подробный «Устав об управлении инородцами» — правила организации жизни, управления, судопроизводства и налогообложения для особой группы нерусского населения империи. Мало того, что документ был посвящен специфической социальной группе (а не всему региону), согласно Уставу эта группа еще и дробилась на отдельные подгруппы, к которым применялись разные правила и законы. Сибирские инородцы делились Сперанским на оседлых, кочевых и бродячих. Оседлые (татары, алтайские народы, «бухарцы», «ташкентцы» и др.) приравнивались в правах и обязанностях к русскому населению Сибири — государственным крестьянам, мещанам, купцам, т.е. жили по общеимперским законам. В то же время, для них создавались особые «инородческие» волости, где управлением занимались представители местных народов, владевшие местными языками. Устав также предусматривал создание школ для оседлых и кочевых инородцев.
Кочевые народы (к ним относили бурят, якутов и др.) платили такие же налоги, как государственные крестьяне, но выделялись в особый разряд, сохранявший родовые суды, основанные на обычном праве, и самоуправление, устроенное на трех уровнях: низший — родовое управление (для отдельных стойбищ рода), средний — инородная управа (для всего рода в целом), и высший — степная дума (для всего племени).
«Бродячие» народы (ненцы, манси, юкагиры, ительмены) платили не денежный налог, а ясак, и не подлежали российскому суду (кроме уголовных преступлений).
Стремясь интегрировать в имперское судопроизводство местные практики обычного права, Сперанский предпринял его кодификацию, результатом чего стали «Свод степных законов кочевых инородцев Восточной Сибири» и «Сборник обычного права сибирских инородцев для Западной Сибири». Кодифицируя, т.е. записывая устное право и уже этим модернизируя его (например, выбирая из множества местных вариаций некий «основной» обычай), Сперанский также редактировал его буквально, убирая нормы, которые казались ему дикими и жестокими, т.е. нецивилизованными.
Подобный подход можно назвать патерналистским, поскольку в нем прочитывается покровительственная забота «цивилизованного человека» о потенциально добрых и хороших, но отсталых «младших» народах. Но этот подход, очевидно, не был подлинно колониальным: в «Уставе» инородцы приравнивались к русским крестьянам, основное различие между ними было не расовым, а цивилизационным, т.е. преходящим (государство брало на себя ответственность за продвижение инородцев по цивилизационной лестнице), оседлость и занятие крестьянским трудом рассматривались как путь к преодолению «дикости». Для достижения этой цели «Устав» предусматривал выделение инородцам земельных наделов, которые не должны были быть меньше крестьянских.
Таким образом, реформаторские планы, изначально направленные на унификацию и универсализацию управления и законов, корректировались реальностью имперского разнообразия. Достигнутая рационализация оказывалась относительной, а кодификация обычного права не отменяла самого факта признания его как части общеимперского законодательного комплекса. Иными словами, реформы Сперанского в Сибири не приводили к устранению имперской гетерогенности, но лишь организовывали и рационализировали ее на новых основаниях. Впрочем, Уставная грамота Новосильцева допускала издание «частных законов» парламентами областей, так что Сперанский как раз и создавал основу будущего местного законодательства, «переводя» локальные особенности на язык универсальных категорий имперского права. Конституционная реформа не реализовалась, но проведенная Сперанским работа не пропала даром: его «Устав» действовал до начала ХХ в.
Проблема «homo imperii»
Даже создание единой политической нации в масштабах Российской империи не смогло бы сгладить колоссальные культурные различия предполагаемых граждан. Проблемой было не само этноконфессиональное разнообразие, а то, насколько адекватно представители разных культур воспринимали новые государственные институты (а значит, и участвовали в них). Можно было учредить политическую систему, достаточно гибко учитывающую местные особенности, но для этого требовалось распространение общего — хотя бы самого элементарного — представления о «гражданстве» среди разных народов и социальных групп. Миссия Сперанского в Сибири решала аналогичную проблему в юридической сфере: чтобы предоставить особый правовой режим разным категориям местного населения, нужно было сначала в принципе осмыслить их традиции в терминах современного («европейского») права. Так же для успеха политической реформы в масштабах страны необходимо было в принципе перевести на общий современный язык гражданского сознания разнообразные навыки социального мышления и воображения. Это касалось и новых инокультурных подданных империи (например, в присоединенной Грузии), и русских православных крестьян, которым предстояло получить базовые гражданские или даже политические права.
Вряд ли Александр I и его окружение видели эту проблему так же, как она воспринимается сегодня с дистанции двух столетий. Однако серию последовательных «реакционных» мер, предпринятых правительством на протяжении всего правления Александра, которые внешне прямо противоречили его «либеральным» инициативам, можно наиболее просто объяснить именно поиском единой гражданской базы для реформируемой империи. Вероятно, вообще является заблуждением оценка планов имперского правительства в идеологических категориях: как в «демократических», «либеральных», так и в «консервативных» или «реакционных». Речь шла о решении структурных проблем поддержания передового статуса Российской империи в соответствии с новым пониманием «европейскости». В рамках этой задачи конкретные решения могли быть более или менее радикальными, но если будущее признавалось за государством, опирающимся на единую инициативную нацию, а не на пассивных разномастных подданных, то необходимо было, в частности, решить вопрос: как добиться «гражданского» взаимопонимания с большинством населения — крестьянами?
Современные историки немедленно добавили бы, что эта прикладная задача решалась в формирующемся модерном («буржуазном») обществе путем замены прямого контроля над населением косвенным. Вынужденно избирательное непосредственное применение физической власти солдатом, полицейским или помещиком заменялось на всеохватывающую и постоянную «ментальную» власть общественных дискурсов — распространенных в обществе и поддерживаемых как «сами собой разумеющиеся» воззрений на нормы социального поведения. Общераспространенные воззрения и оценки формируются всеми участниками культурной среды, а основными каналами приобщения к сфере этих универсальных представлений являются наиболее массовые институты социализации: церковь, школа и армия. Максимальное распространение «дискурсивная власть» приобретает в массовом обществе всеобщей грамотности, в котором газеты, а позже телевидение и интернет становятся основной — «мягкой» — формой контроля и управления. Уже в XVIII в. феномен европейского Просвещения стал возможен благодаря формированию островков преимущественно элитной сферы дискурсов, в которой рассуждения философов приобретали авторитет, которому подчинялись монархи. Александр I не мог реалистично надеяться на то, что абстрактные представления об общественном благе и нравственном императиве заменят бывшим крепостным крестьянам власть помещика, лично определяющего, что такое хорошо и что такое плохо (от трудовой дисциплины до выбора супруга). Но какие-то азы общих ценностей были необходимы для всех участников будущей политической нации.
Так или иначе, но параллельно с проектами конституционной реформы Александр I демонстрировал огромный интерес к различным религиозным доктринам, претендующим на главенство в обществе. То, что эти доктрины, которыми в разное время увлекался Александр, находились в жесткой оппозиции друг другу, только подчеркивает прагматическую подоплеку его поисков. Его интересовала не столько религия, сколько «идеология»: четкая система взглядов, которую можно было распространить на все слои общества в целях поддержания политического контроля над ним. В 1803–1812 гг., параллельно с реформаторской деятельностью Сперанского, особое влияние на Александра оказал проживавший в Петербурге французский аристократ граф Жозеф де Местр (1753−1821), католический философ-консерватор. Он был известен тем, что традиционным языком христианской (католической) церкви формулировал современные идеи, прежде выражавшиеся лишь философами Просвещения, скомпрометированного в глазах умеренных «европейцев» французской революцией. Он отстаивал политическую программу монархизма не ради приверженности старине, а как современный политический выбор, как следование божественному замыслу, для постижения которого требуются активные рациональные усилия. Так, де Местр обращался к французским эмигрантам: «Вы должны узнать, что значит быть роялистами. Прежде это был инстинкт, но теперь это наука». Его рассуждения о конституции (в книге 1796 г.) вполне резонировали с проблемами реформирования России в условиях структурной имперской ситуации, с которыми столкнулись сотрудники Александра I:
В своей жизни мне довелось видеть Французов, Итальянцев, Русских и т.д.; я знаю даже, благодаря Монтескье, что можно быть Персиянином; но касательно общечеловека я заявляю, что не встречал такового в своей жизни… конституция, которая создана для всех наций, не годится ни для одной: это чистая абстракция, схоластическое произведение, выполненное для упражнения ума согласно идеальной гипотезе и с которым надобно обращаться к общечеловеку в тех воображаемых пространствах, где он обитает. Что же есть конституция? не является ли она решением следующей задачи? При заданных населении, нравах, религии, географическом положении, политических отношениях, богатствах, добрых и дурных свойствах какой-то определенной нации найти законы, ей подходящие.
Александр I настолько был покорен способностью де Местра складно увязывать практические государственные вопросы с божественным замыслом, что в феврале 1812 г. (накануне отставки Сперанского) предложил ему стать своим личным секретарем и редактировать все официальные документы, исходившие от императора. Однако де Местр отказался перейти на российскую службу, что сильно охладило к нему Александра. Впрочем, это не помешало ему освоить историческую философию де Местра об особом божественном предназначении каждой «нации» (в смысле народа-государства).
Одновременно с охлаждением к католику де Местру, Александр I обращается к противоположному спектру христианской мысли — к протестантским мистикам. Если де Местр формулировал «нереволюционным» языком идею национальной исключительности и главенство Папы Римского над светскими и духовными властями, то новые духовные авторитеты императора поддерживали экуменическое (общецерковное) отношение к религии и идеал «общехристианского государства». В январе 1813 г. в России было открыто Библейское общество, целью которого был перевод Священного Писания на местные языки и широкое распространение Библии среди населения, вне конкретных церковных рамок. С самого начала активное участие в работе общества приняли православные и католические епископы, протестантские пасторы разных деноминаций. Первое Библейское общество возникло в Англии в 1804 г., продемонстрировав активную миссионерскую деятельность как среди нехристианских народов, так и среди низов английского общества, крайне поверхностно затронутых религией. В Российской империи ситуация была еще драматичнее: даже номинально православное русское крестьянство имело самое общее представление о христианском вероучении. У крестьян не было ни достаточного количества изданий Библии, ни навыков понимания церковнославянского текста. В 1816 г. Александр I поручил перевод Нового завета на современный русский язык, и в 1818 г. Библейское общество впервые издало перевод Евангелий. В 1818–1822 гг. было напечатано и распространено 111 тыс. экземпляров Нового завета — колоссальный тираж для российской печати того времени. Сознательное восприятие Нового завета должно было включить широкие слои простолюдинов в общее пространство публичного дискурса, хотя бы опосредованного религией. Перефразируя де Местра, можно сказать, что изменялось значение христианства: «прежде это был инстинкт, но теперь это наука». Общехристианская духовность казалась надежной основой для будущей политической нации. Во всяком случае, Уставная грамота Новосильцева прямо исключала из нее иудеев, невзирая на их социальный и имущественный статус:
Все евреи, не исключая и тех, кои записаны в гильдии или имеют недвижимую собственность, участия в собраниях окружных градских обществ не имеют.
В октябре 1817 г., накануне начала работы над Уставной грамотой, было образовано министерство духовных дел и народного просвещения (к бывшему министерству просвещения добавили управления духовных дел Священного синода, ведавшие всеми конфессиями, кроме буддизма). И церковные деятели, и деятели просвещения были не в восторге от этого решения, продиктованного сугубо политическими практическими соображениями подготовки общей идейной основы для формирования политической нации.
Военные поселения
Помимо церкви и школы, на службу воспитания основ общего гражданства была поставлена армия. В отличие от призывной армии поздних эпох, армия Российской империи состояла из рекрутов, поставляемых, главным образом, крестьянами. В 1793 г. срок службы был ограничен 25 годами. Таким образом, армия одновременно и открывала возможность правительству влиять на бывших крестьян, прививая им нужные социальные навыки (грамотность, гигиену, самодисциплину), и не позволяла использовать этот человеческий капитал в деревне, куда отслужившие возвращались слишком поздно и то только если не селились в городе. Одновременно с разработкой конституционных проектов Сперанского и Новосильцева, а также параллельно с выработкой общегражданской идеологии «общехристианского государства», правительство Александра I предприняло попытку прямого воспитания образцовых граждан из представителей самых нижних слоев населения. В 1810 г. начался масштабный эксперимент: учреждались военные поселения солдат регулярной армии в рационально организованных деревнях. Подобно стрельцам Московского царства, солдаты жили в избах с семьями и занимались сельским хозяйством в свободное от боевой подготовки и походов время. Но, в отличие от стрельцов, их мирный быт был подчинен рациональной организации труда и досуга, под контролем начальников и с соблюдением воинской дисциплины. Предполагалось создать слой полностью контролируемых и зависимых от государства вооруженных людей, которые сочетали бы в себе добродетели преданного солдата и доброго крестьянина, живущего обеспеченно и счастливо благодаря сознательности и дисциплине — своего рода суррогатный идеальный народ.
Проект военных поселений с полным правом можно охарактеризовать как «социальную инженерию»: формирование элементов нового общественного устройства с заданными свойствами. Ставшая отличительной чертой ХХ века, с его социальными революциями, этническими чистками, перемещениями населения, экспериментами с образом жизни и т.п., социальная инженерия масштаба военных поселений была практически неизвестна в начале XIX в. за пределами России. Некоторые историки сравнивали российские военные поселения с фаланстерами (самодостаточными коммунами, трудящимися вместе для взаимной выгоды), придуманными одним из ранних представителей утопического социализма Шарлем Фурье (1772–1837) в начале 1830-х гг. и осуществленными несколькими энтузиастами в Европе и Америке, но военные поселения возникли много раньше.
Идея военных поселений принадлежала, по-видимому, самому Александру I, который навязал ее практическое воплощение председателю департамента военных дел в Государственном совете (впоследствии военному министру) графу Александру Аракчееву (1768–1836). Сначала в 1810 г. на границе империи в Могилевской губернии (на территории нынешней Беларуси) на новых принципах разместили один запасной батальон. 4 тысячи местных крестьян были переселены в Новороссию, на что из казны выделили огромную сумму в 70 тыс. рублей. Кроме того, заселившимся в оставленные дома солдатам выдавались сельскохозяйственные орудия, скот и семена по рационально рассчитанной норме. Расходы на снабжение регулярного армейского батальона были на порядок меньше, чем заведение образцовых военных поселений. Тем не менее, в 1816 г. этот эксперимент был продолжен — на этот раз, целая крестьянская волость в Новгородской губернии была передана для военного поселения гренадерского батальона. В 1817 г. Аракчеев был назначен главным начальником военных поселений, которые стали стремительно расширяться в Новгородской и Могилевской губерниях, а также в Новороссии. К 1825 г. поселения включали в себя 18 пехотных и гренадерских полков, 16 кавалерийских полков и две артиллерийские бригады. В 1821 г. все военные поселения объединили в Отдельный корпус военных поселений, во главе которого встал Аракчеев.
Если первые военные поселения начались с выселения местных жителей (государственных крестьян), то в дальнейшем местные жители сами зачислялись в военные поселенцы. Их переодевали в военную форму, подчиняли полувоенным правилам жизни в поселениях и обязывали, помимо крестьянских работ, заниматься строевой подготовкой. И бывшие крестьяне, и бывшие солдаты, ставшие военными поселенцами по приказу императора, освобождались от налогов, обеспечивались домами и скотом для ведения хозяйства, а также бесплатным медицинским обслуживанием в госпиталях, которые строило для них военное министерство. Их дети с шести лет зачислялись в кантонисты (юные солдаты) и должны были посещать школы, где обучались грамоте, письму, арифметике и ремеслам. В поселениях ломался традиционный крестьянский календарь работ и праздников, отменялись заведенные обычаи и соседские отношения. Поселенцы организовывались в роты, им предписывалось, как следует себя вести и одеваться, даже для детей шили мундиры. «Положения», регулировавшие жизнь военных поселений, предусматривали все мелочи, вплоть до указаний, как и где хранить сено и дрова, как чистить трубы и где копать колодцы. Поселенцев лишали малейшей свободы выбора. Они должны были следить друг за другом и доносить о нарушениях, которые карались наказаниями, вплоть до телесных. За несоблюдение правил, плохой внешний вид и нерадивое хозяйствование батальонные командиры могли лишить поселянина той собственности, которая предоставлялась ему государством. В то же время, в поселениях не знали голода и нищенства, там преследовалось пьянство, запрещалось даже курение, внедрялись правила гигиены, дети обязательно получали прививки от оспы. Командиры следили, чтобы все поселенцы были женаты и имели детей, внебрачные отношения считались серьезным проступком.
Для начала XIX века это была совершенно революционная социальная политика, сочетавшая крайнее принуждение с культивированием общественно полезных навыков, основанных на передовом научном знании. Во второй половине ХХ в. регулирование гендерных отношений, установление стандартов здоровья и физической полезности как отражающих социальную ценность человека, навязывание норм проявления телесности назовут «биополитикой», на которую в широких масштабах способны только современные тоталитарные государства. В начале XIX в. беспрецедентность проекта военных поселений вызывала сложные чувства у современников. Императрица Елизавета Алексеевна, жена Александра I, писала:
Устройство военных поселений несколько сходно со способом действия победителей в покоренной стране, я не могу не согласиться, что это на самом деле произвол, но во многих отношениях столь же очевидна и польза, какую это мероприятие может в будущем принести государству.
Биополитика военных поселений начала XIX в. напрямую вытекала из идей «европейскости», отразившихся в проектах регулярного государства, прогресса как реорганизации общества на более рациональных началах, или формирования нового человека в результате воспитания. Александр I предвосхитил социальные эксперименты XX века и, судя по всему, руководствовался сугубо идеологическими соображениями. Непосредственным толчком для него послужили военные реформы в Пруссии, начатые в 1807 г. после поражения от французской армии Наполеона. Военный министр Герхард фон Шарнхорст и первый министр Генрих фом унд цум Штейн реформировали барочное прусское общество в более современное государство нации, закладывая основы общегражданской солидарности. Отмена крепостного права сочеталась с реформой армии, которую Шарнхорст по примеру победоносной революционной французской армии предлагал рассматривать как вооруженный народ. Одной из принятых мер было создание резерва — ландвера, военная структура которого совпадала с территориальным делением. Так, несколько деревень, сопоставимых с российской волостью, служили основой для роты ландвера, со своим складом оружия и снаряжения. Добровольные военные занятия проводились по воскресеньям, под руководством кадрового военного. Первая категория резервистов проходила обязательные учения с регулярной армией на протяжении 2-4 недель в году, с ночевкой дома; вторая категория обучалась восемь дней в году. Шарнхорст приезжал в Петербург на переговоры в 1811 г., Штейн поступил на российскую службу в 1812 г., так что информацию о военной реформе можно было получить из первых рук.
Очевидно, однако, принципиальное отличие прусского сценария «вооруженного народа» (живущего обычной жизнью и лишь получающего военную подготовку в свободное время) от сценария «армейского народа» Александра I. Никто не навязывал жесткий сценарий биополитики в Пруссии, зато в России военные поселения призваны были создать идеальную нацию на низовом уровне. Вот почему Александр I упрямо отстаивал свой утопический проект вопреки сопротивлению приближенных, крестьян и самих солдат, несмотря на скоро ставшую очевидной низкую военную и экономическую эффективность поселенцев и разорительность их содержания для бюджета. Утверждали, что Александр I заявил, что добьется реализации своего плана, «хотя бы пришлось уложить трупами дорогу от Петербурга до Чудова» (то есть до поместья Аракчеева Грузино, которое было взято за образец хозяйственной организации поселений). Когда речь заходит о том, что трупы важнее живых людей (солдат или крестьян), сразу становится понятно, что мы имеем дело с желанием воплотить некие высшие идеалы. Таким идеалом для Александра I не могло быть ни превращение крестьян в дисциплинированных подданных-солдат, ни распространение основ универсальной христианской морали, ни даже провозглашение конституции. Если совместить проводившиеся им — одновременно и весьма последовательно — разнонаправленные преобразования, то складывается цельная картина попытки осовременивания Российской империи. Подчас пугающе авангардные, эти преобразования были нацелены на формирование некой транскультурной общности, которую сегодня корректнее всего назвать «нацией». С сегодняшней точки зрения мы можем выделить в проектах Александра элементы политической, гражданской или даже идеологической нации, но сам он не раскрывал своих планов и целей. Не зря при жизни Александра называли «Загадочный Сфинкс». Впрочем, была сфера деятельности, в которой, кажется, Александр I не скрывал своих намерений и ценностей: внешняя политика.
8.5. Война и мир: Священный союз — нация будущего
Параллельно с внутренними реформами Александр I проводил активную внешнюю политику, которая в первую половину его правления состояла из непрерывной череды войн и территориальных приобретений. Само по себе ведение войны не представляло собой ничего необычного в ту эпоху. Важно даже не столько то, с кем и ради чего воевал Александр I, сколько то, какой образ Российской империи он стремился проецировать вовне, в сфере международных отношений.
В 1804 г. началась длившаяся с небольшими перерывами целое десятилетие война с Персией, вызванная присоединением к Российской империи грузинского Картли-Кахетинского царства, а также аннексией соседних закавказских государств к востоку от Грузии, вплоть до Бакинского ханства на побережье Каспийского моря. Инициатива проведения экспансионистской политики на Кавказе исходила не от Александра: он был против поглощения Картли-Кахетинского царства империей, и члены Негласного комитета в большинстве считали присоединение грузинских земель нелегитимным, о чем прямо говорилось в докладе, составленном Кочубеем в июне 1801 г. Однако еще 18 января 1801 г., незадолго до драматических событий, приведших Александра на трон, был объявлен манифест Павла I о присоединении Грузии, спустя месяц зачитанный в грузинских церквях. В течение полугода Александр пытался найти повод для отказа от провозглашенного манифеста без потери лица, под каким-либо казуистическим предлогом. В итоге он согласился с высшими сановниками, доказывавшими, что находившееся уже двадцать лет под протекторатом России Грузинское царство приходилось теперь либо признать полностью независимым (вывести военный контингент и согласиться с поглощением Грузии Османской империей и Персией), денонсировав манифест Павла, либо полностью зависимым, завершив фактически уже начатое присоединение. 12 сентября 1801 года Александр, при всем своем «крайнем отвращении… к принятию Грузии в подданство России» (по свидетельству генерал-прокурора А. А. Беклешова), издал в Москве манифест о присоединении Грузии.
Будучи во многом заложником сложившихся обстоятельств, Александр I, тем не менее, проявил и собственный выбор в том, что касалось оформления решения об аннексии Грузии. Значительная часть правящей элиты Картлии и Кахетии действительно стремилась к присоединению к России, воспринимая его как наименьшее из зол. Поэтому с осени 1800 г. в Петербурге находилась грузинская делегация, уполномоченная подписать двусторонний договор о присоединении. Подписание такого договора снимало бы вопрос о нелегитимности поглощения суверенного государства Российской империей, и, вероятно, Екатерина II с радостью бы подписала его на месте Александра. Но Александр I не пожелал подписывать договор, и независимое царство было включено в состав Российской империи в качестве одной из губерний. Присоединение Грузии к России было империалистическим актом не столько в силу утраты Грузией суверенитета (коль скоро практический выбор стоял между поглощением мусульманским или христианским соседом, и инициатива в деле объединения исходила от Грузии), сколько в демонстрации высокомерного превосходства Россией, отказавшей даже в формальном знаке уважения суверенитету Грузии. Не вызванная никакой политической или юридической необходимостью (и столь контрастирующая с позднейшим обращением с Финляндией или Польшей), позиция Александра I должна в таком случае объясняться идеологическими и культурными причинами. Можно предположить, что воспринимая Россию как форпост европейской цивилизации, он не мог допустить даже сугубо формального проявления равноправных отношений с провинциальным ближневосточным царством.
В 1806 г. началась и продолжалась до 1812 г. очередная «русско-турецкая» война, закончившаяся включением в состав Российской империи Бессарабии — восточной части Молдавского княжества, которое наряду с Валахией находилось в вассальных отношениях с Османской империей. Впрочем, главным в этой войне было то, что ее вообще не должно было быть: с начала 1799 г. Российская и Османская империи являлись стратегическими союзниками, участниками Второй антифранцузской коалиции вместе с Англией. По договору, Россия предоставляла военную помощь Османской империи и впервые получала — единственная из всех стран — право свободно проводить военные суда из Черного моря в Средиземное и обратно. В сентябре 1805 г. в Константинополе был подписан новый договор на девять лет, подтверждавший положения договора 1799 г. — в том числе, и открывавший Босфор и Дарданеллы для российского флота. Это условие всегда рассматривалось российской внешней политикой как подтверждение статуса России как великой европейской державы — и в XVIII веке, и в ХХ. Можно сказать, что присутствие российской эскадры во «внутреннем» европейском Средиземном море служило проявлением современности и «европейскости» Российской империи — военными средствами. России, вовлеченной в войну с Персидской державой на Кавказе, не была нужна конфронтация со стратегическим союзником — Османской империей. Тем не менее, спустя год после подписания договора 1805 г. правительство султана предприняло ряд недружественных шагов, носивших скорее символический характер: российскому флоту был закрыт проход через Дарданеллы и были смещены без согласования с Петербургом (обязательного по условиям договоров) правители двух дунайских княжеств — Валахии и Молдавии. Российская дипломатия заявила официальные протесты, оставшиеся без ответа. Тогда, без официального объявления войны, в ноябре 1806 г. 40-тысячная российская армия быстро оккупирует оба княжества (см. карту).
Не вдаваясь в нюансы интерпретации политических и военных обстоятельств, важно подчеркнуть бесспорные аспекты действий российского правительства: прямой или косвенной военной угрозы Российской империи в Приднестровье не существовало; оккупация двух княжеств, вассальных Османской империи, являлась актом прямой агрессии; 40-тысячный экспедиционный корпус заведомо не был способен удержать завоеванные территории в случае полномасштабной войны, а резервов для наращивания группировки почти не было, учитывая продолжавшуюся войну с Персией и сложную ситуацию в Европе. Спустя полтора месяца после начала российского вторжения Османская империя объявила войну России, боевые действия велись на широком фронте, на Днестре и в Закавказье, и завершились лишь спустя пять с половиной лет. По итогам войны Россия вывела войска с занятых в начале войны территорий, за исключением восточной, самой пустынной и бедной части Молдавского княжества. При этом договор 1812 г. не восстанавливал права свободного прохода российского флота из Черного в Средиземное море. Затяжной войны, шансы на победу в которой были скромны и в результате которой не удалось даже восстановить статус-кво, вполне можно было избежать. Вероятно, ее и пытались избежать в Санкт-Петербурге, не объявляя войну официально вопреки цивилизованным обычаям эпохи. В таком случае российская оккупация дунайских княжеств может объясняться лишь желанием оказать давление на Османскую империю, с целью обменять княжества на восстановление свободного доступа флота в Средиземное море. Если же российские власти с самого начала хотели развязать войну, то столь острую их реакцию на символическую обиду объясняет лишь боязнь уронить престиж великой державы в глазах «восточного» соседа (впрочем, строго говоря, Стамбул находится почти на полтора градуса западнее Санкт-Петербурга). В обоих случаях настоящая причина находилась далеко от бессарабских степей и черноморских проливов — в «Европе», полноправную принадлежность к которой стремилось доказать правительство Александра I. Меняющееся понимание передовой «европейскости» ставило под вопрос достижения Российской империи предыдущих десятилетий, оттого так болезненно воспринималось даже символическое покушение на престиж России со стороны «восточной» Османской империи.
Главную угрозу представляла не Персидская или Османская держава, а динамичная Французская империя под властью Наполеона Бонапарта. Если Французская республика была слишком радикальной политией для того, чтобы мериться с ней степенью «европейской» цивилизованности, то провозглашение в 1804 г. Французской империи неизбежно навязывало сравнение двух имперских систем. Наполеоновская Франция бросила вызов Российской империи, не только предложив новую и, по-видимому, крайне успешную версию современности — как могущественное государство, опирающееся на солидарность единой гражданской нации, — но и буквально, как великая держава. В 1805 г. Россия вместе с Австрией и Швецией присоединилась к Великобритании в войне с Французской империей, однако потерпела сокрушительное поражение в битве при Аустерлице (в современной Чехии). После этого Россия продолжила военные действия против Франции с новым союзником, Пруссией, но наполеоновская армия нанесла серьезные поражения обоим противникам. В июле 1807 г. между Россией и Францией был подписан Тильзитский мир, имевший двоякие последствия для России. С одной стороны, она должна была отказаться от прежнего курса и вступить в формальный союз с Францией, но с другой — после поражения Австрии и Пруссии — приобрела статус ведущей державы в восточно-центральной Европе. Сложная система внешнеполитических сдержек и противовесов была разрушена, и контроль над континентальной Европой оказался поделен между двумя силами: Францией и Россией. Ни та, ни другая сторона не видела необходимости в сохранении возникшего равновесия на долгий срок, и начало новой большой войны оставалось лишь вопросом времени.
12 июня 1812 г. Великая армия под командованием Наполеона начала переправу через пограничную реку Неман в Литве, вторгшись на территорию Российской империи. Началась Отечественная война 1812 г. против наполеоновского вторжения в Россию. 31 марта 1814 г., после подписания капитуляции Парижа, российские гвардейские полки во главе с Александром I вступили в город, символически подводя итоги десятилетнему соревнованию двух империй.
Первый этап войны 1812 г. обещал французской армии очередную победу, хотя события развивались не по планам Наполеона — он собирался быстро завершить кампанию, разгромив противника в большом приграничном сражении. Однако вместо того, чтобы принять вызов, российская армия отступала с июня по сентябрь 1812 г., затягивая французскую армию вглубь страны. Генеральное сражение состоялось лишь 7 сентября 1812 г. у села Бородино в 125 км к западу от Москвы. Исход этой 12-часовой битвы с огромным числом жертв с обеих сторон (30-34 тысячи убитых и раненых во французской армии и 40-45 — в российской) оказался неопределенным: армии Наполеона удалось захватить позиции противника в центре и на левом крыле, но после прекращения боевых действий обескровленная французская армия отошла на исходный рубеж. В российской историографии принято считать, что армия под командованием генерала М. И. Кутузова одержала под Бородином победу, несмотря на то, что на следующий день он отдал приказ к отступлению в связи с большими потерями и из-за подхода резервов к французскому войску. Российская армия оставила Москву, в которой при вступлении французской армии возник масштабный пожар (наиболее вероятно, вследствие организованных московским генерал-губернатором Федором Ростопчиным поджогов и сильного ветра, быстро распространившего огонь). Взятие пустого и разоренного пожаром города французами также трудно было назвать победой. Понимая невозможность зимовать в Москве, 19 декабря Наполеон с армией покинул Москву в направлении Старой Калужской дороги, планируя добраться до крупной продовольственной базы в Смоленске по не разоренной войной местности через Калугу. Но дорогу на Калугу перекрыла армия Кутузова, заставившая французскую армию отступать на запад по старой смоленской дороге — пути осеннего наступления на Москву.
Второй этап войны прошел под знаком изгнания наполеоновской армии из пределов России. Сильные морозы, отсутствие продовольствия в уже разграбленных деревнях, поощряемая и направляемая правительством народная партизанская война и преследование российской армии вынудили французскую армию отступать до границ России. Наполеон, фактически, бежал, спасая себя и остатки Великой армии от окружения. Последний этап войны связан с заграничными походами российской армии (1813–1814), преследовавшими цель разбить Наполеона на польских землях, а затем на территории Центральной и Западной Европы. Эта цель была достигнута в союзе с Пруссией, Англией, Австрией, Швецией и рядом других государств, составивших коалицию. Боевые действия завершились в 1814 г. взятием Парижа и отречением Наполеона от власти.
Странные военные победы (Кутузова при Бородино или Наполеона, занявшего Москву) подчеркивают необычный характер этой войны. По крайней мере, для Александра I и его соратников главный смысл противостояния с Наполеоном заключался не столько в переделе сфер влияния в Европе и даже защите страны от внешней угрозы, сколько в отстаивании статуса Российской империи как передовой («европейской»). Французская империя Наполеона обладала реформированным государством, опирающимся на гражданскую нацию, и распространяла на завоеванные территории не просто власть императора, а особую версию модерности, воплощенной в Гражданском кодексе. Противостоять этой экспансии должна была не просто армия рекрутов, набранных из крепостных крестьян (периодически терпящая поражения от французов после 1804 г.), но конкурентоспособная версия современности. Не случайно приказ по армиям, отданный Александром после начала вторжения Наполеона в пределы империи, звучит столь необычно — как будто обращен не к российским, а французским подданным:
Не нужно мне напоминать вождям, полководцам и воинам нашим о их долге и храбрости. В них издревле течет громкая победами кровь славян. Воины! Вы защищаете веру, отечество и свободу. Я с вами. На начинающего Бог!
6 июля был объявлен «Манифест ко всему народу о всеобщем вооружении» — совершенно беспрецедентный в истории Российской империи призыв к нации, структурно параллельный и воспроизводящий основные положения французского революционного декрета 11 июля 1792 г. «Отечество в опасности». Никакого «всего народа» не существовало в России ни в виде гражданской, ни в виде этнокультурной, ни в виде политической (сплоченной ценностями) нации — однако же Александр I полагал, что именно таким должен быть ответ на вторжение наполеоновской Франции:
Более того, в такой интерпретации это Наполеон возглавлял архаичную — поскольку сложносоставную — империю «двунадесяти языков» («собранные им разнодержавные силы»). Александр же был императором единых «сынов России». Правда, большая многословность манифеста 1812 г. по сравнению с лаконичностью декрета 1792 г. объясняется необходимостью описать «граждан» длинным перечнем социальных групп, теоретически могущих образовать общую гражданскую сферу. Примечательно обращение к этнокультурной версии нации (народ русский — славяне): по сравнению с альтернативными версиями, она была наименее абстрактной в то время. Главным же отличием риторики Александра I были не только высшие ценности, которые необходимо было отстоять от врага («спокойствие» державы, а не конституцию), но и апелляция к Богу как верховному гаранту политических замыслов. После отступления французских войск из России тема божественного провидения становится центральной в текстах Александра I, и в манифесте «Об изгнании неприятеля из России» главный вывод из драматичной кампании 1812 г. делается такой: «Итак, да познаем в великом деле сем промысел Божий». Можно спорить о степени личной религиозности Александра I, но важно подчеркнуть, что в понятие «промысел Божий» он вкладывал не только теологический смысл, но и то, что несколько позднее назовут «законами истории». В обоих случаях речь идет о некой высшей силе, управляющей человечеством, поэтому победа в войне меньше всего объясняется переменчивой фортуной или индивидуальным героизмом, воспринимаясь как объективное подтверждение исторического превосходства одного общества над другим.
Соответственно, Александр I осмыслил победу над Наполеоном как результат триумфа аморфной, но все же единой «евангельской нации» общих ценностей. Эта философия легла в основу созданного в 1815 г. по инициативе Александра I нового международного объединения — Священного союза, к которому со временем присоединились все правители континентальной Европы, включая республиканскую конфедерацию Швейцарии и немецкие вольные города, которые обязывались руководствоваться заповедями Евангелия. Первоначальный текст союзного договора, составленный лично Александром, вызвал недоумение будущих союзников — австрийского императора и прусского короля — своей высокопарной евангельской риторикой и отсутствием упоминания каких-либо конкретно-политических целей союза. Документ требовал от властей и их подданных «почитать всем себя как бы членами единого народа христианского». Император Франц I Австрийский и король Фридрих Вильгельм III Прусский несколько «подсушили» откровенно апокалиптически-мессианскую риторику единой европейской христианской державы и подчеркнули принцип сохранения государственного суверенитета отдельных членов союза.
С точки зрения стандартов дипломатического языка и внешнеполитической логики начала XIX в., идея и риторика союзного договора казались странными пережитками средневековья, едва ли не эпохи крестовых походов. Европейские правители решили, что таким образом Александр I формулирует консервативную программу незыблемости старых порядков, и ради такого — понятного и близкого — прагматического принципа согласились вступить в этот странный союз. В 1818–1822 гг. были созваны несколько конгрессов Священного Союза, которые играли роль одновременно совещательного органа, международного трибунала и совета военно-политического блока. На одном из конгрессов, в Троппау (сейчас город Опава в Чехии) в 1820 г., по инициативе австрийского канцлера князя Меттерниха был принят итоговый документ, предоставлявший право союзу вводить войска в другие страны для подавления революционных выступлений, чем союз не раз пользовался, вмешиваясь в революционные восстания в итальянских государствах, Испании и Греции. Благодаря этому аспекту деятельности Союза он и вошел в историю с репутацией крайне реакционной организации.
Александр действительно считал недопустимым революционную смену власти, но имел в виду, видимо, нечто иное, когда сочинял хартию нового Союза (иначе он назвал бы его, как в XVIII в., «союз черных орлов» или, на худой конец, «союз трех государей»). «Священный союз» должен был юридически закрепить статус Российской империи как равноправного члена европейской современности («единого народа христианского»), как на международной арене, так и во внутреннем устройстве, благодаря торжеству нации в смысле общности ценностей и священного союза подданных и государя. Священный союз — это попытка буквального воплощения на практике абстрактной идеи «европейской цивилизации» при помощи политических институтов, в определенных территориальных границах.
Как выяснилось довольно скоро, собственную «европейскость» нельзя зафиксировать раз и навсегда, даже путем подписания договора на высшем уровне. Утопичной была и идея объединить в одном политическом союзе страны, десятилетиями и даже столетиями враждовавшие, разделенные противоположными экономическими и стратегическими интересами. К концу 1820-х гг. Священный Союз начал распадаться, превращаясь в то, чем он, собственно, и был изначально — идеологическую декларацию консервативной версии «европейскости». Впрочем, от инициативы Александра I нельзя просто отмахнуться, как от беспочвенного прожектерства. Его идея о политическом объединении европейских стран на основе неких общих ценностей имела далеко идущие исторические последствия. Священный Союз с его конгрессами — один из прямых и важных предшественников современного Европейского союза и общеевропейских координационных и юридических институтов.
Точно так же и проект «единого народа христианского» как нации общности ценностей, способной объединить подданных Российской империи, не был совершенно утопичным. Сама по себе империя не противоречит принципу нации (как доказал Наполеон), но многоуровневая пестрота имперской ситуации не совместима с идеей горизонтальной однородности нации, охватывающей целиком все слои общества, одной и той же во всех краях. «Национализация» Российской империи — задача воистину наполеоновского масштаба, но именно эту задачу пытались решать все преемники Екатерины II на троне. В первой четверти XIX в. в претендующей на современность Российской империи не существовало институциональных механизмов для связи регулярного государства и нации (в любой версии — как горизонтальной солидарности равных участников политического союза). Не было рационализированной системы законодательства — подобно Кодексу Наполеона, и не было кадров профессиональных бюрократов, способных поддерживать работу государства как «бездушной бюрократической машины» (в соответствии со старым камералистским идеалом) — независимо от личных интересов и симпатий чиновников, в строгом соответствии с буквой инструкции или закона, одинаково действующего в любой точке страны, по отношению к любому ее гражданину. Ликвидацией этого пробела занялся преемник Александра I на троне Российской империи, его младший брат Николай Павлович.
8.6. Нация против империи Николая I
Смена лидера, преемственность миссии
Отличавшийся хорошим здоровьем сорокасемилетний Александр I неожиданно скончался 19 ноября 1825 г. от лихорадки с воспалением мозга в Таганроге на Азовском море, куда царская семья прибыла в сентябре: врачи рекомендовали императрице провести холодный сезон на юге, а не в Петербурге. Вместо огромного Зимнего дворца в Петербурге Александр с женой поселились в одноэтажном каменном доме в 13 окон по фасаду. Придворный этикет был сведен к минимуму, Александр и императрица Елизавета Алексеевна (урожденная Луиза Мария Августа Баденская) сами ходили на базар, император удивлялся местной дешевизне. Расставлял мебель в кабинете, забивал гвозди в стену, чтобы вешать картины и, якобы, приговаривал: «Надо, чтобы переход к частной жизни не был резок». Неожиданная смерть Александра от простуды, неумелое бальзамирование в провинциальном Таганроге (исказившее черты), невысокий ранг свидетелей смерти императора, его демонстративное стремление к простой частной жизни накануне смерти породили слухи о том, что он лишь инсценировал свою смерть, чтобы уйти от государственных дел и замаливать грех цареубийства и отцеубийства, омрачавший все его царствование. Наиболее популярная легенда отождествляет Александра и сибирского старца Федора Кузьмича (1777?–1864), загадочного богомольца явно аристократического происхождения, в котором начали «узнавать» покойного императора еще в 1830-х годах.
Неожиданное известие о смерти Александра I вызвало политический кризис в столице: встал вопрос о престолонаследии. Втайне этот вопрос был улажен среди сыновей Павла I еще в 1823 г.: средний брат Константин Павлович отрекся от прав на престол в пользу младшего брата Николая, и Александр принял отречение. Однако об этом — как и о многих других важнейших политических решениях Александра I — не знали даже высшие сановники, тем более широкие круги общества. 27 ноября войска и чиновники принесли присягу Константину, однако он не принял престол — но и не отказался. На 14 декабря была назначена «переприсяга» Николаю, чем воспользовались участники тайных обществ заговорщиков, уже не один год разрабатывавших планы смены государственного строя в Российской империи. Часть заговорщиков была настроена радикально-республикански, другая ориентировалась на режим конституционной монархии, но обе группы соглашались с необходимостью немедленного провозглашения конституционного строя. Участников декабрьского выступления 1825 г. назвали декабристами, о них пойдет речь специально в следующей главе. Пока же отметим, что заговорщики (большей частью офицеры армии и флота) решили воспользоваться юридическим казусом освобождения от присяги, чтобы принудить Николая отречься от престола и вовсе уничтожить институт самодержавной монархии. Им удалось вывести на центральную Сенатскую площадь в Петербурге преданные им войска, однако пассивная демонстрация силы не привела к ожидаемым результатам, и к вечеру восстание было подавлено. Николай Павлович Романов стал российским императором на следующие три десятилетия (1825–1855 гг.).
Взошедший на престол император Николай I воспринял выступление декабристов, прежде всего, как акт государственной измены (нарушение присяги и покушение на цареубийство), а не манифестацию альтернативной позиции, возможно, заслуживающую внимания. То, что попытка государственного переворота такого масштаба в первый раз за сто лет закончилась неудачей, можно объяснить как раз его «нестандартностью». Впервые в российской истории заговорщики попытались осуществить военный переворот не ради замены одного монарха другим, а с целью реализации определенной политической программы государственных преобразований. Здесь важно подчеркнуть отчетливо «национальный» характер революционности декабристов: они очень остро отреагировали на объявление планов Александра I поставить Царство Польское в привилегированное положение в империи, даровав особую конституцию (вплоть до обсуждения цареубийства в 1817 г.), мечтали возродить «древнерусские» титулы и учреждения (называя себя «боярами», а намечаемое учредительное собрание «вечем»), но главное, намеревались законодательно сформировать единую политическую нацию. В этом отношении они не отличались от имперской власти, которая пыталась реализовать проект нации одновременно на нескольких — тех же самых — уровнях: полноценной европейской державы, этнокультурного единства народа и политической нации граждан. Декабристы не знали о замыслах Александра I или не соглашались с его подходом к реформам, демонстрируя проблему множественной субъектности имперского реформизма. Но и Николай I, не принявший радикальную версию нациестроительства (предоставление политического представительства некой единой гражданской или культурной нации), продолжил следование той же логике «европеизации» посредством интеграции «подданных» в общую имперскую нацию. Даже если его интересовала лишь устойчивость политического режима, действия Николая I свидетельствовали о том, что единственным практическим рецептом сохранения статус-кво было пребывание Российской империи в ранге европейской державы — то есть наиболее современного общества. В XIX веке это предполагало обладание безусловным суверенитетом верховной власти («самодержавие»); посткамералистской государственной машиной; и нацией как коллективным субъектом государства, конечным потребителем «общественного блага». Николай I действовал по всем трем направлениям — с разной степенью успеха, тем более что задачи каждого из них были различны по масштабу.
Самодержавие как современный режим суверенитета
Николай I снискал заслуженную репутацию реакционера и противника политической свободы. В то время как во многих современных обществах существовала система политического представительства во власти — пусть и с крайне тонкой прослойкой полноценных граждан — в Российской империи парламента не было, и это являлось одним из главных обстоятельств, компрометирующих ее «европейскость». Впрочем, отсутствие парламента можно считать лишь проявлением куда более фундаментальной проблемы: условно обозначенного нами в прошлой главе «гоббсовского», а не «локковского» принципа организации имперского общества. В структурной «имперской ситуации» разрозненных сообществ Северной Евразии, объединенных под властью Российской империи, не существовало никакой исходной общности (культурной, сословной, религиозной), на основе которой можно было бы созвать представительный орган власти, чьей заботой стало бы совершенствование государственного устройства. Как показывает история конституционных проектов Александра I, создание общеимперской системы политического представительства упиралось в два главных препятствия: недостаточность существующего государственного аппарата и отсутствие общеимперской «нации», в той или иной версии горизонтальной солидарности.
Можно представить себе последствия введения парламентаризма императорским указом в 1825 или 1835 гг., без решения тех проблем, над которыми бились Сперанский и Новосильцев: в лучшем случае, была бы воспроизведена барочная политическая система Речи Посполитой, вырождающаяся в аристократическую олигархию шляхетская республика. В худшем — произошел бы раскол между допущенными к выборам привилегированными верхушками разных исторических земель. В обоих случаях верховная власть в империи утрачивала бы суверенный («самодержавный») характер, главное достижение политических режимов Северной Евразии XV–XVI вв. При этом утраченный суверенитет не доставался никакой политической нации — общеимперской или некой региональной, этнонациональной, а просто распылялся между аристократами и помещиками, объединяющими власть и собственность на земли и крестьян в нерасчленимое целое, как в средневековом «феодализме». Может быть, на обломках Российской империи могла бы со временем возникнуть некая новая версия современного общества, но Николай I видел своим долгом сохранение империи и не считал оправданным даже временный откат в архаическое состояние аристократической олигархии и дворянской вольницы.
Защита суверенного — полностью независимого от внешних сил — характера верховной власти как атрибута современной («европейской») державы выглядела насаждением отсталого («азиатского») самодержавия не только по контрасту с конституционными европейскими режимами. В самом российском обществе уже существовал социальный слой, для которого свобода публикации книг или идеи политического представительства являлись важной ценностью, и с точки зрения этого слоя людей режим Николая I был безусловно консервативен и даже реакционен. С сегодняшней дистанции мы можем охарактеризовать реакционность этого режима как достаточно «современную», напоминающую скорее авторитарную систему, чем власть деспота былых столетий. При всех личных капризах и эксцессах, власть императора воспринималась как воплощение государственной системы, а он сам — как главный чиновник в государстве, действующий в основном в рамках законов. Его реакционный политический курс опирался на современные государственные институты, от системы цензуры (был создан специальный Главный цензурный комитет) до учреждения политической полиции (Третье отделение Собственной его Императорского Величества канцелярии, 1826 г.). Вооруженной силой Третьего отделения был Корпус жандармов — так называемая «наблюдательная полиция», учрежденная императорским указом от 28 апреля 1827 г. Несмотря на сравнительную малочисленность штата — 16 чиновников Третьего отделения и 4278 жандармов (по одному на 10500 жителей империи) — современникам новая организация казалась воплощением тотального контроля государства над обществом.
Польское восстание 1830 г. как тест
Помимо «национально-гражданского» восстания декабристов, установлению реакционного политического климата николаевского царствования способствовало и «национально-сепаратистское» восстание в Царстве Польском в ноябре 1830 г. Формально включенное в состав России, Царство Польское обладало признаками собственной государственности, за исключением свободы внешней политики. В Царстве действовали собственная конституция и парламент (польский Сейм), правительство, собственные вооруженные силы (30-тысячная армия содержалась на средства имперского бюджета). Раздражавшие польское общество частые случаи нарушения автономии воспринимались как нарушение именно с точки зрения представления о полной автономии Польши. С точки же зрения Санкт-Петербурга, Царство Польское являлось частью империи, а потому вмешательство в дела польских властей — будь то введение предварительной цензуры или преследования по политическим мотивам — никак не считалось незаконным.
29 ноября 1830 г. в Варшаве вспыхнуло организованное восстание. Для начала восставшие попытались убить наместника, бывшего кандидата на имперский трон великого князя Константина Павловича, однако ему удалось бежать из дворца. На своем пути во дворец заговорщики убили обер-полицмейстера Варшавы Михала Любовидского (Michał Lubowidzki), гардеробщика, лакеев, а после — адъютанта Константина, генерала Алексея Жандра. В ту же ночь восставшие убили и шесть польских генералов, сохранивших верность присяге, в том числе военного министра, захватили арсенал и напали на казармы частей имперской армии — уланского и кирасирского полков. Наместник Константин бежал из Варшавы и вывел все российские войска с территории Царства Польского, отказавшись использовать их против восставших и заявив: «Это русские; а я не хочу мешаться в начатое поляками». Административный совет — правительство Царства Польского — фактически перешел на сторону восставших, которым на пике восстания удалось собрать внушительную армию из 80 тыс. человек при 158 орудиях. Целью восставших была не только полная независимость Царства Польского от Российской империи, но и восстановление Речи Посполитой в границах 1772 г., то есть с включением украинских, белорусских и литовских земель бывшего ВКЛ.
Как и восстание декабристов, польское ноябрьское восстание показало, что «дух времени», заставивший Александра I искать варианты инкорпорирования национального принципа в систему империи, не был лишь романтической фантазией. Как оказалось, ощущение себя частью некой нации становилось все более распространенным и требовало новых политических форм для самовыражения. Декабристы, представлявшие привилегированное сословие дворян, готовы были ради нового идеала гражданской и культурной нации разрушить систему, гарантировавшую их исключительный социальный статус. С другой стороны, создание автономного Царства Польского как национального государства этноконфессиональной общности поляков не помешало развитию стремлений к установлению полного национального суверенитета (в смысле международных отношений) и даже «имперских» притязаний на земли бывшего ВКЛ, не являвшихся «польскими национальными» в современном смысле.
В 1830 г. революции, движимые по-разному понимаемой национальной идеей, сотрясли наиболее передовые европейские страны. В июле революция во Франции свергла авторитарный режим короля Карла X, явившись победой гражданской нации: была восстановлена роль Палаты Представителей, расширено избирательное право, защищались права личности, новый конституционный монарх Луи-Филипп принял титул «короля французов» (вместо прежнего «короля Франции и Наварры») и получил прозвище «короля-гражданина». В августе разразилась революция, в результате которой на землях южных провинций Нидерландов возникло независимое Бельгийское королевство — преимущественно католическое и франкоговорящее. Революция как проявление мобилизации части населения, осознавшего себя единой нацией — сплоченной на основании тех или иных принципов солидарности, — становилась неотъемлемой частью современности. Ноябрьское восстание в Царстве Польском разразилось на фоне (и под прямым воздействием) летних революций 1830 г., и характерно, как отреагировали на это восстание имперские власти.
Можно спорить, почему не была предпринята попытка подавить восстание немедленно, используя части российского гарнизона — и почему правительственные войска были вообще выведены с территории Царства Польского. Имперские власти не отреагировали на сам факт восстания, которое носило далеко не «европейский» характер политического протеста. Убийства (даже без всякого революционного трибунала) неугодных сановников или вовсе безвредных дворцовых лакеев ни в какую версию «современности» не вписывались и выглядели проявлением обычного «варварского» бунта. Однако полицейские меры по прекращению бессудных расправ приняты не были. 4 декабря в Варшаве было сформировано Временное правительство, а 13 декабря Сейм официально объявил национальное восстание против империи — и вновь без ответа со стороны Санкт-Петербурга. Посланные туда на переговоры представители восставших беспрепятственно вернулись обратно, хотя их с полным основанием можно было рассматривать как государственных преступников (наподобие декабристов). Николай I отказался обсуждать выдвинутые восставшими требования — гарантии невмешательства во внутренние дела Царства Польского и передачу ему земель бывшего ВКЛ, но пообещал амнистию участникам восстания. Больше двух недель после возвращения посланцев из Санкт-Петербурга восставшие обсуждали дальнейшие действия. Возобладала позиция радикалов, и 25 января 1831 г. Сейм принял решение о детронизации Николая I и запрете представителям династии Романовых занимать польский трон. Казалось бы, после попытки убийства Константина Павловича и объявления восстания этот документ мало что менял в отношениях сторон конфликта. Однако умудренный опытом постаревший князь Адам Чарторыйский, который до последнего сопротивлялся детронизации Николая I, именно это решение счел роковым. «Вы погубили Польшу!» — заявил он радикальным депутатам Сейма, все же ставя свою подпись под документом. Спустя 10 дней российская армия перешла границу Царства и началась тяжелая военная кампания, в которой имперские войска неоднократно терпели поражение. Варшава пала в начале сентября, в октябре сдались последние отряды восставших.
Даже если промедление с началом военных действий объяснялось необходимостью привести в боеспособное состояние и стянуть к границе разбросанные по зимним квартирам части имперской армии, очевидно, что акт 25 января сыграл роль спускового крючка для вторжения в Царство Польское. Тем более, если учесть, что собранные к началу февраля правительственные силы лишь немногим превосходили по численности войска восставших и ради достижения решающего перевеса имело смысл подождать еще несколько месяцев. Видимо, с точки зрения Николая I абсолютно недопустимым являлось покушение на суверенитет государственной власти, а не сама национальная революция внутри провинции империи, не выходящая в своих требованиях за ее пределы. Сразу после подавления восстания была объявлена полная амнистия повстанцам — небывалый политический жест в ту эпоху, тем более беспрецедентный для российского самодержавия. Впрочем, из амнистии были сделаны важные исключения: она не распространялась на участников резни 29 ноября в Варшаве, членов сейма, голосовавших за детронизацию Николая, и польских офицеров, бежавших за границу. Таким образом, она касалась лишь тех, кто действовал — даже с оружием в руках — по политическим мотивам в рамках имперского суверенитета (т.е. не отвергая публично конституцию Царства Польского, дарованную российским императором). Убийцы безоружных в Варшаве и эмигранты оказывались вне поля легитимности с точки зрения имперской суверенной власти.
Акт Сейма 25 января 1831 г. денонсировал конституцию Царства Польского, дарованную императором Александром I. Текст конституции был помещен в Оружейную палату Московского кремля среди других славных реликвий прошлого, а вместо нее был провозглашен Органический статут — скорее конституционный акт Российской империи, регламентирующий организацию одной из ее провинций, чем самостоятельная конституция этой провинции. Впрочем, и этот документ в значительной части остался лишь на бумаге. Был принят курс на интеграцию Царства Польского в состав Российской империи, начиная с отмены метрической системы и введения рубля и кончая унификацией с остальной империей административной системы, законодательства, введения русского языка в делопроизводство и систему образования. Сознательно направленная на укрепление суверенитета имперской власти над Польшей и разрушение институтов и социальной базы польской политической и этнокультурной нации, политика Николая I была реакционной — но вполне реформаторской. Признавая значение современного эффективного государства и нации как его основы, режим Николая I наделял абсолютной ценностью суверенитет имперской власти, интересам которого подчинялось все остальное. Причем, эта власть на практике олицетворялась не столько с династией и фигурой монарха, сколько с государственной системой, в совершенствование которой Николай внес огромный вклад.
8.7. Поиски конструктивной реакции на нацию как угрозу
Реформы посткамералистского государства
Для того чтобы государство работало как идеальная машина камералисткой утопии, полностью исключив произвол «человеческого фактора», вся его деятельность должна регулироваться единой «программой» — законами. Чтобы любой чиновник мог своевременно сориентироваться, какой именно закон подходит к конкретному случаю и правильно понять его, законы должны быть классифицированы по определенной системе и следовать единой логике, основанной на некоторых самых общих базовых принципах. Эта идея впервые в полной мере осуществилась на практике лишь в наиболее «современной» стране Европы начала XIX в. — Франции. Для того чтобы появился гражданский кодекс Наполеона, понадобилось меньше четырех лет: от принятия принципиального политического решения, через работу по составлению, систематизации и редакции разнородного корпуса законодательных актов, к «рецензированию» сообществом правоведов, сложной процедуре принятия Государственным советом — и к публикации законов в газете, а после и всего кодекса отдельным изданием.
В России попытки систематизации законов растянулись на весь XVIII век, семь уложенных комиссий (начиная с учрежденной Петром I в феврале 1700 г.) безрезультатно пытались сдвинуть решение этой задачи с мертвой точки. Сложно сказать, насколько задача систематизации законов в Российской империи была труднее систематизации французских законов — норм римского и канонического права, королевских ордонансов и постановлений провинциальных парламентов, а также местных норм обычного права. С одной стороны, в России уже действовало сравнительно недавнее Соборное уложение 1649 г., пусть и составленное по домодерным принципам классификации. С другой стороны, к царским указам и церковным нормам добавлялся авторитет шариата и местного права у мусульманских подданных империи, на землях бывшего ВКЛ и в балтийских губерниях действовали местные правовые нормы, в частности, магдебургское право в городах. Главной же проблемой было полное отсутствие специализированной юридической теории и корпорации профессиональных юристов, способных воспринимать законы через призму неких общих принципов. Не было самого «языка», на котором возможно было сформулировать эти принципы.
Мало что изменилось и к концу XVIII в., когда после смерти Екатерины II взошедший на престол Павел I учредил в декабре 1796 г. очередную Комиссию составления законов. Перед членами комиссии вновь была поставлена задача собрать существующие законы и сгруппировать их по трем категориям: уголовные, гражданские и государственные. Не преуспевшую в своей деятельности при Павле I, комиссию начинают реформировать при Александре I, многократно увеличив штат и создав разветвленную структуру специализированных отделений. Главное же, впервые практическую деятельность комиссии возглавил человек с юридическим образованием. В 1803 г. на должность главного секретаря комиссии пригласили лифляндского немца Густава Розенкампфа, окончившего юридический факультет Лейпцигского университета. Формально будучи подданным империи, он не знал ни реалий ее жизни, ни российских законов, ни русского языка, олицетворяя собой попытку прямого переноса «европейских» норм в Россию — как в эпоху Петра I. Возглавив комиссию по составлению Уложения, Розенкампф пригласил туда таких же юристов, как он сам — носителей современного («европейского») юридического сознания, образованных немцев и французов, не владевших русским языком и не знавших российской действительности. Существовавшие законы для них потребовалось сначала переводить на французский язык, что поглощало время и ресурсы и сводило на нет преимущества более эффективной структуры и профессионального состава комиссии. В 1808 г. Александр I назначил Сперанского в комиссию по выработке Уложения, и одновременно — товарищем (заместителем) министра юстиции, курирующим работу разросшейся Комиссии. Сперанский инструктировал Розенкампфа: «Вы призваны составить Уложение для обширнейшей в свете империи, населенной разными языками, славящейся своею силою, рабством, разнообразием нравов и непостоянством законов». Правда, как примирить это очевидное разнообразие с идеалом рационализации и унификации, не знал и сам Сперанский, которого критики обвиняли в попытке скопировать Кодекс Наполеона.
Сперанский начал с разработки Гражданского уложения, т.е. занялся гражданским правом, регулирующим индивидуальные права собственности, наследование имущества, взаимные обязательства и т.п. С точки зрения задачи модернизации и рационализации российского законодательства такое начало выглядело логично, поскольку права личности были наименее развитой его областью. Однако с точки зрения практических потребностей государства и реального социального устройства выбор Сперанского выглядел абстрактным теоретизированием. В российском имперском обществе основными субъектами права выступали не индивидуальные граждане, а коллективы: общины, сословия, а также этноконфессиональные группы. Как писал в своей «Записке» заклятый враг Сперанского Николай Карамзин, только поклонник всего иностранного мог «начинать Русское уложение главою о правах гражданских, коих в истинном смысле не бывало и нет в России».
У нас только политические или особенные права разных государственных состояний; у нас дворяне, купцы, мещане, земледельцы и пр. Все они имеют особенные права: общего нет, кроме названия русских.
В общем, это была лаконичная декларация «гоббсовского» состояния имперского общества, которое Сперанский пытался реформировать по «локковскому» сценарию. Сперанский намеревался прояснить права личности в обществе, а его критики указывали, что сначала нужно интегрировать в единое социальное пространство локальные сообщества статуса и соседства.
Как уже упоминалось, в результате конфликта со сторонниками альтернативных сценариев реформирования Российской империи, включая Карамзина, Сперанский на несколько лет попал в опалу, а Комиссия составления законов продолжала работать без осязаемых результатов до смерти Александра I в 1825 г. Николай I начал правление с того, что ликвидировал Комиссию после почти тридцати лет ее существования. Вместо нее в апреле 1826 г. было образовано Второе отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии в ранге министерства, с целью кодификации законодательства. Фактическим руководителем кодификационной деятельности был приглашен Михаил Сперанский. Сперанский предложил Николаю I сначала составить «Полное собрание законов» (публикация всех российских законов начиная с «Соборного уложения» 1649 г., в хронологическом порядке и без изменений), затем — «Свод законов» (действующие законы, очищенные от повторений и взаимных противоречий, — из нескольких вариантов оставляли позднейший), а на его основе составить «Уложение» (действующие законы, переработанные на основе общих принципов, с учетом современного состояния правовой науки и потребностей развития страны). Николай I принял только два первых пункта этого плана. «Уложение», по его мнению, вело к слишком серьезным потрясениям существовавшего в империи порядка вещей. В итоге под руководством Сперанского всего за шесть лет было составлено «Полное собрание законов» Российской империи в 45 томах (1832). В него вошло более 30 тысяч различных указов, актов и постановлений. После этого каждый год, до 1916 г., выходили новые тома ПСЗ. За ним последовал и «Свод законов» Российской империи в 15 томах. После первого издания 1832 г. «Свода законов» при Николае I были подготовлены еще два (вышли в 1842 и 1857 гг.), а между ними и позднее выходили ежегодные и сводные (за несколько лет) продолжения с указанием отмененных и измененных статей.
За несколько лет под руководством Сперанского была проделана работа, которую не смогли выполнить семь комиссий за предыдущие сто с лишним лет. По иронии истории, эпохальное достижение Сперанского во второй период его работы над кодификацией законов (при Николае I) стало результатом выбора стратегии, буквально следовавшей «Записке» 1811 г. его идейного оппонента Карамзина:
Сей труд велик, но он такого свойства, что его нельзя поручить многим. Один человек должен быть главным, истинным творцом Уложения Российского; другие могут служить ему только советниками, помощниками, работниками... Здесь единство мысли необходимо для совершенства частей и целого; единство воли необходимо для успеха. Или мы найдем такого человека, или долго будем ждать Кодекса!
…Мы говорили доселе о систематическом законодательстве: когда у нас нет людей способных для оного, то умерьте свои требования, и вы сделаете еще немалую пользу России. Вместо прагматического Кодекса издайте полную сводную книгу российских законов или указов по всем частям судным, согласив противоречия и заменив лишнее нужным, чтобы судьи по одному случаю не ссылались и на Уложение царя Алексея Михайловича, и на Морской устав, и на 20 указов, из коих иные в самом Сенате не без труда отыскиваются. Для сей сводной книги не требуется великих усилий разума, ни гения, ни отличных знаний ученых. Не будем хвалиться ею в Европе, но облегчим способы правосудия в России, не затрудним судей наших галлицизмом и не покажемся жалкими иностранцам, что, без сомнения, заслужим переводом Наполеонова Кодекса.
Если рассматривать «Полное собрание законов» и «Свод законов» как своего рода самоописание империи юридическим языком, то мы увидим крайне громоздкое повествование, часто противоречивое и сложное для понимания, сопротивляющееся попыткам любой однозначной классификации, кроме хронологической. Многослойное внутри, оно, тем не менее, описывало имперское социальное пространство лишь частично, с серьезными лакунами. В «Свод» не вошли военные и военно-морские законы, законы для Прибалтийских губерний, Царства Польского и Бессарабии, которые управлялись по специальным ведомственным и местным Сводам законов. Лишь частично были включены в общий имперский «Свод» законы по ведомству императорского двора, иностранным делам и православному вероисповеданию.
И все же, это был рабочий и работающий юридический текст, впервые закладывающий общие юридические основания для функционирования современного имперского государства и очерчивающий основные параметры единого имперского общества. Успеху кодификационной работы Сперанского в рамках Второго отделения канцелярии Николая I способствовали как иная стратегия и формат работы, так и накопленный опыт — в том числе в качестве сибирского генерал-губернатора. Многолетняя работа в Комиссии Густава Розенкампфа сыграла роль важной «прививки» культуры юридического мышления, которая позволила начать вырабатывать российскую имперскую юридическую культуру в соответствии с местными реалиями и требованиями политического строя.
Уже в 1828 г. по инициативе Сперанского ко Второму отделению были прикомандированы шесть студентов Московской и Петербургской духовных академий для получения специального юридического образования, в 1829 г. — еще девять студентов. Полтора года они знакомились с основами юридической теории и практической кодификационной работы, сдали экзамен и были отправлены на три года в Берлин изучать юриспруденцию. По возвращении они выдержали экзамены на степень доктора права и составили основу российской юридической науки. В 1835 г. при участии Сперанского в Петербурге было основано Императорское училище правоведения — элитное учебное заведение, готовившее высококвалифицированных специалистов для государственной службы. В результате впервые в России начинает формироваться слой современной профессиональной бюрократии — чиновников, воспитанных на идее служения не просто монарху и даже «государству», а закону, наглядным воплощением которого стали подготовленные под руководством Сперанского ПСЗ и Свод законов. С этого момента можно говорить о том, что современное государство в Российской империи перестает быть одним лишь абстрактным идеалом. Выпускники Училища правоведения, а затем и юридических факультетов университетов не просто разделяли утопию государственной машины, они были подготовлены к тому, чтобы «думать как государство» — на основании общих принципов и по правилам правовой культуры, усвоенных во время учебы, самостоятельно формулировать решения в возникающих новых и не предусмотренных инструкциями ситуациях. Вместе они и создавали, пока еще тонкую, прослойку нового «посткамералистского» государства, становящегося самостоятельным субъектом имперского реформизма — не совпадая вполне ни с окружением императора, ни с формирующейся интеллигенцией. Как отмечают историки бюрократии, именно при Николае I реалии жизни и опыт российских чиновников стал во многом идентичен опыту и жизненным обстоятельствам их западноевропейских коллег.
Имперский национализм
Николай I был достаточно просвещенным и современным человеком, чтобы оценить значение и политическую силу национальной солидарности. Однако из восстаний 1825 и 1830 гг. был сделан, очевидно, однозначный вывод: единственно допустимой формой национального чувства является лишь то, которое напрямую санкционирует суверенитет имперской власти. В крайнем случае, допускался сугубо «этнографический» интерес к некой национальной культуре, прямо заявлявший о политической лояльности режиму.
Попытка поставить на службу империи «хороший» национализм, запретив все остальные формы политики национальной солидарности, привела к появлению лозунга «православие, самодержавие, народность» как формулы триединой природы имперской власти (в 1870-х годах публицисты назовут ее «теорией официальной народности»). Непосредственным автором этой кажущейся элементарной формулы был граф Сергей Семенович Уваров (1786–1855), президент Российской академии наук, в 1833–1849 гг. занимавший пост министра образования. Германофил, при этом писавший по-французски гораздо лучше, чем по-русски, Уваров находился под влиянием политической теории немецкого романтизма. Одним из главных идейных вдохновителей Уварова был немецкий философ и историк Фридрих Шлегель. В основе его политических взглядов лежало представление о нации как о коллективной личности, единство которой основано на кровном родстве, общности обычаев и языка — на том, что со временем стали называть «этничностью». Нация как политическое образование рассматривалась как высшая ступень исторического развития этой естественной этнической общности.
Такое понимание нации в Европе первой половины XIX века было буквально революционным, поскольку компрометировало политический порядок, унаследованный от «старого режима» (существовавшего до Французской революции 1789 г. и наполеоновских войн). Прямым последствием распространения этнической версии нации могла быть социальная революция, поскольку сословная иерархия противоречила представлению о кровном братстве членов нации. Но если главный упор делался на обретении собственной государственности этническим народом — разделенным ли внешними границами (как немцы), находящимся ли под властью империи (как поляки) — то характер национализма менялся, и социальное неравенство могло казаться даже привлекательным признаком «настоящей» (суверенной) нации. Этнический национализм мог питать требования введения институтов народного представительства, а мог быть враждебен парламентаризму как вносящему раскол и склоки в единство народной «души» и «тела».
Уваров, понимавший невозможность искусственного запрета на идеи, использовал двусмысленность романтического этнического национализма. Вскоре после своего назначения министром народного просвещения, в марте 1833 г., он разослал программный циркуляр попечителям учебных округов, в котором впервые была сформулирована идея имперского национализма как симбиоза «православия, самодержавия и народности». По словам Уварова, дилемма состояла в том, «как идти в ногу с Европой и не удалиться от нашего собственного места,… взять от просвещения лишь то, что необходимо для существования великого государства, и решительно отвергнуть все то, что несет в себе семена беспорядка и потрясений?» Программа Уварова максимально разряжала революционный потенциал национализма и приспосабливала его — пусть и в выхолощенном виде — для легитимации имперской власти.
Романтическое представление о солидарности нации воспринимает народ как средоточие коллективной «души», а также как носителя коллективной политической воли, подлинный источник верховной («национальной») власти. Уваров произвел довольно тонкую подмену, предложив российскому обществу вполне годную националистическую идею, в которой оказались разведены источник «национальных» качеств («субъект») и его атрибуты. Так, оставаясь ключевой характеристикой нации, «духовность» оказалась идентифицирована с русской православной церковью — т.е. с государственным институтом, подчиняющимся «министерству религии» (Священному синоду). Точно так же выделяемая отдельно политическая воля нации связывалась с институтом самодержавной монархии — которая выражала «народную волю» на неком мистическом уровне, но никакой обратной связи с «народом» на практике не имела. «Народность» прямо признавалась третьим основополагающим компонентом имперского национализма, но после передачи политической воли самодержавию, а духовного творчества церкви, в удел этой эфемерной народности оставалась расплывчатая комбинация фольклорных традиций, этнокультурного чванства и осторожного умиления крестьянскими добродетелями. К этой неопределенной «народности» апеллировали и церковь, и правительство, как к некому самоочевидному символу нации — но никакой «нации» как группы, чье единство проявляется через выражение солидарного мнения и согласованные поступки, не существовало.
Сравнение триады романтического национализма Шлегеля (общность происхождения («раса»), обычаи и язык) с триадой Уварова (православие, самодержавие, народность) наглядно иллюстрирует специфику российского имперского контекста. Так, специальный акцент на вере («православие») был неприемлем в германском обществе, разделенном на католические и протестантские области, в то время как делать упор на общности происхождения в сложносоставной Российской империи можно было лишь с крайней осторожностью. Нарочито расплывчатая категория «народность» оказалась главной концептуальной новацией Уварова как архитектора имперского национализма.
В отличие от немецкого проекта национального объединения, в России «народность» не могла определяться ни через общую «этничность», ни через язык — достаточно сказать, что сам документ, утверждавший народность в качестве основы российской государственности, был написан Уваровым по-французски. Романтическая трактовка нации была органицистской, т.е. воспринимала народ как органическую естественную общность, которая развивается и взрослеет подобно человеческому организму. «Народность» же Уварова была своего рода культурным конструктом, существование которого делали возможным два прочих элемента его триады. Иными словами, русскую народность образовывал тот, кто верил в свою церковь и своего государя. Эта «вера» воспитывалась посредством гражданского образования, реформированием которого в патриотическом духе и занимался Уваров в качестве министра народного просвещения. В этом отношении Уваров далеко ушел от романтического органицистского национализма, служившего ему ориентиром. По сути, он оказался предшественником современных конструктивистских концепций нации, в основе единства которой находится не факт рождения, но сознательный выбор ее членов. Неизбежно ослабляя мобилизующий потенциал национализма (главный политический фактор, позволявший вырываться вперед наиболее «современным» обществам XIX в.), идеология официальной народности Уварова демонстрировала, тем не менее, способность имперского режима к развитию и адаптации к новой версии «европейскости».
Реформа государственных крестьян и колонизация
С первых лет правления Александра I вопрос об отмене крепостного права оставался камнем преткновения для имперских реформаторов. «Крепостное право» воплощало целый узел проблем, как морального свойста, так и связанных с неуниверсальным характером частной собственности как привилегии дворянского сословия, о чем говорилось выше. Скандальная неуместность крепостного права, его «неевропейскость» и «нерегулярность» с точки зрения идеала современной организации государства и общества была очевидна даже таким консервативно настроенным людям, как Николай I.
Во-первых, «крепостное право» бросало вызов идее правомерного государства (в смысле Rechtsstaat) как управляемого единой системой законов, исходящих из общих принципов. Огромная часть населения империи фактически выводилась из-под юрисдикции государства: в 1741 г. крепостные крестьяне перестали даже приносить присягу, в 1760-х права помещиков вершить уголовное наказание над крепостными расширились настолько, что крестьян можно стало ссылать в Сибирь и даже отправлять на каторгу. Государство уступило частным лицам, пусть даже в качестве представителей социальной корпорации, свою монополию на отправление судопроизводства и юридически санкционированное насилие. Последовательная реформа законодательства требовала включения сословия крепостных крестьян в общеимперскую правовую сферу — хотя бы и в качестве наиболее бесправной категории. Главное, помещики должны были лишиться функций частных агентов государства с корыстным личным интересом.
Во-вторых, любое понимание нации было несовместимо с положением, когда часть членов сообщества находилась в личном владении другой части. Даже в самой благонамеренной версии нации Уварова, допускавшей «народность» крепостных как таковых, невозможно было помыслить их членами одного «народа» с помещиками без того, чтобы немедленно не вызвать нежелательные мысли.
В-третьих, все более заметным компонентом «европейскости» как нормативной версии современности становилась экономическая теория, доказывающая преимущества свободного труда (и вообще ничем не ограниченной экономической деятельности). Особого влияния на имперские власти этот аргумент против крепостной формы крестьянского труда не имел — просто потому, что эпоха особого политического веса экономических идей еще не наступила, а наглядной убедительности тезис об экономической неэффективности крепостных крестьян не имел (да и сегодня не имеет, по мнению ряда историков). Однако у наиболее современной части имперского общества и части бюрократии идея несвободного труда крепостных как тормоза на пути прогресса не вызывала сомнений.
Главной проблемой на пути ликвидации «крепостного права» как своеобразной «свалки отходов» на стройке современного имперского общества была необходимость снова перестроить это общество так, чтобы оно теперь включало и крестьян. Как и в случае с другими радикальными реформаторскими проектами первых десятилетий XIX в., боязнь вызвать социальные потрясения не была основным сдерживающим фактором. Реформу тормозило полное отсутствие представлений о практической, «технической» стороне дела. Что значит «освободить крестьян от крепостной зависимости»? Как оформить их новый статус юридически, на каких принципах определить новый режим землепользования, как организовать поддержание правопорядка в новой деревне, суд, сбор налогов? Нужно было учесть и множество более частных, но не менее важных аспектов, прежде неразрывно «упакованных» в симбиозе крепостных и помещика. Николай I начал разрешение этих вопросов с реформы государственных крестьян, которые, будучи лично свободными, платили подати государству и жили на государственных или дворцовых землях, к которым считались прикрепленными. Превращение их в экономически активное и юридически независимое от местной дворянской власти сословие должно было создать прецедент и послужить моделью для возможной масштабной реформы крепостного крестьянства.
В 1837 г. было учреждено Министерство государственных имуществ, которое возглавил генерал Петр Киселев — человек крайне умеренных политических взглядов, но последовательный сторонник реформирования имперского государства в соответствии с идеалом «современности» постнаполеоновской эпохи. 30 апреля 1838 г. император утвердил «Учреждение об управлении государственными имуществами в губерниях», по которому государственные крестьяне получали сословные (не индивидуальные гражданские!) права. Это был важный шаг к превращению их в субъект права — хотя бы коллективный, а также к началу их интеграции в сословное имперское общество. До реформы государственные крестьяне находились под управлением «земских исправников» — избираемых на три года местных помещиков, которые, за неимением разветвленной государственной администрации на местах, управляли казенными крестьянами. Государственные крестьяне платили фиксированный оброк в казну, независимо от размера земельного участка, которым располагали, и несли разного рода местные повинности, включавшие строительство дорог и участие в других общественных работах. Таким образом, они оказывались вдвойне незащищенными: отсутствующее на местном уровне «государство» никак не ограничивало возможные злоупотребления представлявших его помещиков, а сами помещики, получая власть лишь на три года, были склонны эксплуатировать государственных крестьян куда сильнее, чем своих собственных крепостных.
В рамках реформы Киселева в губерниях создавались Палаты государственных имуществ, в ведении которых были земли, леса и другие угодья, но не сами крестьяне, впервые четко отделяемые от «имущества» землевладельца (государства). Непосредственное управление крестьянскими делами подлежало ведению крестьянской общины, которая выступала в качестве коллективного контрагента государства. С одной стороны, с точки зрения воплощения идеала современной государственной машины, такое решение кажется очередным неудовлетворительным компромиссом. Вместо прямого включения государственных крестьян в общую правовую систему, новое имперское законодательство о государственных крестьянах опиралось на архаичный институт общинного самоуправления, хранителя «традиционного» образа жизни, следующего нормам обычного права. С другой стороны, сам этот архаический институт в значительной степени являлся новейшим продуктом социальной инженерии властей. Государственные крестьяне объединялись в сельские общества, совпадавшие с большой деревней или включавшие несколько небольших — всего в империи их было учреждено около шести тысяч. Из нескольких сельских обществ составлялась волость. Все местные вопросы, включая вопрос о переделе общественных полей, решались самими обществами на сходах, которые собирались раз в три года, а между ними — сельскими управлениями из выборных крестьян. Текущие дела конкретной деревни решал обыкновенный сельский сход. Так законодательно создавалась «исконная общинность» крестьян — облегчая нагрузку на государство благодаря старинной практике насаждения круговой поруки и коллективной ответственности, но одновременно и создавая основу для солидарного коллективного действия, в диапазоне от бунта до национальной мобилизации.
Новые судебные институты для государственных крестьян тоже строились на общинном принципе: низшим судебным органом была сельская расправа, состоявшая из сельского старшины и двух «добросовестных» крестьян, «отличных хорошим поведением и доброй нравственностью». Недовольные решением сельской расправы могли обжаловать ее приговор в волостной расправе. Для деятельности крестьянских судов был составлен специальный «Сельский судебный устав». Раз в три года волостной сход выбирал волостное правление и членов волостного суда (расправы), которых утверждала Палата государственных имуществ по представлению окружного начальника. Так имперское государство создавало архаические по форме институты, стимулирующие развитие местного самоуправления — потенциальную основу сверхсовременного, демократического государственного строя.
Киселев стремился сделать формирующееся самоуправляющееся сословие государственных крестьян экономически процветающим, представляющим привлекательный образец для будущих освобожденных помещичьих крепостных. В годы царствования Николая I государственные подушная и оброчная подати, взимаемые с казенных крестьян, не повышались ни разу. Возведенный в графское достоинство в 1839 г. Киселев твердо стоял на том, что «каждый сверх меры исторгнутый от плательщиков рубль удаляет на год развитие экономических сил государства». Слабым хозяйствам предоставлялись долговременные податные (налоговые) льготы, малоземельным крестьянам добавлялись наделы из фонда свободных государственных земель. В рамках этой программы крестьян переселяли из губерний, страдавших аграрным перенаселением, в губернии, располагавшие свободными землями. Если крестьяне переселялись в степные районы, которые нужно было колонизировать, они получали больше земли и помощь от властей, а на месте поселения им выделяли бесплатный лес. Такие переселенцы на три набора освобождались от рекрутской повинности, в течение шести лет к ним не подселяли солдат (так называемая льгота от воинского постоя), с них списывались все недоимки (долги), и они освобождались от податей на четыре года, а следующие четыре года платили половину суммы налога.
Министерство государственных имуществ пыталось влиять и на методы хозяйствования, в частности, заставляя сажать на общественных полях картофель, что снижало риски монокультурного зернового хозяйства. Подобные модернизационные меры сверху могли провоцировать протест — так, насаждение картофеля вызвало волнения среди государственных крестьян Поволжья. Но в целом хозяйство государственных крестьян постепенно становилось более рациональным и интенсивным. Кроме того, в деревнях поощрялось устройство школ. Если в 1838 г. в сельских обществах насчитывалось 60 школ с 1800 учащимися, то через 16 лет школ уже было 2550. В них училось 110 тыс. детей, в том числе 18,5 тыс. девочек.
Таким образом, реформа государственных крестьян продемонстрировала реализуемость программы ликвидации «крепостного права» и рациональной организации крестьянского хозяйства. Но даже в своей умеренной версии и свободная от необходимости преодолевать сопротивление помещиков, реформа Киселева содержала элементы социальной революции.
Во-первых, за крестьянами признавалось право не только на личную свободу (в рамках верховного суверенитета государства), но и на земельную собственность. Речь шла не об индивидуальных правах и не о полноценной частной собственности (чего можно было бы ожидать от радикальной реформы), но, по сути, государство пересматривало принципы произошедшей в середине XVIII в. конвертации доимперских форм владения и господства в современные категории собственности. Крестьян освобождали от состояния «крепостной зависимости» с предоставлением земли (пусть и в общинном владении) не просто из соображений гуманизма или нежелания создавать прослойку «пролетариев» европейского типа. Как бы ни спорили историки и правоведы о природе землевладения в Московском царстве, последовательно правовой («государственный») подход требовал применить по отношению к крестьянам ту же процедуру «конвертации» прежних прав и привилегий, которая избирательно была применена в свое время лишь к шляхетству. Если крестьянские сообщества в доимперский период пользовались землей верховного собственника-царя для выполнения повинностей и собственного прокорма (аналогично помещикам, распоряжавшимся землей от имени царя), то учреждение современной собственности на землю делало их не безземельными, а владеющими некой долей земли, наряду с прежними распорядителями ее — помещиком или государством. Государство было готово уступить часть владений для восстановления крестьянской собственности; перспективы компенсации частновладельческих крепостных за счет помещиков оставались туманными.
Во-вторых, как уже упоминалось, ради получения земли государственных крестьян стимулировали переселяться на свободные территории, положив начало современному типу колонизации — как элементу более глобальной социально-экономической программы. Обретение нового правового и экономического статуса оказывалось обусловлено вольным или невольным участием в неком политическом проекте. Традиционно являясь главным агентом имперской колонизации, с распространением представлений о нации (в разном понимании) крестьяне все больше начинают восприниматься как проводники той или иной версии «русскости». Эта новая миссия была не столь заметна в случае освоения старых и новых имперских владений в Новороссии, Харьковской, Тамбовской, Оренбургской и Астраханской губерниях, а с 1845 года — и в западной Сибири. Более отчетливо она проявилась при переселении государственных крестьян на Северный Кавказ, где ими даже пытались усилить казачье сословие, компенсируя убыль казаков в результате не прекращавшихся в регионе военных действий.
Совершенно целенаправленно стали проводить политику «национализации» крестьян после подавления Польского восстания 1830–31 гг. Имперские власти попытались ограничить влияние польских дворян-землевладельцев на западных (литовских и белорусских) и юго-западных (украинских) окраинах империи, в том числе посредством воздействия на принадлежавших им крестьян. Главным образом руськие по происхождению, говорившие на диалектах белорусского и украинского, исповедовавшие православную, униаткую или католическую веру крестьяне, в силу низкого социального статуса и образования, не испытали столь глубокой полонизации, как местная шляхта. С началом реформы Киселева в Западном крае шляхтичи-арендаторы отстранялись от контроля за государственными крестьянами и заменялись штатными чиновниками, а в государственных деревнях учреждались органы крестьянского самоуправления по образцу центральной России. Именно на бывших «кресах» (пограничных территориях бывшей Речи Посполитой) Российская империя начала проводить национализирующую, т.е. русификаторскую, политику, объектом которой становились крестьяне. В годы николаевского правления понимание русификации диктовалось идеологией официальной народности, а не романтическим образом русской «этнографической» нации. Поэтому крестьян территорий, которые сегодня входят в Украину, Литву и Беларусь, ориентировали на принятие православия и на лояльность российскому самодержавию как защитнику от эксплуатации польскими панами. Через принятие принципов «православия» и «самодержавия» они вливались в русскую «народность», а вместе с тем в благонамеренный российский имперский национализм проникали идеи этнокультурной русскости и недоверия привилегированным сословиям.
8.8. Культ суверенитета как дестабилизирующий фактор
Неузнанный реформизм
К началу XIX в. Российская империя монополизировала право на воплощение современности («европейскости») на большей части Северной Евразии, обосновывая легитимность своего господства политикой более или менее систематических реформ. Это не значит, что потенциал самоорганизации местных сообществ был исчерпан, в чем можно убедиться на примере неконтролируемой еще периферии империи на Северном Кавказе, несколько десятилетий сопротивлявшейся экспансии России. С точки зрения российского образованного общества «Кавказская война» 1817–1864 гг. воспринималась в терминах покорения, усмирения и привнесения цивилизующего начала в местную архаику, по мере того, как армия пыталась обезопасить сообщение с присоединенной после 1801 г. Грузией. Такое восприятие обычно не позволяет увидеть параллелизм между реформизмом российского правительства и новаторской политической деятельностью лидеров антироссийского сопротивления на Северном Кавказе. Между тем, лидеры мусульманского сопротивления империи в Нагорном Дагестане и Чечне пытались не только противостоять российским войскам, но и создавать принципиально новый тип общества, объединяющего многоплеменное население под властью единого военно-теократического мусульманского государства — имамата. Имам — религиозный и военный глава имамата — возглавлял джихад (араб. «борьба за веру») против российских войск на Кавказе, а также против склонной к союзу с имперскими властями горской знати, в которой видели пособников завоевателей и лицемерных врагов ислама (мунафиков). Уничтожая местных ханов и объединяя прежде независимые общины региона, имамы интегрировали его не только политически, но и идеологически (насаждая единую версию ислама — воинственную разновидность суфизма), и административно. От горцев требовались признание шариата в качестве кодекса, регулирующего их жизнь и судопроизводство, — комплекса закрепленных в Коране и мусульманском предании (сунне пророка Мухаммеда) религиозно-правовых, бытовых и этических предписаний — и отказ от местных адатов (обычного права). Шариатское движение на Кавказе во времена правления Николая I во многих отношениях сопоставимо с Реформацией в Европе XVI в., сыгравшей ключевую роль не только в рационализации и стандартизации религии, но и в формировании современных форм государственности.
Российское покорение Кавказа, направленное на установление контроля над регионом и частичную замену местных институтов самоуправления новыми имперскими, стимулировало типологически схожий проект унификации и централизации со стороны самих мусульман Кавказа. Просто концепция имамата формулировалась на языке религиозного исламского возрождения, который не прочитывался европейски образованными политиками и администраторами как язык реформ. Для них это был язык темных фанатиков и консерваторов. Самому последовательному реформатору времен Кавказской войны, имаму Шамилю (прав. 1834–1859), приписывали качества неуловимого воина, «дикого» бунтаря и ниспровергателя обычаев. Однако современные историки подчеркивают, что Шамиль лишь реализовал в масштабах Дагестана и Чечни проект преобразований, начатых в Нагорном Дагестане в ходе шариатского движения XVIII века (см. карту).
Шамиль стоял во главе единого военно-теократического государственного образования как одновременно светский и религиозный правитель. Он официально принял титул халифа (араб. предводитель правоверных), что должно было придать ему легитимность в глазах мусульман Кавказа и Ближнего Востока. При этом, подобно российскому императору, Шамиль сосредотачивал в своих руках верховную военную, законодательную, исполнительную и судебную власть. Формы реализации этих полномочий у Шамиля и Николая I, конечно, радикально различались, но и тот, и другой разделяли представление о надперсональной природе своей власти, действующей по неким универсальным правилам. Российская империя выросла из камералистской революции социального воображения и реализовывала проект современного государства как идеальной машины, управляющейся универсальными законами. Шамиль же опирался на структурно аналогичную религиозную утопию, добиваясь максимальной стандартизации местных версий ислама и уничтожая любые альтернативные источники власти и системы права. Вероятно, светская идея правомерного государства (Rechtsstaat) является более устойчивой и гибкой в долгосрочной перспективе, но в распоряжении горских реформаторов не было других универсалистских систем мышления (дискурсов), кроме ислама. Они пытались добиться аналогичных европейской современности политических результатов при помощи религиозного мировоззрения.
В 1842 г. Шамиль сформировал совет из своих приближенных (диван) для помощи в решении серьезных вопросов, в то время как на местах его волю проводили назначавшиеся им наибы. В 1840 г. их насчитывалось 33, каждый руководил одним или несколькими «вольными обществами». Наиб отвечал за порядок на своей территории, сбор налогов, приведение в исполнение приговоров шариатских судов и пр. Позднее был создан чин мудира, который отвечал перед имамом за несколько соседних наибств. Ниже наиба в административной иерархии имамата стояли дибиры и мазумы, которые руководили подразделениями наибства. Им подчинялись старшины деревень. Кроме того, у имама были «чрезвычайные чиновники», мухтасибы — аналог секретной полиции Николая I. Они путешествовали инкогнито и сообщали Шамилю то, что узнавали о деятельности его заместителей. В пределах своей власти Шамиль вводил шариат и боролся с местными и заимствованными у российских завоевателей обычаями, тем самым формируя единые правила «гражданства» в имамате. Почти четверть века созданное им государственное образование сопротивлялось хорошо оснащенной военной машине Российской империи.
Уже после смерти Николая I, в 1859 г., имам Шамиль сдался после упорного сопротивления и был отправлен в ссылку во внутреннюю Россию, в Калугу, где проживал как почетный пленник. В 1870 г. он получил от императора Александра II дозволение совершить хадж, покинул Россию, поселился в Медине, где и умер в 1871 г. Несмотря на долгую историю ожесточенного противостояния, имперские власти проявили терпимость и подчеркнуто уважительное отношение к поверженному лидеру повстанцев. Тем самым де-факто признавался равноправный статус поверженного противника, вопреки распространенному восприятию горцев как дикарей, ведущих войну нецивилизованными методами. Унификаторские и рационализаторские усилия Шамиля, пусть и осуществлявшиеся в совершенно чуждом империи идеологическом контексте, в конечном итоге сделали разнокультурные общества Северного Кавказа более понятными, а освоение Кавказа империей, как это ни парадоксально, — более успешным. В годы своего наивысшего могущества Шамиль уже воспринимался как правитель мусульманского государства — территориального и централизованного, т.е. во многом аналогичного политической организации европейских государств. Созданную Шамилем территориальную структуру управления можно было практически в готовом виде интегрировать в империю, и не случайно, что после пленения Шамиля российские власти продолжали его преобразования, порой руками шамилевских наибов, перешедших на российскую службу. Опыт «административных» реформ Шамиля в Дагестане был использован и на юге края, а также на равнине, никогда не входивших в состав имамата.
Как и в других регионах, стабильность контроля империи над завоеванным Северным Кавказом зависела от того, насколько успешно имперская власть учитывала местные тенденции и находила форму для выражения интересов наиболее влиятельных групп населения. Легитимность империи как внутри России, так и за рубежом зависела от ее соответствия самопровозглашенному статусу «главного европейца» на подчиненной территории, то есть адекватности приспособления путем реформ к постоянно меняющейся версии современности. Поскольку само понятие «современность» («европейскость») не являлось самоочевидным и трудно было определить, в какой степени ему соответствовали те или иные институты огромной Российской империи в определенный момент, на практике требовалось хотя бы поддерживать эффективную обратную связи с разными стратами имперского общества и с соседними странами. Обратная связь позволяет договариваться об общем понимании «современности» — тем самым и являясь ее главным условием. Когда же главной целью имперского правительства становилось «утверждение суверенитета» — т.е. сохранение существующего имперского режима любой ценой — неизменно следовал тяжелый политический кризис. Так случилось и с режимом Николая I, когда он попытался отгородиться от слишком быстро меняющегося внешнего мира, законсервировав имперские порядки (еще недавно считавшиеся образцово «современными») и заморозив процессы самоорганизации в разных сегментах общества.
Крымская война
Николай I с юности имел репутацию консерватора. Узость политических взглядов не компенсировалась и масштабом прагматичного государственного мышления: в отличие от старших братьев, Александра и Константина, Николая не готовили в правители, и по меркам XIX века он получил крайне скудное домашнее образование. Преемственность его политики по отношению к предшествующему периоду и готовность к проведению достаточно серьезных реформ можно объяснить лишь сложившейся в высших эшелонах власти определенной политической культурой, влиявшей на нового императора. В целом, объяснений требует не то, что на третьем десятилетии своего правления, перейдя пятидесятилетний рубеж, Николай I начал проводить более реакционную политику, а то, что это показалось современникам шокирующим контрастом с первыми десятилетиями царствования. Видимо, из всех современных политических концепций Николаю I понятнее всего была идея неограниченного суверенитета (самодержавия), и до определенного момента он считал, что упорядочивающие правовой режим государства и его социальную структуру реформы способствуют укреплению суверенитета. Во всяком случае, ни восстание декабристов, ни Польское восстание 1830 г. не спровоцировали его на установление репрессивной системы правления.
Очевидно, в конце 1840-х гг. Николай I полагал, что программа рационального упорядочивания государственной системы в целом выполнена и любые новые проблемы объясняются уже не структурными недостатками Российской империи, а порочностью конкретных личностей и народов. Во всяком случае, новая волна национальных восстаний — причем прокатившаяся за пределами России, так называемая «Весна народов» 1848–1849 гг. — вызвала совершенно иную реакцию в Санкт-Петербурге, чем революции 1830 г.
Новую эпоху европейской «современности» вновь открыла Франция, где 25 февраля 1848 г. революция свергла конституционную монархию «короля-гражданина» Луи-Филиппа и провозгласила Вторую республику. Революционное Временное правительство приняло закон о всеобщем избирательном праве для мужчин, что явилось колоссальным шагом вперед в формировании политической нации. Вслед за Францией начались волнения в германских государствах под лозунгом объединения Германии (в интересах этнокультурной нации) и введения конституции (для утверждения политической нации). Прокатившиеся в то же время восстания в империи Габсбургов вынудили императора Фердинанда I согласиться на введение конституции и созыв Учредительного собрания. Протестные выступления, выглядевшие в столице империи Вене как политическая революция, в провинциях обретали характер восстаний этнокультурных национальных групп, пытавшихся совмещать риторику либеральной политики с сепаратистскими требованиями. Венгерские либералы-националисты в Пеште и чешские в Праге требовали независимости. Началось восстание и в австрийских владениях в Италии. О намерении создать собственное государство заявили хорваты. Так как националисты действовали в имперском сложносоставном пространстве, то требование признать политический суверенитет за той или иной этнокультурной нацией сталкивало их не только с имперскими властями, но и с другими этнокультурными группами, проживавшими на той же территории. Так, лидеры венгерской революции воспринимали земли Венгерского королевства как венгерскую национальную территорию (в этнокультурном смысле) — притом, что две трети населения этой территории не являлись мадьярами. Поэтому они крайне болезненно реагировали на стремление других обитателей королевства — хорватов, словаков или сербов Воеводины — добиться собственной национальной независимости. В то же время, венгерские революционные лидеры объявили о намерении присоединить к королевству габсбургскую провинцию Трансильванию, в которой венгры составляли большую часть дворянства. Однако численность влахов (румын) более чем вдвое превышала численность венгров в Трансильвании, и у них были свои представления об этнокультурной нации в крае. Кроме того, в силу типичного для Северной Евразии «этноконфессионального разделения труда» большинство крестьян Трансильвании были румынами, поэтому межнациональный конфликт с венграми (составлявшими большинство помещиков) приобрел острый экономический и даже классовый характер. Регион начал быстро погружаться в кровавый хаос.
Весть о провозглашении республики во Франции повергла Николая I в шок — вероятно, он ожидал повторения истории революции 1789 г. и наполеоновских войн. Министр иностранных дел Временного правительства сумел убедить российского посла, что планов революционных походов в соседние страны у новых французских властей нет, и до разрыва дипломатических отношений дело не дошло. Тем не менее, 14 марта 1848 г. Николай I издал крайне эмоциональный манифест:
Объявляем всенародно:
После благословений долголетнего мира, запад Европы внезапно взволнован ныне смутами, грозящими ниспровержением законных властей и всякого общественного устройства.
Возникнув сперва во Франции, мятеж и безначалие скоро сообщились сопредельной Германии и, разливаясь повсеместно с наглостию, возраставшею по мере уступчивости Правительств, разрушительный поток сей прикоснулся, наконец, и союзных Нам Империи Австрийской и Королевства Прусского. Теперь, не зная более пределов, дерзость угрожает, в безумии своем, и Нашей, Богом Нам вверенной России.
Но да не будет так!
По заветному примеру Православных Наших предков, призвав в помощь Бога Всемогущего, Мы готовы встретить врагов Наших, где бы они ни предстали, и, не щадя Себя, будем, в неразрывном союзе с Святою Нашей Русью, защищать честь имени Русского и неприкосновенность пределов Наших…
Уступая настойчивым просьбам молодого императора Франца-Иосифа, Николай I летом 1849 г. — спустя более чем год после начала «Весны народов» — отправил огромный экспедиционный корпус для подавления венгерской революции. Основные боевые действия развернулись в Трансильвании против войск под командованием польского эмигранта, генерала Юзефа Бема (который сражался против России еще в 1812–1814 гг., а в ходе Польского восстания 1830–1831 гг. командовал польской артиллерией). Очевидно, помимо давления со стороны габсбургского правительства, на принятие решения об интервенции Николая I подтолкнуло ощущение приближения революции к самым границам России (см. карту).
И все же главные меры по борьбе с революцией были приняты внутри страны. Будучи убежден, что причиной эскалации революции была «уступчивость правительств», Николай I выбрал курс бескомпромиссной защиты «самодержавия». По сути, началась первая в истории Российской империи полоса целенаправленной реакции. Была заморожена любая реформистская деятельность, даже самая «государственническая»: граф Уваров отправлен в отставку, остановлены реформы государственных крестьян Киселева. Подданным Российской империи был запрещен выезд за границу. Цензура приняла совершенно драконовские формы. Над университетами нависла угроза закрытия, однако в итоге власти ограничились запрещением приема в студенты выходцев из непривилегированных слоев населения и тщательным надзором за содержанием преподавания. При этом такие предметы, как конституционное право и философия, были вообще исключены из программ университетов. Полиция разгромила интеллигентские кружки-«салоны» в Петербурге (т.н. «петрашевцев») и Киеве (Кирилло-Мефодиевское братство). Участники киевского кружка без суда были заключены в тюрьму или отданы в солдаты, с петербуржцами обошлись еще более сурово: суд приговорил 21 человека к расстрелу, замененному императором на каторгу. Режим продемонстрировал свою мощь — и полную несовместимость с любой, самой умеренной версией «современности».
Главным объективным свидетельством «европейскости» Российской империи — т.е. ее соответствия статусу передовой державы — оставался теперь лишь ее стратегический вес на международной арене. Подобно тому, как в начале своего правления Александр I вовлек страну в несколько продолжительных войн лишь потому, что боялся заронить сомнения в самоочевидности «цивилизационного» превосходства России над «азиатскими» соседями, так и Николай I после 1848 г. начал придавать большее значение политическим жестам, а не стратегическим планам и даже соображениям Realpolitik. В период Польского восстания 1830–31 гг. он не боялся показаться слабым, медля с вторжением на территорию восставшего Царства Польского или амнистируя повстанцев. Теперь же делом принципа становятся по-настоящему мелочные соображения.
К примеру, он очень остро отреагировал на провозглашение Луи Наполеона — племянника Наполеона Бонапарта, избранного в 1848 г. первым президентом Французской республики — императором Наполеоном III в декабре 1852 г. Николая I возмутил не сам конституционный переворот, ликвидировавший республику и восстановивший монархию. В глазах Николая Луи Наполеон являлся нелегитимным монархом, поскольку династии Бонапартов было запрещено занимать французский трон по решению Венского конгресса 1815 г. На этом основании Россия могла бы вовсе отказаться признать новый режим во Франции, но Николай I не решился в данном случае выступить в принятой на себя роли гаранта постнаполеоновского политического порядка в Европе (которая бы соответствовала внешнеполитическим претензиям Российской империи). Вслед за главами других государств он отправил поздравление Наполеону III по поводу коронации, однако в нарушение дипломатического этикета обратился к нему «дорогой друг» вместо «дорогой брат» (как принято в «семье монархов»). Этот мелочный выпад лишь подчеркивал политическое бессилие российского императора, зато вызвал во Франции такую враждебную реакцию, как если бы Николай I открыто отказался признавать режим Второй империи.
Аналогичным образом за несколько лет испортились отношения России с остальными державами. Никаких решительных шагов, могущих вызвать острую ответную реакцию, Николай I не предпринимал, никаких враждебных планов против России никто не лелеял, фактически речь шла лишь о такой неуловимой материи как «нарастающее раздражение» — как в правящих кругах, так и в общественном мнении, которое играло все возрастающую роль в европейских странах. Раздражение вызывали сами претензии Российской империи на особую роль в континентальной политике при ее фактическом самоустранении из всякой актуальной «современности». С Россией невозможно было заключать перспективные стратегические альянсы в новых политических конфигурациях; неинтересно было развивать торговлю; культурное влияние России стремилось к нулю. То, что спустя два десятилетия после поражения Польского восстания 1830 г. резко возрос резонанс антироссийской пропаганды польских эмигрантов в европейских столицах, стало одним из индикаторов усиливавшегося раздражения против России. Еще неожиданнее было распространение симпатий к борьбе с Российской империей повстанцев на Северном Кавказе: озабоченные собственными колониальными войнами, жители Нидерландов, Франции или Великобритании скорее должны были выражать симпатии к империи, ведущей войну против «варваров» во имя мира и прогресса. То, что в сторонниках имама Шамиля увидели не «мусульманских фанатиков», а борцов с «азиатским деспотизмом», была прямая заслуга Николая I, решившего, что легитимность Российской империи зависит от защиты «суверенитета», а не ее «европейскости».
Совершенно незаметно и неожиданно режим Николая I оказался изгоем, против которого сформировался единый фронт стран, никогда прежде не входивших вместе в одну коалицию: Англии, Франции, Габсбургской империи, Пруссии и Османской империи. Лишь некоторые из них были готовы начать против России активные военные действия, но все соглашались, что России не место «в Европе». В военно-стратегическом отношении это означало лишение Российской империи статуса морской державы — полную ликвидацию ее военного присутствия во «внутреннем» Средиземном море путем ликвидации Черноморского флота и, по возможности, изоляцию Балтийского флота в Финском заливе. Отдельные страны строили еще более амбициозные планы, но, не подкрепленные готовностью и даже теоретической возможностью мобилизовать достаточные для их реализации силы (сопоставимые с Великой армией Наполеона), эти планы являлись лишь «визуализацией» абстрактной идеи исключения России «из Европы». Несмотря на абстрактность, идея эта была широко распространена в общественном мнении, и в речи министра иностранных дел Великобритании в парламенте война против России представлялась как «битва цивилизации против варварства».
«Соскальзывание» в войну с Россией продолжалось на протяжении всего 1853 г., пока в октябре 1853 г. она не началась официально. Идеологический, а не «геополитический» характер войны подчеркивало то обстоятельство, что войну России объявила Османская империя, традиционная пария «Европы», а ее военными союзниками выступили Великобритания, Франция и Сардинское королевство (лидер объединения Италии), при молчаливой поддержке традиционных союзников России — Габсбургской империи и Пруссии. Тем самым подчеркивалось, что даже по сравнению с «больным человеком Европы» (Османской империей) Российская империя оказывалась настолько чуждой, что отступали на задний план стратегические противоречия Франции и Великобритании, Габсбургской империи и Сардинского королевства.
Война выросла из конфликта столь же незначительного, сколь и символичного: кто должен распоряжаться ключами от церкви Рождества Христова в Вифлееме — местная община греческой православной церкви или католические монахи? Стычка местных священнослужителей переросла в дипломатический скандал, когда Луи-Наполеон поддержал католиков, а Николай I — православных. Обе стороны требовали разрешения конфликта между разными христианскими общинами от османских властей, апеллируя к разным договорам XVIII в., предоставлявшим России привилегии в отстаивании прав христиан Османской империи, а Франции — покровительство христианским святыням в Палестине. В декабре 1852 г. османские власти решили «имущественный» спор в пользу католиков (а значит, Франции). Российское правительство повысило ставки и под угрозой начала войны потребовало подписать договор, не только безоговорочно закрепляющий владение христианскими святынями в Палестине за греческой православной церковью, но и передающий под протекцию России все христианское население Османской империи. Под давлением британского правительства османские власти согласились подтвердить исключительные права православных общин на древние церкви в Святой земле, но договор, передающий едва ли не треть подданных султана под протекторат российского императора, подписывать отказались.
В логике обычного политического процесса такой исход можно было рассматривать как победу России — изначальный конфликт был разрешен в ее интересах. Даже если бы церковь в Вифлееме осталась за католиками, прямого урона российским политическим интересам это не нанесло бы: ведь речь шла о лоббировании интересов самостоятельной (автокефальной) Иерусалимской православной церкви на территории другого государства (Османской империи), чей суверенитет нарушался требованиями Франции и России. Не все империалистические инициативы удаются даже самым могущественным державам, и случающиеся разочарования компенсируются ожиданием удачного исхода следующего предприятия. Но Николай I самоустранился из европейского политического процесса, всецело сосредоточившись на защите суверенного статуса Российской империи как абсолютной категории, вневременного состояния, для которого имеет значение лишь безукоризненность провозглашенного имиджа. Вопреки опасениям Великобритании, Османской и Габсбургской империи, Николай I не намеревался перекраивать карту Балкан и Ближнего Востока, а лишь подтверждал самопровозглашенный статус главного защитника православия в мире. Реальная внешнеполитическая игра могла бы оказаться более или менее успешной, привести к взаимной торговле и уступкам, но статус защитника православия не допускал компромиссов: либо он доказывался по любому частному случаю, либо утрачивался. То же самое с «европейскостью», понимаемой как привилегированное положение, зафиксированное неким формальным образом. Если реальность воспринимать как «театр» фиксированных амплуа-идентичностей, то очевидно, что «европейский государь» ни при каких обстоятельствах не может получить отказ от «турка», сколь несуразны бы ни были его требования. С этой точки зрения частичное выполнение султаном требований российского императора приравнивалось к поражению, потому что у российской политики не было иной прагматичной цели, кроме доказательства исключительного статуса Российской империи.
Пройдя несколько развилок, когда конфликт еще можно было разрешить компромиссом, 1 июня 1853 г. Санкт-Петербург разорвал дипломатические отношения с Османской империей. Спустя три недели российский экспедиционный корпус в 80 тыс. человек в очередной раз оккупировал Дунайские княжества (Молдавию и Валахию), пообещав вывести войска лишь после выполнения Стамбулом всех предъявленных ранее требований. Накопившееся раздражение против принципиально «антиевропейской» политики Николая I привело к тому, что осенью 1853 г. на стороне Османской империи против России выступила коалиция Великобритании, Франции и Сардинского королевства, при молчаливой поддержке остальных европейских держав. Началась Крымская война, в которой со всех сторон участвовали почти два миллиона человек, ведя боевые действия на Кавказе и на Дунае, на черноморском и азовском побережье России, на Балтике, на Белом море и даже на Камчатке.
Несмотря на географическую протяженность конфликта, общую многочисленность армий и использование новых видов вооружений (пароходов, бронированных плавучих батарей, морских мин), кульминацией войны стало сражение формально локального масштаба — битва за военно-морскую базу Черноморского флота России в Севастополе (см. карту). На южном побережье Крыма в сентябре 1854 г. союзники смогли высадить сравнительно небольшой десантный корпус: 62.000 солдат при двух сотнях орудий. Сама десантная операция — доставка по морю за много сотен километров (из Варны в Евпаторию) такого количества солдат, лошадей, боеприпасов и снаряжения — представляла собой новое слово в военном деле, но в масштабах Российской империи это были ничтожные силы. И хотя численность союзнических войск спустя год выросла почти в три раза, главный «поражающий фактор» противников Российской империи был идеологический и символический: война в Крыму воспринималась, особенно в России, как противостояние «современности» и «отсталости». Помимо высоких боевых качеств солдат, союзники демонстрировали превосходство техники, логистики и управления войсками на огромном удалении от своей территории. Российская же армия так и не смогла создать решающий численный перевес в Крыму — внутренней территории империи — и после года ожесточенной обороны вынуждена была оставить Севастополь. Когда в декабре 1855 г. Австрия поспешила присоединиться к «клубу передовых держав» и предъявила России ультиматум — отказ от Черноморского флота и претензий на «покровительство» подданных в чужих государствах или война — а Пруссия настоятельно посоветовала принять его, стало ясно, что дело проиграно. Созванный в феврале 1856 г. Парижский конгресс завершил войну, лишив Российскую империю права содержать военный флот в Черном море и «покровительствовать» православным в Османской империи. О территориальных потерях (за исключением узкой буферной зоны в устье Дуная), а тем более о выплате контрибуций победителям речь не шла, так что и поражение в символической войне носило главным образом символический характер. Несмотря на успехи российской армии на других фронтах (прежде всего, на Кавказе), неудачная оборона стокилометровой прибрежной полосы в Крыму — в полутора тысячах километрах от Москвы, двух тысячах километрах от Петербурга — была воспринята как системная катастрофа.
В образованных слоях российского общества сложился консенсус: несмотря на массовый героизм, проявленный солдатами и офицерами, Россия проиграла войну еще не начав ее, на системном уровне. Ее парусный флот не соответствовал современным требованиям, не существовало эффективной системы снабжения армии на собственной территории, в стране не было железных дорог — и просто хороших дорог, чтобы быстро перебрасывать войска и снаряжение в Крым. Подчеркивавшаяся техническая сторона отставания была преувеличена (ни флот союзников не был столь современным, ни российская артиллерия столь отсталой) и являлась скорее метафорой — более понятной и политически безобидной — основного диагноза: Россия нуждалась в системной модернизации. Парижский мирный договор зафиксировал формально лишение Российской империи статуса великой европейской державы с лидирующим положением на Балканах и ролью европейского форпоста в «Азии». Фиксация Николая I на суверенитете империи в ущерб участию в «европейскости» как коллективном процессе привела к изгнанию России из клуба передовых представителей европейской модерности, но в конечном счете — по иронии истории — нанесла удар и по столь лелеемому «самодержавному» суверенитету. Никаких «материальных» предпосылок (скажем, оккупации хотя бы нескольких губерний, разгрома армии в генеральном сражении) для столь серьезного ущемления суверенитета страны (запрет Черноморского флота) не было. С «технической» точки зрения Российская империя проявила себя вполне адекватно. Сегодня военные историки оценивают сам факт мобилизации российским правительством на Крымскую войну более чем миллионной армии как важное достижение современного государства. Весной 1855 г. российская армия насчитывала 1.200.000 человек, из которых 260.000 охраняли Балтийское побережье, 293.000 поддерживали порядок в Польше и на землях Украины, 121.000 находились в Бессарабии и вдоль черноморского побережья, а 183.000 сражались на Кавказе. Огромная протяженность империи являлась объективным препятствием для эффективной передислокации и концентрации воинского контингента. Однако все эти аргументы имеют мало значения, поскольку современники событий (да и их потомки) увидели в Крымской войне крах сценария умеренно-консервативного реформизма и жаждали радикальных перемен.
Николай I умер в марте 1855 г., и его смерть символизировала крах его режима. Оказалось, что нельзя законсервировать некую особую версию «европейскости», изолировавшись от общеевропейских процессов — т.е. от политики глобальной современности. Как уже говорилось, суверенитет — необходимая предпосылка возникновения современного («европейского») общества, но он не может быть самоцелью, потому что «современность» — это готовность формулировать аргументированную позицию в ответ на новые вызовы времени. Защищая суверенитет самыми современными методами, правительство империи все равно начинало выглядеть «отсталым», а значит — нелегитимным.
Часть 2. Проектирование национальной империи
8.9. Александр II: Великая реформа донациональной империи
Император Александр II (годы правления 1856−1881), сын Николая I, вступил на трон в 37 лет уже сложившимся человеком без романтических иллюзий, вполне разделяя политические взгляды отца в его последние годы. В свое время он с восторгом принял мартовский манифест 1848 г. Николая I, одобрял жесткий курс в отношении Царства Польского, был против радикальных шагов по отмене крепостного права. Однако возглавив страну в момент глубокого кризиса, он столкнулся с системной ситуацией, созданной общественными ожиданиями и практически не оставлявшей ему выбора действий. Российская империя проиграла Крымскую войну, представ в общественном мнении как государство слабое, не вполне «европейское» и потому нуждающееся в глобальной модернизации; консервативный курс Николая I был дискредитирован; в обществе сформировался запрос на радикальные перемены. В Манифесте об окончании Крымской войны Александр II озвучил то, чего от него ждали, — он пообещал реформы. Cубъективно ощущаемое несоответствие постниколаевской России своему имперскому статусу и общеевропейским представлениям о модерности стало главным фактором, побудившим Александра II выступить с программой глобальных реформ, направленных на осовременивание имперского государства и общества. Первые два десятилетия его правления вошли в историю как эпоха Великих реформ.
Отмена крепостного права как завершение камералистской революции
Империям свойствен большой стиль, поэтому в официальных хрониках не бывает недостатка в эпитетах «великий», «великолепный» и пр. Однако когда речь идет о преобразованиях правительства Александра II, термин «Великие реформы» воспринимается едва ли не как технический: реформы затронули фундаментальные основы общества и изменили их настолько радикально, что восприятие перемен практически не зависит от формального названия.
Главной из реформ стала столь долго откладывавшаяся отмена крепостного права. В отличие от Екатерины II и Александра I, наследник престола Александр Николаевич (будущий Александр II) не высказывал особых намерений покончить с крепостным режимом. Напротив, в качестве председателя секретных комитетов по крестьянскому делу (созывавшихся в конце 1840-х гг. для обсуждения перспектив ликвидации крепостничества) он определенно возражал против отмены крепостного права в обозримом будущем. Однако спустя десять лет, выступая перед московским дворянством на церемонии коронации в 1856 году, Александр II заявил, что «лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно само собою начнет отменяться снизу». Это признание передает ощущение исторической обреченности крепостничества, заставлявшее действовать куда более решительно, чем отвлеченные соображения морально-филантропического характера.
Подготовка отмены крепостного права началась в январе 1857 г. в традиционном для «реформ сверху» духе, т.е. с создания очередного Секретного комитета при императоре. Но вскоре к обсуждению реформы подключили «общество», т.е. собственно помещиков, в чьей поддержке нуждался реформаторский режим. В каждой губернии предписывалось создать дворянские комитеты для разработки предложений по освобождению крестьян, началось широкое обсуждение крестьянского вопроса в российской печати. Поражение монархии в Крымской войне и возникшее вокруг этого поражения ощущение глобального кризиса развития подорвали статус государства как «единственного европейца в России». Впервые формулирование актуального понимания «европейскости» и самой повестки реформ проводилось при участии и под давлением альтернативного «субъекта европеизации» — «интеллигенции», «образованного общества» или, в сегодняшних категориях, «гражданского общества». Не существовало никаких политических и даже организационных механизмов консолидации гражданского общества. В тот период оно сводилось к нескольким стратам образованного населения, включенного в «дискурсивные сообщества» — т.е. в ряды читателей и авторов определенных журналов, в дворянские клубы и организации, где обсуждались вопросы политики и идеологии, а также в подпольные интеллигентские кружки, которые тоже занимались чтением современной литературы по социальным проблемам и обсуждением сценариев развития страны. Все эти группы имели шанс быть услышанными влиятельными государственными чиновниками и императором, поскольку они говорили на языке, соответствовавшем принятым представлениям об идеологическом или политическом высказывании (даже если государство не соглашалось с его содержанием или объявляло его революционным).
У крестьян и других необразованных слоев населения, тем более не говоривших и не читавших по-русски, безусловно, имелось свое отношение к происходящему и свое видение крестьянской проблемы, но у них не было инструментов для его выражения, они не являлись частью дискурсивного сообщества, которое могло вступить в диалог с властями. Они оставались за пределами возникавшей в ходе либеральных реформ Александра II публичной сферы как пространства для обмена мнениями и циркуляции идей «образованного общества». Крестьяне, в частности, выражали свои настроения посредством восстаний и бунтов, число которых росло в середине XIX века, но в этих «высказываниях» власть не прочитывала никакого осмысленного содержания, кроме угрозы стабильности режима.
В феврале 1858 г. был создан Главный комитет по крестьянскому делу, который начал рассматривать составленные губернскими дворянскими комитетами проекты. Ключевой являлась проблема, порожденная непоследовательностью первых архитекторов камералистского государства: разграничение единого феномена «поместья» на экономическую, социальную и юридическую составляющие, причем, отдельно для помещиков, а отдельно для крестьян. Как уже говорилось в предыдущей главе, необходимо было перевести в современные юридические категории правовые реалии Московского царства, когда помещики получали землю в обусловленное службой владение от царя как верховного распорядителя земли — и сразу вместе с крестьянами, пользовавшимися ею. Никто не обладал ею как частной собственностью «первый». Точно так же не ясно было, как провести границу между хозяйством крестьян и помещика. Если пашня четко делилась на крестьянскую и господскую, то такие жизненно важные ресурсы, как лес, водопой или луга, находились в общем пользовании, условия которого оговаривались в каждом конкретном случае. Да и пахотная земля, считавшаяся помещичьей летом, могла использоваться крестьянами осенью для выпаса скота по жнивью, а то и засеваться крестьянами для себя на условиях аренды.
Планы освобождения крестьян без земли (сугубо юридический акт) были быстро отвергнуты в пользу более радикального варианта освобождения с землей (что предполагало масштабную экономическую и правовую реформу), к которому склонялся и Александр II — тем более что практическая сторона такого сценария была опробована в рамках реформы государственных крестьян. Главным отличием от проблем, решавшихся ведомством графа Киселева, было отсутствие единства в интересах частных землевладельцев, от которых требовалось поступиться частью несправедливо полученной собственности. Помещики южных и центральных регионов, где преобладали плодородные почвы, были заинтересованы в том, чтобы сохранить за собой как можно больше земли при размежевании хозяйства на помещичью и крестьянскую доли, в то время как помещики северных губерний отстаивали вариант денежной компенсации за утрату части собственности. Все разнообразные мнения с мест поступали в учрежденные в феврале 1859 г. Редакционные комиссии, в которые вошли видные общественные деятели и государственные чиновники либерального толка. К осени 1859 г. ими был составлен проект «Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», а 19 февраля 1861 г. Александр II подписал этот документ.
Реформа затрагивала сразу несколько аспектов жизни бывших крепостных: они переставали быть экономической собственностью помещиков; помещики утрачивали административную и судебную власть над бывшими крепостными; крестьяне становились юридическими лицами, т. е. могли покупать землю, недвижимость, заключать сделки, открывать предприятия. При этом освобожденные крепостные обретали не личные, но коллективные («корпоративные») права: они образовывали особое сословие крестьян, с общими сословными правами и обязанностями. Лишь налог государству они платили в индивидуальном исчислении («подушную подать»), и то не напрямую, а через общинные органы. Пашенными наделами и выпасами крестьяне пользовались общинно (везде, кроме украинских земель), были связаны круговой порукой в уплате налогов и несли коллективные натуральные повинности; наконец, крестьянские волостные суды, избираемые общиной, руководствовались в своих решениях обычным правом, а не общеимперским законодательством. Фактически, реформаторы признавали, что даже после преобразований Николая I существующему в России государству было не под силу и не по карману взять под прямой контроль миллионы новых подданных. Организованное самоуправление крестьян позволяло лишить помещиков статуса частных агентов государства, не раздувая при этом штат чиновников и не перегружая бюджет.
«Положение о крестьянах» отводило два года на составление уставных грамот, т.е. соглашений между помещиками и крестьянами, оговаривавших размер компенсации, которую крестьяне должны были заплатить за получение собственности. Выкуп предполагалось выплачивать в течение 49 лет. Лишь после этого наделы становились собственностью крестьян. Сумма выкупных платежей определялась размерами прежде выплачиваемого крестьянского оброка. Таким образом, удалось наиболее корректно перевести в современные категории суть отношений в допетровской деревне: выкупалась не личная свобода крестьян (чей рабский статус никогда не признавался формально) и не земля (на которую помещики исторически не имели исключительных прав), а повинности крестьян. Средства выкупных платежей, помещенные в банк под 6% годовых, должны были приносить помещику ежегодный доход в размере утраченных им оброчных платежей. Посредником между крестьянином и помещиком выступало государство, оно платило помещику при заключении выкупной сделки сразу около 75% выкупной суммы. Крестьяне должны были ежегодно вносить государству 6% от этой суммы в течение 49 лет. По сути, речь шла о погашении ипотечного кредита, выданного по обычной для того периода кредитной ставке. Реально платежи были отменены в 1905 г., но к этому моменту крестьяне успели внести в государственную казну сумму большую, чем полученные ими земли стоили в 1861 г. Крепостные рабочие помещичьих и казенных фабрик и заводов тоже получали право выкупа своих прежних наделов. Государственные крестьяне (кроме Сибири и Дальнего Востока), считавшиеся лично свободными, по «Положению» сохраняли за собой находившиеся в их пользовании земли. Они могли продолжать платить оброчную подать государству либо заключить с казной выкупную сделку.
Чтобы обслуживать крестьянскую реформу, правительство пошло на еще одну реформу — финансовую. Еще в 1860 г. был создан Государственный банк для проведения выкупных расчетов между помещиками и крестьянами. В 1862 г. единственным распорядителем казенных средств стало Министерство финансов, которое самостоятельно планировало государственный бюджет и совместно с Государственным советом утверждало сметы отдельных ведомств. Проверку правильности расходования бюджетных средств осуществлял обновленный в 1864 г. Государственный контроль, отчеты которого были публичными. Уже эта мера являлась революционной, если учесть, что в 1850 г. Николай I приказал засекретить реальные показатели государственного бюджета даже от Государственного совета. В губерниях учреждались контрольные палаты, проверявшие финансовую отчетность по первичным документам, а не итоговые отчеты, как прежде. Прямые налоги частично заменялись косвенными, что позволяло обойтись без создания колоссального фискального аппарата после освобождения крестьян: ведь прежде налоговыми агентами выступали помещики, а заменить их штатом государственных чиновников в короткое время было нереально и слишком дорого. Таким образом, новая государственная финансовая система становилась эффективнее, оставаясь не слишком затратной.
«Положение о крестьянах» делило губернии на три группы (черноземные, нечерноземные и степные), в которых размеры земельных наделов разнились по уездам. При выделении земель крестьянам первое слово оставалось за помещиками, которые могли выбирать самые лучшие участки в свою долю, в том числе вклинивая свои земли в середину крестьянских полей. Это, как и довольно сложная система выкупных платежей, вызывало растерянность и недовольство крестьян. В Казанской губернии, например, начались волнения из-за распространения слухов о том, что царь даровал землю крестьянам бесплатно, а выкуп придумали помещики. В ходе подавления этих волнений было убито более 300 человек. Всего в год объявления реформы (1861) было зарегистрировано более 1370 крестьянских выступлений, но позже волна бунтов пошла на убыль, и в целом реформа прошла мирно, не вызвав серьезного сопротивления у помещиков и массового недовольства у двух десятков миллионов крестьян, которых она коснулась. Этот результат сам по себе должен был восприниматься как успех имперского режима, особенно на фоне практически одновременного освобождения в США четырех миллионов чернокожих рабов — освобождения, достигнутого в результате длительной и тяжелой Гражданской войны, расколовшей общество пополам.
Если рассматривать крестьянскую реформу с точки зрения логики модернизации Российской империи — распространения современного государства на все население страны и перевод в современные правовые, социальные и экономические категории комплекса отношений помещиков и крестьян допетровского времени, «замороженных» и искривленных в режиме «крепостного права» — то она увенчалась успехом. Главным ограничителем оказался уровень развития имперского государства, не позволявший радикально увеличить штат квалифицированных чиновников для взаимодействия с освобожденными крестьянами на индивидуальном уровне. Окончательное оформление личного экономического и юридического статуса бывших крепостных было отложено до лучших времен, но, во всяком случае, характер этого будущего оформления был решен в принципе.
Споры же об итогах реформы были вызваны самой революционностью, с которой решалась ее непосредственная задача модернизации имперского пространства: созданием новой социальной группы свободных крестьян, законодательным ограничением сферы частной собственности помещиков, экономически рациональным нормированием и размежеванием земли между юридическими лицами, сложными финансовыми схемами взаимозачета и обеспечения. В восприятии современников, а позднее — историков, радикальные методы решения крепостного вопроса заслонили непосредственную цель реформы, из-за чего вот уже более полутора веков сохраняются принципиально неразрешимые разногласия. Достаточны ли были предоставляемые крестьянам наделы — и сколько нужно было земли для безбедного существования? Завышены ли были выкупные платежи помещикам — и сумели ли они распорядиться с толком монетизированными привилегиями? Эти и подобные вопросы подразумевают, что реформа 1861 г. была призвана осуществить определенную экономическую программу, игнорируя тот факт, что вмешательство законодателя в частноправовые отношения было вынужденной побочной мерой, а не отправной точкой реализации некоего «настоящего» плана.
С самого начала проведения реформы представители радикальной интеллигенции, а позже и советские историки доказывали, что она привела к обнищанию крестьян, получивших наделы меньшие, чем они обрабатывали для собственных нужд до реформы. С другой стороны, еще в начале ХХ в. российские экономисты определили оптимальный размер хозяйства, придерживающегося трехпольной системы севооборота, в 400 га — что соответствовало среднему помещичьему хозяйству. Очевидно, что крестьяне в принципе не могли получить такие наделы и что оптимальным с хозяйственной точки зрения являлся «симбиоз» крестьян и помещика в рамках крепостного поместья, позволявший при существовавшем уровне агрикультуры к общей выгоде использовать имевшиеся ресурсы. Но если целью реформы 1861 г. было уничтожение крепостного режима, то единственным способом компенсировать разрушение экономического комплекса «поместья» было развитие новых интенсивных форм земледелия на крестьянских землях. При сохранении трехпольного севооборота изолированные крестьянские хозяйства не спасло бы и пятикратное увеличение наделов. Сохранение общинного землепользования должно было до поры сгладить остроту проблемы, сохраняя элементы старой поместной хозяйственной модели в новых правовых условиях. Во всяком случае, историческая демография зафиксировала заметное снижение смертности в деревне в последней трети XIX века, обусловленное улучшением питания, что свидетельствует о росте жизненного уровня крестьян после реформы. Факты говорят и о том, что крестьяне покупали значительное количество земли, как индивидуально, так и общинами.
Аналогично обстоит дело с представлениями о кризисе помещичьего хозяйства после 1861 г. Сама дифференциация сельского хозяйства на крестьянское и помещичье, как и выделение сферы рационального экономического производства из комплексного «образа жизни» (крестьянского или помещичьего), объясняет противоречия в оценках итогов реформы. Если прежде люди являлись помещиками или крестьянами в силу самого факта рождения в деревне и, с большим или меньшим успехом, продолжали вести образ жизни предков, то после реформы экономическая деятельность, правовой статус и образ жизни дифференцировались. Те, кто имел возможность и желание заниматься сельским хозяйством, оставались в деревне, остальные искали способ сменить место жительства и род занятий. Продажа поместий или крестьянских наделов оказывалась, в первую очередь, следствием появления выбора и нового понимания сельского хозяйства как рациональной экономической деятельности, а не предустановленного с рождения удела. Сегодня исследователи экономики XIX века предпочитают говорить не о половинчатости перехода экономики России от стагнирующего «феодализма» в «капитализм», от крепостного права к наемному труду, но о том, что реформа 1861 года придала новый динамизм существовавшим и прежде рыночным тенденциям в деревне, ускорив уже протекавшую эволюцию крестьянской и помещичьей экономики.
Крестьянская реформа как обретение народа
Подобно сугубо военному аспекту Крымской войны, крепостное право не представляло ничего особо катастрофического само по себе — ни с экономической, ни с правовой точки зрения. Как уже говорилось, крестьянско-помещичий симбиоз позволял наиболее рационально организовывать трехпольное сельскохозяйственное производство в масштабах целого поместья, снимая вопрос доступа к водопою, достаточности площади лугов и пастбищ и т.п. От положения российских крепостных мало чем отличалось положение формально лично свободных наемных работников в Англии и на континенте: их мобильность была ограничена работодателем и законами о бродяжничестве, отсутствие собственности делало их совершенно зависимыми от нанимателя. Юридический статус был несопоставим, но практическая степень свободы и несвободы отличалась гораздо меньше, чем принято было думать. И все же крепостное право воспринималось в Росси как главное обстоятельство, компрометирующее ее «европейскость», с чем соглашались как противники, так и сторонники крепостного права. Проблема была в том, что даже официальная триада графа Уварова «православие, самодержавие, народность» не могла совершенно обойти то обстоятельство, что свыше 20 миллионов православных крестьян являлись крепостными — по расхожему мнению, «рабами». Народ, находящийся в рабстве, — основной архетипический библейский сюжет, и распространение идеи нации как основы современного («европейского») общества с самого начала активно эксплуатировало метафору освобождения избранного народа из неволи. Освобождение крепостных стало императивом в России потому, что современное общество воображалось как единая нация. Восприятие крепостных крестьян как рабов было сформировано метафорой порабощенного народа не в меньшей степени, чем представлением о буквально рабском индивидуальном статусе крепостных.
Предоставив бывшим крепостным личную свободу и экономическую самостоятельность, реформа 1861 года создала предпосылки для включения прежних многочисленных юридических категорий мелких земледельцев в единое сословие «крестьян», объединившее теперь большинство населения империи. В сочетании с устранением крепостной зависимости, эта гомогенизация позволила наконец-то представить в виде конкретной социальной группы тот самый «народ», который прежде являлся лишь абстрактной категорией, сдерживая развитие национализма в империи. Как оказалось, высшие сановники и сам император прекрасно осознавали значение национального фактора и собирались использовать его для укрепления легитимности режима. Риторически реформа 1861 г. была представлена властями как пробуждение народа от долгого сна (о рабстве все же официально предпочитали не упоминать) и возвращение его к истинному состоянию, к обычаям и традициям, непосредственно связанным с землей. Отсюда же — желание реформаторов укрепить связь между крестьянином и землей, утвердить место крестьянской общины, как предположительно древнего института, в пореформенной деревне, подчеркнуть роль волостных крестьянских судов, руководствующихся обычным правом. Все это осмысливалось критиками, особенно постфактум, как проявления внутренней противоречивости реформы 1861 года, как отступление от ее либерального духа. Но национализирующее восприятие народа никак не противоречило либеральному духу реформы — оно отражало попытки имперской власти адаптироваться к вызовам времени, в котором доминировали идеи национализма. Недаром, в отличие от формального и официального имиджа Николая I, Александр II и его окружение культивировали романтический образ близкого народу и любимого им «Царя-освободителя». Драматургия путешествий Александра II по империи и в целом «сценарии власти» его правления сочетали универсалистские имперские и подчеркнуто русские национальные символы и мотивы, что вполне соответствовало актуальным европейским политическим реалиям. В 1862 г. отправленный послом в Париж граф П. Д. Киселев рассказал Наполеону III о том, как в первый после реформы приезд Александра I в Москву «народ встречал его не только с энтузиазмом, но просто молился на него…» В ответ Наполеон подтвердил: «Да, такое и здесь случается. Я это знаю по моим людям; когда я проезжаю по селам, народ крестится».
Тем не менее, национализация политического режима в гетерогенной Российской империи вела к иным последствиям, чем во Франции. Во-первых, крайне неопределенными оказались критерии русскости, даже для тех, кто уповал на освобожденный от крепостной зависимости «народ». В начале XIX в. распространение идей нации в версии немецкого романтизма привело к тому, что имперский неологизм «россияне» («российское») был вытеснен будто бы исторически-народным «русские» («русское») — и новый светский общий литературный «российский» язык был объявлен исконным «русским». В результате, не только говорившие на российском языке «нерусские» подданные империи (включая украинцев) вдруг оказались отчужденными от некогда общей имперской культуры, но и были стерты различия между общеимперским и «этнографически русским». То есть, с одной стороны, трудно было формализовать отличие русского крестьянина от украинского (или от лояльного режиму обрусевшего немца), а с другой, все имперское оказывалось присвоенным «русским народом», что делало нерусских людьми второго сорта в империи.
Во-вторых, обретение режимом массовой опоры в «русском народе» одновременно вело к расколу многоэтничной имперской правящей элиты. Более того, переосмысление имперского как «национально русского» способствовало кризису политической лояльности, теперь все в больше степени воспринимавшейся в смысле этнокультурной русификации. Эта тенденция вызывала растерянность у представителей верховной власти, искренне не замечавших связи между восприятием идеи нации через призму этнической русификации и кризисом имперской надэтнической лояльности. В 1868 г. Александр II признавался эстляндскому губернатору: «Теперь, как видишь, это [остзейский] вопрос, а прежде, как припоминаю, в моей молодости, никто и не думал смотреть на остзейцев и они сами не смотрели на себя как на чужих».
Первыми на усиление национальных тенденций в имперской политике отреагировали в Царстве Польском, где в январе 1863 г. вспыхнуло очередное (и последнее) восстание против имперских властей. Вошедшее в историю как Январское восстание (1863−1864), оно охватило земли Царства Польского, а также нынешних Литвы, Украины и Беларуси. За подавлением восстания последовали меры, которые серьезно отличались по своему духу от мер, предпринятых Николаем I после подавления польского восстания 1830−1831 гг., когда наведение порядка в крае преподносилось как наказание нелояльных подданных (и польская культура ущемлялась лишь параллельно с остальными институтами польского национального государства, созданного по конституции Александра I). В 1863−1864 гг. власти исповедовали совершенно иную идеологию подавления, которая формулировалась как освобождение «русских» от «польского влияния» (в русле все той же библейской идиомы спасения избранного народа). Уничижительное обозначение «поляк» подчеркнуто применялось преимущественно к польскому дворянству, наказанному довольно сурово, в то время как руськие (украинские, белорусские) и литовские крестьяне территорий, охваченных восстанием, представали как жертвы шляхты. Государственные деятели говорили о польском преобладании на «исконно-русских землях» и о необходимости освободить «русских» крестьян от воздействия полонизма и присоединить их к народному «телу». Как писал Виленский генерал-губернатор Владимир Назимов министру народного просвещения (1863):
Если со стороны Правительства не будут приняты меры к ограждению русской народности в Западном крае от такого незаконного посягательства, то надлежит ожидать, что чуждое этому краю польское направление вопьется в плоть и кровь здешнего русского народа…
Крестьянская реформа на этих землях, объявленная 19 февраля 1864 г., была использована имперскими властями как орудие национальной сегрегации и подавления. Она предполагала лучшие условия для бывших крепостных, чем на землях внутренних губерний, тем более что польские повстанцы тоже выпустили декрет о наделении крестьян землей, и правительство стремилось продемонстрировать большую щедрость. Крестьяне без всяких отсрочек получали в собственность свои усадьбы и освобождались от всех видов повинностей в пользу владельца. В отличие от внутренних губерний, за ними сохранили так называемые сервитуты, т.е. участие в пользовании такими помещичьими угодьями, как леса и пастбища. Неслучайно разработчиками и проводниками русификаторской политики в Северо-Западном крае стали ведущие члены Редакционной комиссии реформы 1861 года Николай Милютин, Яков Соловьев, Юрий Самарин и Владимир Черкасский. В основе их довольно последовательных антипольских мер лежала не просто полонофобия, но, прежде всего, определенное видение современного («европейского») общества. Польская шляхта воспринималась ими как воплощение реакционного сословно-аристократического принципа господства, который они пытались реформировать в масштабе всей империи. Одновременно ими двигало желание «открыть» или создать в империи единый «народ» как массовую «почвенную» основу более либерально и популистски ориентированного режима. В многомерном имперском пространстве «народ», который являлся социально-экономической категорией в Центральной России, на окраинах империи оказывался преимущественно национально-культурной категорией. Приняв на себя миссию упорядочивания разнообразия поглощенного ею региона Северной Евразии, Российская империя столкнулась с одной из самых сложных проблем, пытаясь адаптировать идею единой нации как основы современного государства в условиях структурной имперской ситуации.
Земская и городская реформы: безопасное включение «народа» в управление
Логика становления «народнического» (политически популистского или этнокультурно националистического) режима требовала признания за «народом» базовых прав граждан, т.е. сопричастности управлению государством. Именно эту задачу, наряду с проблемой повышения управляемости огромной страны в условиях недостаточности профессиональной бюрократии и бюджетных средств, решала земская реформа 1864 года. Подписанный 1 января 1864 г. указ Александра II учреждал земства — всесословные органы самоуправления в уездах и губерниях, в компетенцию которых входили вопросы местного хозяйства, распределение государственных податей, устройство школ, больниц, приютов, содержание тюрем и путей сообщения.
Само название нового института отсылало к реалиям Московского царства — одновременно «древним» и «исконно русским». Считалось, что их отличал дуализм царской власти и ограниченной автономии «земель». Однако за лубочно-«национальной» вывеской скрывался крайне современный проект, созданный с оглядкой на опыт Западной Европы того времени и предлагавший собственное — новое и оригинальное — решение одной из ключевых проблем современности: повышение эффективности государственного управления без перегрузки центрального аппарата, за счет потенциала политической мобилизации нации. Так автор труда «О самоуправлении. Сравнительный обзор русских и иностранных земских и общественных учреждений» (1869) князь А. И. Васильчиков рассматривал российские земства относительно английского «self-government» (позитивный пример) и «французской административной централизации» (негативный пример), а также германской традиции местного управления — «прусских сословных учреждений». «Самоуправление» стало ключевым понятием «европейскости» в это время, обещая подключение «нации» к государственному управлению без радикальной демократизации политического строя. Хотя само понятие «местного самоуправления» отсылало к древним традициям (до эпохи абсолютистской и централизаторской монархии), в разных языках оно оказалось неологизмом. Русское слово «самоуправление» было буквальным переводом английского «self-governance». В «Толковом словаре живого великорусского языка» Владимира Даля (выходил в 1863−1866 гг.) «самоуправление» трактовалось через американский пример: «В Америке развито общественное самоуправление, участие и помощь каждому в охранении порядка, без пособия от правительства, но нередко оно доходит и до самоуправства». Однако понятие «local self-government» было новым и в английском языке: для обозначения хозяйственной и административной автономии местностей как самостоятельной политической системы его изобрел «для англичан» немецкий правовед Г.-Р. фон Гнейст, автор теории (и истории) существования особой традиции местного самоуправления в Англии. Таким образом, земская реформа 1864 г., наряду с крестьянской реформой, знаменовала собой возвращение Российской империи в авангард «европейскости» — не в смысле формального статуса, а как полноправного участника в коллективном поиске решения проблем современности.
Земства действительно оказались достаточно современными органами местного самоуправления, взявшими на себя ответственность практически за все стороны жизни: строительство дорог и содержание сельской почты, медицинское обслуживание населения и агрономическую помощь, народное образование, доступное страхование и экономическое стимулирование мелких производителей. Изначально на содержание земств выделили 20 процентов податей, собиравшихся государством, плюс разрешили вводить дополнительные налоги на недвижимость и предпринимательскую деятельность. Для некоторых категорий плательщиков размеры земских сборов превышали налоговые платежи в казну. Земства постоянно стремились повысить налоговую нагрузку, так что правительство вынуждено было законодательно ограничивать ставки некоторых категорий земских сборов. В результате, создание сети местной администрации, компенсировавшей слабость государственной машины на местах, обходилось казне лишь в одну пятую часть от стоимости содержания существующего аппарата. При этом, ответственность за неизбежное повышение налогового бремени перекладывалась с государства на органы местного самоуправления, а недовольство населения ослаблялось выборностью всесословного земства, представлявшего это самое население. Принцип «налоги в обмен на политическое представительство» стоял за ростом влияния парламентов в передовых странах начиная с XVIII в., когда требовавшее все больших налоговых поступлений современное государство предоставляло политически активным категориям населения право участвовать в выработке законов. Однако земство было лишено всякого представительства во власти, а правительство долгое время препятствовало попыткам координации деятельности отдельных земств. Таким образом, земская реформа оказалась блестящим политическим решением: сравнительно недорогой для казны ценой она создавала разветвленную сеть местных органов управления, полностью подконтрольных центральной власти в политическом отношении, но снимавших с нее ответственность за возросший налоговый пресс. Спустя несколько десятилетий земства заявили о своих притязаниях на политическую власть в государстве, соразмерную их влиянию как представителей местного населения, но в XIX веке речь об этом еще не шла. Уже само появление всесословного избираемого органа местной власти с собственным бюджетом казалось почти революционным.
Распорядительные органы земств — «собрания гласных» (депутатов) — занимались хозяйственными вопросами и собирались один раз в год на сессию рассматривать и принимать принципиальные решения. Исполнительные органы — «земские управы» — занимались выполнением решений этих собраний и рутинной работой.
Выборы в земские распорядительные органы предписывалось проводить раз в три года на основе имущественного ценза, по куриям выборщиков — прямых выборов не предусматривалось. Первую курию составляли депутаты-выборщики от землевладельцев, имевших от 200 до 800 десятин земли или недвижимость стоимостью от 15 тысяч рублей. Вторую курию формировали депутаты от городов — собственники промышленных и торговых заведений с годовым оборотом не менее 6 тысяч рублей. В третью курию выбирали депутатов от крестьян; здесь не полагалось имущественного ценза, но сами выборы были многоступенчатыми. Сначала сельский сход выбирал представителей на волостной сход; там, в свою очередь, избирались выборщики, которые направлялись на уездный съезд; наконец, уездный съезд избирал депутатов в уездное земское собрание. Председателем земского собрания должен был быть предводитель дворянства.
Сама структура земств давала преимущество более обеспеченным, но в силу этого и более образованным слоям населения. Социальный портрет уездных земских собраний за первые три года их существования (1865–1867) выглядел так: дворяне составляли 42%, крестьяне — 38%, купцы — 10%, духовенство — 6,5%, прочие — 3%. Дворяне существенно преобладали в губернских земских управах (почти 90%), где требовалось работать на постоянной основе, обладать организационным опытом, достаточным образовательным уровнем и свободой от основного занятия (у крестьян это было земледелие). Оставаясь формально всесословным органом, земство крайне непропорционально представляло основные группы сельского населения (дворян и крестьян). Тем не менее — вернее, именно поэтому — оно оказалось вполне работоспособным органом. Всего полувеком ранее проекты реформ эпохи Александра I крайне расплывчато описывали, как могут выглядеть на практике самые умеренные формы «народного представительства», — и вот спустя неполных три года после отмены крепостного права появились органы власти, почти наполовину состоящие из крестьян на уездном уровне. 90 процентов дворян среди губернских гласных было, конечно же, чрезвычайным перекосом, но 90 процентов крестьян среди губернских гласных, адекватно представляя социальный состав населения, обрекли бы деятельность земств на паралич и полное подчинение центральной власти.
Реальной проблемой земской реформы с самого начала была ее географическая, а не социальная — временно неизбежная — ограниченность. Земства были введены только в 34 «внутренних» губерниях (из 50 губерний и областей Российской империи). Там, где отсутствовала уверенность в преобладании в земствах православных «русских» представителей, особенно из дворян, они просто не вводились. Причиной были опасения, что нерусское дворянство использует этот институт для продвижения своих национальных интересов в ущерб центральной власти или что в регионах, где не было достаточно дворян, земства превратятся в «классовый» крестьянский орган или вовсе не справятся с задачами управления (например, в Сибири). Эта ограниченность земской реформы обозначала пределы политической «современности» имперского государства, подобно тому, как наделение освобожденных крепостных не индивидуальными, а корпоративными (сословными и общинными) правами обозначало пределы юридического и экономического потенциала государства. Рационализируя и модернизируя общество, земская реформа вновь воспроизводила имперскую логику исключения. Борьба за распространение земства на оставшиеся регионы империи развернулась с новой силой в начале XX века. Только в 1912 г. земские органы появились на южных и юго-восточных окраинах: в Ставропольской, Астраханской и Оренбургской губерниях. Закон о земстве в западных губерниях был принят годом раньше (1911).
Своего рода аналогом земской реформы стала долго готовившаяся городская реформа, которую начали разрабатывать еще в 1861 г., а представленный в 1864 г. проект обсуждался и переделывался на протяжении еще нескольких лет. Наконец, 16 июня 1870 г. было утверждено «Городовое положение», по которому в городах создавались Городская дума (законодательный орган) и Городская управа (исполнительный орган, состоявший из Городского головы и двух или более членов). Собственно, Городская дума как таковая не являлась новым институтом, его ввела еще Екатерина II. Но та дума формировалась на сословной основе, и городскими делами занимались лишь представители официально признанных городских сословий — купцы, мещане, ремесленники. К середине XIX века эта социальная структура устарела, жившее в городах дворянство было заинтересовано во влиянии на городские дела, как и крестьяне, которые, не принадлежа к городским сословиям, могли владеть немалой собственностью в городе. Новые городские Думы отражали эти перемены: они стали бессословными, а пропуском в них являлся имущественный ценз. Иными словами, распределением городских налогов, благоустройством городов, развитием транспорта, дорог, здравоохранением, устройством школ, рынков и базаров, регулированием торговли и промышленности, содержанием тюрем и пожарных станций, и прочими делами города должны были заниматься те, кто платил налоги в городской бюджет. Таким образом, реформа задавала новую динамику развития городов, которую можно назвать буржуазной в прямом смысле слова. В 1871 г. в Москве при численности населения в 602.000 человек право избирать и быть избранными в Городскую думу имели 20.600 человек, т.е. порядка 7% от взрослого населения растущего мегаполиса. Выборы в Городскую думу проводились по трем избирательным собраниям на основе имущественного ценза. В первое избирательное собрание входили только крупные налогоплательщики, вносившие треть городских налогов, во второе — более мелкие, уплачивавшие другую треть, в третье — все остальные налогоплательщики. Каждое собрание избирало представителей в Городскую думу на четыре года. На тот же срок дума выбирала Городского голову, чью кандидатуру утверждал губернатор или министерство внутренних дел; они же могли приостанавливать решения Городской думы.
То, что «Городовое положение» 1870 г. распространили практически на все регионы империи, включая местности, где не действовала земская реформа, свидетельствовало о большей уверенности правительства в потенциале государства в этом случае. Города были средоточием «современности», при этом в них проживала лишь незначительная часть населения (чуть более 10%), так что даже ограниченных ресурсов имперского государства должно было хватить — как полагали в 1870-х — для контроля над самодеятельностью наиболее зажиточных горожан. Логика городской реформы была та же — на порядок улучшить качество городской инфраструктуры без обременения казны, компенсируя увеличение налогового бремени доступом главных налогоплательщиков к городскому управлению. Таким образом формировалась скромная по масштабам «гражданская нация», политически бесправная и предположительно лояльная режиму в силу своей зажиточности. Характерным исключением из этой разрешенной общеимперской гражданской нации стала Финляндия, где сохранялось прежнее городское устройство, а также ненадежное Царство Польское и только что завоеванные районы Средней Азии, на которые не распространили действие Городового положения. На Северном Кавказе Городские Думы были введены во всех крупных городах, в Закавказье — в таких интернациональных по составу населения городских центрах, как Тифлис, Баку, Кутаиси и Эривани. В более гомогенных и менее промышленно развитых Гори и Ахалцихе новое городское законодательство разрешили в упрощенном виде. Во всех остальных городах Закавказья власть оставалась в ведении местной полиции. То есть можно сказать, что исключения из опытной городской «гражданской нации» были действительно немногочисленны по имперским меркам. В отличие от модели этноконфессиональной нации, единая гражданская нация вполне была реализуема в масштабах всей страны.
На протяжении 1870–1880-х гг. компетенции земств постепенно урезались правительством, а состав становился все более дворянским. Но начиная с 1890-х земства переходят в контрнаступление: сначала как центр, вокруг которого группируется умеренная политическая оппозиция режиму, а после 1910 г. и особенно с началом первой мировой войны — как главный механизм социальной мобилизации и координации экономической деятельности населения, в полной зависимости от которого оказалось само центральное правительство. Сконструировав земства как эрзац-государственный институт без реальных политических полномочий, архитекторы реформы 1864 г. рассчитывали использовать потенциал социальной самоорганизации, избегая при этом необходимости проведения политической реформы режима. Их расчет полностью оправдался в краткосрочной перспективе, но самый суровый политический контроль не способен отменить логику процессов самоорганизации. При всей ограниченности земской выборной системы, земства являлись единственным органом власти, поддерживающим постоянную обратную связь с населением. Они интегрировали практически все аспекты современной социально-экономической деятельности, став крупнейшим работодателем для наиболее передового социального слоя в России — профессионально подготовленных специалистов (около 100 тыс. на земской службе к 1914 г.). В результате, несмотря на диспропорции в социальном составе и консерватизм многих дворянских гласных, земства как институт оказались в авангарде развития современного общества в России. В модернизирующемся обществе «современность» воспринимается как синоним легитимности, позволяя большую степень консолидации политического веса. Поэтому в итоге изоляция земств от общеимперской государственной системы сыграла над режимом злую шутку: когда с началом войны 1914 года земства стали важнее и популярнее центрального правительства, не нашлось механизмов, позволивших использовать их авторитет в интересах всего государства. Более того, многие десятилетия противодействия попыткам земств объединиться на общероссийском уровне привели к тому, что органы местного самоуправления — земства — сосредоточились на лоббировании региональных («местных») экономических интересов в ущерб общегосударственным, с катастрофическими последствиями. Но это произошло лишь полвека спустя после создания первых земств.
Судебная реформа и границы нового многоуровневого гражданства
Институциональные условия для формирования общеимперской гражданской нации (не сводящейся к нескольким процентам наиболее зажиточных горожан или земских выборщиков) были заложены радикальной реформой правовой сферы Российской империи. Ее провозвестником стали частные нововведения в судебной сфере и отмена наиболее архаичных и варварских норм: так, в 1863 г. был принят закон, отменивший телесные наказания по приговорам судов. Женщины любых сословий полностью освобождались от телесных наказаний. Однако розги сохранялись для крестьян (по приговорам волостных судов), для ссыльных, каторжных и штрафных солдат. Это умеренно оптимистическое начало, тем не менее, не позволяло предположить масштаб и характер готовившейся реформы судебной системы.
Объявленная 20 ноября 1864 года, судебная реформа стала одним из важнейших достижений эпохи Великих реформ. Впервые в Российской империи создавались общие судебные учреждения для представителей всех сословий, общий порядок судопроизводства, гласные и состязательные суды, провозглашалась равная ответственность всех сословий перед законом. Наконец-то был окончательно реализован принцип отделения судебной власти от административной — почти через сто лет после первых опытов Екатерины II. Новая судебная система включала в себя суды нескольких уровней. Мировой суд разбирал уголовные и гражданские дела, ущерб по которым не превышал 500 руб. Мировые судьи избирались уездными земскими собраниями и утверждались Сенатом. Страну разделили на 108 судебных округов, в каждом из которых окружной суд разбирал серьезные гражданские иски и уголовные дела с участием присяжных заседателей. Сенат действовал как высшая судебная и апелляционная инстанция. Предварительное расследование вели судебные исполнители. Вводился институт адвокатуры — а вместе с ним с нуля создавалась и сама профессия адвоката, вскоре ставшая престижной. Постепенно адвокаты сформировали особое профессиональное сословие с правилами корпоративного саморегулирования и профессиональным кодексом. Адвокатская среда в России стала источником либеральной, а иногда и революционной фронды.
Новая универсальная юридическая основа будущей гражданской нации как сообщества равных перед законом все равно допускала существенные исключения: сословные волостные суды для крестьян, консистории для духовенства, суды для военных, высших чиновников и др. Важнейшие политические преступления находились в ведении Верховного уголовного суда, который назначался императором в исключительных случаях. Во многом, эти исключения диктовались прагматичным желанием упростить доступ к правосудию — особенно в случае крестьян, которые рутинно обращались в волостные суды, более понятные и дешевые по сравнению с окружными судами. Формально отделенные от сферы современного судопроизводства, крестьяне интегрировались в общую юридическую культуру благодаря формированию доверия к самому институту суда. Особую роль в их дальнейшей интеграции играл мировой суд как срединное звено между крестьянскими волостными судами, которые руководствовались обычным правом, и судом присяжных. Современники рассматривали мировой суд как школу «уважения индивидуальности и закона». В такие суды могли прийти представители всех сословий, включая крестьянина или городского рабочего, и устно, на доступном ему или ей языке, изложить свою проблему. Решения выносились на основе специального сборника права — «Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями», но с учетом здравого смысла и местных обычаев.
Подобной же школой нового правосознания были суды присяжных, заседания которых посещались публикой, следившей за соревнованием прокуратуры и адвокатуры в интерпретации законов. Главную «школу» проходили присяжные. Сама практика отбора присяжных отрабатывалась годами. По свидетельствам юристов — современников реформы, в провинции среди присяжных доминировали крестьяне, что было для всех совершенно новым опытом.
Куда более серьезным ограничением новой судебной системы, не оправданным ничем, кроме политического произвола, стали нарушения стандартной юридической процедуры в ситуациях, когда интересы государственной власти напрямую сталкивались с прерогативами судов, особенно в области административной юстиции. Как признавались юристы, весь прокурорский и юридический аппарат оказывался беспомощным, если преступление совершал крупный государственный чиновник. Политические преступления, по которым присяжные могли выносить оправдательные решения, государство стремилось изымать из ведения судов присяжных. Также оно старалось влиять на адвокатуру, ограничивая принятие в нее нерусских. Адвокаты, движимые правовым сознанием и корпоративной этикой, пытались отстаивать презумпцию закона перед политической целесообразностью и волей императора, и эта, в общем-то, вполне политическая и вполне современная коллизия сохранялась с момента введения судебной реформы до конца империи в 1917 г. Как и в прочих случаях, эти исключения и ограничения свидетельствовали о специфике имперского государства, а конкретно — о неспособности авторитарной системы до конца следовать объявленным ею же «правилам игры». Авторитарное государство может выглядеть эффектнее демократического, но, в отличие от него, оно не может позволить себе последовательное воплощение модели «саморегулирующейся машины» — идеала не просто эффективного, но и устойчивого государства.
Другим важным исключением из универсальной правовой сферы, создававшейся судебной реформой 1864 года, было сохранение систем обычного права для населения, фактически имевшего колониальный статус. Формальных колоний как отдельных территорий с четко очерченными границами в Российской империи не существовало (по крайней мере, до завоевания Средней Азии). Тем не менее, далеко не на всех подданных империи власти стремились распространить институты современного государства, полагая, что для начала достаточно примирить с имперской правовой системой обычное право наиболее «иных» групп. Понимание «инаковости», изначально обозначаемой термином «инородцы», менялось со временем и не сводилось к этноконфессиональным отличиям. К примеру, освобожденным от крепостной зависимости русским крестьянам тоже предоставили «переходную» административно-правовую систему, основанную на рационализированном и отредактированном обычном праве, — подобно тому, что Сперанский разработал для «инородцев» Сибири. Эта практика была продолжена и после 1864 г. На Кавказе, начиная с 1850-х годов, империя вводила судебно-правовую автономию, которая была частью «военно-народной системы управления». Ее сущность уже в начале XX в. упрощенно сформулировал кавказский наместник (1905−1915) генерал-адъютант граф И. И. Воронцов-Дашков:
Система военно-народного управления, созданная на Кавказе в период борьбы русских войск с местными горцами, основана на сосредоточении административной власти в руках отдельных офицеров, под высшим руководством главнокомандующего Кавказской армией, и на предоставлении населению во внутренних делах ведаться по своими адатам.
На самом деле в основе новой системы лежало осмысление новейшего европейского опыта обустройства колониальных владений — британского в Индии, а в еще большей степени — французского в только что завоеванном Алжире. Там «туземные» администрации из представителей местной элиты управляли «туземным» населением, в большей или меньшей степени опираясь на обычное право, признаваемое законодательством метрополии. Более того, сама идея о существовании особого социального строя у горцев Кавказа — примитивного эгалитарного сообщества «вооруженного народа» — лежала в русле новейших исследований этнографов и других обществоведов. Она предвосхищала формулирование теории единой эволюции человеческих обществ через исторические стадии, включая введенную в 1877 г. Льюисом Морганом концепцию «военной демократии» как переходной политической организации от первобытного общества к государству. В соответствии с этой научно обоснованной точкой зрения, имперские власти развивали на Кавказе местное обычное право (адат) в ущерб шариату, поскольку шариат не соответствовал «догосударственному уровню развития» горской «военной демократии» и, к тому же, обычное право легче поддавалось манипулированию. Предполагалось, что имперская администрация, представленная высшим офицерством — наиболее понятным авторитетом для горской «военной демократии», — возьмет на себя высшие государственные функции, включая надзор за отделением суда от администрации. Местное самоуправление будет решать повседневные проблемы и отвечать за выполнение решений имперской власти.
В духе остальных реформ середины XIX в., административно-правовая система для Кавказа также апеллировала к народу, под которым здесь понимались этнически своеобразные горцы, их обычаи и социальная организация. По совету востоковедов, этнографов и военных, имевших длительный опыт службы на Кавказе (и следуя примеру французов в Алжире), в качестве основной самоуправляющейся единицы власти выбрали сельскую общину — джамаат. При этом все привилегии, закрепленные за знатью дореформенным адатом, отменялись. Джамаат превращался в бессословную общину — сельское общество, которое отвечало за уплату налогов, поддержание правопорядка на своих землях, выдачу разбойников и повстанцев, ремонт дорог и прочие местные инфраструктурные проекты. Именно эта община стала главным посредником между горцами и военными властями наместничества, и в своем реформированном виде сильно напоминала крестьянскую общину внутренней России. Так, джамаатам предписывались новые органы управления: сельский сход, старшина с помощниками и сельский суд, состоящий из знатоков местного адата. Суды по обычному праву разбирали мелкие уголовные правонарушения и земельные споры между общинами. Мусульманскому праву были подсудны гражданские иски, включая раздоры между мужем и женой, родителями и детьми, бракоразводные процессы, споры по завещаниям и по религиозной собственности. Судей выбирали каждые три года, они должны были быть старше 25 лет, хорошо знать арабское делопроизводство, адат и шариат. Прокуроров и адвокатов в таком суде, собиравшемся по пятницам возле мечети, не было. Из принятых в адате наказаний юридическую силу сохраняли изгнание кровника, штраф за пролитие крови и платежи за любое правонарушение в пользу пострадавшего и общины. Зато имперские власти запретили кровную месть, приравняв ее к убийству при отягчающих обстоятельствах, а также адат, разрешавший трехдневный грабеж имущества убийцы. Тяжбы горцев с русскими переселенцами решались уже не по адату и шариату, а по общим законам империи в городских мировых судах.
Даже эту вполне продуманную «колониальную» систему судопроизводства, составившую важное исключение из пореформенного общеимперского правового пространства, не удалось полностью реализовать на всей территории Кавказа. В Центральном и на Северо-Западном Кавказе она продержалась недолго. В 1872 году Терская и Кубанская области с Черноморским округом были переданы из военно-народного в гражданское управление и подчинены общим законам империи. Это произошло во многом потому, что местное население из этих районов массово переселялось в Османскую империю (о чем речь пойдет ниже), а освободившееся место занимали казаки и колонисты из южных и центральных губерний. В целом, степень распространения институтов, созданных Великими реформами, может рассматриваться как мерило интеграции населения тех или иных территорий в имперское общество и государство.
Справедливости ради надо признать, что, при всех своих недостатках, произведенный переворот правовой сферы Российской империи был немыслим всего десятилетием ранее, при жизни Николая I, и буквально физически невозможен во времена Александра I. Согласно рассказу генерал-губернатора Москвы князя Дмитрия Голицына, Николай I прямо заявлял: «Пока я буду царствовать — России не нужны адвокаты, без них проживем». Но до Николая I, как уже говорилось, в России вообще отсутствовали собственные профессиональные юристы. Так что при всем своем идейном неприятии принципов, на которых будет основана судебная реформа 1864 г., Николай I по праву должен считаться ее соорганизатором. Его фиксация на суверенитете как залоге «европейскости» державы способствовала «натурализации» в России остальных институтов современности (тех, что, по его мнению, не представляли угрозы суверенитету). Не перенося на дух адвокатуру (и, очевидно, сам принцип состязательного судебного процесса), Николай I поддержал подготовку собственных профессиональных правоведов — что не приходило в голову ни одному из его предшественников. В результате, в 1840-е–50-е гг. на службу в Министерство юстиции, Сенат, Второе отделение и другие административные органы пришла группа чиновников, получивших образование на новых юридических факультетах российских университетов, которые не только знали принципы континентального права, но воспитали в себе уважение к закону как высшему выражению цивилизации, как воплощению этического абсолюта. Именно эта группа, стремившаяся повысить престиж и авторитет юридической профессии, сформировала тот тип правового сознания, который реализовался в судебной реформе.
Военная реформа и мобилизация имперской нации
Хотя главным толчком к проведению Великих реформ послужило поражение России в Крымской войне, собственно реформа армии оказалась последней в череде преобразований, растянувшихся на полтора десятилетия. Это обстоятельство лишний раз доказывает, что «военно-стратегический» аспект поражения воспринимался лишь как индикатор системного кризиса российского общества и метафора провала политики Николая I по защите суверенитета «несовременной» империи. Даже в сугубо военной сфере реформы начались с социальных преобразований: с ликвидации тех структур, которые воспринимались как наиболее несовместимые с духом прогресса — военных поселений (ликвидированы в 1857 г.) и 25-летней рекрутчины (срок службы в армии был сокращен до 10 лет, а после 1874 г. — до 6 лет). В 1860-е гг. началась реформа военного управления: на флоте ее осуществлял Великий князь Константин, а в масштабах всей армии — военный министр (c 1861 г.), ученый-статистик Дмитрий Милютин. Страну разделили на 15 военных округов (вместо громоздкой системы корпусов, продемонстрировавшей слабость и неуклюжесть в Крымскую войну) с целью более оперативного руководства войсками. В 1864−1867 гг. численность армии сократилась с 1.1 миллиона до 742 тыс. человек и был создан резерв, подлежащий мобилизации в случае войны. В середине XIX в. лишь треть российских офицеров были выпускниками специальных военных учебных заведений — остальные выдвинулись на командные должности из нижних чинов по выслуге лет. Для повышения профессионального уровня офицерства в середине 1860-х гг. была реорганизована система военного образования, в частности, учреждены всесословные военные и юнкерские училища. Милютин провел реформу военного судопроизводства, отменил телесные наказания.
Все эти преобразования отражали новый взгляд на армию как на инструмент интеграции «нации», и это был очень современный взгляд, который Милютин разделял с европейскими военными реформаторами того времени. Еще столетием ранее европейское образованное (а потому привилегированное) общество все еще воспринимало войну как «спорт королей», а солдат — как команду профессиональных игроков: наемников или рекрутов, мало отличавшихся от «боевых холопов» былых времен. Французская революция совершила переворот и в этом отношении: в условиях политического хаоса и экономического кризиса, при саботаже или дезертирстве значительной части офицеров, в 1792–94 гг. удалось сформировать новую полуторамиллионную армию, одержавшую победу над многочисленными врагами. В ответ на призыв декрета 1792 г. «Отечество в опасности» в армию отправились добровольцы и была проведена широкомасштабная мобилизация. И добровольцы, и те, кто стал солдатом вынужденно, рассматривались как граждане, выполняющие долг перед Родиной: члены сообщества горизонтальной солидарности — нации. Главной мотивацией солдата национальной армии должны были быть не жалованье и не преданность государю, а служение «своей общине», масштабы которой расширялись до границ страны. Лишения и жертвы военной службы воспринимались не как потери, а приобретения солдата, подтверждающие его статус полноценного гражданина, причастного политической жизни нации. В свою очередь, государство получало возможность навязывать идейные ценности, культурные стандарты и социальные навыки огромной массе подданных посредством новой армии, как составную часть идеала гражданина, который стремился воплотить новобранец.
Этот передовой опыт социальной организации и мотивации, повышающий боеспособность армии без материальных затрат, пытались перенять и в странах «старого режима», боровшихся против революционной Франции. Вместо того чтобы записывать в солдаты невостребованных в мирной жизни маргиналов, в армию стали брать тех, кого считали достойным полноценного гражданского статуса. Даже до формирования политических наций полноправных граждан во многих европейских странах (а тем более, в Российской империи), допуск к военной службе определенной категории населения служил маркером ее социальной интеграции. В этом смысле чрезвычайно показательна динамика призыва евреев на службу в европейские армии. Страны, где евреи получили гражданское равноправие, распространяли на них воинскую обязанность. Так, Австрия допустила евреев к военной службе еще в 1788 г., вслед за принятием декретов о веротерпимости — в логике политики Просвещения (император Иосиф II прямо заявлял, что евреи должны исполнять равные обязанности со всеми, как «сограждане» — Mitbürger). Во Франции это произошло в 1792 г. в контексте строительства революционной армии патриотов-граждан. В Пруссии — в 1813 г., после изгнания французских войск и роста нового национализма.
В России евреи рекрутировались начиная с 1827 г., что было экспериментом по их интеграции в русле николаевского упорядочивания правового режима в империи: не как универсальные граждане с равными правами, а как представители податных сословий (в основном, мещан). В армию брали не только взрослых, но и детей (в т.н. кантонисты) на 25 лет, как и всех остальных рекрутов, — практически, пожизненно. Для евреев рекрутчина была связана с дополнительным шоком от бесповоротного слома всего жизненного и культурного уклада, радикального переноса из закрытого мира местечек в Черте еврейской оседлости в русскоязычную среду и иную бытовую культуру. Однако до реформ Милютина эта политика насильственной интеграции оставалась избирательной, направленной лишь на тех евреев, которым не посчастливилось вытянуть жребий рекрутчины. Пожизненность службы и отношение к армии как к институту наказания, куда ссылали не только бесправных крестьян, но и разного рода преступников, затушевывала связь между воинской службой и гражданским признанием.
Эта ситуация изменилась 1 января 1874 г., когда был издан «Устав о воинской повинности», ставший кульминацией мер по превращению имперской армии в интеграционный институт: вместо рекрутского набора в России вводилась всеобщая всесословная воинская повинность. Первый пункт Устава гласил: «Защита престола и отечества есть священная обязанность каждого русского подданного. Мужское население без различия состояний подлежит воинской повинности». Теперь не крестьяне насильно «забривались» в солдаты практически на всю жизнь, а по жребию в армию на шесть лет отбирались достигшие 21 года представители всех сословий и тех этноконфессиональных групп, чья интеграция в имперское общество считалась желательной или возможной. «По соображениям политическим и бытовым», т.е. из-за подозрений в потенциальной нелояльности и цивилизационном «несоответствии», не призывали население Туркестанского края, мусульман Северного Кавказа и аборигенные народы Сибири, Урала и Астраханской губернии. Все остальные тянули жребий, и если вытянутый жребий освобождал от службы, то молодые мужчины зачислялись в ополчение, т.е. в резерв. Образование, как и физическое несоответствие принятым стандартам «годности», позволяло либо уменьшить службу до полутора лет, либо избежать призыва. Христианские священнослужители всех исповеданий освобождались от службы, однако эта льгота не распространялась на имамов (кроме утвержденных государством) и раввинов. Особые льготы предусматривались для железнодорожных служащих, промышленников, торговцев, т.е. тех, кто развивал экономику империи.
Таким образом, новая российская армия не становилась подлинно национальной в гражданском смысле, сохраняя имперскую многоуровневость статусов и режим исключений и привилегий. Однако она размывала многие непроницаемые социальные перегородки, предлагая если и не общие «правила игры», то общее представление об устройстве сложного имперского общества. Попадая в армию на разных условиях, представители всех сословий и многих народов встречались и взаимодействовали, социализировались в общей административной, языковой и бытовой культуре, получали начальное русское образование и представление об официальной версии патриотизма. Армия — как основополагающий институт современного общества — не гарантировала равенства, но открывала возможности для более активной социальной мобильности и предоставляла новое социальное знание.
С точки зрения универсалистской «европейской» культуры, названной в XVIII в. «Просвещением», новое рациональное знание рассматривалось как главный атрибут «европейскости» и главный стратегический ресурс современных обществ. Практический (а не формально закрепленный в манифестах) статус «современности» зависит от успехов общества в производстве, организации и применении нового знания. В этом отношении российское военное ведомство действовало как сознательный локомотив обновления империи, меняя саму культуру государственного управления, внедряя в него принцип «знание — сила». Эффективность армейской организации и готовности к войне оценивалась на основании экономической, географической и демографической информации, которую стали собирать военные статистики. Сами по себе собираемые цифры не влияли на боеспособность армии, они могли быть даже неверными или измерять несущественные показатели. Главным была сама трансформация социального воображения, изменение восприятия государства и общества. При всем формальном значении сохранявшихся сословных различий, подданные императора превратились для военного руководства в «призывной контингент», который оценивался совершенно в иной системе координат. Мобилизационный резерв следовало посчитать, описать и классифицировать с точки зрения медицинской годности к службе, а также моральных и психологических качеств. Появилась необходимость разбивать население на группы на основании критериев, прежде применимых лишь к отдельным личностям. В результате военные статистики обратились к категории этничности («народности») и даже расы. «Народности» или расовому типу приписывались определенные психофизические отличия, которые отчасти объяснялись условиями окружающей среды и бытовыми навыками. Военное ведомство выпускало тома «Материалов для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба», которые формировали представления о характере и специфике жизни и хозяйствования различных «племен», т.е. этноконфессиональных групп империи. Тома содержали информацию об истории, социальной структуре, демографии, торговле, городах, ландшафте, фауне и флоре, геологии, психологии и религиозных верованиях населения каждой губернии. Совокупность этого позитивистского знания должна была использоваться для выработки новой, рациональной политики населения, которая бы превратила имперское разнообразие и несистемность из недостатка в стратегическое преимущество.
Если ранее государственных статистиков интересовал учет населения только в качестве налогоплательщиков, то постреформенная военная статистика впервые стала рассматривать разные группы имперского населения как элементы сложносоставной, но единой имперской нации. Образованные офицеры, которые развивали статистику, военную медицину и военную географию, ориентировались на примеры армий современных национальных государств либо на более-менее однородные в этнокультурном отношении армии европейских имперских метрополий. Именно такие гомогенные и объединенные общей патриотической идеологией и психологией армии считались наиболее боеспособными. А в Российской империи армия всеобщего призыва должна была сама формировать некое национальное целое хотя бы из солдат, на период их службы. В недемократической империи не было другого института и общего социального пространства, столь явно ориентированного на политический идеал единой нации, поэтому армия взяла на себя роль инструмента национальной интеграции населения.
Военная реформа стала, пожалуй, самой радикальной и самой либеральной из Великих реформ. В дальнейшем Военное министерство и Министерство внутренних дел принимали законы и распоряжения, ограничивавшие универсальный характер «Устава» 1874 года, вводили особые правила и ограничения для отдельных групп призывников (прежде всего, евреев и поляков). Эта тенденция свидетельствовала о том, что идеология интеграции в имперскую нацию постепенно уступала место более узкому этническому пониманию нации как основы имперского режима, ставившему под вопрос само сохранение единого имперского общества.
Первым тестом для новой армии и новой идеологии национальной империи стала очередная «русско-турецкая» война, начатая Российской империей против Османской в апреле 1877 г. Россия вступила в нее в традиционной роли союзника и покровителя христианских славянских народов в составе Османской империи, однако на этот раз главным инициатором войны было не правительство (движимое соображениями стратегии или престижа), а прогрессивное «образованное общество». Лишенное политического представительства и права голоса в других вопросах, оно видело в войне почти единственный формат общенационального единения и участия в общегосударственном деле. Общество оказало давление на власть в наиболее уязвимой точке — патриотической риторике «славянского» национального единства. Эта риторика поощрялась самим правительством, вытесняя старую версию «официальной народности» («уваровскую триаду») как основу нащупываемого сочетания империи и нации. «Славянство» конкретизировало понятие «народности» как сообщества равных, не слишком сужая масштаб «имперской нации» (представляя 72% населения, а считая с «ненадежными» поляками — почти 80%). При этом, основываясь на абстрактном принципе этноязыковой близости, идея «славянской нации» позволяла игнорировать вопрос о предоставлении ей политических прав.
Когда в середине 1870-х гг. на Балканах усилились националистические настроения и сепаратизм местных народов поставил Османскую империю на грань существования, зеркально вызвав в ответ «национальные» репрессии (против целых этнических групп), российское общество сплотилось в требовании защитить «братьев-славян». Александр II признавался в нежелании вовлекать страну в очередную большую войну с Османской империей, и в правительстве существовала серьезная оппозиция военным планам. Так, министр финансов Михаил Рейтерн доказывал неизбежный крах финансов и остановку реформ в случае войны и в знак протеста просил об отставке. Соображения стратегического характера (надежды восстановить позиции в регионе, утраченные после Крымской войны) не могли перевесить эти опасения, но идеологическому давлению со стороны общества, охваченного славянофильски-националистическими настроениями, правительство сопротивляться не могло. Примеривающий на себя сценарий «народной империи» режим оказался заложником поддерживаемой им идеологии, которая — в полном соответствии с ожиданиями — проявила себя как важный мобилизирующий ресурс для армии всеобщего призыва.
Непосредственным поводом к войне послужило антиосманское восстание в Боснии и Герцеговине 1875 г. и Апрельское восстание в Болгарии 1876 г. Летом 1876 г. войну Османской империи объявили Сербия и Черногория. Османская империя успешно сломила сопротивление повстанцев и внешних противников, однако методы антипартизанских действий (особенно со стороны нерегулярных формирований «башибузуков») в середине 1870-х гг. уже шокировали европейское общественное мнение. Более полугода российская дипломатия пыталась урегулировать ситуацию на Балканах, добиваясь предоставления автономии для Боснии и Болгарии путем тайных переговоров и созыва дипломатических конгрессов. По сути, повторялась ситуация кануна Крымской войны, когда Николай I добивался статуса покровителя христианских подданных Османской империи. Однако на этот раз Россия действовала в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными державами, демонстрировала готовность к компромиссу, а общественное мнение европейских стран было возмущено реальными и мнимыми притеснениями балканских христиан. В результате, когда дипломатические усилия не увенчались успехом и Россия в апреле 1877 г. объявила войну Османской империи, та оказалась без могущественных союзников.
Балканская война была популярна в российском обществе, привлекала добровольцев и рождала ощущение национальной гордости (хотя, по сути, война не имела отношения к российской нации — в любом понимании). Несмотря на то, что командование армией проявило себя неблестяще (имея двукратное превосходство в численности над противником, рассчитанную на блицкриг кампанию затянули на 10 месяцев), война продемонстрировала результат полутора десятилетий реформ. Была проведена мобилизация и сосредоточены значительные силы (более трехсот тысяч человек), войска показали высокую боеготовность и мотивированность — притом, что наступательная война велась за пределами страны. В тяжелом противостоянии с сильным противником российская армия разгромила османские войска в битве при Плевне (Болгария) и на Шипкинском перевале. Были взяты крепости Карс, Батум и Ардаган на Кавказе. В январе 1878 г., преодолев Балканы, российская армия подошла к Константинополю (Стамбулу). Война завершилась подписанием Сан-Стефанского мирного договора в феврале 1878 г., восстановившего статус Российской империи как важного игрока международной политики, эффективного и сильного государства со своими «национальными» интересами на европейском континенте (см. карту). По договору, Сербия, Черногория и Румыния получали независимость, а Болгария, Босния и Герцеговина, остававшиеся в составе Османской империи, — широкую автономию. При этом османские войска должны были покинуть их территорию, а размеры проектируемого Болгарского княжества превышали любое другое балканское государство, простираясь от Черного до Средиземного моря. Тем самым Россия, как покровитель нового болгарского государства, получала выход к средиземноморскому побережью и стратегическое господство на Балканах.
Эти условия Сан-Стефанского договора напрямую нарушали договоренности, достигнутые с другими европейскими державами накануне войны (прежде всего, с Австро-Венгрией) и обеспечившие их нейтрально-благожелательную позицию (см. карту). Вероятно, сказалась эйфория от победы в первой современной «национально-освободительной» войне, результат которой кажется гораздо значительнее сугубо военных достижений. В итоге, едва заключив мир, Россия столкнулась с вероятностью новой войны с коалицией стран, как и в 1853 г. Кризис удалось урегулировать на созванном летом дипломатическом конгрессе в Берлине, который пересмотрел условия Сан-Стефанского договора. Берлинский мирный договор уменьшал территорию Болгарской автономии примерно в три раза, Боснию и Герцеговину передавал под оккупацию Австро-Венгерской империи, возвращал Османской империи значительные территории. Новый договор был воспринят российским образованным обществом как вероломное лишение России заслуженных плодов победы, хотя куда более реальной проблемой для подданных империи было расстройство финансов (за время войны рубль обесценился примерно на 20%) и десятки тысяч погибших, а не потеря Болгарским княжеством выхода к Средиземному морю. Таким образом, реформы Александра II продемонстрировали эффективность и в том, что касается усилий по мобилизации политического потенциала нации для поддержки государства и политического режима.
Колониальная экспансия как национальное самоопределение метрополии
На эпоху Великих реформ пришлась активная экспансия Российской империи в Средней Азии, вплоть до границ с Китаем, Персией и Афганистаном. В 1860–80-х гг. были завоеваны и подчинены Кокандское и Хивинское ханства, Бухарский эмират и туркменские оазисы. Это целенаправленное продвижение в среднеазиатский регион отличалось от предшествовавшего столетнего периода достаточно спонтанной экспансии в ходе постоянных пограничных столкновений и несистематических инициатив местных командиров по захвату то одного, то другого укрепления. В 1860-е годы в Российской империи сформировалось общественное мнение, которое желало этого продвижения, усматривая в нем потенциальные экономические и геополитические выгоды, а также реализацию российской цивилизационной миссии «в Азии». Другим важным аргументом в пользу экспансионизма был тезис о том, что модернизированное государство должно иметь стабильные, четкие границы, а до завоевания Средней Азии южная граница империи больше напоминала открытый фронтир. Все эти оправдания захватов имели одно общее основание: стремление приобрести колонии и продемонстрировать способность Российской империи к империализму.
Как обнаружили сторонники возвращения России в сообщество передовых европейских государств в постниколаевский период, подлинно современное государство теперь непременно имело колонии. Колонии служили плацдармом для распространения военного и экономического влияния за пределами собственных границ в рамках масштабного передела мира, а также демонстрации цивилизационного превосходства страны-колонизатора. Причем, это превосходство доказывалось не просто контрастом с уровнем культуры аборигенов, а способностью подтянуть ее, в конце концов, до уровня метрополии (но при этом ни в коем случае не уничтожая вовсе разрыв между колонизованными и колонизаторами). Та страна, которая могла радикальнее преобразовать колонию, оказывалась более передовой («современной») по сравнению с другими европейскими державами. К 1848 г. французская армия окончательно завоевала Алжир в Северной Африке, в 1853 г. французы основали колонию Новая Каледония в Микронезии в Тихом океане, в следующее десятилетие подчинили Сенегал в Западной Африке, в 1865 г. установили протекторат над Камбоджей. Таким образом, передовая Франция — Вторая республика, а затем и Вторая империя — продемонстрировала особую связь между «современностью» и колониализмом. По странному стечению обстоятельств, остальные передовые европейские страны — Нидерланды, Великобритания — тоже имели давние колонии. Причем, именно в это время Великобритания произвела поворот в колониальной политике: после подавления восстания сипаев 1857 г. весь субконтинент Индия перешел в прямое подчинение британской короны (прежде колонизатором выступала формально частная Ост-Индская компания). Современное европейское государство распространило свою власть на территорию, населенную более чем ста миллионами человек — колоссальный экономический и военный ресурс, имевший еще большее символическое значение.
Поэтому неожиданный интерес Российской империи к завоеванию Средней Азии вполне соотносился с главной задачей Великих реформ — глобальным обновлением России, возвращающим ее в ряд ведущих держав Европы. У континентальной империи было не так-то много возможностей установить контроль над еще «незанятой» соперниками территорией, и захват древнего Мавераннахра и сопредельных земель воспринимался как аналог британского подчинения Индии. Заодно появлялась возможность, по крайней мере теоретически, угрожать Великобритании, чьи индийские владения теперь оказывались в непосредственной близости от Российской империи.
В начале 1865 г. к южным границам империи присоединили огромную территорию, ставшую Туркестанской областью в составе Оренбургского генерал-губернаторства. В 1867 г. Александр II подписал указ об учреждении особого Туркестанского генерал-губернаторства (которое составляли Семиреченская и Сырдарьинская области). 23 июня 1868 г., после очередного военного поражения, эмир Бухары подписал мирный договор на российских условиях, положивший начало превращению эмирата в российский протекторат. В том же году был заключен договор, по которому правитель Коканда Худояр-хан обязался подчиняться требованиям Туркестанского генерал-губернатора и выполнять союзные обязательства. Весной 1875 г. восстание, поднявшееся, в том числе, из-за вассальных отношений Худояр-хана с «неверными», свергло его. Хан бежал в Россию, а российские войска вступили в пределы Кокандского ханства. 19 февраля 1876 г. было принято решение ликвидировать Кокандское ханство, создав на его территории Ферганскую область. 12 августа 1873 г. был подписан Гендумянский договор между Хивинским ханом и Россией, который объявлял хана российским вассалом и лишал его права проводить самостоятельную внешнюю политику, что было очень важно для противостояния британскому влиянию в регионе (как и оговоренное Россией право беспошлинной торговли). Таким образом, к концу 1870-х гг. большая часть Средней Азии в той или иной степени попала под российский контроль.
Следующим этапом стало подчинение туркменских племен. В 1881 г. российские войска овладели селением Асгабад (нынешний Ашгабад), и 9 декабря 1881 г. российско-персидская пограничная конвенция определила границы между сферой интересов России и Персии в регионе. Этот документ, собственно, обозначил пределы продвижения России в Средней Азии. Оно завершилось в марте 1884 г. включением в состав империи Мервского и соседнего Иолотанского оазисов (см. карту).
История Российской империи — это история постоянной экспансии, однако существуют значительные отличия между российским империализмом второй половины XIX в. и захватами и аннексиями земель предшествующих эпох. Главным из них была принципиальная незаинтересованность имперского режима Александра II в интеграции даже привилегированных слоев новых территорий в имперское общество и распространение на эти территории и население общеимперской административно-правовой системы. Складывающаяся национальная империя нуждалась в колониях, подчеркивающих своей своеобычностью внутреннее единство метрополии. Новизна этого империализма особенно наглядна при сравнении с практиками покорения Северного Кавказа — совсем недавнего и также направленного на преимущественно мусульманское население с «феодальной» социальной организацией.
В 1867 г. первым генерал-губернатором «русского Туркестана» был назначен близкий соратник министра Милютина, Константин Петрович фон Кауфман. До этого он управлял Северо-Западным краем, а первые двадцать лет службы провел на Кавказе, принимал участие в войне с Шамилем и с Османской империей. В качестве программы действий он получил «Временное положение об управлении Семиреченской и Сырьдарьинской областями», вводившее на завоеванных территориях Средней Азии систему военно-народного управления по образцу Кавказа. Военно-народная система в нем описывалась четырьмя принципами: 1) укрепление краевой (главной) администрации; 2) приближение структуры органов управления в Туркестане к образцам, сложившимся в прочих частях империи; 3) предоставление решения вопросов местного уровня по всем делам, не имеющим политического характера, выборным лицам из среды коренного населения; 4) сохранение шариата и обычного права в сфере правоотношений, которая не могла быть еще определена российскими законами. В этой интерпретации военно-народное управление создавало больше возможностей для опоры на местные традиции и даже для искусственного их «изобретения» в ущерб сотрудничеству с исламской духовной элитой. Ставилась задача порвать с ханской политической системой и лишить прежнюю элиту всех преимуществ. Если традиционная имперская практика состояла в интеграции местных привилегированных слоев (даже на Северном Кавказе) в наднациональную имперскую элиту, то в случае присоединения Средней Азии такая возможность даже не рассматривалась.
Уже сама идея распространить на завоеванные среднеазиатские территории принципы «военно-народного управления» была подлинно империалистической в современном смысле слова, т.е. сознательно направленной на подчинение и угнетение. На Северном Кавказе имперские власти имели дело с сетью свободных общин, ведущих натуральное хозяйство. После уничтожения горской аристократии режимом Шамиля они вполне соответствовали научным представлениям того времени о начальном уровне социальной организации, позже описанной как «военная демократия». Сам феномен «шариатского движения» XVIII в. и систематическое насаждение шариата Шамилем свидетельствовали о довольно поздней исламизации региона и сохранении роли адата в организации повседневной жизни. Безусловно вмешиваясь в местные социальные отношения, режим военно-народного управления ориентировался все же, скорее, на интеграцию разнокультурных северокавказских сообществ в имперскую систему.
Бухарский эмират, Хивинское и Кокандское ханства были сложно структурированными иерархическими обществами, управляемыми старыми династиями и авторитетными аристократиями. Самарканд, Бухара, Ходжент и другие древние города Мавераннахра являлись крупнейшими исламскими центрами Евразии, где стремились получить образование мусульманские священнослужители Поволжья и Кавказа. Роль ислама в повседневной жизни даже простолюдинов была несоизмеримо большей, чем на Северном Кавказе. Поэтому решение имперской власти обращаться с городскими культурами Бухары и Хивы как с обществами «военной демократии» — т.е. лишенными социально-классовой стратификации, регулируемыми нормами обычного права и поверхностно затронутыми монотеистической религией — являлось прямо реакционным и деструктивным.
Современные историки отмечают, что политика «игнорирования ислама» (т.е. отлучения мусульманской духовной элиты от государства) особенно последовательно проводилась на территориях, присоединенных в годы Великих реформ: в Туркестанском и Оренбургском, а затем Степном генерал-губернаторствах. Это было связано как с разворотом имперской идеологии в сторону демонстративного империализма, так и с влиянием административной культуры, поощрявшей циркуляцию управленческого опыта между имперскими окраинами. В 1860-х годах на новую восточную периферию назначались администраторы, имевшие опыт усмирения и русификации Западного края после восстания 1864 г. Там аналогом ислама как политически враждебной империи идейной основы местного общества было «латинство» — римский католицизм. Сам Кауфман в 1865−1867 гг. был виленским генерал-губернатором, чуть ранее пост помощника виленского генерал-губернатора занимал генерал-адъютант Н. А. Крыжановский. В 1865 г. Крыжановский получил назначение генерал-губернатором в Оренбург — регион с длительной историей взаимодействия имперского государства и степной мусульманской элиты. Прибыв в Оренбург, Крыжановский не пожелал ознакомиться с этой традицией, а в логике своей предшествующей борьбы с католицизмом повел наступление на ислам. При Крыжановском развернулась кампания по «спасению» казахов (по тогдашней терминологии — киргизов) от пагубного влияния ислама и возвращению этих кочевников к их языческим и шаманским «национальным» обычаям. Эта задача решалась путем установления контроля над мусульманскими школами и муллами, от которых теперь требовали знания русского языка и преподавания Корана по-русски, а также ведения на этом языке метрических книг (книг регистрации рождений и смертей). Эти меры никогда не реализовывались до конца и оставались половинчатыми, поскольку имперское государство не имело сколько-нибудь развитого аппарата в степи и его функцию по контролю над населением во многом выполняло мусульманское духовенство. От этого лишь более заметным становился откровенно идеологический и контрпродуктивный характер усилий имперских властей в проведении антиисламской политики в степи.
Период Великих реформ совпал со становлением российского исламоведения — научных школ в Казани и Петербурге, масштабных исследовательских проектов ученых при кавказских наместниках. Тем более удивительно, что появление современной экспертизы по исламу вело к политике конфронтации — а не более нюансированного и продуктивного взаимодействия, основанного на лучшем понимании мотивов и логики исламского общества. И Франция, и Великобритания старались привлечь исламское духовенство колоний на сторону колониальных властей, используя экспертизу востоковедения, активно развивавшегося в XIX в. сначала немецкими учеными, к которым во второй трети столетия присоединились английские и французские исследователи. Большинство европейских востоковедов с симпатией относились к объекту своего изучения, но изучение мира, совершенно чуждого их повседневному опыту, вело к экзотизации восприятия «Востока» (Ориента), которому более или менее сознательно приписывались некие цивилизационные качества. Сегодня европейское востоковедение критикуют за «ориентализм» — формирование представления о разнообразных обществах Азии и Африки как о неком едином цивилизационном типе. Более или менее активно этому типу приписывались качества, зеркально противоположные идеалу европейской современности: религиозный фанатизм, деспотизм, экономическая стагнация, правовой произвол, склонность к сексуальным и диетическим излишествам. Ориенталистские проекции могли быть и вполне позитивными — прославлявшими воинскую доблесть или «дикарское свободолюбие», но все равно за ними скрывалось представление о существовании непреодолимой цивилизационной дистанции и готовность приписывать сложным сообществам (или даже группам разных сообществ) некие общие базовые признаки. Таким образом, для совершенно незнакомых с исламским миром европейцев ориентализм предоставлял и знания для конструктивного взаимодействия с мусульманскими элитами в колониях, и основу для проведения невидимой цивилизационной границы.
Мусульмане всегда были важной частью российского имперского общества, населяя центральные, старейшие территории вдоль Волги. Затем их численность выросла после завоевания Крыма, Кавказа, а присоединение Средней Азии добавило еще несколько миллионов мусульманских подданных. В начале 1890-х гг. в Османской империи проживало 12.6 миллионов мусульман, а в Российской империи по переписи 1897 г. было 13.9 миллионов мусульман. Из этого числа половина (семь миллионов) приходилась на Среднюю Азию. Возможно, антиисламский поворот имперской политики был вызван удвоением числа мусульманских подданных после завоевания Средней Азии и опасениями по поводу распространения «панисламизма» как политического фактора. Но, возможно, не меньшую роль сыграл новейший ориентализм европейского образца — научное «выученное» знание о мусульманах, пришедшее на смену непосредственному опыту и традиции практического взаимодействия. Ведя непрерывные войны с Османской империей на пике ее могущества, Екатерина II не боялась проводить политику веротерпимости, институционально встраивать исламское духовенство в империю и поощрять его влияние на башкир и казахов — и примерно так же себя вели по отношению к мусульманам европейские колонизаторы во второй половине XIX в. Однако новый российский империализм эпохи Великих реформ для воспроизведения «европейского» ориенталистского отношения к «Востоку» (подчеркивающего непреодолимое цивилизационное превосходство метрополии) вынужден был принять прямо противоположную политику. Для этого пришлось «забыть» о столетнем опыте взаимодействия с мусульманским духовенством, полутысячелетнюю традицию интеграции мусульманских элит, и вопреки практической целесообразности вступить в конфронтацию с давними соседями — все для того, чтобы лучше вжиться в образ заморских завоевателей, непременного атрибута новой европейской современности.
Сочетание практических политических соображений и освоения идеологии современного империализма привело к ужесточению конфессиональной политики в России. Традиционная мусульманская элита стала казаться ненадежным союзником, источником панисламистской угрозы, которую воображали по аналогии с наднациональной «европейскостью» или даже «западностью». Разыскания востоковедов — этнографов и лингвистов — породили идею о полезном для России раздроблении мусульманского населения посредством подчеркивания языковых и культурных различий внутри него. Этот результат достигался, в том числе, благодаря опоре на местные обычаи и местную специфику в рамках режима военно-народного управления. Так, население Туркестанского края «Временное положение» делило по условно-этнографическому признаку на сартов (в основном оседлое население) и киргизов (главным образом кочевников). Кочевое население в каждом уезде делилось на волости, волости — на аулы. Волостные и аульные старшины избирались населением на три года. У оседлого населения Сырдарьинской области административная и полицейская власть находилась в руках выборных аксакалов. В дальнейшем эта система продолжала корректироваться и распространяться на новоприсоединенные территории Центральной Азии, но основные ее принципы оставались прежними. Сословно-кастовые, региональные и конфессиональные группы начали осмысливать как этноязыковые народности, что в ХХ веке привело к формированию современных среднеазиатских наций и новому территориальному размежеванию по национальному принципу.
Модернизация интеллектуальной сферы: диалектика либерализации и национализации
Программа реформ родилась из осознания выпадения имперского общества из культуры современности, поэтому главные усилия были направлены на ликвидацию образовавшегося разрыва и восстановления «европейскости» российской культуры. В практическом отношении это означало создание условий для производства и применения современного и конкурентоспособного знания в широком спектре, от обществоведения до медицины. Структура «европейской» культуры современности устроена так, что средой для воспроизводства и спонтанного развития интеллектуального сообщества является публичная сфера, включающая всех образованных людей. То есть даже для того, чтобы появились условия для возникновения отечественной школы создателей оружейного пороха, необходимо допустить общественные дискуссии о литературе и политике.
Судебная и военная реформа, колонизация новых территорий требовали образованных людей, вооруженных современным знанием. Реформаторам не хватало наиболее фундаментальных знаний об империи, прежде всего — о новообретенном народе — крестьянах, о характере их землепользования, численности, экономическом поведении, даже нравах и обычаях. Нужны были специалисты для развития экономики, требовалось изучить природные ресурсы старых и новых территорий, составить соответствующие карты; в стране недоставало образованных врачей и юристов, специалистов, знакомых с языками и обычаями нерусских народов империи, и т.д. В контексте модернизационных задач, которые ставило перед собой правительство, вырос престиж «позитивного знания» о природе и обществе — это знание формировало реальную альтернативу романтическим идеологиям предшествующего периода. Политика либеральных реформ способствовала расширению пространства общественных дискуссий, в которых образованность и интеллектуальность играли важную роль.
У правительства и общества практически одновременно сформировался запрос на современное образование и институциализацию общественных дискуссий. Ответом на него стала серия реформ, начавшаяся изданием в 1863 г. нового университетского устава — систему образования начали менять с самой верхней ступени. Причем, сама история подготовки нового устава красноречиво раскрывает логику и цели реформаторов.
Устав готовился довольно долго, в обстановке многочисленных выступлений студентов против реакционных профессоров, общественной критики идеологической атмосферы николаевского правления и требований восстановления престижа России как европейского государства, где роль образования и научного управления должна быть значительной. С конца 1850-х гг. различные комиссии при императоре и правительстве обсуждали варианты новых университетских уставов. Наконец, в декабре 1861 г. по указу Александра II при Министерстве народного просвещения была учреждена особая Комиссия из университетских профессоров для пересмотра действующих положений функционирования университетов. Главой комиссии был назначен попечитель самого западного, Дерптского учебного округа, и под его руководством 5 января 1862 г. Комиссия приняла проект нового университетского устава. Министр народного просвещения Александр Головнин — один из ключевых реформаторов эпохи — распорядился обсудить текст устава в университетской среде, которой и предстояло следовать его принципам. Кроме того, он велел перевести проект устава на немецкий, французский и английский языки и направить известным ученым и профессорам Германии, Франции, Бельгии и Великобритании с просьбой критически отозваться о нем. Параллельно, в феврале 1862 г., министр командировал профессора истории и философа Константина Дмитриевича Кавелина во Францию, Швейцарию и Германию для изучения опыта работы главных университетов континентальной Европы. На протяжении 1862−1863 гг. в «Журнале Министерства народного просвещения» печатались статьи по истории и современному состоянию западноевропейских университетов. Одновременно шла активная дискуссия между попечительскими советами российских университетов, предлагавших поправки в проект устава. Таким образом, речь шла не просто о механическом заимствовании неких «европейских образцов», но о создании собственного современного проекта университета, понятного представителям разных европейских университетских систем и отвечающего интересам профессоров и администраторов российских университетов.
Наконец, 18 июня 1863 г. император Александр II утвердил новый Общий устав императорских российских университетов, предоставлявший университетам широкую свободу и самоуправление. По сути, именно на основании этого устава в империи стала формироваться автономная профессорская корпорация, поскольку устав 1863 года впервые пересмотрел статус профессоров, прежде являвшихся обычными государственными чиновниками. После принятия нового устава в империи открылись еще два университета: Новороссийский (1865) в Одессе и Варшавский (1869). Первый должен был воспитывать профессиональные кадры для развития все еще мало освоенной южной окраины, интегрируя ее в имперское культурное и идейное пространство. Второй — выступить цивилизационной основой российского (в смысле, национально русского) влияния в Польше.
Число студентов в царствование Александра II увеличилось почти в два с половиной раза: с 3547 человек в 1854 г. до 8193 в 1880 г. Теоретически, университеты были открыты для представителей всех сословий, а в такие университеты, как Казанский, имперские власти специально направляли представителей «инородцев», чтобы воспитывать из них образованных чиновников — посредников в проведении имперской политики среди нерусских подданных. В российской истории университеты сыграли огромную роль как наиболее эффективные институты интеграции в общероссийское культурное сообщество. К концу XIX века дворянская и разночинная молодежь стремилась поступать в университеты еще и потому, что они воспринимались как ступень для инициации в мир наиболее передовой — революционной — общественности. «Инородцы» же, особенно те, чьи права зависели от уровня образования, шли в университеты, чтобы повысить свой социальный статус. При этом, имперские университеты не развились в центры национальных научных традиций народов империи: так, Киевский университет не стал центром украинской науки, Дерптский — немецкой (а тем более эстонской), Варшавский — польской, а Казанский, несмотря на то, что именно здесь был создан первый в империи центр научного востоковедения, не оформился в центр тюркской (татарской) или финно-угорской науки. Но вместе российские университеты создавали панимперскую науку и формировали общую научную среду, которая позволяла этнографическую, географическую и лингвистическую региональную специализацию — однако только в том случае, если она не связывалась напрямую с тем или иным политическим национальным движением.
Вслед за либеральным университетским уставом летом 1864 г. был введен «Устав гимназий и прогимназий» и «Положение о начальных народных училищах», послужившее основанием для широкого развития земской начальной школы. «Положение» подчеркивало, что преподавание должно было вестись на русском языке, а потому лишало государственной поддержки (и затрудняло земское финансирование) начальных школ с обучением не на русском языке.
Европеизация во второй половине XIX века означала, прежде всего, «национализацию» в смысле культурной унификации. Этот компонент присутствовал во всех реформах 1860-х−70-х гг., зачастую воспринимаясь нейтрально, как «техническое» обстоятельство — например, в армии. Сегодня кажется само собой разумеющимся, что любой рядовой должен владеть единственным принятым в армии государства языком, но этот принцип был еще чужд армии даже в начале XIX в. Флотские командиры и в конце царствования Екатерины II были по преимуществу иностранцами, не говорившими по-русски; среди офицеров российской армии, принявших участие в Бородинском сражении 1812 г., почти пятая часть не являлись даже подданными империи. Всеобщая воинская повинность включала в состав армии больше нерусских, и культурная русификация становилась неотъемлемой частью социализации в современной армии. Там была введена система обязательного начального образования (ротные школы), и обучение чтению и письму велось исключительно на русском языке. Шок призыва на военную службу и ощущение большей справедливости всеобщей воинской повинности затеняли русификаторский элемент военной реформы, но этноконфессиональный аспект национализации выходил на передний план в области культурной политики. Неопределенность «русскости» — общеимперского культурного канона, переосмысленного в смысле особой «народности» (этничности) — приводила к различным, подчас прямо противоположным стратегиям национализации.
Так, именно на эпоху Великих реформ приходится формирование и расцвет так называемой «системы Ильминского» — программы развития образования на национальных языках народов Поволжья выдающегося востоковеда и миссионера Николая Ильминского (1822−1891). Целью Ильминского и его сторонников была национализация через приобщение к православию: Ильминский перевел Евангелие на татарский, разработал алфавиты на основе кириллицы и буквари для бесписьменных языков (чувашского, удмуртского) и тех, что пользовались арабской письменностью, публиковал произведения тюркской литературы, поддерживал обучение в инородческих школах сначала на родном языке — все ради распространения христианства среди язычников и мусульман. Эта версия национализации, безусловно, опиралась на символическое насилие и требовала изменения культуры. В то же время, она предоставляла инструмент национальной самоорганизации народам, на которые была направлена: алфавит, учебные пособия, первые переводы и публикации на местных языках давали толчок формированию современной культурной элиты, а в дальнейшем — и развитию современных национальных культур. В этом отношении система Ильминского была органичной имперской ситуации, в которой последствия любого действия оказываются далекими от ожидавшихся результатов.
Куда более однозначно националистической (а потому буквально антиимперской, разрушающей сложный баланс интересов и подрывающей политическую стабильность) была политика в западных губерниях, на землях, присоединенных уже после XVII века. Особенно демонстративным стал антиукраинский разворот. Если антипольские (и, отчасти, антилитовские) меры являлись ответом на масштабные восстания, а охлаждение по отношению к остзейской элите объяснялось внешнеполитическими опасениями на фоне объединения Германии, то антиукраинская политика мотивировалась лишь настойчивостью в продвижении русского этнического национализма. В мае 1876 г. на немецком курорте Бад-Эмс Александр II подписал «выводы» Особого совещания по украинофильской деятельности — так называемый Эмский указ, запрещавший издание на украинском языке не только книг для народа, но даже нот с украинскими текстами песен, постановку украинских пьес и содержавший другие меры, направленные против возможного культурно-языкового самоопределения украинцев. Дополнения 1881 г. пересмотрели некоторые особенно одиозные положения этого указа (расширялись возможности для издания художественной литературы, песенников), но остался в силе запрет на издание учебной и научной литературы и на преподавание на украинском языке. Таким образом, модернизация культурной сферы в русле либеральных реформ органично включала меры культурного угнетения. Одним из ее последствий, в частности, стала резкая политизация украинского национального движения и превращение его в существенный внешнеполитический фактор (коль скоро центр украинского национализма переместился в Галицию — на территорию Австро-Венгерской империи).
Национализация политического класса, концентрация и политический вес реформаторов в правительстве привели к попытке изменить административную культуру в империи — не меняя, правда, политические основы режима. Осовременивание авторитарного правительства осуществлялось под лозунгом «гласности» (в 1986 г. этот термин возродит реформатор советского режима Михаил Горбачев). В XIX веке гласность означала информирование общества по вопросам государственного управления, допускавшее публичное обсуждение в определенных рамках. Для этого правительство пошло на пересмотр цензурной политики, завершившийся реформой 6 апреля 1865 г. Была отменена предупредительная (т.е. разрешительная и предварительная цензура) в пользу карательной. Если надзорные органы обнаруживали нарушение законов в деятельности того или иного издателя, они могли применить крайнюю административную меру, разрешенную законом 1865 г., то есть временно закрыть периодическое издание. Книги, напечатанные без предварительной цензуры, за семь дней до выпуска в свет должны были в 10 экземплярах представляться в цензурный комитет. Именно возможность быстро реагировать на волновавшие общество проблемы и формировать общественное мнение в стране, где значительным группам населения иные формы участия в политике были недоступны, превратили печать фактически в институт публичной политики в империи.
В годы Великих реформ окончательно сформировалась особая культура «толстого журнала», ставшая основой публичной сферы в России. Ежемесячные литературные журналы обычно имели четкое идеологическое направление и своих постоянных читателей. Каждый раздел «толстого журнала», от политического до научного обозрения, от беллетристики до литературной критики и писем с мест подчинялся этому идеологическому направлению. «Толстые журналы» были русскоязычными, но русскость в данном случае выступала не как этнический маркер, а как медиум общей идейной среды формирующейся политической нации, позволявший принять участие в возникавшем общеимперском интеллигентском пространстве на общем (русском) языке. Тон русской интеллигентской прессы 1860-х годов был преимущественно критическим и даже обличительным по отношению к властям, и чем активнее шли в обществе и государстве реформы, тем радикальнее становилась пресса в своей критике правительства-реформатора. Учитывая, что правительственные реформы готовились теми же людьми, которые читали «толстые журналы», а нередко и были их авторами, и что реформы в принципе следовали в русле ожиданий образованного общества, усиливающаяся критика правительства может показаться парадоксом. Очевидно, что в основе усиливавшегося идейного размежевания лежал структурный конфликт между соперничающими «субъектами европеизации» — имперским правительством и «образованным обществом», лишенным политического представительства.
Острота конфликта усугублялась тем, что в 1860-х гг. на основе интеллигенции началось формирование политической нации как горизонтальной солидарности людей, разделяющих общие ценности и социальный статус. В николаевскую эпоху не связанные с правительственной службой представители образованной элиты воспринимались как «лишние люди» — носители альтернативного и невостребованного представления о «европейскости» и желательных реформах. Сама эта формула получила распространение после 1850 г. (с выходом повести Ивана Тургенева «Дневник лишнего человека»), но литературоведы находят близкие по смыслу обороты уже в набросках к «Евгению Онегину» Пушкина (начало 1820-х). Хрестоматийными примерами «лишних людей» в литературе являются персонажи Александра Грибоедова и Михаила Лермонтова, подтверждая устойчивость и популярность тропа «лишних людей» еще до того, как он получил специальное определение. В 1860-х гг. «лишние люди» исчезают — не от того, что перестают быть «лишними» для власти и светского общества, а потому, что преодолевают трагически переживаемую самоизоляцию и включаются в среду себе подобных. Они формируют дискурсивные сообщества, группирующиеся вокруг направленческих журналов, и воспринимают себя носителями подлинных ценностей «европейскости» и современности, не скомпрометированных имущественными и властными интересами. Ощутив себя сообществом культурных и политических единомышленников — политической нацией — интеллигенция не могла реализоваться как политическая сила. Логика социальной самоорганизации толкала ее на путь конфронтации с имперским режимом, упорно отказывавшимся распространить программу реформ на политическую сферу. Наиболее радикальные группы интеллигенции начали организовывать революционные группы, наиболее экстремистские из них пришли к выводу о необходимости физического уничтожения императора, и после серии неудачных покушений Александр II был убит 1 марта 1881 г.
Цареубийство: закономерный итог либеральных реформ?
По иронии истории, император, последовательно проводивший либеральные реформы, был убит не консерваторами — охранителями старого режима, а людьми, причислявшими себя к наиболее передовой и свободолюбивой части общества. Подробно о динамике революционного движения в России речь пойдет в следующей главе, здесь же важно задать вопрос: почему первой жертвой революционного политического террора пал либеральный правитель, а не, скажем, его консервативный предшественник? Почему реформы привели не к гармонизации политической ситуации, а к ее крайнему обострению?
С одной стороны, возникшее в России радикальное революционное движение являлось феноменом с собственной логикой развития и мотивацией, лишь косвенно учитывающей конкретную личность правителя и даже его политический курс. Революционное народничество было, прежде всего, интеллектуальным феноменом, реагировавшим на сформированную интеллигентским сообществом картину мира и беллетризированные сценарии поведения (как в романах). К несчастью для Александра II, появление и расцвет радикального тираноборческого движения — как и социального слоя, способного претворить литературное воображение в политической практике — пришлись именно на его время.
С другой стороны, это совпадение нельзя назвать случайным: логика последовательных либеральных реформ вела к демонтажу авторитарной монархии, и если не происходило структурной трансформации режима, находились люди, считающие необходимым довести процесс до логического конца на доступном им «персональном» уровне. Кроме того, жесткие авторитарные режимы гораздо эффективнее справляются с террористической угрозой, подавляя все формы оппозиции и не допуская мобилизации сколько-нибудь значимой группы противников режима. Ведь даже с технической точки зрения покушение на правителя требует сложной организационной работы, привлечения значительных финансовых средств и человеческих ресурсов. Так что угроза политического террора является частью тех рисков, которые сопровождают процесс эмансипации общественной самоорганизации и самодеятельности (в том числе деструктивной). Вероятно, точнее было бы спросить — мог ли Александр II минимизировать риск успешного покушения?
В смысле эффективности полицейских и «контртеррористических» мер было сделано многое, особенно если учесть, что угроза революционного террора была совершенно новым явлением и методы защиты от нее приходилось вырабатывать на ходу. Даже личная охрана Александра II поначалу, в первое десятилетие его правления, играла сугубо декоративные функции, и «доступ к телу» императора был открыт любым петербургским прохожим — будь то революционер или человек с больной психикой. Роковое покушение 1 марта 1881 года увенчалось успехом в силу стечения случайных обстоятельств, а осуществившая его террористическая организация должна была быть разгромлена полицией в ближайшие дни. Однако были и системные проблемы, которые не позволили сделать угрозу революционного террора менее опасной.
Сама последовательность и продуманность Великих реформ, их комплексность, затрагивающая все элементы многомерного имперского общества, привела не только к завышенным ожиданиям кучки радикалов, но и к небывалой социальной мобильности. Последовательно избегая политического реформирования режима (если не считать введения земств, аполитичность которых подчеркивалась законодательно), имперская власть противопоставляла себя всем остальным социальным сферам, в которых действовали механизмы обратной связи (суд, земства), социальной справедливости (армия) и открытых возможностей (экономика, система образования). В итоге, Великие реформы радикализировали сложившуюся в ходе них интеллигенцию, загнали политически недовольных или самых нетерпеливых в подполье.
Александр II был принципиальным противником введения начал политического представительства, как угрожающего единству империи, и прямо говорил об этом. Так, 29 июня 1862 г. на заседании Совета министров, на котором была одобрена земская реформа, император заявил, что «противится установлению конституции не потому, что он дорожит своей властью, но потому, что убежден, что это было бы несчастьем для России и привело бы ее к распаду». В сентябре 1865 г., обращаясь к лидеру московского дворянства П. Д. Голохвастову, он повторил эту мысль: «Я даю тебе слово, что сейчас на этом столе я готов подписать какую угодно конституцию, если бы я был убежден, что это полезно для России. Но я знаю, что сделай я это сегодня, и завтра Россия распадется на куски».
С другой стороны, выбирая, в ответ на давление политического терроризма, между альтернативой усиления полицейского режима и либерализацией, Александр II склонялся к уступке сторонникам ограниченного политического представительства граждан во власти. Последний министр внутренних дел эпохи Александра II, Михаил Лорис-Меликов (1825–1888), в 1881 г. разрабатывал планы совещательного выборного органа при императоре. Он предлагал сформировать комиссию, в состав которой вошли бы депутаты, избранные земскими собраниями в губерниях и думами крупных городов, а также назначенные правительством представители от тех регионов, где не было введено земское и городское самоуправление. О прямых выборах или о законодательном праве комиссии речь не шла, но эта комиссия должна была стать аналогом «нижней палаты» парламента, в то время как роль «верхней палаты» отводилась Государственному совету — органу, члены которого назначались императором. Лорис-Меликов рекомендовал включить в него 10-15 представителей от «общественных учреждений».
Этот проект, известный современникам и потомкам как «Конституция Лорис-Меликова», не являлся конституцией в понимании второй половины XIX в. Он не учреждал представительное правление, оставлял за императором абсолютную полноту власти и лишь создавал возможность для общественного и политического диалога на высшем уровне. Но даже такое умеренное реформирование политического пространства могло перевести отношения имперского правительства с образованным обществом как альтернативным «субъектом реформ» в более конструктивное русло. Предлагаемая конструкция удачно вписывалась в проект «народной империи» и могла помочь ослабить невротическую фиксацию верховной власти на самодержавии как воплощении абсолютного суверенитета, создав основу для движения в сторону форм всенародного представительства. Трудно было бы ожидать большего от империи в то время, когда сам вопрос о границах «народа» не был решен ни правительством, ни общественностью.
Никакого проработанного плана реформирования политического режима Российской империи не было и у революционеров-террористов, которые покушались не столько на Александра II лично, сколько на ненавистный им институт самодержавной монархии, который, как они считали, стоял на пути окончательной эмансипации неожиданно ставшего реальностью народа. Созданная Великими реформами атмосфера «гласности», наличие печатных органов, выражавших идеалы интеллигенции, международные политические симпатии к российским революционерам позволяли им надеяться на поддержку общественного мнения, на то, что они смогут не только убить императора, но и разъяснить смысл этого убийства остальному образованному обществу и миру и найти поддержку в собственном народе. Подобно современному суду, земствам, университетам, армии и системе колониального управления, современный политический терроризм в России также стал прямым результатом Великих реформ. Придав имперскому обществу новую динамику развития, они не сумели обеспечить участие в политическом процессе пришедшим в движение социальным силам этого многоукладного общества.
1 марта 1881 г. Александр II утвердил проект «Правительственного сообщения», которое объявляло о начале гласного обсуждения «конституции» Лорис-Меликова. В тот же день император был убит террористами-революционерами.
8.10. Александр III: эксперимент с построением русской империи
Оформление проекта русской национальной империи
Гибель императора Александра II, разорванного бомбой террористов-революционеров, не могла не вызвать смены политического курса — и он круто изменился. Политику последующих полутора десятилетий назвали периодом контрреформ, противопоставляя эпохе Великих реформ. Действительно, практически по всем направлениям преобразований Александра II принимались меры, призванные ограничить или вовсе уничтожить их либеральный потенциал, о чем еще пойдет речь ниже. Однако «либерализация» была лишь одним и не главным (во всяком случае, нежелательным) элементом Великих реформ, призванных осовременить («европеизировать») Российскую империю, что в эту эпоху означало «национализацию» всех аспектов имперского общества. Контрреформы были направлены идеологически на ограничение свободы, прагматически — на стабилизацию системы, разбалансированной преобразованиями (прежде всего, экономики), но структурно они полностью продолжали курс, взятый правительством в середине 1850-х гг. Более того, была предпринята попытка реализовать на практике проект русской национальной империи, возможность которого лишь закладывалась реформаторами Александра II.
Радикальность и направленность политического поворота, последовавшего за цареубийством 1881 г., не в последнюю очередь зависела от личности преемника на троне самодержавной монархии. Первоначально в наследники престола готовили старшего сына Александра II, названного в честь деда Николаем. Николай Александрович скоропостижно умер в 21 год в 1865 г., так и не став императором Николаем II, и в 1881 г. на трон вступил его младший брат Александр (1845–1894), которого ожидала военная карьера. Бессмысленно гадать, какие решения принимал бы в 1881 г. наследник Николай Александрович, но он делал бы это, опираясь на совсем иной интеллектуальный багаж, чем его младший брат. Достаточно упомянуть, что главным воспитателем Николая был граф Сергей Строганов — просветитель, основатель первой в России всесословной рисовальной школы (Строгановское училище), попечитель Московского учебного округа до начала николаевской реакции, президент Московского общества испытателей природы, председатель Московского общества истории и древностей Российских. У Александра же воспитателем был генерал-майор Борис Перовский — участник Кавказской войны в 1839−40 гг., в дальнейшем продвинувшийся на адъютантских должностях. Государственное право Николаю преподавал профессор Московского университета Борис Чичерин — один из первых российских либералов, историк и правовед, единственный специалист в России по европейскому парламентаризму, сторонник неприкосновенности прав личности при сильном правовом государстве. Александр прошел курс права, лишь став наследником престола после смерти брата, и его преподавателем был Константин Победоносцев (1827–1907) — выпускник Императорского училища правоведения, специалист по гражданскому праву, участник подготовки судебной реформы, придерживавшийся крайне консервативных взглядов. Явное преобладание идеологических установок над правовой логикой в текстах Победоносцева начиная с 1860-х гг. ставит под сомнение его квалификацию юриста, да и главным его поприщем стала «идеологическая» должность обер-прокурора Святейшего Синода с апреля 1880 г. То, что именно Победоносцев оказался главным советником наследника Александра Александровича, наложило отпечаток на смену политического курса после 1881 г. Особенности личности правителей и их окружения действительно играют чрезвычайно важную роль в авторитарных режимах, поскольку при отсутствии механизмов эффективной обратной связи с обществом только личная «повестка дня» императора определяет, какие из возможных мер принимать в первую очередь и в каких масштабах.
Александр Александрович Романов (годы правления 1881−1894) стал императором Александром III в обстановке террористической угрозы. Из-за опасности покушения первые месяцы царствования Александр III провел в Гатчине под охраной войск и полиции. Властям не был известен до конца масштаб организации заговорщиков, убивших Александра II; допускали, что в России действует колоссальное подпольное движение. Когда растерянность и паника первых недель прошли, 29 апреля 1881 г. вышел императорский манифест, от которого ожидали объявления нового курса правительства. Манифест провозглашал программу «Правления в уповании на Божественный Промысел, с верою в силу и истину Самодержавной Власти, которую Мы призваны утверждать и охранять для блага народного от всяких на нее поползновений…» Мотив «народного самодержавия» в конце манифеста переходил в эсхатологическую проповедь (о «конечных судьбах» человечества):
Мы призываем всех верных подданных Наших служить Нам и Государству верой и правдой к искоренению гнусной крамолы, позорящей землю Русскую, — к утверждению веры и нравственности, — к доброму воспитанию детей, — к истреблению неправды и хищения, — к водворению порядка и правды в действии учреждений, дарованных России Благодетелем ея, Возлюбленным Нашим Родителем.
Можно было ожидать два ответа на покушение 1 марта 1881 г. как проявление острого кризиса имперского порядка: демонстративный шаг навстречу «обществу» с целью привлечь его на сторону правительства (подобно реформаторскому повороту Александра II) или обостренную защиту неприкасаемости суверенитета верховной государственной власти (самодержавия) по примеру Николая I. Первый сценарий вел к политической реформе режима (отказ от нее был чреват взрывом), второй закладывал неизбежный кризис государственной системы в не столь отдаленной перспективе (из-за потери доверия со стороны самоорганизующегося имперского общества). Манифест Александра III демонстративно игнорировал оба сценария современной империи («прогрессивный» и «реакционный»). В картине мира манифеста вообще не было ни империи, ни государства (которые надо было бы отстаивать от смуты), а только симбиоз государя-лидера и русской нации («благочестиваго народа, во всем свете известнаго любовию и преданностью своим Государям»). Принципиально «народническое» мировоззрение манифеста приводило к смысловой и просто стилистической несуразице, которую, тем не менее, никому и в голову не пришло поправить:
Низкое и злодейское убийство Русского Государя, посреди вернаго народа, готоваго положить за Него жизнь свою, недостойными извергами из народа…
Единственное упоминание государства в заключительном пассаже манифеста выглядит совершенной формальностью, поскольку политическая программа в нем подменяется призывом к морально-нравственному совершенствованию. Требования «утверждения веры и нравственности», а тем более «доброго воспитания детей» в политическом манифесте правительства конца XIX века могли быть уместны в единственном случае: если власти обращались к нации как к «моральному сообществу» (а не как к гражданам государства). Традиционная защита самодержавия была конкретна, отстаивая незыблемость существующих институтов власти; здесь же мы видим требование государственных изменений (водворения «порядка и правды в действии учреждений»), сформулированное в холистских (нерасчлененно-всеобъемлющих), а потому принципиально внесистемных категориях типа «правды». Налицо радикальный утопический национализм — не имеющий сколько-нибудь значительной социальной базы единомышленников, угрожающий уже не стабильности режима, а самой империи как механизму интеграции многогранного разнообразия сообществ, регионов, укладов и культур. «Государь» оказывается вождем народа-нации, экстерриториальной и определяемой как единое моральное сообщество лишь в воображении автора манифеста.
Автором манифеста был Победоносцев, склонный, несмотря на свое юридическое образование, к иррациональному восприятию власти и «мистическому» национализму. Не меньшее влияние на императора и на формирование идеологии нового режима оказал Михаил Катков (1818−1887) — публицист, редактор газеты «Московские Ведомости». На заре реформ Катков слыл либералом, а потому многих шокировал его идейный дрейф (ускорившийся после Январского восстания 1863 г.) в сторону поддержки правительства и требования укрепления самодержавия. Для интеллигенции как альтернативного «субъекта реформ» переход в стан правительства являлся изменой, но в широком контексте «европеизации как национализации» идейная траектория Каткова выглядела вполне логичной. Первоначально недифференцированная политически «общественность» придавала статус «либерала» любому своему члену, но убежденный государственник Катков воспринимал нацию прежде всего в смысле национального суверенитета — отсюда его поддержка идеи национального самодержавия. Достигнув особого влияния с воцарением Александра III, Катков призывал в статье 1884 г. (обращаясь к невидимой интеллигентской аудитории, очевидно, воображаемой им в зале суда): «Итак, господа, встаньте: правительство идет, правительство возвращается!» Несмотря на различия в понимании нации (как ни странно, правовед-цивилист Победоносцев делал упор на религии и духовности, а получивший философское образование журналист Катков — на государственных институтах и суверенной власти), оба идеолога русской национальной империи дружили и действовали сообща. Перефразируя цитировавшийся в прошлом разделе афоризм Александра Пушкина, можно обозначить синтез подходов Победоносцева и Каткова формулой «правительство — единственный русский националист в России». Напоминая своим стремлением к авторитаризму режим Николая I, политическая система, создававшаяся Александром III, ориентировалась не просто на усиление государственной машины (особенно исполнительной власти). Цель государства — «общее благо» — понималась теперь узко, ограничиваясь по-разному понимаемой «русской нацией».
При участии Победоносцева и Каткова произошла идеологическая и кадровая перегруппировка режима, при которой личные отношения и служебные интриги играли столь же важную роль, как политические различия. «Конституция» Лорис-Меликова подверглась критике со стороны ближайших советников нового императора и была забыта. После обнародования манифеста 29 апреля 1881 г. в отставку подали ключевые министры предыдущего правления: Лорис-Меликов, военный министр Милютин и министр финансов А. А. Абаза. Великий князь Константин Николаевич (младший брат Александра II, адмирал и председатель Государственного Совета) также вышел в отставку и покинул Петербург. Деятели эпохи «Великих реформ» из числа либеральной бюрократии постепенно сходили со сцены. Впрочем, сам общепринятый термин «либеральная бюрократия» нуждается в уточнении. Ни генерал Дмитрий Милютин, ни великий князь Константин не стремились ни к парламентаризму, ни к ограничению суверенитета государственной власти (самодержавия). Министр финансов Абаза за полгода своего министерства успел выступить с инициативой повышения таможенных пошлин и выкупа в казну частных железных дорог, прямо противоположной духу экономического либерализма. Как ни странно, но от пришедших им на смену сановников «либеральные бюрократы» отличались скорее своей консервативностью, приверженностью идеалу Rechtsstaat как универсалистского, распространяющегося одинаково на всех граждан принципа (в духе политики Николая I 1830-х гг.). Коль скоро в государственную сферу вовлекались новые слои населения — бывшие крепостные крестьяне, многие «инородцы» (включая определенные категории евреев), женщины — новые государственные институты проектировались так, чтобы как можно более равномерно предоставлять и им права ограниченного имперского гражданства. Реформаторов — или, во всяком случае, воплощение их планов на практике — можно было упрекнуть в недостаточности этих усилий (будь то развитие женского образования или эмансипация крестьян). Однако общий дух Великих реформ предполагал конечную цель интеграции общества — а не сегрегации населения на граждан первого и второго сорта. «Национализация» в этой версии осовременивания («европеизации») России предполагала формирование имперской нации: гражданской нации равенства перед законом с элементами политической нации (хотя бы на уровне земств и городских дум), с некоторой степенью культурной унификации. Последний элемент оставался самым неопределенным и спорным до самого конца царствования Александра II, что проявлялось в раннем повороте к реакционной политике министров образования, в сосуществовании нескольких версий русского этнокультурного национализма (ср. Эмский указ и систему Ильминского). Разумеется, современники не воспринимали ситуацию в категориях противостояния разных версий национализма, однако именно в этом ракурсе нагляднее и полнее можно объяснить отличия «либеральных бюрократов» Александра II от сотрудников Александра III, которые пытались реализовать совсем другой национальный проект — исключительной этнической русскости.
Неразработанность политического языка и двусмысленность самого понятия «русские» отводили особую роль эстетическим формам, историческим аллюзиям и другим описательным средствам выражения искомого национального содержания. Уже апрельский манифест 1881 г. был написан нарочито архаическим языком, апеллируя к максимально узкому пониманию политического пространства. Речь шла не о Российской империи, не о России и даже не об «отечестве» (общем у всех, рожденных в нем), а о «земле русской» — т.е. доимперском, максимально суженном понятии. Даже в своем внешнем облике Александр III злоупотреблял «русской архаикой», как ее понимали в то время. Он демонстративно отошел от элегантной европейской изысканности своих предшественников (со времен Петра I): еще будучи наследником, вскоре после 1876 г. он отпустил бороду. Вступив на престол, изменил фасон военного мундира в сторону подчеркивания «национальной специфики» и простоты (шаровары, гимнастерка — вариация русской «косоворотки», высокие сапоги) и ввел нарочито маскулинный (едва ли не мужицкий) стиль общения со своим окружением и подданными. Современники сравнивали его с «русским богатырем» — с готовностью считывая версию национальной русскости, предлагаемую режимом, и называя Александра III «самым русским царем».
В рамках узко понимаемой нации — в которую не включались не только евреи или поляки, но и отказывающиеся от культурной русификации украинцы — могли предлагаться вполне «либеральные» меры. Так, почти немедленно после того, как был отвергнут проект «Конституции» Лорис-Меликова, назначенный Александром III министром внутренних дел граф Николай Игнатьев предложил созвать Земский собор, приурочив его к официальной коронации императора в Москве. Функционально мало отличаясь от задуманного Лорис-Меликовым совещательного органа (Государственного совета Российской империи), Земский собор уже названием подчеркивал свою эксклюзивную (неимперскую) русскость. Он должен был собраться в древней русской столице Москве, в Храме Христа Спасителя, олицетворяя прямую связь монарха с народом, определяемым преимущественно по этноконфессиональному признаку. Характерно, что против проекта Игнатьева единодушно выступили как «либеральные бюрократы» эпохи реформ (Петр Валуев, Дмитрий Милютин и великий князь Константин отвергли идею как несистемную и демагогическую), так и советники Александра III. Победоносцева привела в ужас перспектива символической компрометации идеи абсолютной самодержавной власти даже совещательным собранием представителей «земли» — для него средоточием национального духа была сама верховная власть. Каткова же возмутило, что государство созывом собора фактически выполнит требования революционеров (он ссылался на конкретные примеры политических деклараций). Александр III рассудил, что сможет обойтись без экзотических политических экспериментов: проект Земского собора отверг, Игнатьева отправил в отставку и в дальнейшем действовал через существующие государственные институты.
Практическая реализация проекта русской национальной империи шла по двум основным направлениям. Во-первых, политика «контрреформ» (в узком смысле) корректировала потенциал Великих реформ, минимизируя в них компонент «имперской нации» и усиливая элемент русского государственного или русского этнокультурного национализма (часто противоречивших друг другу). Во-вторых, принимались новые решения, развивавшие имперскую государственность в рамках принятой идеологической программы в сферах, мало затронутых прежними преобразованиями.
Контрреформа имперской нации в русскую национальную империю
Судебная система
В девяти губерниях Западного края судебная реформа стартовала лишь в 1871 г., и к моменту воцарения Александра III там успели ввести только институт мировых судей. Из-за отсутствия там земств мировые судьи не избирались, а назначались администрацией. Уже изначальный замысел судебной реформы в крае включал мощный элемент русского этнического национализма: закон предписывал не допускать на должности мировых судей поляков. Впрочем, из-за нехватки компетентных кандидатов среди судей, как и среди уездных предводителей дворянства, нередко встречались польские шляхтичи. Завершение судебной реформы в Западном крае при Александре III в 1883−1884 гг. еще более усилило дискриминацию по национальному признаку, одновременно усиливающую роль исполнительной власти. Администрация получила право исключать из списка присяжных, без указания мотивов, неугодных ей лиц; для евреев-присяжных устанавливалась процентная норма, соответствующая удельному весу еврейского населения в данном уезде. Эта мера предвосхитила ограничения на прием евреев в адвокатуру, последовавшие в 1889 г. в общероссийском масштабе. Судебная система как основа для формирования гражданской нации демонстрировала дискриминационную избирательность по этноконфессиональному признаку и закрытость для ассимиляции.
Тогда же (в 1889) был ликвидирован мировой суд в сельской местности. Функции мировых судей были переданы новому институту «земских участковых начальников», введенному в деревне. Во многих отношениях земские начальники взяли на себя роль, прежде выполнявшуюся помещиками по отношению к крепостным крестьянам. Государственные чиновники из числа помещиков (не обязательно местных), они получили полноту административной власти, к которой добавилась власть судебная (мировых судей) — в нарушение принципа разделения властей. Правда, в Англии XIX в. мировые судьи брали на себя и административно-хозяйственные функции (строительство и поддержание дорог и мостов, регулирование уровня жалования поденным рабочим и пр.), но как раз в 1889 г. эти функции были переданы учрежденным выборным советам графств. Так что с точки зрения и континентального, и «островного» права институт земских начальников со столь широкими полномочиями являлся шагом назад, сужающим сферу применимости новой судебной системы (а значит, и ослабляющим фундамент гражданской нации). Впрочем, в то же время удавалось приблизить прямой контроль государства к крестьянам, что само по себе вполне соответствовало изначальным намерениям реформаторов. По прагматическим и политическим соображениям государственным агентом в деревне вновь стал помещик, но теперь это был не владелец крестьян, а чиновник на службе, действующий от лица государства. Само название новой должности подчеркивало ее отличие от помещичьей власти: подобно тому, как наименование «земств» отсылало к давнему дуализму «земли» и «царской власти», титул «земского начальника» символизировал установление государственного контроля над «землей».
В 1887 г. министры внутренних дел и юстиции получили право объявлять заседания суда закрытыми. Повысился имущественный и образовательный ценз для присяжных, что затрудняло отбор представителей «демократических» слоев населения. В 1889 г. из ведения судов присяжных были изъяты дела по преступлениям против порядка управления (т.е. «политические»), по должностным преступлениям и некоторые другие.
Упомянутые меры противоречили универсалистскому духу новой юридической системы, однако ограничительные и дискриминационные элементы присутствовали в ней изначально. «Контрреформы» лишь усиливали этот аспект, не покушаясь на общие принципы системы: гласность большинства судов на большей части территории империи, состязательность процесса и несменяемость судей. На решительную контрреформу, предполагавшую полный пересмотр судебных уставов 1864 г., власти решились лишь к концу XIX века. Ее стал готовить назначенный в январе 1894 г. министром юстиции Николай Муравьев, стремившийся ограничить самостоятельность судебной власти, прежде всего, отменив несменяемость судей. Однако его предложения не были приняты.
«Гласность» и образование
Попытки изменить культуру государственного управления (точнее, его стиль) под лозунгом «гласности» оставались крайне непоследовательными и при Александре II, а после 1881 г. и вовсе были забыты. Более того, с самого начала было развернуто наступление на ту ограниченную свободу печати, которая с переменным успехом существовала в период Великих реформ. В августе 1882 г. в качестве чрезвычайной меры были приняты «Временные правила о печати», согласно которым министерства внутренних дел, просвещения и Синод могли закрывать казавшиеся им крамольными газеты и журналы. Издания, получавшие от властей предупреждение, проходили предварительную цензуру. Специальные циркуляры запрещали освещение в печати таких тем, как рабочий вопрос, переделы земли, проблемы учебных заведений, 25-летие отмены крепостного права и вообще действия властей. При Александре III были закрыты по политическим соображениям целый ряд газет и журналов. Власти также пытались цензурировать книжный рынок. Всего в 1881−1894 гг. было запрещено 72 книги (среди них не только нонконформистские тексты Л. Н. Толстого, но и «Мелочи архиерейской жизни» вполне консервативного писателя Н. С. Лескова); к постановке в театрах было запрещено более 1300 пьес. Запрещенные книги и журналы изымались из библиотек, полиция конфисковала их при обысках.
В условиях сложившейся уже среды образованного общества и интеллигенции, мобилизованной эпохой Великих реформ, списки запрещенной литературы воспринимались наиболее активной ее частью (гимназистами и гимназистками, студентами и курсистками) как списки обязательного чтения. Это общее чтение формировало оппозиционную интеллигенцию как особую сплоченную наднациональную контркультуру и «нормализовало» феномен подпольной литературы, которая печаталась нелегально как в России, так и за границей (предназначаясь для распространения в России). Политические дискуссии становились более радикальными благодаря тому, что их вытесняли из легальной сферы в подполье.
Серьезной контрреформой стало введение нового университетского устава 1884 г., резко ограничивавшего автономию университетов. Новый устав давал широкие полномочия попечителю учебного округа и министру просвещения, которые могли и должны были вмешиваться во внутриуниверситетские дела. Ректор, деканы и профессора отныне назначались, причем с учетом не столько научных заслуг, сколько политической благонадежности. Вводилась плата за посещение студентами лекций и практических занятий, что отсекало от высшего образования представителей непривилегированных слоев населения. Независимость университетов и доступность высшего образования пытались ограничить и посредством введения в 1885 г. обязательной формы для студентов (дорогой и подчеркивающей их включенность в государственную служебную иерархию), и увеличения (в 1886 г.) срока службы в армии лиц с высшим образованием с полугода до одного года. С 1887 г. для поступления в университеты стали требовать справку о политической благонадежности. Часть вольнодумных профессоров была уволена, другие ушли сами в знак протеста.
В царствование Александра III в стране открылся лишь один университет, несмотря на растущую потребность в образованных людях, способных решать новые экономические задачи, лечить и учить, обслуживать современное производство, судебную систему и управлять огромной страной. Причем, открытый в 1888 г. в Томске университет был проектом, доставшимся Александру III в наследство от предшествующей эпохи. Ближайшие советники Александра III, Победоносцев и Катков, считали создание университета в Сибири, где было много ссыльных и мало надежного дворянского элемента и где набирал силу местный сибирский патриотизм («областничество»), «опасной политической ошибкой» и «выдумкой либерального чиновничества». Однако — вполне в русле контрреформ как корректировки, а не отмены недавних преобразований — университет был все же открыт, только его значение постарались максимально изменить. Предварительно из Томска удалили политических ссыльных, университету не стали присваивать название «Сибирский» и разрешили деятельность лишь одного — самого «не идеологического» — факультета: медицинского. Только через десять лет к нему добавился юридический факультет.
В 1887 г. министр народного образования издал циркуляр «О сокращении гимназического образования» (известный как «циркуляр о кухаркиных детях»), затруднявший прием в гимназии «детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детям коих, за исключением разве одаренных гениальными способностями, вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию.» Тем же циркуляром прием евреев в гимназии ограничивался процентной нормой, соответствующей статистической доле евреев в местном населении. Чтобы избежать всякой двусмысленности при подсчетах, Министерство просвещения распорядилось, чтобы численность еврейских учащихся во всех подведомственных ему средних и высших учебных заведениях не превышала десяти процентов от общего контингента учащихся в Черте оседлости, пяти процентов — вне Черты и трех процентов — в Петербурге и Москве. Параллельно закрылись почти все высшие женские учебные заведения.
Зато активно развивалась сеть начальных училищ для народа, после того, как в 1884 г. церковно-приходские школы (т.е. начальные деревенские школы при православных храмах) были переданы из-под ведения Министерства просвещения и земств под контроль Синода, руководимого Победоносцевым. К 1894 г. число начальных школ с двухгодичным и четырехгодичным обучением выросло почти в десять раз. Образование в них сводилось к обучению чтению, письму и арифметике. Кроме того, уроки Закона Божия (а в четырехлетних школах еще и истории) воспитывали учеников в духе православия и преданности трону.
Эти дискриминационные меры в сфере образования позволяют реконструировать специфическое восприятие русской нации режимом Александра III. Налицо стремление включить в сферу государственной культурной политики низы народа, но максимально ограничить функцию образования как социального лифта, закрыв простолюдинам доступ в среднюю школу, а тем более в университеты. Дискриминационная политика в отношении «инородцев» (особенно евреев, среди которых престиж образования традиционно был высоким) сочеталась с патриархальным ограничением женского высшего и профессионального образования. Ценность образования в этой модели определяется возможностью сформировать канал идейного контроля над населением. Сам по себе это очень современный политический подход, только несовместимый с интересами современного общества в целом, а потому буквально реакционный. Режим Александра III пытался эксплуатировать колоссальный потенциал национализма, при этом не уступая требованиям эгалитаризма (всесословности), заложенным в самой идее нации как сообщества солидарности равных (по тому или иному признаку). Катков и Победоносцев полагали, что низшим классам достаточно ощутить себя «одинаково русскими» («истинно русскими», по распространенному выражению), поставленными в привилегированное положение относительно поляков, евреев и прочих инородцев. В этом отношении их четкий и продуманный русский этнокультурный национализм оказывался более ограниченным и консервативным, чем стихийный и непоследовательный имперский национализм архитекторов Великих реформ.
Земства и городское самоуправление
В июле 1889 г. началось наступление на земства как на представительные всесословные органы местного самоуправления. Вопреки мнению большинства членов Государственного совета, была введена должность земских начальников, призванных заменить мировых посредников и мировых судей. Земского начальника не избирали, его назначал министр внутренних дел из числа потомственных дворян. Выше уже обсуждалась роль земских начальников в распространении прямого государственного контроля над крестьянами. Одновременно они урезали и полномочия земств как выборных органов местной власти. Политически земства не вписывались ни в концепцию всеобъемлющего контроля национального государства (идеал Каткова), ни в мечту о мистическом слиянии народа с самодержцем (идеал Победоносцева). Но они, в принципе, и не препятствовали обеим версиям элитарного, ограниченного национализма, а потому могли, ограниченные в своих политических притязаниях, продолжать выполнять свою полезную функцию (с которой не могли справиться земские начальники).
В июне 1890 г. было принято «Положение о губернских и уездных земских учреждениях», вводившее не имущественный, а сословный принцип выборов в земства. Первая курия была дворянской, вторая — городской, третья — крестьянской. Это положение отражало характерное для режима Александра III видение нации как целого, разделенного внутри на стабильные сословия, каждое из которых выполняет предназначенную ему провидением роль. Чтобы увеличить дворянское присутствие в земствах, имущественный ценз для дворян понижался, а для представителей городов повышался. Что же касается представителей от крестьян, то их назначал губернатор из числа избранных крестьянами кандидатов. Вновь натолкнувшись на оппозицию большинства Государственного совета, Александр III не пошел дальше этого ограничения и воздержался от полной ликвидации выборности и всесословности земских органов. Однако последовало наступление на городское самоуправление: в 1892 г. было принято новое Городовое положение, согласно которому повышался избирательный ценз, из городских избирателей исключались низшие слои — приказчики и мелкие торговцы, а городской голова и члены городской управы становились государственными служащими, подчиненными губернаторам.
Институционально, вопреки культивировавшемуся земцами и оппозиционной интеллигенцией мифу об «общественном самоуправлении», земства являлись частью государственного аппарата империи, поэтому усиление правительственного контроля над ними не являлось принципиальным нарушением их «конституции». Другое дело, что земства, как выборный всесословный государственный орган, были приспособлены для взаимодействия с гораздо более современным обществом, чем то, на которое ориентировался режим Александра III. Поэтому не удивительно, что вопреки всем ограничительным мерам хозяйственная и политическая роль земств (и в меньшей степени — городских дум) продолжала возрастать. Именно земства подготовили деятелей эпохи массовой политики начала ХХ века и оказались ядром современной государственности, в наибольшей степени приспособленной к требованиям этой эпохи.
Ручное управление русской национальной империей и выстраивание границ нации
Чрезвычайное законодательство и реформа полиции
Наряду с корректировкой политических институтов, созданных в ходе Великих реформ, предпринимались и новые шаги в направлении практической «национализации» империи. Непосредственно ощущавшиеся отклонения от курса предшествующих десятилетий не так легко поддаются четкому формулированию (помимо общей реакционной риторики). Вероятно, главным отличием была именно однозначность практического воплощения идей, прежде влиявших на действия правительства в разных сферах, но не становившихся особой последовательной политикой. Эта установка на прикладное применение абстрактных принципов и вообще на идеологическую направленность политики проявилась в распространенности «чрезвычайного законодательства», направленного на решение конкретной задачи в обход стандартных процедур и без оглядки на общую систему государственности. В нарушение принципа «правомерного государства» распространялась практика «ручного управления», руководствовавшаяся не общими юридическими принципами, а конкретными целями. Так, в августе 1881 г. согласно «Положению о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия» министр внутренних дел и губернские власти получили право ареста, высылки и предания суду «подозрительных лиц» (принципиально не формализуемый юридически термин), закрытия учебных заведений и предприятий, запрета на выпуск газет и т.д. С помощью «Положения» в любой местности могло быть фактически объявлено чрезвычайное положение. Введенное на три года как временная мера, «Положение» 1881 года не раз продлевалось и действовало до 1917 г., т.е. до конца существования империи. Предоставляя широкое толкование норм временных законов администраторам разного ранга (пусть и на государственной службе), верховная власть действовала в обход государства как «идеальной машины», работающей по универсально применимым формальным правилам.
Пример чрезвычайного закона другого типа — указ Александра III от 9 марта 1891 г. о запрещении евреям-ремесленникам селиться в Москве и о выселении оттуда уже проживающих там евреев-ремесленников. Этот указ был распространен и на многие другие категории московских евреев, которые, подобно ремесленникам, имели право проживать за Чертой оседлости и не выселялись из других городов внутренней России. Проведенная московской полицией операция по выселению привела к тому, что еврейское население Москвы сократилось на 80%. Характерно, что высылка евреев из Москвы столетием ранее (при Екатерине II) — столь же репрессивная акция — была осуществлена как системная государственная мера, регулирующая места проживания всех выходцев из западных губерний, независимо от вероисповедания. В 1891 г. ни о какой правомерности решений верховной власти речь не шла. В данном случае самодержавие воплощало не верховный суверенитет государственности, а несистемное право манипулировать государственным аппаратом — именно в этом смысле понятие «самодержавия» и получило распространение в современной культуре.
При этом режим Александра III поощрял развитие современного государства в сферах, способствующих гомогенизации и консолидации (то есть, в определенном смысле, «национализации») общества. Как и в прочих случаях, речь шла о развитии тенденций предшествующего правления. Так, еще в августе 1880 г. был создан Департамент государственной полиции при Министерстве внутренних дел, пришедший на смену III Отделению в качестве главной спецслужбы страны. Уже сама по себе замена учреждения, формально являвшегося подразделением личной канцелярии императора, регулярным правительственным органом (фактически — министерством в министерстве), служила «нормализации» государственной системы. Воплощающий наиболее передовые принципы администрации и контроля над населением, Департамент полиции был не только самым современным государственным органом в России, но и одним из наиболее передовых в Европе. С самого начала в нем собирались картотеки на преступников, включая политических противников режима, т.е. членов подпольных политических кружков и партий (а легальных партий в России не существовало), активистов национальных движений. С 1890 г. в российской полиции стали внедрять авангардную систему учета, разработанную французским физическим антропологом Альфонсом Бертильоном, основанную на ограниченном наборе антропометрических показателей и отпечатках пальцев. Совершенствовалась система агентуры и внешнего наблюдения.
Создание современной государственной границы как границы нации
Не менее важным было создание в октябре 1893 г. Отдельного корпуса пограничной стражи — а заодно и современной государственной границы. Только недавно, при Николае I, прежние вольнонаемные таможенные служащие уступили место военизированной «пограничной таможенной страже». Но и после этого, основными функциями вооруженного формирования, которое подчинялось таможенному ведомству, были сбор пошлин и борьба с контрабандой. Государственной границы в современном понимании не существовало: таможенная стража была сосредоточена вблизи транзитных пунктов (больших дорог, портов, железнодорожных станций). Казачество прикрывало «военную границу», как и столетия назад (например, в степи). Физически же основная часть границы империи оставалась прозрачной и проницаемой, являясь, по сути, юридической и географической фикцией. Ее существование и соответствие изображению на карте обеспечивалось дружескими отношениями с соседями — прежде всего, Австрией и Пруссией, нерушимость границы которых также зависела лишь от доброй воли России. Население, проживавшее по обе стороны границы, лишь в минимальной степени удерживалось от перемещения через нее пограничной стражей. Главным сдерживающим фактором было имущество, включенность в местную социальную среду, а также незначительность отличий условий жизни по ту сторону границы.
На протяжении XIX в. предпринимались шаги по дальнейшей милитаризации и специализации пограничной стражи, увенчавшиеся указом 1893 г. Подчиняясь теперь формально министерству финансов, новая пограничная стража представляла собой реальный армейский корпус численностью почти в 40 тысяч человек, из них более тысячи — офицеры и генералы. Повторяя общевойсковую структуру, пограничный корпус делился на территориальные округа, округа — на бригады и т.д., вплоть до кордонов из 15-20 человек и далее — мелких постов. Впервые вооруженные силы брали под контроль государственные рубежи в мирное время, причем практически на всей их протяженности. Тем самым возникал сам феномен современной границы как непроницаемого (в идеале) периметра, отделявшего одно политико-экономическое и социальное образование от соседнего.
Характерно, что одновременно происходит радикальный разворот в российской внешней политике: в результате серии договоров и секретных соглашений, в 1891−1894 гг. состоялось оформление военно-политического Франко-Русского союза. Многим казалось невероятным сближение авторитарной Российской империи и Французской третьей республики. Особое внимание уделяли символическим мелочам: так, во время визита французской военной эскадры в Кронштадт в июле 1891 г. Александр III, стоя с непокрытой головой, выслушал гимн Франции — Марсельезу, исполнение которой в России было запрещено. Союз с Францией пришел на смену стратегическому партнерству с империей Габсбургов и немецкими государствами (теперь объединенными в Германскую империю), насчитывавшему, за исключением кратких перерывов, не одно столетие. У этого кардинального внешнеполитического поворота была своя логика, связанная с обострением соперничества с Австро-Венгрией на Балканах после «русско-турецкой» войны 1877−78 г. и смещением баланса сил в Европе после объединения Германии. Не вдаваясь в перипетии международных отношений и дипломатических интриг, в данном случае важно отметить, что впервые с эпохи пороховых империй Россия оказалась во враждебных отношениях со своими непосредственными соседями в Европе и союзником страны, расположенной на другом краю континента. Речь идет не об абстрактной «геополитике», а о новом восприятии территории собственной страны и ее границ, четко очерченных, как никогда прежде, окруженных потенциальным — и столь же внутренне гомогенным — противником. Границы приобрели четкость и непрерывность, потому что гомогенизировалось («национализировалось») восприятие страны, что способствовало дальнейшей поляризации восприятия своих и чужих. Практически повсюду государственная граница разделяла население, однородное в этнокультурном плане: литовцев, поляков, украинцев, евреев. Прежде это обстоятельство служило, скорее, стабильности границ, которые носили преимущественно политический характер и не слишком мешали сложившимся трансграничным личным и хозяйственным связям. Теперь же, при непрерывности и непрозрачности границ (по крайней мере, в политическом воображении), проживание в пограничном районе представителей той же этноконфессиональной группы, что и «за границей», стало восприниматься как серьезная политическая проблема и вызов государственной безопасности. Раньше границы между собой проводили монархи, позднее — чиновники камералистских государств. При Александре III окончательно формируется представление о том, что границы отделяют одну нацию-государство от другой, а значит, представители «чужой нации» на нашей территории являются потенциально агентами чужого государства.
Этот аспект «национализации» государства лишь развивал тенденции, заложенные в ходе Великих реформ и даже еще раньше. В 1830-х гг. по приказу Николая I началось сооружение Черноморской береговой линии по восточному побережью Черного моря — фактически, современной укрепленной границы с фортами и промежуточными опорными пунктами между ними. Нынешние Новороссийск, Геленджик, Сочи, Адлер, Пицунда и Гагры отмечают места главных крепостей в полосе укреплений. Сооружение сплошной границы вдоль моря, на узкой береговой полосе, за которой начинались крутые горы, не имело никакого стратегического внешнеполитического смысла — но Черноморская линия и не была задумана для защиты от вторжения иностранной армии. Ее целью была изоляция горцев — «черкесов» — на российском Кавказе от снабжения по морю, что должно было помочь их покорению и замирению. Первая массированная современная укрепленная граница в Российской империи служила исключительно задаче внутренней гомогенизации населения. После смерти Николая I не имеющая стратегического значения и крайне затратная граница была демонтирована в 1854 г., но уже в 1857 г. возник проект, напрямую вытекающий из современного «пограничного сознания»: выслать с территории Российской империи черкесские племена, представляющие угрозу стабильности. На их место предполагалось заселить колонистов из внутренних российских губерний. Автором проекта «этнической чистки» был Дмитрий Милютин, в то время начальник Главного штаба Кавказской армии, будущий архитектор военной реформы и один из наиболее современных и «европейских» государственных деятелей. Его авангардный геноцидальный план был реализован в первой половине 1860-х гг.: российская армия сгоняла горцев на побережье, где они ожидали транспортировки в Османскую империю без оборудованного жилья и средств к существованию. Организация транспорта отсутствовала, а те, кто выжил в тяжелейших условиях и покинул Россию, оказались объектом зеркальной национальной политики османских властей: их расселяли среди христианского населения Балкан, особенно в Болгарии, как колонистов, лояльных имперскому режиму.
Создание современной границы в масштабах всей Российской империи и перенос на европейских соседей систематического отчуждения, прежде проявлявшегося лишь по отношению к Османской империи и Ирану, означали торжество национального восприятия российского государства. Пограничным (точнее, трансграничным) этноконфессиональным группам это сулило распространение «черкесского синдрома» в недалеком будущем.
Русификация и национальный колониализм
Русификация — в самом разном понимании слова — всегда входила в политический и культурный арсенал империи, но именно при Александре III она оформляется как осознанная, целенаправленная и незамаскированная иными соображениями политика.
От Екатерины II до Николая I «обрусение» означало государственную политику, направленную, главным образом, на административную унификацию империи. Параллельно эта категория использовалась для описания встречного спонтанного процесса самоадаптации этноконфессиональных групп к нормам жизни и господствующему языку империи (аккультурации). Процесс этот с разным успехом протекал среди народов волжского региона, Сибири или западных окраин (включая евреев). Спонтанная аккультурация (то есть переход к «двуязычию» в широком смысле, без отказа от родной культуры) стала особенно заметной тенденцией в середине XIX века, когда имперские власти все еще предпочитали регулировать, а не политизировать различия (за характерным исключением поляков). Великие реформы олицетворяли возвращение Российской империи в авангард современности, вновь предлагая разным группам населения региона доступ к глобальной «европейскости» ценой политической лояльности. Разумеется, «европейскость» второй половины XIX в. формировалась вокруг идеи национального государства, поэтому, несмотря на желание архитекторов реформ как можно полнее распространить их на всю территорию империи, качественно новые антипольские меры, Эмский указ и этнические чистки на Северном Кавказе не были лишь случайными эксцессами. Стихийно ориентируясь на проект «имперской нации», в своих наиболее последовательных проявлениях Великие реформы реализовывали более примитивную и понятную модель этнокультурного государственного национализма.
При Александре III эта модель становится государственной политикой, во многом благодаря Каткову и Победоносцеву, наиболее последовательно и сознательно формулировавшим ее. Русский национализм режима Александра III не был популистским и массовым. Его идеологи стремились сохранить социальное и политическое неравенство, поскольку главным воплощением нации видели не сам народ, а его «высшие организационные и духовные формы» — государство и, в особенности, персонифицированное фигурой монарха самодержавие. Однако с точки зрения выстраивания границ «национального тела» (да и оборудованных границ государства, как мы видели), различия с массовым популистским национализмом были незначительные. Интеграция — а значит, полноценное членство в обществе и гражданство — представлялась возможной и желательной только для тех, кто принадлежал к «русской нации» исторически и по крови. Русификация империи в этой трактовке означала закрепление привилегированного положения этих «истинно русских людей» (а не всех православных и аккультурированных подданных). Не говорившие по-русски православные греки или обрусевшие немцы-лютеране — традиционная массовая опора имперского режима — вдруг начали восприниматься экзотически, как странный тип невраждебного (но по определению подозрительного) чужака. Такое понимание русификации следовало из наиболее распространенной европейской версии национализма (один язык — одна религия — одно государство). В то же время, это была реакция на растущий национализм народов империи, прежде всего поляков и финнов, которые в постреформенной России наиболее последовательно занимались нациестроительством. Возникла парадоксальная ситуация: единство империи пытались защищать при помощи такого же национализма, в каком видели угрозу имперскому единству, когда он демонстрировался польским или финским «сепаратизмом». Подавляя чужие национальные проекты, русский государственный национализм точно так же разрушал империю в смысле общего — и «ничейного» — политического пространства.
Не признавая литовцев или поляков членами русской нации, на них все же пытались распространить русификаторские меры. Очевидно, в этом сказывалась и инерция прошлого (когда сама русификация понималась иначе), и репрессивная политика, направленная на подавление местного национализма. Но главным, видимо, было действительно стремление сохранения имперского единства — только реализовывавшееся через принципиально антиимперскую, националистическую политику. Если целью было распространение универсального имперского «гражданства» (равноправного членства в империи), а единственным актуальным образом гражданства был этнокультурный национализм, то результатом и становилась наблюдавшаяся в последние десятилетия XIX в. парадоксальная ситуация: «нерусских» заставляли становиться «русскими», при этом заведомо отрицая полноценность их «русскости», а значит и гражданства.
В 1887 г., например, начальные школы в Балтийском регионе, которым прежде было разрешено преподавание на русском, эстонском или латышском языках в течение первых двух лет обучения, обязали вести преподавание исключительно на русском в последний год обучения (за исключением уроков Закона Божия и церковного пения). Эти меры сопровождались заменой местных судебных и административных органов общеимперскими. В бывшем Царстве Польском, теперь официально именуемом (без всякого упоминания Польши) Привисленским краем, также было введено обязательное преподавание на русском языке в народных школах (1885). В то же время, предпринимавшиеся ранее попытки русифицировать католическое богослужение в Западных губерниях Победоносцев признал вредными именно с точки зрения интересов русской нации: они создавали возможности для активного «латинского прозелитизма» среди русских, в реальность которого верили многие представители высшей администрации при Александре III. В Великом княжестве Финляндском культурная ассимиляция не планировалась, но предпринимались попытки ликвидировать самые вопиющие атрибуты финляндской независимости от империи: был введен обязательный прием российской монеты, в мае 1890 г. Высочайшим манифестом почтово-телеграфное ведомство Финляндии было переведено в подчинение российскому министерству внутренних дел. Совершенно логичные меры административной унификации подрывали «имперскую конституцию» как принцип предоставления особого статуса для «особых случаев». В эпоху, когда современность прочно ассоциировалась с национализмом, действия имперских властей воспринимались как ущемление финляндских привилегий и стимулировали рост финского национализма.
На фоне политики отчуждения «нерусских» подданных империи в европейской части, политика режима Александра III в Средней Азии (прежде всего, в Туркестане) кажется следующей прямо противоположному вектору. После периода подчеркнуто колониального отчуждения на место системы военно-народного управления пришел курс на сближение с общеимперскими законами. Через двадцать лет обсуждения различных проектов реформы управления Туркестаном в 1886 г. было, наконец, принято Положение об управлении Туркестанским краем, представлявшее собой окончательный свод законов для этой имперской окраины. Положение подробно регламентировало права и обязанности местной администрации, которая теперь в значительно большей степени контролировалась из имперского центра. Сферы военной и гражданской власти разделялись на уездном уровне, юридическое и административное положение оседлого населения Туркестана приближалось к нормам жизни населения внутренней России. Историки региона склоняются к мнению, что Положение 1886 года демонстрировало стремление интегрировать Туркестан в состав империи и построить организацию управления и быта населения края на основе порядков, установленных для других областей России. Эта же задача преследовалась в области культурной политики. В последней трети XIX века в регионе создают русско-туземные школы для мусульман, где программа мусульманского образования дополняется изучением элементарной русской грамматики и русским преподаванием арифметики. Также была предпринята попытка внедрить преподавание православия на языках народов края: на «азиатские окраины» переносили систему Ильминского и опыт «обрусения» Среднего Поволжья.
Курс на «сближение» с новоприсоединенными территориями может показаться отказом от прежней принципиально колонизаторской позиции, воспроизводящей отношения непреодолимой цивилизационной дистанции европейской метрополии и заморских колоний. Однако отказ от «цивилизационной миссии» сам по себе не означает отказа от колонизаторской политики, как мы увидим ниже.
«Положение об управлении Туркестанским краем» 1886 г., а также принятое в 1891 г. «Положение об управлении Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Уральской и Тургайской областями» включали еще один аспект. Они формулировали юридическое основание «поземельного устройства» региона, отдельно для оседлого и кочевого населения. Единственным собственником земли объявлялось государство, а права «туземцев» ограничивались «потомственным владением». Статья 270 Положения 1886 г. лаконично констатировала: «Государственные земли, занимаемые кочевьями, предоставляются в бессрочное общественное пользование кочевников». Позже (в 1910 г.) эта статья была дополнена:
Земли, могущие оказаться излишними для кочевников, поступают в ведение Главного Управления Землеустройства и Земледелия… Впредь до утверждения закона о землеустройстве местного населения, предоставить Главноуправляющему Землеустройством и Земледелием производить … образование переселенческих участков из земель…
То, что юридический вопрос о собственности на землю играл важную (если не главную) роль в Положениях, подтверждается хронологией дальнейшх событий. В июле 1889 г. был издан «переселенческий закон» («О добровольном переселении сельских обывателей и мещан на казенные земли»), регламентирующий колонизацию Восточной Сибири и Средней Азии выходцами из внутренних губерний России. В декабре 1896 г. был создан специальный орган, координирующий колонизацию, — Переселенческое управление при МВД. Решая, какие именно земли «могут оказаться излишними» для местного населения, Переселенческое управление организовывало заселение их колонистами. Обычно эти меры рассматривают в контексте решения крестьянского вопроса («малоземелья», «аграрного перенаселения») и других практических проблем (укрепления границ, усиления контроля империи над завоеванными территориями). Чтобы увидеть новый характер «националистического империализма» режима Александра III, не сводящегося к конфискации «туземных земель», необходимо взглянуть на него в более широкой перспективе. Российское правительство второй половины XIX в., особенно Главное управление землеустройства и земледелия, очень внимательно следило за опытом решения внутренних социально-экономических проблем в США — прежде всего в том, что касалось «земельного вопроса» и постановки переселенческого дела. Динамика взаимоотношений федеральных властей США с коренным населением — отдельная сложная тема, и влияние конкретных американских законодательных актов на российскую внутреннюю политику еще ждет своего исследователя. Сейчас достаточно упомянуть, что в первые десятилетия после обретения независимости североамериканскими колониями, отношения с коренным населением (индейскими племенами) определялись несколькими главными принципами.
В области культурной политики со времен Дж. Вашингтона признавалось существование лишь цивилизационной дистанции между индейцами и колонистами, которая должна была со временем исчезнуть в результате аккультурации индейцев (в 1819 г. конгресс даже принял специальный Акт цивилизационного фонда, предусматривающий стимулирование просвещения индейцев, в том числе за счет федерального бюджета). Юридически земли коренного населения признавались объектом «туземного права собственности» (aboriginal title). Только федеральное правительство имело право заключать сделки по поводу этих земель, частные лица не имели права ни на покупку, ни на заселение этих территорий. Серия «актов о невмешательстве» Конгресса (The Indian Nonintercourse Acts) — последний принят в 1834 г. — подтверждала нерушимость «туземного права собственности». Политически коренное население рассматривалось как ряд «наций»: традиционное русское слово «племя» не передает значения суверенитета, который вкладывался в это понятие, не делающее различий между нацией Чероки и нацией Французской республики. Договоры, в том числе касающиеся территории, заключались между федеральным правительством и отдельными нациями. В целом, эти принципы оставались неизменными до второй половины XIX в., несмотря на политику этнических чисток, приводившей к «добровольно-принудительному» переселению индейских племен на запад. Принципиальный поворот в политике по отношению к коренному населению был обозначен «Актом индейского ассигнования» (Indian Appropriation Act) 1851 г., который создавал резервации для нескольких племен. Лишь на этой, строго очерченной, территории действовало обычное право индейских наций, которые сохраняли ограниченный суверенитет во внутренних делах. Следующей важной вехой стал «Акт индейского ассигнования» 1871 г. Конгресс отказывался признавать группы индейцев нациями в старом значении международного права, в смысле правомочности заключения договоров. Отныне все представители коренного населения воспринимались как частные лица, находящиеся под опекой федерального правительства. Одним из последствий этого решения было то, что земельные сделки переставали быть объектом международных соглашений и переводились в частноправовую плоскость. В результате, в марте 1889 г. президент Гровер Кливленд подписал акт об «открытии неприписанных земель» (unassigned lands) для колонизации. Территории, формально числящиеся индейскими, но не находящиеся в их пользовании, открывались переселенцам на основании федерального законодательства и правил, утвержденных правительством. Те, кто поспешил поселиться на них до официального разрешения, насильственно изгонялись армией.
Разумеется, оседлое и кочевое население Туркестана и Степного края мало походило на коренных американцев по своему юридическому статусу и социальной организации. Вероятно, не было и прямой связи между законом, подписанным президентом Кливлендом в марте 1889 г., и российским «переселенческим законом» июля 1889 г. Однако пример США позволяет понять, что, подобно отказу признавать «индейские нации» актом 1871 г., «Положение об управлении Туркестанским краем» 1886 г. не просто распространяло на «туземцев» общее законодательство. Переставая воспринимать коренное население как явные «колонии», отделенные от метрополии глубокой цивилизационной пропастью, режим Александра III в то же время отказывался признавать их особую юрисдикцию, в том числе — территориальную. Земля объявлялась собственностью государства, а территории «туземцев», «могущие оказаться излишними» для них, воспринимались как «неприписанные» (unassigned lands) — открытые для колонизации, но только под жестким контролем правительства. Менее имперская по своим внешним проявлениям, новая политика национального поселенческого колониализма была, по сути, не менее репрессивной. Прежнее открытое и символическое насилие колониальной власти замещалось скрытым и структурным насилием национального государства. В имперской логике, даже дискриминируемые группы населения жили на своей земле; с точки зрения национальной, вся земля принадлежит политической нации (представленной государством), а дискриминируемые группы населения пользуются урезанными правами на землю.
Формирование национальной экономики
Александру III досталась в наследство крайне расстроенная экономика. Вероятно, эту фразу можно применить к любой формальной империи: ресурсы обширного и сложносоставного общества используются режимом лишь частично, зато те, что удается мобилизовать, растрачиваются на реализацию правительственного курса с большим перенапряжением. Смена правителя, как правило, означает и смену политических приоритетов, реализующихся за счет несколько иных ресурсов. Поэтому, хотя практически про каждого нового монарха пишут, что он принял страну с пустой казной, это не препятствует началу проведения новой амбициозной политики. Сказанное справедливо и по отношению к режиму Александра III: с самого начала ему пришлось столкнуться с комплексом экономических проблем. Великие реформы (особенно компенсация помещикам за крестьянские земли) легли на государственный бюджет тяжелым бременем, усугубленным Балканской войной и мировым экономическим кризисом 1870-х гг.
По некоторым подсчетам, размер непосредственных государственных расходов на реализацию крестьянской реформы 1861 г. превышал годовой бюджет страны. При этом расходы военного министерства выросли к 1874 г. в полтора раза, позволив начать проведение военной реформы, включавшей в себя дорогостоящую программу перевооружения армии. Как уже упоминалось, Балканская война 1877−1878 гг. потребовала новых колоссальных расходов и привела к обесценению рубля на 20%. Рост правительственных расходов требовал внешних займов, но внешнеэкономический фон оказался для них крайне неблагоприятным.
Затянувшаяся до конца 1870-х гг. мировая экономическая рецессия началась с биржевого краха 1873 г. («паника 1873 года») — обвального падения цен на акции, вызванного паникой спекулянтов на фондовых биржах в Австрии, Германии и Соединенных Штатах Америки. Дестабилизация мировой экономической системы была спровоцирована огромной контрибуцией, полученной Германией от Франции, проигравшей франко-прусскую войну: по условиям договора 1871 г., пять миллиардов франков должны были быть выплачены в течение трех лет. Эта колоссальная масса наличных — около полутора миллиарда рублей по плавающему вексельному курсу (едва ли не величина всех российских бюджетных поступлений за три года) — была направлена Германской империей на уплату государственных долгов бывших самостоятельных германских государств. В результате на фондовый рынок Западной Европы внезапно были выброшены сотни миллионов свободного капитала, искавшего себе выгодного применения. Начался биржевой ажиотаж. Только в Германии в 1870−1873 гг. возникли 958 новых акционерных обществ, активно строились железные дороги, скупались свободные городские земли, которые застраивались домами на продажу и сдачу в наем. Схожая динамика возникла чуть ранее в России в силу внутренних причин — колоссального объема выпуска ценных бумаг, в первую очередь направленных на компенсацию помещикам в рамках выкупной операции. Стихийно возникший во второй половине 1860-х гг. рынок ценных бумаг был не просто спекулятивным и «перегретым» стремительным ростом, но и совершенно нерегулируемым, ни законодательно, ни, хотя бы, традицией финансовой культуры участников (совершенно отсутствовавшей в России). Крах этой инвестиционной пирамиды, не обеспеченной реальным потребительским спросом, давшей толчок инфляции и создавшей экономический дисбаланс в международной системе производства и финансов, устроенной пока довольно примитивно, оставался лишь вопросом времени. Локальный финансовый кризис 1869 г. в России был усилен европейским крахом 1873 г., перекинувшимся с финансовой сферы на промышленность, железные дороги. Связь российской экономики с мировой начали осознавать даже обыватели. «Каким-то нас курсом батюшка-Берлин наградит», — гадают выезжающие за границу пассажиры в очерке М. Е. Салтыкова-Щедрина 1880 г. На фоне мирового кризиса и внутренних проблем экспорт из России сократился, обороты внутренней торговли упали на четверть. Дефицит российского бюджета за четыре года, с 1876 по 1880, составил более 334 миллионов рублей. Для покрытия дефицита правительство прибегло к крупным внешним займам, лихорадящий европейский фондовый рынок наводнили российские ценные бумаги, но курс их неуклонно падал, ухудшая кредитный рейтинг России. В результате, на 1 января 1881 г. государственный долг Российской империи достигал шести миллиардов рублей — почти в десять раз превышая размер всех поступлений в бюджет (654 млн. рублей). На обслуживание долговых обязательств Россия тратила более трети бюджетных доходов.
Интересно, что ответом на исчерпание ресурсов для проведения политики предыдущего режима после 1881 г. стала не просто смена политического вектора и даже не «контрреформы», восстанавливающие некое изначальное положение дел, а проведение целенаправленной экономической политики. С точки зрения современных историков, экономические меры предпринимали все правители — со времен князей Рѹсьской земли. Но, видимо, лишь при Александре III формируется само представление об экономике как самостоятельной сфере (отдельной от социальной, конфессиональной, военной и пр.), по отношению к которой государство должно проводить последовательную политику. Эта политика создает «национальную экономику» в том смысле, что все аспекты хозяйственной деятельности начинают рассматриваться как явления одного порядка и части единой системы.
Еще в начале XIX в. военные поселенцы, помещичьи крепостные, государственные крестьяне, кочевники-скотоводы и грузинские виноградари не воспринимались как равноценные участники некой общей — экономической — сферы. В эпоху Великих реформ создавались новые условия экономической деятельности, однако это являлось, главным образом, побочным результатом социально-политических преобразований. Законодательство приспосабливалось к новым экономическим реалиям, но роль государства в экономике оставалась непроясненной и двусмысленной. Формально ограничиваясь установлением налогов и пошлин (как и столетия назад), государство на самом деле играло все возрастающую роль во всех сферах экономики. При отсутствии осознанной экономической политики и разграничения государственной службы и предпринимательской деятельности, это означало предоставление исключительной свободы действий высшим чиновникам, использовавшим государственное влияние на экономику в частных интересах. Результатом было распространение системной коррупции — не в смысле сознательной преступной деятельности, а как выступления государственного служащего в роли участника экономической деятельности. Знаменитый глава Третьего отделения А. Х. Бенкендорф числился формальным учредителем нескольких железнодорожных компаний — обеспечивая им особый статус по сравнению с конкурентами. Сам император Александр II не считал зазорным вмешиваться в принятие бизнес-решений в интересах третьих лиц. Не воспринимая экономику как особую сферу, которую следует так же дистанцировать от компетенции исполнительной власти, как, скажем, судебную систему, сановники Александра II были бы крайне оскорблены указанием на коррупционность их действий.
Правительство Александра III осознанно и целенаправленно формировало национальную экономику Российской империи путем выработки общих принципов хозяйственной деятельности. Эти принципы пытались претворять в жизнь при помощи последовательной государственной политики, идентичной на большей части территории империи. Собственно, само осознание экономики как самостоятельной сферы, включающей в себя внешне совершенно несхожие формы деятельности (огородничество, банковский кредит, железнодорожное строительство, ресторанный бизнес и пр.), стало возможным благодаря кристаллизации «национального» взгляда на общество. Любое понимание «нации» сводит несистематичное многообразие социальных форм до двухмерной шкалы «свой — чужой». Это позволяет помыслить «истинно русскую» литературу, науку, моду, политику, архитектуру, философию и — экономику. Сама экономика четко противопоставляется «неэкономике», когда распространяется единая и универсальная классификация сфер деятельности. Характерно, что именно Александр III впервые стал назначать на пост министра финансов — ключевой для проведения экономической политики — профессиональных экономистов: ученых и практиков. В 1881−1886 гг. министром финансов являлся Николай Бунге — доктор политических наук (диссертация посвящена теории кредита), профессор Киевского университета по кафедре политической экономии и статистики, преподававший экономическую теорию и финансы наследникам престола. Его сменил Иван Вышнеградский (министр финансов в 1887−1892 гг.) — профессор механики Петербургского технологического института, инженер-конструктор, «топ-менеджер» нескольких железнодорожных компаний с репутацией опытного бизнесмена. После отставки Вышнеградского министром финансов в 1892 г. стал Сергей Витте, перешедший на государственную службу по просьбе Александра III из крупного бизнеса — он был управляющим Обществом Юго-Западных железных дорог. При всей остроте существовавших межличностных и политических разногласий, когорта министров финансов Александра III ярко выделяется на фоне министров предшествующего и последующего царствования — без исключения, карьерных бюрократов без всякого специального экономического образования и предпринимательского опыта. Осознание самостоятельности экономики при Александре III проявилось в том, что министрами становились люди, сравнительно недавно пришедшие на государственную службу из бизнеса, причем каждый следующий министр являлся в большей степени практиком экономической деятельности, чем предыдущий.
Трудно сказать, какую роль в стабилизации российской экономики сыграли те или иные конкретные меры правительства, а какую — сам факт осознания специфики собственно экономической политики и необходимости комплексного подхода к ее реализации (независимо от непосредственных целей). Общую концептуальную рамку национальной экономической политики заложил Бунге (1823−1895). Один из первых российских экономистов, он следовал в русле популярных экономических теорий своего времени. Ко времени назначения министром взгляды Бунге эволюционировали от классической английской либеральной теории «фритредерства» (неограниченной свободы предпринимательства) к немецкой «исторической школе». Не вдаваясь в нюансы сугубо теоретических различий, важно подчеркнуть, что именно немецкие (прежде всего, прусские) экономисты второй трети XIX в. заложили основу научного осмысления «национальной экономики». Вместо обсуждения универсальных закономерностей, действующих в неопределенном пространстве «экономики вообще», представители «исторической школы» сосредотачивались на анализе экономики отдельной страны как «закрытой системы», которая определяется множеством конкретных факторов: историей, географией, наличием и расположением ресурсов, составом населения. Собственно, сам термин «народное хозяйство» являлся калькой с немецкого. Из этой общей концептуальной позиции могли следовать самые разные конкретные выводы и рекомендации. Бунге склонялся к позиции немецких «катедер-социалистов» — системно мыслящих ученых, рекомендовавших минимизацию социального напряжения путем рациональной государственной политики. Идеи отмены ограничений на крестьянскую частную собственность (ликвидация общинной круговой поруки), введения всеобщего подоходного налога, отмены дворянских привилегий, разработки рабочего законодательства и предложение участия рабочих в прибылях предприятия снискали ему репутацию левого. Против Бунге яростно интриговали Победоносцев и Катков, подчеркивавшие его немецкое происхождение. Им удалось добиться замены Бунге сыном православного священника Вышнеградским, но, при всех стилистических и политических отличиях от предшественника, Вышнеградский разделял его системное видение национальной экономики. Менее чувствительный к социальным вопросам и готовый сохранить некоторые экономические привилегии за дворянством, Вышнеградский (1831−1895), как и Бунге, представлял народное хозяйство единым целым и следовал в русле рекомендаций немецкой «исторической школы». Он продолжил предложенную Бунге политику замены избирательно применявшихся старых налогов (вроде подушной подати с простолюдинов) акцизными сборами с товаров массового потребления (сахара, табака и т.п.), при одновременном введении современных дифференцированных налогов (на недвижимость, на предпринимательскую деятельность). Он продолжал манипулировать таможенными тарифами как инструментом регулирования экономической активности (а не просто источником доходов в казну) и стимулировать отечественное производство. Вышнеградскому приписывают лозунг «недоедим, но вывезем», отражающий установку на увеличение экспорта зерна в целях улучшения платежного баланса страны. Пришедший ему на смену Витте (1849−1915) был на целое поколение младше первого министра — последователя «исторической школы» Бунге, но свой переход на государственную службу в 1889 г. отметил публикацией брошюры «Национальная экономия и Фридрих Лист», посвященную основоположнику немецкой «исторической школы». Витте продолжал политику своих предшественников (уделяя внимание и социальным аспектам экономической деятельности) в той степени, в какой она вытекала из самой логики рационализации отдельных элементов «национальной экономики». На посту министра финансов Витте реализовал проекты, которые начинали готовиться его предшественниками: торговый договор с Германией 1894 г., опирающийся на протекционистский таможенный тариф 1891 г.; введение винной монополии в 1895 г.; закон об ограничении рабочего дня 1897 г.; денежную реформу 1897 г., вводившую золотой стандарт, — подготовку к ней начали еще Бунге и Вышнеградский, но именно она считается высшим достижением Витте на посту министра. Витте добился отмены круговой поруки в крестьянской общине и содействовал проектам переселения крестьян, что также служило продолжением усилий его предшественников.
Последовательность в достижении поставленных целей не следует смешивать с оценкой общей эффективности экономической политики. С точки зрения режима государственного национализма Александра III денежная реформа 1897 г. (осуществленная уже после смерти императора) являлась блестящим успехом. Всего за полтора десятилетия удалось остановить инфляцию, практически ликвидировать огромный бюджетный дефицит и укрепить репутацию России как идеального заемщика, чья валюта обеспечивалась золотым запасом. С исторической же точки зрения, оценка реформы зависит от конкретных экономических и политических задач, которые стоит считать приоритетными.
Так, одним из последствий перехода от биметаллической денежной системы (основанной на совокупном запасе золота и серебра и хождении монет из обоих металлов) к золотому стандарту стало резкое сокращение денежной массы. По подсчетам начала ХХ в., в 1899 г. на одного жителя России приходилось в шесть раз меньше находящихся в обращении денег, чем накануне отмены крепостного права в 1857 г. — 25 франков в пересчете на внешнюю «твердую валюту». В то же время в Германии и США денежная масса была в 4.5 раза больше в пересчете на жителя, в Англии — в 5.5 раз, а во Франции — почти в 9 раз (218 франков). Оборотной стороной стабильности финансовой системы стал острый дефицит капитала. Не удивительно, что ориентирующийся на идеал экономической автономности режим Александра III вынужден был обратиться к массовому кредитованию за рубежом — пусть и на новых условиях, в качестве «инвестиций», а не спекулятивных вложений в перекредитуемые казначейские ценные бумаги. Понятным также становится неожиданный поворот Российской империи к стратегическому партнерству с Францией — хотя и республикой, зато обладающей самым большим ресурсом свободных денежных средств.
Менее очевидным последствием крайней стабильности (и потому негибкости) денежной системы после 1897 г. стала ее неспособность компенсировать рост социального напряжения в результате инфляции, причины которой не сводятся к «обесценению национальной валюты». Стоимость денег, привязанная к количеству золотых монет в обращении (и, в итоге, к размерам золотого запаса страны), не реагировала на ползучий рост цен. В начале XX в. растущая «дороговизна жизни» выходит на передний план общественных и профессиональных экономических дискуссий. Все наемные работники ощущали, что установленные давно ставки месячных окладов или нормы дневного заработка обладают куда меньшей покупательной способностью, чем раньше, однако даже минимальные прибавки жалованья превращались в принципиальный политический вопрос из-за жесткой привязки рубля к золоту и отсутствия некой объективной шкалы инфляции: золото было абсолютным мерилом стоимости. Крайне ограниченное в доступных инструментах денежно-кредитной политики, правительство столкнулось с еще большими проблемами после начала первой мировой войны, а не приученное к пластичности доходов и цен население восприняло новый виток инфляции как катастрофу.
Столь же контекстуально и ситуативно приходится оценивать и другие шаги по формированию «национальной экономики», в частности, выкуп частных железных дорог в казну, проводившийся по инициативе Вышнеградского при поддержке Витте. С точки зрения абстрактной экономической теории, это была правильная мера в глазах последователей немецкой исторической школы и катастрофическая ошибка в глазах либеральных экономистов. Сугубо «бухгалтерский» анализ рентабельности частных и казенных железных дорог приводил к прямо противоположным выводам исследователей начала ХХ в. Если же отрешиться от идеологического начетничества, то национализация и приватизация железных дорог сами по себе не играли принципиальной роли — вне конкретного исторического контекста. Строительство таких масштабных инфраструктурных объектов, да еще столь протяженных, как в России, требовало колоссальных вложений капитала, которого в России всегда не хватало. В результате, бум железнодорожного строительства, предпринятого частными компаниями в эпоху Великих реформ, стимулировался государственными гарантиями, которые обеспечивали не только прокладку путей и создание инфраструктуры, но и поддержание определенной нормы прибыли при эксплуатации. Все риски перекладывались на государственный бюджет, а все доходы уходили частным концессионерам. Развращенные государственными гарантиями, многие частные компании не только завышали расходы на бумаге, но и экономили на качестве обслуживания и даже технике безопасности. Апофеозом технологической деградации железнодорожного дела стала катастрофа на 277-й версте Курско-Харьковско-Азовской железной дороги царского поезда, которым Александр III с семьей возвращался в Петербург из Ливадии 17 октября 1888 г. Несколько десятков человек из его свиты погибли и получили ранения; вероятно, в результате катастрофы началось развитие хронического заболевания у самого императора.
В принципе, сама «бизнес-схема», применявшаяся в России, мало отличалась от модели, принятой в США, где также остро стояла проблема коррупции политиков предпринимателями, стремившимися получить федеральную поддержку, и где многие владельцы дорог пытались нажиться за счет казенных средств. Но ключевым фактором являлась, все же, не форма собственности, а способность поддерживать четкие стандарты в отрасли, как технологические, так и предпринимательские. По сравнению с системой двойной безответственности 1870-х гг. — государственной и предпринимательской, — выкупленные в казну или сразу строившиеся государством железные дороги выгодно отличались эффективностью. Как показывает опыт США, этого же можно было добиться введением универсальных технологических стандартов и совершенствованием деловой культуры (прежде всего, при помощи независимой судебной системы). Режим Александра III предпочел прямое государственное управление конкретными железнодорожными линиями структурному изменению общих «правил игры» (подобному тому, что произвели Великие реформы). Кризис и последующий коллапс железнодорожного сообщения в период первой мировой войны показал невысокое качество государственного менеджмента. Выяснилось, что непосредственный результат зависит от уровня культуры персонала (от машиниста до директора дороги) и владения сложными технологиями управления и стратегического планирования, а не от юридического статуса предприятия.
Империя на распутье
Амбивалентность исторической оценки экономической политики режима Александра III связана с амбивалентностью (точнее, многозначностью) самой глобальной имперской ситуации, которую пытался ликвидировать проект русской национальной империи. Идея «золотого стандарта» служит экономической метафорой более фундаментального типа социального воображения, ориентирующегося на претворение на практике некоего — единственно истинного — идеала, будь то культурный канон, территориальные границы или политическая программа. Традиционная имперская политическая культура ориентировалась на поддержание верховной власти путем баланса (более или менее эффективного) разнонаправленных локальных интересов. Безусловно проигрывая в способности мобилизовать материальные и человеческие ресурсы обществам, структурированным идеей нации (что стало очевидным после Крымской войны), Российская империя оказалась перед необходимостью освоить новейшую версию «национальной» европейскости. Как совместить имперскую структуру и национальный идеал, никто себе не представлял — ни правительственные реформаторы, ни соперничающие с ними представители образованного общества, включая революционеров. Самое главное, никто и не отдавал себе отчета в принципиальной трудности такого совмещения. Реформаторы пользовались нациецентричным языком, подобно интеллектуалам Пруссии или Франции, даже обсуждая принципиально «общеимперские» меры, что еще больше запутывало ситуацию. Категория «русский» применялась одновременно в самых разных значениях, подобно тому, как людям казалось естественным называть «французским» все, что было связано с Францией. В результате оказывалось, что в «русской армии» могли служить «нерусские», одновременно являющиеся «русскими» (по подданству), только проживающими в «нерусском» крае «русской» земли, управляющемся «русской» администрацией и «русскими» законами, хотя и с сохранением некоторых «нерусских» обычаев.
Ориентируясь одновременно на несколько возможных альтернативных интерпретаций «нации», архитекторы Великих реформ, скорее, закладывали структурный фундамент для самой возможности национальной мобилизации, чем реализовывали на практике некий конкретный сценарий. Как уже говорилось, в политике режима Александра II можно обнаружить и признаки крайнего этнонационализма (вплоть до геноцида «меньшинств»), и стихийного формирования «имперской нации». Режим Александра III перешел к практическому воплощению национального сценария, выбрав самый очевидный — и самый противоречивый вариант «национальной империи». По сути, речь шла о попытке сформировать внутри России русское национальное государство — «золотой стандарт» идеального общества, однообразного и гомогенного. При этом оставался открытым вопрос, что делать с империей, не вписывавшейся в одномерную русскость. Точнее, этот вопрос логически следовал из однозначной идентификации государства с «русской нацией», которая в этнокультурном смысле едва ли составляла большинство населения страны. Однако «имперская слепота» современников Александра III приводила к тому, что «империя» воспринималась как синоним государства (как и в работах многих современных историков). Инерция старого сословного мышления способствовала тому, что «русскую нацию» рассматривали как подобие нового господствующего сословия — вроде дворянства в дореформенной России, надтерриториальной системообразующей группы. Для людей вроде Каткова и Победоносцева, формировавших идеологию режима, дворянство и воплощало русскую нацию (оставалось лишь очистить его от всех инокультурных примесей). Все «нерусское» играло буквально подчиненную роль, но по отношению не к «русским» как отдельной группе населения, а к русскому национальному государству. Поэтому и Великое княжество Финляндское, и Туркестан «национализировались» через более тесную интеграцию в государственные институты, а не через прямую дискриминацию. Теоретически, сама по себе политика интеграции не являлась колониальной, оставляя возможности для различного дальнейшего развития.
Структурно подрывая старую имперскую «конституцию», режим Александра III и вполне открыто выражал недовольство империализмом предшествующей эпохи. Так, был подведен «баланс» управления Туркестанским краем его первым генерал-губернатором К. П. фон Кауфманом (с 1868 по 1881). Оказалось, что за это время из Туркестана в Государственное казначейство поступило чуть менее 55 млн. рублей дохода, а правительство израсходовало на этот регион около 141 млн. рублей, т.е. почти в три раза больше! Общественное мнение России было убеждено, что Туркестан — это колония, которая живет за счет метрополии. Не менее выделявшиеся западные окраины империи — Польша и Финляндия, напротив, с экономической точки зрения оказывались доходными, что выглядело еще скандальнее: русский национальный «центр» оказывался экономически и культурно более отсталым, чем подчиненные территории. При всей своей репрессивности, «империя» предполагала признание отдельности входящих в нее подчиненных «земель», что категорически не устраивало адептов русского национализма. Идеологи режима Александра III предпочитали говорить об империи лишь в связи с международным статусом России, мечтая о введении на практике «золотого стандарта» однородного национального государства. Все, что не укладывалось в одномерную национальную схему, оказывалось в «серой зоне» умолчания. Понятно, что долго продолжаться так не могло, и в скорой перспективе режиму нужно было определиться с отношением к «нерусским» землям и группам населения.
Таким образом, попытавшись реализовать на практике идеал «русской национальной империи» в наиболее понятной версии русского национального государства, режим Александра III уже к середине 1890-х гг. оказался на перепутье. Выбранная консервативная версия национализма стала слишком узкой для растущей социальной базы движения, в любой конфигурации. Представители «русских» предпринимательских кругов рассчитывали на получение той или иной формы политического представительства. Популистский национализм, ориентирующийся на крестьян, требовал ограничения привилегий дворянства и более или менее радикальной аграрной реформы. Внешнеполитический националистический курс, направленный на достижение автономности России на международной арене, формулировался Александром III в бравых афоризмах, вроде записанного его кузеном известного «Во всем свете у нас только два верных союзника… — наша армия и флот.» Однако на деле России пришлось вступить в стратегический альянс с Французской республикой и следовать в фарватере ее яростно антигерманской политики. Экономический национализм (прежде всего, в форме протекционизма и золотовалютного фетишизма) привел к возросшей зависимости экономики от внешних инвестиций (прежде всего, французских) и к напряженным отношениям с соседями. Наконец, политический национализм во внутриимперской политике остро поставил вопрос о будущем «нерусских» земель в составе России. Курс на демонтаж имперского своеобразия и унификацию государственных институтов от Туркестана до Финляндии мог стать отправной точкой как для широкомасштабной этнокультурной русификации, так и для рациональной федерализации. Вероятно, при отказе от программы русского национализма и после политической реформы, могла быть даже испробована модель имперской нации как сообщества равных гражданских прав — и лишь продолжение прежнего курса, полностью проявившего свою системную противоречивость, оставалось наиболее утопическим из всех возможных.
Но именно такой выбор сделал преемник Александра III на троне, его 26-летний сын, вступивший на престол после смерти Александра, в октябре 1894 г., и короновавшийся императором Николаем II. Исчерпавшую свой потенциал программу русской национальной империи он пытался реализовывать в новых условиях возникновения массового общества в России, в эпоху становления массовых социально-политических движений. Не способное предложить новое комплексное видение политического урегулирования «имперской ситуации», правительство Российской империи окончательно утратило ведущие позиции в соревновании реформаторских сил. До поры до времени ему удавалось поддерживать статус-кво, иногда даже одерживая тактические победы над своими оппонентами. Но занимаемая им межеумочная позиция антидемократического национализма в сочетании с сознательным отказом от старой имперской политики компромиссов и кооптации местных элит обрекала режим Николая II на все более заметную маргинальность. Перед лицом разнонаправленных процессов самоорганизации на территории Северной Евразии, достигших в начале ХХ века небывалой амплитуды, имперский режим оказался политически несостоятельным.
Глава 9. Империя и революция: Революционное движение в имперском обществе до эпохи массовой политики
9.1. Революционный момент имперской ситуации
Главным врагом имперских обществ в Новое время стали революции: именно они, а не военные поражения приводили к развалу империй и радикальной смене режима правления. Это делает революцию неотъемлемой частью истории империи и, вероятно, таким же продуктом структурной имперской ситуации: условия для революции вызревают внутри общества, и если революция побеждает, это значит, что существовавший строй больше не соответствовал сложившейся глубинной «ситуации». Таким образом, революция оказывается напрямую связанной с имперской ситуацией, либо демонстрируя невозможность вместить все ее многообразие и противоречия в рамки какой-то одной политической системы, либо предлагая более жизнеспособный вариант политического устройства, чем поверженная империя.
Так можно обрисовать умозрительную модель «революции» в нескольких словах, с точки зрения новой имперской истории. Как и любая другая, эта модель может использоваться историком или социологом для объяснения тех или иных исторических реалий, но это не значит, конечно, что «революция» является самостоятельным феноменом, развивающимся по однозначным законам. Можно спорить, какие события относятся к «революции», а какие нет, когда она началась и закончилась. Наконец, есть и те, кто не признает вообще никаких «революций», предпочитая описывать события в категориях заговора, переворота, да и просто пропагандистской кампании. И спорить о «сущности» событий («революция или не революция») достаточно бессмысленно, потому что сами по себе они, как правило, не отличаются от многих других ситуаций: насильственной смены правителя или правительства, бесчинств толпы, военных действий, убийств, провозглашения новых законов и т.п. Продуктивнее сформулировать вопрос иначе: что меняется, если мы называем события революцией, как это понятие помогает увидеть дополнительный смысл за вполне рядовыми обстоятельствами, объяснить проще и убедительнее ход истории? И почему участники и современники событий в одних случаях использовали термин «революция», а в других не признавали в них революции?
Трудность в использовании «революции» как аналитической модели вызвана тем, что уже несколько столетий понятие революции сознательно используется для планирования или обоснования смены власти (причем, в это понятие подчас вкладывается очень разный смысл). В результате историкам трудно отделить собственный взгляд на события прошлого от описания этих событий самими участниками. «Революция» как современное объяснение сливается с «революцией» как самоназванием исторического события, пропадает ощущение исторической дистанции и понимание того, что мы пытаемся найти объяснение прошлому с точки зрения наших сегодняшних интересов и знания — а не поддержать ту или иную сторону в конфликте вековой давности.
Поэтому, размышляя о революции как о многоаспектном факторе имперской истории, важно отдавать себе отчет в несовпадении нашего нынешнего понимания этого понятия с тем смыслом, который вкладывали в него в XVIII или XX вв. Современная модель «революции» была уже сформулирована в начале этого раздела: она нужна для того, чтобы описать и очертить предел «империи» как попытки вместить структурную имперскую ситуацию в рамки единой политии. Если империя кончается там, где начинается революция, значит, «революция» описывает те аспекты имперской ситуации, которые больше не удается примирять в рамках «старого режима». Независимо от моральной и политической оценки событий, описываемых как «революция», эта концепция полезна, как позволяющая увидеть и зафиксировать то, чего не видно как с точки зрения «империи», так и с точки зрения возникших на ее обломках новых формаций.
Что же касается понимания значения «революции» деятелями прошлого, то оно варьировалось от эпохи к эпохе и от одного общества к другому, отличалось у разных политических или интеллектуальных кружков, и эту вариативность нужно будет постоянно иметь в виду. Важно и то, что разнообразие трактовок революции ограничено довольно четкими рамками, прежде всего — хронологическими. С давних времен люди сопротивлялись властям и бунтовали. Иногда эти бунты приводили к масштабным социальным катаклизмам — падению династий и целых государств, или к радикальному изменению правил внутри государства. Однако идея «революции» в политическом смысле появилась сравнительно недавно, лишь несколько столетий назад, и это указывает на изначальное описание достаточно современных социальных процессов. Особый термин понадобился для обозначения особого типа политического переворота: не просто радикальной трансформации социального порядка, а трансформации, затеянной в соответствии с определенной моделью общественного устройства.
Выработать такую модель можно только в результате большой предварительной аналитической работы, в ходе которой существующее общество концептуально осмысливается в общих категориях и подвергается критике за определенные структурные недостатки. Будущие революционеры вырабатывают проект систематических улучшений и объединяются вокруг него. Понимаемая таким образом, революция, с одной стороны, отличается от другого современного политического феномена — «реформ» — лишь большей последовательностью в воображении идеального нового порядка и претворении его в жизнь. В этом смысле проекты реформ Екатерины II были буквально революционными по замыслу — но не по воплощению, намеренно осторожному и часто непоследовательному. А с другой стороны, революция может совпадать и взаимодействовать на разных уровнях с более традиционными формами неповиновения, такими, как массовые восстания или элитные дворцовые перевороты. Массовое недовольство могло стимулировать системную (революционную) критику существующего режима, или само возникало в результате нескольких лет или десятилетий сугубо аналитической деятельности кучки интеллектуалов. Революция как модерный феномен всегда связана с предшествующим этапом интеллектуальной подготовки, на котором происходит радикальный отказ от прежних представлений об обществе и творческое формирование образа нового справедливого порядка, который достигается через политическое действие.
Лозунг «нет налогам без [политического] представительства» («no taxation without representation») может считаться хорошим примером того, как достаточно абстрактные юридические принципы, основанные на передовых и еще более абстрактных философских теориях, превращаются в революционный клич, мобилизующий широкую общественность. Сформулированный впервые в 1750-х гг. общий тезис (еще далекий от поздней лаконичной формулировки) к 1776 г. стал боевым кличем. Американская Революция XVIII в. стала возможной только в результате критической переоценки правового режима Британских колоний и последующей выработки принципов нового политического устройства, которое должно было сменить колониальный порядок. Кровопролитное восстание рабов против колониальной эксплуатации на Гаити (1791−1804) приняло формат последовательной революции под воздействием идей равенства и свободы, сформулированных философами-просветителями и популяризированных в ходе Французской революции 1789 года. Таким образом, революционаризм может быть ответом на то, что воспринимается как злоупотребления и несправедливость существующего режима, но может возникать и как результат сугубо аналитического конструирования лучшего общественного уклада, вне связи с реальными злоупотреблениями и репрессиями существующего политического порядка.
Подобное понимание революции как следствия концептуального переосмысления основ общественного устройства, которое ведет к их практическому изменению, получило широкое распространение благодаря Великой Французской революции 1789 года. До этого слово «революция» (лат. revolutio — обращение, поворот) в текстуальных традициях на разных языках указывало на противоположность «стабильности» и «неизменности». «Революция» даже могла означать реставрацию легитимной власти, поскольку этот прежний порядок был реально представим и достижим политическими средствами («откат назад»). Именно так воспринималась реставрация сильной королевской власти после периода религиозных войн, осуществленная одним из наиболее популярных королей Франции, Генрихом IV, в 1594 г. В этом и подобных случаях главными «революционерами» оказывались монархи, воплощавшие принцип легитимной (а значит, полностью понятной в своем «устройстве») власти. Именно в этой логике английский философ Томас Гоббс оценивал реставрацию Стюартов, т.е. восстановление на территории Англии, Шотландии и Ирландии монархии, упраздненной ранее указом английского парламента от 17 марта 1649 г. Восшествие в 1660 г. на престол короля Карла II Стюарта, сына казненного во время Английской революции короля Карла I, Гоббс описывал на политическом языке своего времени как возвращение к законному правлению, т.е. «революцию». Но и свержение в 1688 г. короля Англии Якова II Стюарта английским парламентом, провозглашение конституционной монархии и приглашение на трон правителя Нидерландов Вильгельма Оранского вошло в историю под названием «Славной революции». И вновь речь шла о восстановлении старого легитимного порядка, а не о воплощении некоего нового идеала: Славная революция позволила нации восстановить свои легитимные права, которые, как считалось, отнял у нее тиран.
Семантическая неопределенность в употреблении слова «революция» исчезла только после Американской войны за независимость (1776−1789) и особенно — после Французской революции, чьи лидеры и идеологи предложили радикально новое видение политического порядка и создали новую политическую культуру. Французская революция стала архетипом (первоначальным образцом) для всех последующих революций, установив стандарты революционной риторики, тактики и институтов. Одним из главных последствий Французской революции стало распространение гомогенизирующей логики социального мышления, отождествляющей абстрактные правовые категории и принципы с реальными группами населения.
Решающую роль в подготовке почвы для революции сыграли философы-энциклопедисты середины XVIII в. (эпохи Просвещения), большей частью придерживавшиеся вполне умеренных политических (а то и вовсе монархических) взглядов. В частности, ими была разработана новая правовая теория, согласно которой источником суверенитета (верховной власти) в государстве является народ — а не сакральная фигура короля или право династии на управление захваченной ее представителями территорией. Доктрина народного суверенитета была представлена в законченном виде в трактате Жан-Жака Руссо «Об общественном договоре», изданном в 1762 г. — более чем за четверть века до революции. «Суверена, который есть не что иное, как коллективное существо», как совокупность частных лиц, обозначали неопределенным словом «народ» (фр. peuple) — то ли в смысле «население страны», то ли в значении «этнос». Лишь народ один имел право определять форму верховной власти в государстве. Кажущаяся простота этой концепции требовала полного пересмотра взгляда на общество, подлинной революции социального воображения, которая и заняла несколько десятилетий, предшествующих самопровозглашенной революции как политическому событию. Представителей разных сословий, уроженцев провинций юга и севера Франции, говоривших на разных диалектах и даже языках, нужно было помыслить как единый «народ» в масштабах целого королевства. Народ как источник суверенитета должен был объединиться из разнообразных подданных «короны» в нацию с общим мышлением, единым социальным телом, волей и душой.
Новое, рационально организованное общество, основанное на принципах свободы, равенства и братства, противопоставлялось существующему социальному порядку, который получил название «старого режима» (ancien régime). Таким образом, революция становилась неотъемлемой частью политики будущего, практически неизбежной с точки зрения тех, кто ясно представлял себе основные контуры грядущего общества. Любую попытку реставрации, возврата даже вполне легитимного прошлого, стали связывать с «контрреволюцией».
Идея о необходимости насильственного свержения «старого режима» логически вытекала из двух главных соображений: политического (этического и правового) требования признать нацию единственным источником суверенитета и убежденности в необходимости реализовать социологическую (аналитическую и футуристическую) модель более рационального и справедливого общества. Эти движущие элементы революционного процесса могли сочетаться в различных пропорциях и по-разному интерпретироваться разными обществами в разные эпохи. Так, нация могла пониматься как совокупность налогоплательщиков, или как все политически активное население (исключая определенные гендерные, возрастные или расовые группы), или как культурно гомогенное сообщество, характеризуемое рядом общих свойств (язык, конфессия, исторический регион, общее прошлое и т.д.). А модель лучшего общества могла изобретаться и вне всякой связи с реалиями «старого режима», просто как результат интеллектуальных упражнений — будь то утопические проекты или научный анализ доминирующих тенденций истории человечества. Идея исторического прогресса предшествовала модерным революциям и была их основным стимулом: если мы верим в то, что история развивается от менее совершенной к более передовой стадии, зачем ждать, пока лучшее, но далекое будущее наступит само?
9.2. Революция без революционной идеи: бунт
С точки зрения современной модели революции и истории развития революционных идей, появление революционного движения в Российской империи в первое столетие ее существования было маловероятно. К концу XVIII века крайне гетерогенная империя включала в себя большую часть северной Евразии. Ее население трудно было представить как единый народ — источник суверенитета. Единственным, кто последовательно формулировал поистине революционное видение будущего, была императрица Екатерина II, в своем проекте современной империи руководствовавшаяся стремлением «целый мир создавать, объединять, сохранять.» Безусловно, недовольство существующими порядками выражали как обделенные социальные группы, так и население недавно завоеванных территорий, но их сопротивлению недоставало конструктивной программы и абстрактного воображения, которые превращают народное неповиновение в осознанную революцию.
Самым масштабным антиправительственным выступлением XVIII века было восстание под предводительством Емельяна Пугачева (1773−1775). Некоторые историки даже называли его крестьянской войной (хотя большинство участников восстания не были крестьянами), и именно оно стало воплощением стихийного массового бунта низших классов в России. Пугачевское восстание вдохновило известную фразу его первого историка, Александра Пушкина: «Не дай Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный».
Пугачевский «русский бунт» начался на реке Яик (позднее переименованной в Урал), между казахскими степями и Уральскими горами. На этой малонаселенной территории существовали рудники и металлургические заводы — основа материального процветания современного камералистского государства. Квалифицированные рабочие и мастера заводов работали за плату и были приучены к современной форме организации труда: круглогодичной, узко специализированной. К заводам приписывались казенные и крепостные крестьяне — подчас из деревень, отстоявших на сотни километров. Их обязанностью было обеспечивать производство: добывать руду и доставлять ее на завод, заготовлять дрова. «Горнозаводские» крестьяне отрабатывали на заводах подати за всю общину, пославшую их, поэтому денежное вознаграждение не получали в большинстве случаев (даже в случае перевыполнения нормы). Частью они переселялись на землю завода, частью приходили из своих деревень на временные отработки, но и те и другие работали фактически в условиях каторги. В отличие от работы крепостных крестьян в деревнях, принудительный труд на заводе никак не был связан с их собственным хозяйством и был чужд их привычному образу жизни.
Заводы на Среднем Урале и южнее располагались на землях башкирских родов. Покупая за бесценок земли у старшины рода как частного лица, владельцы завода нарушали коллективные привилегии владения территорией башкир как сословия. Потребность заводов в лесе и воде для производства вело к постоянной экспансии, захвату речек, вызывая в ответ более или менее масштабные восстания.
С башкирами соседствовало Уральское казачье войско. Казаки, как особое сословие, включали в себя людей разного происхождения (беглых крестьян, разбойников, представителей местных племен). Начало формированию войска было положено волжскими и донскими казаками, которые предпочли перебраться сюда во второй половине XVI в. подальше от воевод Московского царства, расширявшегося на юг. Смешиваясь с местным тюркским населением, уральские казаки постепенно превратились в государственное сословие, охранявшее юго-восточное пограничье империи. Воинская служба была источником их привилегий и особого юридического и экономического статуса. Однако на протяжении XVIII века, по мере формализации и усложнения государственного устройства империи, уральские казаки теряли эти привилегии и беднели.
В определенном смысле, большинство местного населения мечтало о «революции» в старом английском смысле — о возврате к давним временам, когда крестьян не сгоняли на рудники при горных заводах, заводы не сгоняли башкир с земли, а уральские казаки отправлялись за добычей в грабительские походы, вместо неблагодарной монотонной службы вдоль Исетской оборонительной линии — защиты заводов от нападений башкир. Поэтому, когда в августе 1773 г. в районе нынешнего Уральска в Западном Казахстане, на землях казачьего войска, объявился Емельян Пугачев, назвавший себя императором Петром III, он получил неожиданно широкую поддержку. Умерший при неясных обстоятельствах более чем за десять лет до этого Петр III правил всего полгода и идеально подходил в качестве символа лучшего прошлого. Ближайшее окружение Пугачева точно не заблуждалось по поводу его самозванного статуса, воспринимая фигуру Петра III лишь в качестве политического символа. Пугачеву прямо заявили: «Хоша ты и донской казак, только-де мы уже за государя тебя признали, так тому-де и быть».
Восстание под руководством Пугачева распространилось на огромную территорию. Из Приуралья оно перекинулось в Сибирь почти до Тюмени, а на западе — на земли башкир и далее, на Нижнюю и Среднюю Волгу. Для подавления восстания правительству пришлось ускорить подписание мирного договора с Османской империей после «русско-турецкой» войны 1768−1774 гг. и перебросить из Причерноморья два десятка полков за многие сотни километров. Лишь в конце августа 1774 г. восставшие были окончательно разбиты, и началось преследование и ликвидация отдельных отрядов. В начале сентября Пугачев был захвачен в плен, после следствия и короткого суда он был казнен в Москве 10 января 1775 г.
К концу 1773 г. армия Пугачева насчитывала, по разным данным, от 25 до 40 тысяч человек. Половину составляли башкиры (в определенные моменты восстания их доля достигала двух третей) под командованием молодого башкирского аристократа и поэта, сына богатого старшины Шайтан-Кудейской волости, Салавата Юлаева. Кроме казаков и башкир, в армию Пугачева входили русские крепостные, татарские крестьяне, казахи-кочевники, а также рабочие некоторых уральских заводов. Каждая категория повстанцев имела свои причины для недовольства, но это не помешало восстанию стать настоящим имперским феноменом, в рамках которого различия согласовывались и управлялись. Разные группы последователей Пугачева буквально вынуждены были искать общий язык. Некоторые указы Пугачева переводились на татарский и башкирский языки. В этом смысле восставшие в определенной мере достигли цели, к которой стремилась Екатерина II. Императрица хотела превратить население империи из конгломерата племен, многие из которых существовали в культурной и административной изоляции, в рационально организованный, интегрированный в культурном отношении и хорошо управляемый единый народ. Как уже говорилось в главе 7, и сам Пугачев, дважды пересекший всю европейскую часть России, примерявший на себя разные социальные роли, являлся идеальным имперским типажом.
Публично формулируемая политическая программа Пугачевского восстания являлась крайне рудиментарной. Всем, кроме представителей правящего класса и чиновников, Пугачев обещал счастливую жизнь и освобождение от любых обязательств перед государством и помещиками. Однако по-настоящему утопичным было не обещание безвластия, а вера в то, что все участники восстания — старообрядцы, мусульмане, язычники, крестьяне, кочевники и мещане — смогут свободно устраивать свою общинную жизнь, ведь групповые интересы всех их противоречили друг другу. Более развернутая программа была заложена в самой риторике «истинного царя». Монархический сценарий восстания Пугачева не позволил даже советским историкам, всегда симпатизировавшим народным движениям, признать Пугачева революционером. Действительно, Пугачев не строил планов разрушения Российской империи или замены авторитарной монархии иным режимом: ведь любая иная модель власти, более близкая одной группе восставших, оказывалась вдвойне враждебной другой. Однако это не мешает нам увидеть в восстании Пугачева законченное политическое высказывание, описывающее и желаемое социальное устройство, и способ его достижения: восстановить идеализированное автономное прошлое каждой группы, сохранив при этом общее социально-политическое пространство империи. Налицо главные предпосылки революционаризма в современном понимании.
Как и в эпоху Смуты начала XVII в., поддержка самозванного царя, по сути, означала признание легитимности политической системы, которую требовалось только примирить с разнонаправленными интересами большинства населения. Не случайно только в годы правления Екатерины II (1762−1796) были зафиксированы сорок случаев самозванства с использованием имени Петра III (и Пугачев был лишь самым известным): развитие современного камералистского государства вызывало слишком много конфликтов с традиционным укладом, и люди мечтали о правителе, способном гармонизировать самые острые из них. Масштабные реформы, предпринятые Екатериной II после разгрома Пугачева, были направлены не столько на предупреждение антисистемного восстания, сколько на создание современной империи. То, что ничего подобного пугачевщине не повторилось на протяжении следующего столетия, говорит о том, что Екатерине II удалось создать систему, примиряющую многие противоречия имперской ситуации.
Непримиримое противостояние пугачевцев и правительства привело к радикальному переформатированию Российской империи. И все же говорить о революции (снизу или сверху) в данном случае не приходится — во всяком случае, это слово ничего не прибавляет к характеристике пугачевского движения и реформ Екатерины II. Пугачевский бунт не был столь уж «бессмысленным», и при всей его беспощадности число жертв восстания было на несколько порядков меньше жертв Французской революции (по разным оценкам, по крайней мере, в 10 или 100 раз меньше). Однако подобный революционаризм трудно назвать политикой будущего, а реформам Екатерины II не предшествовала никакая общественная интеллектуальная работа — если не считать личной рефлексии императрицы по поводу теорий просветителей. Массовый протест и политические преобразования — еще не революция, если за ними не стоит предшествующая революция социального воображения и радикально новое видение общественного устройства.
Просвещенная императрица Екатерина II, также как самозванец Пугачев, считала, что разнообразное население Российской империи могло быть мобилизовано, организовано и наделено правами только сверху, через фигуру монарха. В планах и действиях императрицы и ее самого опасного врага присутствовали революционные элементы, но их революционаризм был специфическим — он предполагал либо возврат к воображаемому прошлому, либо изменение общества посредством частичных рационализаторских и бюрократических реформ сверху. Революция как идея отсутствовала в их действиях.
9.3. Декабристы и рождение революционных идеологий
Распространение в России революционных идей не было непосредственно связано с конкретным социальным или политическим событием или ростом массового недовольства. «Революция» долго оставалась исключительно элитным феноменом.
Первым типологически современным революционером, которого прозорливая Екатерина II характеризовала как «бунтовщика хуже Пугачева», несмотря на исключительно мирную деятельность, и который за свои взгляды подвергся аресту и ссылке в Сибирь, был Александр Радищев (1749−1802). Дворянин Радищев получил лучшее образование, доступное в России, и продолжил обучение на юридическом факультете Лейпцигского университета. После возвращения на родину его успешной карьере мешало плохое владение русским языком, совершенствованием которого Радищев занялся уже взрослым, тридцатилетним человеком. Радищев дослужился до поста начальника Петербургской таможни, однако сегодня он наиболее известен как литератор, автор травелога «Путешествие из Петербурга в Москву» (закончен в 1790 г.), содержавшего радикальную критику российского социального и политического устройства.
Внимательная и самая главная читательница «Путешествия», Екатерина II, чутко уловила опасную новизну революционаризма добропорядочного чиновника Радищева по сравнению с традиционной аристократической фрондой или крестьянским бунтом. Радищев открыто пропагандировал идею народа как главного источника суверенитета, хотя его совершенно не интересовали конкретные политические формы, в которых этот суверенитет мог себя выразить. Согласно Радищеву, народ (нация как совокупность граждан) всегда должен быть готов защищать свой суверенитет с оружием в руках от посягательств на справедливые и законные правила управления. Существование народа, готового в любой момент изгнать тиранического правителя, делало вопрос об институциональной организации политической власти несущественным. Будучи последователем теории общественного договора Джона Локка и Руссо, Радищев считал монархию и республику в равной степени подходящими для удовлетворения интересов народа. В «Путешествии» подобные, довольно абстрактные, юридические и философские рассуждения чередовались с описаниями несправедливых российских реалий, представленных в не самой совершенной беллетристической форме. Тем самым, абстрактные социально-политические идеи буквально переносились на российскую почву, «русифицировались». Хотя травелог был адресован относительно узкому кругу элитных читателей, в глазах напуганной Французской революцией Екатерины II он приобрел статус революционного манифеста, достойного смертного приговора (замененного ссылкой в Сибирь «по милосердию и для всеобщей радости»).
Четверть века спустя на смену достаточно безобидному, сугубо интеллектуальному и идеалистическому революционаризму Радищева пришли первые проекты вооруженного революционного восстания. Это был революционаризм другой эпохи и иной когорты интеллектуалов, вошедшей в историю под общим именем «декабристы». Их поколению выпало наблюдать превращение революционной французской нации в империю во главе с выдающимся молодым офицером, который стал самым влиятельным правителем в Европе. «Декабристы» — тоже офицеры, выходцы из аристократических или обычных дворянских семейств, принявшие участие в войнах с Наполеоном. Наполеон для них одновременно воплощал тип нелегитимного правителя (тирана — на юридическом языке теории общественного договора) и героя, менявшего судьбы народов мира, действиями которого, казалось, руководило божественное провидение.
Это двойственное отношение к Наполеону и наследию Французской революции совпало со специфическим прочтением войны 1812 года в российском обществе. Под непосредственным влиянием императора Александра I поражение Великой Армии и изгнание Наполеона из России получило мистическую, религиозную интерпретацию. Названная почти с самого начала боевых действий «отечественной войной», часто характеризуемая и как «народная война», отмеченная примерами личного героизма, кампания 1812 года, тем не менее, после ее завершения была переосмыслена как проявление божественного вмешательства. В этой мистической интерпретации Наполеон — узурпатор и агрессор с юридической и политической точек зрения — представал воплощением Антихриста, а народные и индивидуальные жертвы — как проявления христианской добродетели. Страна-победительница представала как сообщество истинных (православных) христиан, и только потом — как политическое и культурное сообщество.
Это мистическое понимание нации и двойственное отношение к роли личности, меняющей ход истории, — в равной мере сознательному субъекту и инструменту Божественного провидения — характеризовали революционаризм декабристов. Вскоре после возвращения российской армии из заграничных походов после окончательного разгрома Наполеона в 1814 г., несколько десятков офицеров основали секретное общество «Союз спасения» (1816). В самом названии очевидны как революционные, так и религиозные (сотериологические) коннотации. В 1818 г. на основе «Союза спасения» возникла более многочисленная (до 200 человек) тайная организация «Союз благоденствия» — и вновь представление о политическом благе тесно переплетается в названии с христианской идиомой тысячелетнего царства благоденствия после второго пришествия Христа. В то время наиболее последовательно милленаристские взгляды отстаивались Англиканской церковью и евангельскими христианами, активно действовавшими в России в рамках Библейского общества. Влияние христианской мистики на заговорщиков объясняется также тем, что их кружки зародились внутри масонских лож, во многом используя поначалу их организационную структуру и связи. Трудно определенно сказать, когда масонский интерес к внутреннему духовному совершенствованию и постижению божественной тайны сменился революционным интересом к преобразованию общества, поскольку язык участников тайных обществ сохранял инерцию масонского мистицизма.
В 1820 г., после беспорядков в элитном Семеновском полку, вскрывших существование заговора, «Союз благоденствия» прекратил свою деятельность. Вместо него возникли две новые группы, уже с демонстративно «техническими» названиями. Южное общество, где главную роль играл полковник Павел Пестель, базировалось в Тульчине, «заштатном местечке» Подольской губернии на украинских землях, а тогда — штаб-квартире Второй армии на юге империи. Северное общество находилось в столице империи Петербурге.
Идеологию Северного Общества определяли гвардейские офицеры полковник князь Сергей Трубецкой, капитан Никита Муравьев и поручик князь Евгений Оболенский. Это общество ориентировалось на идеал конституционной монархии по британскому образцу, ограниченное избирательное право и равенство всех граждан перед законом, а также выдвигало требование отмены крепостного права. Южное общество придерживалось более радикальной программы, включая полную отмену монархии и перераспределение земли, половина которой должна была перейти в государственную собственность, а вторая половина — быть разделенной между гражданами-крестьянами. Павел Пестель составил программный документ Южного общества, «Русскую правду», которая во многих отношениях была близка якобинским политическим взглядам. По Пестелю, за свержением монарха должен был последовать период диктатуры Временного верховного правления (от пяти до десяти лет). Только после этого подготовительного периода российское общество могло принять республиканскую форму правления. Переходная диктатура мыслилась Пестелем как централизованная бюрократия, где губернские комиссары представляли центральное Правление на местном уровне и последовательно проводили меры, изложенные в «Русской Правде», радикально меняя облик российского общества.
Свое название декабристы получили ретроспективно, после восстания 14 декабря 1825 г. Император Александр I неожиданно умер в Таганроге 19 ноября, и гвардейские полки принесли присягу его младшему брату Константину, считавшемуся наследником престола. Однако Константин отказался от права наследования в пользу третьего брата, Николая. С юридической точки зрения в империи возникла ситуация безвластия: присяга Константину оказалась недействительной, а Николаю еще не присягали. 14 декабря, когда расквартированные в Петербурге гвардейские полки должны были принимать присягу вторично, Северное общество решило действовать. Его лидеры избрали князя Сергея Трубецкого диктатором восстания и вывели порядка трех тысяч солдат на Сенатскую площадь, отказываясь присягать Николаю и заявляя верность «Константину и Конституции» (говорили, что солдатам офицеры представили «Конституцию» как жену Константна). Восставшие ожидали, что к ним присоединятся другие расквартированные в Петербурге войска, но этого не произошло. Планы Северного общества нарушило и то, что назначенный диктатором Трубецкой так и не появился на Сенатской площади. Николай I послал графа Михаила Милорадовича, популярного среди солдат героя войны 1812 года, вести переговоры с повстанцами. Однако в ходе переговоров офицер Петр Каховский, которому по плану восстания полагалось проникнуть в Зимний дворец и убить Николая, выстрелил в Милорадовича и смертельно ранил его. К концу дня Николай приказал артиллерии стрелять по восставшим. Жертвы составили около 300 убитых из числа повстанцев, и более 1100 — из числа праздных зевак, в том числе 150 детей и подростков.
В Тульчине члены Южного общества узнали о событиях в Петербурге только две недели спустя. К этому моменту часть их собственных лидеров уже были арестованы — в частности, еще до выступления на Сенатской площади (13 декабря) жандармы арестовали Павла Пестеля. Совместно с дружественным Обществом объединенных славян, которое к декабристской программе добавляло требования демократической федерации всех славянских народов, члены Южного общества отбили арестованных. Один из освобожденных, Сергей Муравьев-Апостол, возглавил восстание на юге, но оно закончилось разгромом 3 января 1826 г. Все руководители повстанцев были доставлены в Петербург и предстали перед следствием и судом вместе с северными декабристами.
Следствие проводилось в Зимнем дворце, при непосредственном участии нового императора Николая I. Декабристы, которые на деле доказали свою готовность к публичному протесту во главе своих полков и даже к демонстративному акту тираноборчества, оказались совершенно не готовы противостоять давлению следователей вне публичного пространства. Не имея готового сценария индивидуального революционного поведения, они полагались на знакомые поведенческие практики военной субординации старшим офицерам, на кодекс дворянской чести и аристократической солидарности. Это значит, что «революция» существовала в это время как идея и образ мысли, были представимы отдельные революционные поступки, но не существовало особой революционной субкультуры и социальной роли «революционера» с определенным стандартом поведения. В результате, подследственные открыли все планы тайных обществ следователям и выдали сеть заговорщиков. Декабристы стали первыми мучениками в пантеоне российской революционной традиции: пятеро наиболее активных деятелей заговора были повешены (Петр Каховский, Павел Пестель, Кондратий Рылеев, Сергей Муравьев-Апостол и Михаил Бестужев-Рюмин), несколько десятков сосланы на каторгу и в ссылку в Сибирь или понижены в званиях и направлены в действующую армию на Кавказ.
Готовность к решительным действиям, вплоть до цареубийства, не означала, что декабристы планировали поднять общенародное революционное восстание. Они не разделяли абстрактную веру Радищева в естественную рациональность «народа» как источника суверенитета. Офицеры, начинавшие службу прапорщиками, проводившие много времени с солдатами и наблюдавшие их жизнь за пределами казарм, имевшие опыт заграничных походов и гарнизонной жизни в разных городках и селах среди «местных обывателей», имели самое практическое представление о народе. Декабристы разделяли современную идею нации как основы государства, но в то же время своими глазами видели, что в Российской империи не существует единого «народа». Слишком значительны были различия сословные и территориальные, этнокультурные и конфессиональные.
Стремясь систематизировать это разнообразие наиболее экономным способом, Пестель пояснял в «Русской правде», что российское население состоит из трех основных групп: «коренной народ русский», «племена к России присоединенные» и «иностранцы в России живущие». Первую группу представляло «племя славянское», включавшее в себя россиян Великороссии, «малороссиян» Черниговской и Полтавской губерний, «украинцев» Харьковской и Курской губерний, «русаков» Киевской, Подольской и Волынской губерний и «белорусцев» Витебской и Могилевской губерний. Между этими группами Пестель признавал только региональные отличия и считал, что введение универсальных законов и прав во всей империи окончательно эти отличия уничтожит.
«Присоединенные», т.е. нерусские народы, он делил на десять групп или «племен»: финское, латышское, молдавское, татарское, «колонисты, в России поселенные», «народы кочующие», «народы Кавказские», казаки, «восточные народы Сибирские», «народ еврейский».
Наконец, иностранцы делились на подданных и неподданных. Но и те, кто принял российское подданство, для Пестеля все равно оставались иностранцами, поскольку, по его мнению, они присягали конкретному правителю, а не России как государству.
Эта амбициозная попытка рационализации разнообразия имперского населения свидетельствует о том, что Пестель не считал реальный народ той нацией, ради которой задумывалось восстание. В имперском разнообразии он видел серьезное препятствие для будущего республиканского правления, поэтому одной из главных задач предусмотренного им диктаторского Временного верховного правления как раз и было формирование единой российской нации как политического субъекта и источника суверенитета в государстве. Для этого Пестель планировал введение русского как единственного языка общения, а также общего для всех народов и регионов законодательства. Запрещалось использование всех местных языков и даже имен. Диктаторский режим должен был также регулировать конфессиональную политику в империи, разрешая только те элементы религий, которые не противоречили христианскому мировоззрению. Народы, которые Пестель считал «буйными» или совершенно непригодными для русификации (например, народы Кавказа и евреи), подлежали жесткой политике переселения. Так, все народы, населявшие территории «к северу от границы, имеющей быть протянутою между Россиею и Персиею, а равно и Турциею; в том числе и приморскую часть, ныне Турции принадлежащую», следовало «решительно покорить» и разделить на «мирных и буйных». Последних предполагалось насильно переселить во внутреннюю Россию и рассредоточить малыми группами среди местного населения. Евреи должны были полностью отказаться от своего «вредного» образа жизни, языка и религии, т.е. перестать быть иудеями и стать обычными российскими гражданами. Иначе им предписывалось коллективно покинуть Россию и основать собственное государство где-нибудь в «азиатской» части Османской империи.
Таким образом, декабристы, по крайней мере, наиболее революционная их часть, разделявшая взгляды Пестеля, делали принципиально антиимперский выбор на пути к созданию нового политического порядка на основе политически и культурно гомогенной будущей нации.
Вместо «народа» декабристы делали ставку на самопожертвование группы просвещенных индивидуумов и на Божественное провидение. Накануне казни Пестель признавался в письме родителям: «Я должен был раньше понимать, что необходимо полагаться на Провидение, а не пытаться принять участие в том, что не является прямой нашей обязанностью в положении, в которое Бог нас поставил, и не стремиться выйти из своего круга. Я чувствовал это уже в 1825 году, но было слишком поздно!»
Декабристы соединили концептуальную революцию, в результате которой появились конкретные планы идеального будущего порядка в России, с готовностью осуществить их на практике путем восстания. Правда, собственно «практически революционный» аспект их деятельности оказался малоудачным, особенно в сравнении с революциями, произошедшими в 1820 г. в Испании, Португалии и Неаполитанском королевстве. По форме эти революции напоминали декабристский заговор, но оказались гораздо результативнее: они привели к введению во всех королевствах конституции. Даже по сравнению с чередой успешных дворцовых переворотов в России XVIII в. восстание декабристов поражает несоразмерностью достигнутого результата с масштабами заговора и тщательностью и продолжительностью его подготовки.
По сути, «восстание» свелось к вооруженной демонстрации, многочасовому стоянию на Сенатской площади в ожидании закономерного свершения истории. На языке общественной мысли России постнаполеоновской эпохи, основанной на идиоме евангелизма, поведение декабристов говорило об ожидании вмешательства Провидения, которое должно было совершить их руками революцию точно так же, как до этого изгнало Великую армию Наполеона из пределов России. Эта вера может показаться сегодня наивной, но если отвлечься от евангельской риторики, декабристы демонстрировали взгляд на общественное развитие, глубоко созвучный философии истории Георга Гегеля. В это время Гегель только начал читать в Берлинском университете свои лекции, формулирующие его теорию об историческом процессе как поэтапном развитии самопознания Абсолютного духа: чем больше он познает себя, тем совершеннее становится, приближаясь к идеалу. Мистический Абсолютный дух (фактически, христианское Провидение) выражает себя через историческое творчество народов, стремящихся к обнаружению и воплощению Мирового духа: каждое новое, более рациональное и совершенное, воплощение его в общественном устройстве приближает историю к своему свершению. Историю творят народы, но высшим сосредоточением и воплощением народного духа являются «исторические люди», они же «великие люди», или «герои», вроде Наполеона. (Гегель, конечно, имел в виду разные формы проявления все того же Абсолютного духа, однако количество и разнообразие разных «духов», упоминаемых в его текстах, может поспорить с каталогом духов, которым поклонялись примитивные племена-анимисты.) Декабристы «бросили свой жребий», чтобы проверить, являются ли они героями, уловившими и сформулировавшими более разумную форму общественного устройства, подобно своему врагу-кумиру Наполеону. Не обнаружив поддержки Истории (или Провидения), они «покорились своему жребию», поняв, что не являются избранными (о чем и говорится в процитированном письме Пестеля). И эта риторика «жребия», обнаруживаемая в текстах декабристского круга, и философия истории Гегеля кажутся сегодня архаичными — что не мешает им сохранять актуальность, только в осовремененной риторической форме. Движущими силами исторического процесса в ХХ веке объявлялись «духи» стремящегося к обретению полной сознательности рабочего класса и восходящего к могуществу среднего класса, мировой экономики с ее законами и циклами или бывших колониальных народов. Возможно, декабристов отличает от современных революционеров наивная вера в беспрекословное и самоочевидное исполнение законов истории, но не сама идея закономерности исторического прогресса.
Таким образом, декабристы заложили традицию революционной мысли в России в смысле выработки конкретных планов идеального общества, принципиально не совместимого с существующим строем (и потому, предположительно, недостижимого путем системных реформ). Они также первыми попробовали на практике создать специальную революционную организацию и осуществить революционное выступление. Вопреки старательным попыткам властей замолчать сам факт восстания и уничтожить память о нем, декабристы оставили очень важное политическое и культурное наследие. Важную роль в субкультуре декабризма играла литература (особенно поэзия), прославлявшая их братство и идеалы — среди заговорщиков были ведущие российские литераторы своего времени. Начиная с декабристов, характерной чертой российской революционной традиции стало параллельное развитие политического революционного движения и литературного канона, который его эстетизировал и оформлял идеологически.
Другим важным вкладом декабристов было обращение к культу римских республиканских добродетелей, получившему второе рождение благодаря французским якобинцам. В отличие от Радищева, который ориентировался на просвещенческую философскую и правовую теорию естественных прав нации граждан, декабристы обращались к архетипической истории добродетельных граждан Рима, восстававших против тирании. Декабристские документы не говорили ничего определенного о нации, гораздо важнее для них была фигура тирана, свержение которого составляло главную цель восстания. Основными признаками тирана декабристы считали не деспотизм и жестокость, а ограничение права граждан подчиняться только тому должностному лицу, которого они временно избирают из своих рядов — так воспринимали фигуру изгнанного из Рима царя Тарквиния Гордого (Tarquinius Superbus) или убитого заговорщиками Юлия Цезаря. Ориентация на римские образцы объясняет приверженность декабристов тираноборческому сценарию революции. Они рассматривали тираноборчество как самую тяжелую гражданскую обязанность настоящего патриота, требующую от него убийства, что для христианина означало принесение самой большой личной жертвы — собственной души.
Применительно к конкретным обстоятельствам декабристского заговора, этот выбор означал еще и бесчестие нарушения воинской присяги, и предательство верховного командующего армией в священной войне 1812 года. Император-реформатор (а в логике тираноборческого сценария — царь-тиран) Александр I лично разделял конституционализм декабристов и был сторонником отмены крепостного права. Он не совершал преступлений по законам империи, чтобы заслужить столь суровое наказание. Никакой суд и даже революционный трибунал не рассматривал его дело и не выносил по нему вердикт (процедура, знакомая по английской и французской революциям). Но группа патриотов-революционеров, которая отказывалась действовать от лица нации как источника верховного суверенитета, не оставляла себе (и императору) выбора: только объявление императора тираном оправдывало восстание. Сама же нация, как следовало из «Русской правды» и других документов декабристов, еще только должна была возникнуть после восстания, в результате насильственной социальной инженерии. Понятно, что под тяжестью двойного морального выбора декабристы поспешили воспользоваться юридической коллизией с отменой присяги после неожиданной смерти Александра I: по крайней мере, они выступали против правителя, под чьим командованием не воевали и которому не присягали (наследника Николая Павловича).
Революционный сценарий оказался во многих отношениях примитивнее ответа на вызовы имперской ситуации, который предлагал имперский режим Екатерины II или Александра I — и в этом заключается одна из главных причин провала этого сценария в первое столетие его развития. Декабристы не уделили проблеме нации и десятой доли того внимания, которое обнаруживается в реформаторских проектах Александра I; и «практик» Пугачев, и «теоретик» Радищев уступали Екатерине II в понимании того, насколько важна координация интересов разных групп населения. Однако уже эти начальные опыты революционного мышления и действия выработали два варианта сценария революционного движения, воспроизводившихся на его позднейших этапах: (1) опора на революционную (сознательную и суверенную) нацию и (2) заговор, направленный на захват высшей власти в стране и централизованное введение нового порядка.
9.4. Славянофилы: воображение нации
Первые революционные теории, как и социальная теория в целом, формулировались на языке, который очень сильно отличался от знакомого нам языка современных социальных наук. Это язык был описательным, а создававшиеся на нем идеологические тексты стилистически напоминают метафорическую эссеистику. Аналитическая модель, с помощью которой предлагалось изучать общество и государство, в таких текстах не отделялась от истории конкретного народа и территории, или от поэтических аллегорий. Например, внимательные читатели Шарля Луи Монтескье, среди которых были и Екатерина II, и Александр Радищев, обнаруживали в его знаменитом трактате «О духе законов» (1748) следующее объяснение теории законного правления и суверенитета (а заодно и существования деспотического правления в России):
…в холодном климате нервные кисточки менее развернуты, они углубляются в свои влагалища, которые защищают их от действия внешних предметов, понижая, таким образом, живость ощущений. В холодных климатах чувствительность человека к наслаждениям должна быть очень мала, она должна быть более значительна в странах умеренного климата и чрезвычайно сильна в жарких странах… Так обстоит дело и с ощущением боли: она возбуждается в нас разрывом волокон нашего тела… Но очевидно, что массивные тела и грубые волокна народов севера способны подвергаться такому расстройству менее, чем нежные волокна народов жарких стран, душа их поэтому менее чувствительна к ощущению боли. Чтобы пробудить в московите чувствительность, надо с него содрать кожу.
К началу XIX века исторические прецеденты конкретных стран и эпох начали использовать для обозначения абстрактных понятий и категорий — подобно тому, как «Европу» отождествили с современным типом рациональной культуры. Так, концепция политической нации как основного источника суверенитета формулировалась через описание реалий Французской революции; идея заговора патриотов против тирании раскрывалась в антураже древнего Рима; парламентаризм осмысливался в контексте опыта британской культуры и истории. Иными словами, идея не отделялась от конкретных исторических и пространственных обстоятельств. Подобный «реализм социальной теории» объясняет логику возникновения двух основных идеологических течений в интеллектуальной сфере России XIX века: славянофильства и западничества. Один взгляд на общество связали с некой местной традицией, которую смогли идентифицировать очень приблизительно и в самом общем виде («славянство»). Другой — связанный с идеями классического либерализма — приписали Англии и Франции после революции 1830 г. (Западу Европы). Таким образом, даже с формальной точки зрения славянофильство и западничество не находились в прямой оппозиции друг другу («славяне» — не территория, Запад — не коллектив), а, по сути, в равной степени являлись продуктами современной («европейской») культуры, равноправным участником которой стало к 1830-м гг. российское образованное общество.
Травма неудачного восстания декабристов, растущее влияние философии истории Гегеля и доминирование эстетики романтизма, которая стала определять восприятие реальности, превратило идею нации (народа) в центральную тему дискуссий российских интеллектуалов 1830-х годов. Постдекабристское поколение интеллектуалов понимало исторический процесс как развертывание жизненных судеб духовно гомогенных наций, а коллективное «национальное тело» — как хранилище внутренней трансцендентной духовности. Тезис о нации как источнике суверенитета теперь трактовался в общефилософском и художественном, а не узком юридическом смысле. Коллективный национальный гений воплощался в выдающихся политиках и людях искусства; он же определял международный статус страны и историческую судьбу народа. Культура романтизма учила не просто угадывать скрытое содержание за внешними формами, но и воспринимать эту сокровенную сущность, доступную только интуиции, как высшую реальность.
Этот концептуальный переворот имел еще одно важное последствие. С точки зрения теоретиков народного суверенитета XVIII в., «национальность» разных представителей народа не имела значения, речь шла о населении как таковом и его коллективных правах. По инерции, эта «этническая слепота» сохранилась и в рассуждениях о нации первой четверти XIX в., что привело к непредвиденным последствиям, коль скоро сам «народ» начал восприниматься в этноконфессиональном смысле. Для разговора о народе в культурно-историческом смысле (отличном от прежнего юридического) использовали историческое и многозначное понятие «русские». Для русскоязычной образованной элиты России «народ» автоматически стал обозначать «русский народ», а Российская империя — государство русских. Никакой самоочевидной «русскости» не существовало, поэтому «свое» социальное пространство, с крайне размытыми границами, просто стали стихийно обозначать как «русское»: современный «российский» литературный язык, православное христианство, крепостных в своих поместьях, привычную кухню. Рутина государственных институтов и тяготы службы «своими» не признавались, и «русскими» их называть не спешили. Император во главе освободительной войны 1812 г. представлялся «русским царем», а в качестве главного чиновника современного бюрократического государства уже воспринимался отчужденно. Таким образом, удалось частично «одомашнить» империю, которая изначально воспринималась как одинаково чужая и чуждая для всех. То, что не удалось — прежде всего, современные социальные институты, включая государство — автоматически маркировалось как «нерусское». Так возник миф о глубоком расколе внутри российского общества в результате политики Петра I, положившем начало культурному и социальному отчуждению «европеизированной» элиты от сохранившего истинную «национальную душу» простого народа.
В основе этого мифа лежала попытка примирить сформировавшуюся в европейской культуре постнаполеоновской эпохи нациецентричную картину мира с эмпирической реальностью. Ожидая обнаружить в России «русский народ», местные образованные люди сталкивались с глубокой культурной и социальной гетерогенностью российского общества, не проявлявшего никакого мистического духовного единства. Это очевидное противоречие, однако, не привело к пересмотру теоретических оснований романтического миропонимания и не породило сомнений в реальности гомогенной нации с единой душой. Российские интеллектуалы пошли иным путем: они восприняли универсальную эпистемологическую (касающуюся самого способа познания) проблему несоответствия идеальной модели («народ») и социальной реальности (разнообразия подданных Российской империи) как специфически российскую травму. Им казалось, что в германских княжествах или во Франции «народ» не отличается в культурном отношении от высших классов — ведь путешественнику из России со всеми там удавалось общаться на одном и том же языке, и с кучером, и аристократом. В самой же России социально-культурные различия казались несравненно более глубокими, что могло объясняться только «испорченностью» привилегированной части народа инородной (европейской) культурой. Именно на этом этапе интеллектуальной истории концепция русского «народа» (нации) оказалась окончательно увязанной с низким социальным происхождением и фольклорной культурой, заложив основания для последующих классовых социальных теорий. Непосредственным же следствием обнаружения раскола между элитой и народом стало стремление преодолеть этот травматический дуализм национального духа — в прошлом и в будущем.
Как считали выпускники гимназий и университетов 1830-х годов, допетровская Московия не знала социально-культурного расслоения, сосуществования фактически двух различных наций. Чтобы вновь достичь цельности и завершенности национального духа и тела в будущем, русские в России должны были отказаться от искусственно импортированных европейских идей и институтов и вернуться к своей изначальной сути. Идеологи этого проекта стали известны как «славянофилы» — наименование столь же случайное, сколь и характерное. На самом деле, стоявшие у истоков славянофильства Алексей Хомяков (1804−1860) и Иван Киреевский (1806−56) мало интересовались славянами. К полякам они относились с недоверием, зато признавали, что русские возникли в результате смешения с финно-угорскими племенами и татарами. Видный славянофил Александр Кошелев (1806−83) писал позже, что правильнее было бы называть славянофилов «туземниками или самобытниками» — в прямом противопоставлении западникам. Но в том-то и дело, что к 1840-м годам, когда кристаллизовалась идея раскола «народа» и «европейской элиты», не существовало никакого ясного представления о природе русской «самобытности». Символом «исконной древности» оставался славянский миф, созданный в середине XVII в. киевскими книжниками в пику мифу происхождения польской шляхты от древних сарматов. Поэтому «славянофильство» первоначально и значило «туземничество», отождествление с воображаемой местной древностью (противопоставляемой западнической новизне). Однако в эти же годы в России «славянство» обрело новое, современное значение языковой группы. Александр-Вольдемар Остенек (1781−1864), внебрачный сын лифляндского барона Христофора Остен-Сакена, который до десяти лет говорил только по-немецки, заложил основы славянского языкознания, издав в 1820 г. работу «Рассуждение о славянском языке». К тому времени он уже поменял имя на Александр Востоков, так что новое понимание славянства как языковой общности от Востокова помогло переосмыслить славянофильство как современную национальную идею — противопоставляемую Западу.
Так проблема несоответствия идеала нации и реальности, сформулированная в конкретных исторических и даже архаических категориях, привела часть европейских интеллектуалов в России к идейной оппозиции воображаемому «Западу». Переосмысление славянства в смысле языковой группы (а позже — и родственных этносов) достаточно неожиданно заставило славянофильство переориентироваться в середине XIX в. на отстаивание интересов «славянских народов» — при том, что основатели движения были озабочены исключительно поиском «истинного» русского народа.
Отсутствие разработанного концептуального языка славянофильства и несоответствие модели и реальности на определенном уровне осознавали, видимо, и сами славянофилы. В это связи характерна следующая история. Один из основоположников славянофильского движения Константин Аксаков (1817−1860) в начале 1840-х гг. начал одеваться в «русский национальный» костюм — единственный доступный ему способ заявить о реальности нации, через непосредственную «политику тела». Ироничные современники утверждали, что «народ на улицах принимал его за персиянина». Брат Константина, славянофил Иван Аксаков (1823−1886), в 1844 г. сообщал в письме:
Итак, Константин снял с себя дагерротип в русском костюме: истый москвич, с татарской фамилией и нормандского происхождения, в костюме XVII столетия, сшитом французским портным, изобретением западным XIX века, передал черты лица и святославской шеи медной доске для приятеля, светского молодого человека! Хотелось бы мне посмотреть.
В этом смысле представители культуры современности в России, не готовые к радикальному и демонстративному разрыву с империей, решали менее сложную задачу. Они вошли в историю под общим названием «западники». Западники отвергали не столько изначальную дилемму славянофилов (несоответствие идеала «народа» российской реальности), сколько идеализацию нации в ущерб другим компонентам «современности» — государству, науке, технике. Сформировавшееся в XVIII в. отождествление культуры современности с географическим и политическим понятием «Европа» ставило западников в двусмысленное положение внутри страны, делая их уязвимыми для подозрений в недостаточном патриотизме. Логика геополитических метафор «Запада» и славянского «Востока» усугубляла идеологический разрыв между последующими поколениями славянофилов и западников, превращая его буквально в «цивилизационный». При этом обе школы мысли, оформившиеся в 1830−1840-е годы, уходили корнями в интеллектуальную традицию европейского романтизма и немецкую идеалистическую философию; обе были представлены интеллектуалами дворянского и даже аристократического происхождения; наконец, по своей стилистике и интеллектуальным ориентирам обе были настолько же специфически российскими, насколько «европейскими».
Ориентируясь на ценности прогресса (как цель «современности»), западники акцентировали внимание не на нации как источнике суверенитета и легитимности современной власти, а на более справедливых и рациональных формах организации этой власти (например, по британскому образцу). В той мере, в какой империя и государство были открыты реформированию в соответствии с требованиями «прогресса», они получали поддержку западников. В то же время, стилистически консервативные и даже архаичные славянофилы, ориентировавшиеся на «лучшее прошлое» в качестве идеала для будущего, продвигали по-настоящему революционную концепцию простого русского народа как истинной нации. Их ранний национализм угрожал империи как системе поддержания хрупкого равновесия множественных интересов и общественному строю, основанному на сословно-классовой иерархии. Речь идет именно о логике социального мышления, а не о прямых высказываниях — сами славянофилы были далеки от всяких революционных мыслей и рассуждали, в основном, в моральной плоскости. Они критиковали государственную бюрократию за формализм, легализм и сознательное отмежевание от «народа», которому приписывали добродетели взаимной любови и общности религиозных ценностей.
Уже к середине XIX в. из этих абстрактных обобщений морального характера стали делаться вполне практические выводы с далеко идущим политическими последствиями. Так, идеализация русского простого народа «вообще» привела к формированию культа крестьянской общины как особой русской формы справедливой социальной организации, основы для будущего устройства общества. Трудно переоценить важность этой теории для становления революционного народничества второй половины XIX века и популяризации коммунистического идеала в целом (лат. communis – «общий»). Другим важным следствием трактовки нации как «морального сообщества» (а не обладателей гражданских прав, к примеру) стала ориентация на идейное единомыслие, обозначавшееся в славянофильской традиции понятием «соборность». Понятно, что ориентация на уникальную духовную общность «русского народа» представляла все «неславянские» народы империи исторически и политически маргинальными и потенциально враждебными доминантной группе. Но и у тех, кто понимал народ в смысле социальных низов, идеал «соборности» формировал политическую культуру нетерпимости ко всем внутренним и внешним отличиям и разнообразию.
В то время как западники в целом принимали многообразие Российской империи как исходную точку для любых институциональных реформ и искали готовые сценарии в наиболее современных странах, славянофилы предлагали радикально изменить сами рамки «своего» общества и его социальную базу. Довольно скоро эти разные логики социального анализа пересеклись: как уже говорилось в прошлой главе, в ходе Великих реформ стало очевидным, что имперское разнообразие оказывается серьезным препятствием для буквального воплощения версии современности, основанной на идее нации (в разном ее понимании).
Концептуальная революция славянофилов, как и ее ревизионистская западническая версия, были сугубо интеллектуальными феноменами, но они несли в себе огромный подрывной политический потенциал. Программа консерваторов-славянофилов в этом смысле оказывается особенно революционной в силу своей принципиальной утопичности — ведь никакого идеального «русского народа» на самом деле не существовало ни тогда, ни в допетровской Москве. Идеологическое и органицистское (представляющее общество единым организмом) понимание народного суверенитета открыто подвергало сомнению легитимность существовавшего политического и социального порядка в империи.
9.5. Ответ русскому славянофильству: западничество и украинское славянофильство
Большая часть видных славянофилов были москвичами, и они принимали «русскость» народа, который их окружал и о котором они писали, как данность. Их московским читателям также было понятно, что под «славянами» подразумеваются русские — прямые потомки населения допетровского Московского царства. Однако «русскость» московских славянофилов стала терять свою самоочевидность, как только на интеллектуальную и политическую сцену вышли украинские славянофилы Малороссии, концентрировавшиеся в другом важном имперском центре — Киеве.
Украинские интеллектуалы 1840-х и 1850-х годов — члены киевского кружка с откровенно славянофильским названием Кирилло-Мефодиевское братство (Кирилл и Мефодий — легендарные создатели славянской письменности IX в.), развивали идею свободных славянских народов, равных по своему культурному, языковому и политическому статусу. Вместо идеала централизованной славянской империи со столицей в Петербурге или даже в Москве они разработали проект славянской федерации с центром в Киеве. При этом члены братства ориентировались, с одной стороны, на образец древнегреческих полисов, а с другой — на Соединенные Штаты Америки. Сам формат «братства» отсылал к традиции Рѹськой земли и руських территорий, когда миряне объединялись вокруг храмов. К XVII в. православные братства превратились в просветительские общества, и Кирилло-Мефодиевское братство напрямую продолжало традиции братств Речи Посполитой. В этом смысле члены киевского братства являлись вполне реальными «славянофилами», преемниками руського культурного наследия, имевшего общеславянское значение. В отличие от московских славянофилов, воспевавших древнее православное благочестие Московии (связь с которым была давно утрачена после потрясений никоновской реформы и подчинения церкви государству в имперский период), киевские славянофилы опирались на почти непрерывную традицию руськой христианской светской этики. Эта традиция была принята тоже не напрямую (от братств XVII в.), а через посредничество интеллектуалов Речи Посполитой, в первую очередь — почерпнута из произведений поэта Адама Мицкевича. Поэтому киевское славянофильство отличалось ориентацией на идеал суверенной шляхетской нации, опыт былого федерализма Речи Посполитой и продвижением новой идеи украинской культурной специфичности. Это было прямым вызовом не только официальной имперской идеологии, но и идеалам московских славянофилов.
Формально четырнадцатимесячная история Кирилло-Мефодиевского Братства ведет свое начало с зимы 1845−46 гг. Ядро общества составляли двенадцать членов, среди которых особо выделялись Мыкола (Николай) Костомаров, Пантелеймон Кулиш и Мыкола (Николай) Гуляк. Большинство «братьев» были студентами Киевского университета, слушавшими лекции Костомарова по славянской мифологии. В братстве состоял и поэт Тарас Шевченко, чья поэзия была не только национальной по духу, но и явно революционной. Шевченко представлял российских императоров как тиранов, а главными героями его произведений были украинские крестьяне, воплощавшие культурную специфику Малороссии и социальные и моральные добродетели «народа».
Правительство Николая I очень остро отреагировало на сугубо интеллектуальные занятия украинских славянофилов и наказало этих культурных активистов и утопических мыслителей как настоящих революционеров: весной 1847 г. члены братства были арестованы. Гуляка приговорили к трем годам заключения в Шлиссельбургской крепости, историка Костомарова — к году тюрьмы. Прочих «братьев» выслали в разные города империи, где они находились под полицейским надзором и не имели права возвращаться в Киев. Шевченко был наказан суровее остальных: талантливого поэта и художника отдали в армию солдатом, что в те времена фактически означало пожизненную службу и, соответственно, пожизненный запрет на занятия искусством. Лишь в начале 1860-х гг. имперские власти смягчили свое отношение к «украинофилам», которые в обстановке роста польского национализма рассматривались как естественные союзники властей. Костомаров получил профессорскую должность в Петербургском университете. В имперскую столицу вернулся из ссылки и Кулиш, открыв собственное издательство. В начале 1862 г. в Петербурге и Москве вышли не менее шести разных изданий украинской азбуки. Так под влиянием политических обстоятельств иллюзорное славянское единство было заменено дифференциацией «славян вообще» на славян враждебных (поляки) и дружественных (украинцы).
Именно «враждебному» польскому национальному движению выпало наиболее ярко продемонстрировать последствия взаимоналожения общеполитической (революционной) и национальной программ. Польские интеллектуалы первыми стали формулировать свои политические требования не на абстрактном языке славянофильской доктрины, но на языке современного национализма. Они говорили о независимой от Российской империи польской нации, планировали демократические реформы и включали в ряды национального сообщества не только шляхту, но и крестьян. В определенные политические моменты польские патриоты заявляли о нации как этнически открытом политическом сообществе, способном интегрировать литовцев, беларусов, украинцев и даже евреев, готовых стать лояльными и сознательными гражданами Польши. Такая риторика была характерна для ранних этапов Январского восстания против Российской империи 1862 г. Однако этноконфессиональная трактовка польской нации, безусловно, преобладала. Включая в нацию крестьян, большинство которых на территории Королевства Польского являлись русинами или беларусами, польские идеологи демонстрировали демократический потенциал своего революционаризма. Продвигая этнонациональную трактовку нации, они делали очевидной насильственную ассимиляционную природу национализма как политического выбора.
Таким образом, к 1860-м годам достаточно аморфное славянофильство 1840-х годов постепенно дифференцировалась в отдельные «национализмы» разных народов — с одной стороны, и социальные и демократические (потенциально революционные) программы — с другой. Изначальное абстрактное понимание «нации» как источника суверенитета получило две отчетливые трактовки: «открытую», включавшую всех граждан, и набиравшую все большую популярность «закрытую», распространявшуюся только на членов этноконфессиональной группы или (позднее) социального класса. Попытавшись приспособиться к вызову национализма в ходе Великих реформ, имперское государство непоследовательно экспериментировало с обеими трактовками, все более отдавая предпочтение второй, более понятной и позволявшей избежать глубокой политической реформы.
Изобретение славянофилами воображаемого оппонента в лице Европы, а позднее еще более абстрактного «Запада» являлось типичным интеллектуальным приемом современной («европейской») культуры. Проецируя все негативные психологические черты и социальные практики на воображаемого Другого, парижские, венские и лондонские интеллектуалы XVIII века сформировали концепцию Восточной Европы как особой, отстающей в развитии версии современности. В XIX веке образ этого воображаемого Другого распространился и среди низших классов Франции и Англии, чему способствовала непопулярность роли «жандарма Европы», которую приняла на себя Россия после победы над Наполеоном. Славянофилы сконструировали «Запад» по тем же самым правилам и с той же целью, для прояснения собственной культурной программы путем проецирования всех нежелательных ее аспектов на воображаемого Другого.
Говоря об ответных проекциях российских интеллектуалов, не стоит забывать, что славянофилы жили при режиме Николая I, когда культурная критика оставалась практически единственным жанром социального анализа, не приводившим автоматически к политическим репрессиям. Поэтому и оппоненты славянофилов, не соглашавшиеся с разными аспектами их доктрины, по сути, были лишены выбора и вынужденно принимали славянофильские пространственно-культурные метафоры и язык культурной критики, который часто не соответствовал характеру волновавших их проблем (если речь шла, например, о политических институтах или клерикализме в политике). Они выступали от лица абстрактного «Запада» и избегали прямых противопоставлений «Европы» — России, или «славянства» — остальным народам. Такая позиция позволяла избежать прямого обсуждения российских реалий и подчеркнуть аналитический, а не политический характер критики. Это важное различие будет забыто уже в ХХ веке, когда «Запад» обретет статус якобы реально существующей геополитической формации, проводящей единую внешнюю политику и имеющей унифицированные экономические интересы. В таком качестве «Запад» противопоставлялся «Восточному блоку».
По сравнению со славянофилами, западники представляли собой гораздо более многочисленную и разнообразную группу, включавшую как принципиальных оппонентов славянофилов, так и значительное число членов российского имперского образованного общества, которые просто не считали необходимым подвергать сомнению общие европейские корни своей культуры. Реагируя на программу, сформулированную славянофилами, западники полемически защищали противоположные позиции, даже если видели возможности более тонкого подхода. Они отрицали фундаментальное отличие России от «Европы» и настаивали на общности их исторического пути, что во многом предопределяло занимаемую ими позицию по самым разным вопросам — политическим, этическим и даже научным. Быть западником, скорее всего, означало поддержку реформ по «европейскому» образцу, одобрение преобразований Петра I и приверженность эволюционому мировоззрению.
Их вера в исторический прогресс, приводящий к универсальным результатам во всех «западных» обществах, имела серьезные последствия. Политические и институциональные различия между странами, которые славянофилы интерпретировали как культурно детерминированные, западники объясняли несоответствиями разных стадий развития на общем эволюционном пути. Поскольку все общества должны проходить через одинаковые исторические этапы развития, то будущее наиболее передовых (эффективных политически и процветающих экономически) стран можно прогнозировать. Россия должна была следовать примеру Британии или Франции не только потому, что она тоже являлась «европейской» страной, но потому, что другого прогнозируемого будущего у России просто не могло быть. В подобных выводах просматривалось влияние той же гегельянской философии, которая вдохновляла славянофилов. В исторической телеологии (предопределенности цели) западников узнается трансцендентный Абсолютный дух, который в процессе самореализации проходит ряд ступеней, пока не достигает полного воплощения (и в духовном смысле, и в виде установления идеального социального порядка). Славянофилы искали воплощение Абсолютного духа в российском обществе, в то время как западников больше интересовала последовательность стадий его реализации. Этим объясняется предпочтение, которое они отдавали универсальным гражданским правам перед специфическими национальными обычаями. Этим же можно объяснить принятие ими западных колониальных сценариев — особенно заметное в эпоху Великих реформ — как примеров реализации передовыми странами своей «цивилизационной миссии».
Интеллектуальное «разделение труда» между славянофилами и западниками проявилось в характерном предпочтении определенных занятий и профессий. Ведущие славянофилы были преимущественно философами и поэтами, а наиболее известные западники — учеными, специалистами в области права, истории и точных наук. Например, Константин Кавелин (1818−1885) был профессором юридического факультета Петербургского университета, а Тимофей Грановский (1813–1855) — профессором истории Московского университета.
Подобно славянофильству, западничество представляло собой широкую теоретическую рамку, позволявшую делать разные политические заключения. Некоторых западников вполне устраивал существующий режим — совершенно «европейский» по своему происхождению, в полном соответствии с афоризмом А. С. Пушкина о правительстве как «единственном европейце» в России. Но даже эта умеренная версия западничества оказывала давление на политический режим, отстаивая идеал правомерного государства, ставящего самодержавное правительство в четкие рамки. Более явный подрывной потенциал несла идеализация британского парламентаризма или французской политической журналистики. По-настоящему революционный характер западничества проявился с открытием ранних теоретиков социализма, таких как Франсуа Мари Шарль Фурье, Пьер-Жозеф Прудон и Роберт Оуэн.
9.6. Синтез слова и дела: появление радикальной интеллигенции
Революция как преодоление раскола славянофилов и западников
Наиболее радикальным шагом части российских западников стало распространение логики размышления о социальных институтах государства (вроде суда или исполнительной власти) на категорию нации. На место абстрактных рассуждений о нации как «источнике суверенитета» и еще более отвлеченных рассуждений на тему «национального духа» пришло практичное конструирование «народного» общественного порядка. Идея справедливого и рационального социального устройства, основанного на реализации принципа народного суверенитета, получила название «социализм». Социализм предполагал фундаментальную перестройку всех социальных отношений, не ограничиваясь частичными реформами — будь то принятие новых законов или даже смена формы правления. Включение народа в схему рациональной реорганизации общества перебросило мостик между позициями западников и славянофилов и усилило революционный эффект их социальной критики.
Наиболее важным и известным примером революционного синтеза западнического прогрессивизма и славянофильского народничества стал Александр Герцен (1812−1870). Еще студентом Московского университета в 1834 г. он был сослан за свободомыслие сначала в Пермь, а потом в Вятку. В 1847 г., полный энтузиазма по поводу «Запада», Герцен эмигрировал из России. Но пребывание в Европе, особенно наблюдение революционных событий 1848 года в Париже, закончившихся городскими беспорядками и репрессиями, привели к разочарованию в западническом идеале. Герцен критиковал европейцев за индивидуализм, пренебрежение нуждами бедных слоев населения, за мелочность интересов образованных элит. Все это приводило к пессимистическому выводу об упадке и дряхлости европейской цивилизации, которая, казалось, потеряла способность к самообновлению. Теперь Герцен хотел построить идеальный «Запад» (столь же далекий от реальной Европы, сколь и от его родины) в России, где крестьяне и казаки, как он считал, «естественно» склонялись к справедливым социалистическим формам жизни и коллективным ценностям. Тем не менее, несмотря на вполне славянофильскую идеализацию русской крестьянской общины (о значении которой российским интеллектуалам рассказал прусский экономист барон Август фон Гакстгаузен в капитальном исследовании, первый том которого вышел в 1847 г.), Герцен не желал возвращения старых московских порядков. Романтический дух славянофильского «архаического революционаризма» был ему чужд. Напротив, он выступал за освобождение крестьян от крепостной зависимости и за распространение среди них образования, что должно было подготовить крестьян к революции. Просвещенческая работа возлагалась на таких же интеллектуалов, как он сам, разделявших «западные» идеалы. Герцен писал: «Россия проделала свою революционную эмбриогению в европейской школе… Мы сослужили народу эту службу».
Следуя традиции, заложенной еще Радищевым, Герцен и многие другие западники его поколения проповедовали свои идеи не только в публицистике, но и в беллетристических жанрах. Многотомные мемуары Герцена «Былое и думы» представляют собой один из лучших образцов русской прозы XIX века. Герцен также известен как издатель журнала «Колокол», который выходил в Лондоне и нелегально переправлялся в Россию, где пользовался огромной популярностью не только среди оппозиционной интеллигенции, но у высоких правительственных чиновников. Журнал вскрывал несправедливости социального и политического строя России, публиковал сообщения с мест о бедах и злоупотреблениях в российской провинции, а также программные идеологические статьи. Неподцензурный «Колокол» формировал стандарты российской политической журналистики.
Поворот Герцена от либерализма к социализму произошел под влиянием сугубо интеллектуальных факторов. Прежде всего, речь идет о распространении позитивизма как новой основы философии и научной методологии, пришедшей на смену романтизму. Позитивизм не просто «пришел» сам по себе, а активно развивался философами и социологами вроде Огюста Конта и Джона Стюарта Милля как ответ на традицию романтизма. Вместо доверия иррациональной интуиции и поиска мистической внутренней сути явления, по сравнению с которой внешние проявления и рациональные аргументы мало что значат, позитивизм был проектом рационального конструирования «позитивного знания». Факты правильно объединяются по общим признакам в закономерности, на основании накопленного фактического материала делается вывод о сути явления — а не наоборот. Социализм как идея практической научной реорганизации общества возник одновременно и в рамках той же интеллектуальной традиции, что и социология — наука об обществе. В определенном смысле, ранний социализм и анархизм (Пьер-Жозефа Прудона, Луи Огюста Бланки) завершали логику позитивистского взгляда на общество: философия (а позднее социология) обобщала данные, собранные фактографическими науками (вроде истории) и приводила их в систему; социализму оставалось только разработать практическое применение этой системы в общественном устройстве.
Интеллектуальная эволюция Герцена была достаточно типичной для его поколения западников, включая его друга с юных лет, совместно с ним основавшего Вольную русскую типографию в Лондоне, Николая Огарева (1813−1877), или радикального литературного критика и политического журналиста Виссариона Белинского (1811−1848), или лидера интеллигентских кружков Михаила Буташевича-Петрашевского (1821−1866). Логика философского анализа приводила их к идее социализма как необходимого условия для самореализации индивидуума. Спецификой именно российских интеллектуалов можно считать лишь особое значение, которое они придавали русской крестьянской общине как уже готовой элементарной ячейки будущего социалистического порядка.
Таким образом, современное революционное движение начиналось в России не с тайных обществ заговорщиков и не с восстаний, а с кружков самообразования и обсуждения современной философской, научной и художественной литературы. Отсутствие свободной прессы и разрешенных публичных площадок обмена мнениями придавало интеллектуальным кружкам характер полуподпольных, хотя сами их участники не считали свои занятия нелегальной деятельностью. В этой связи характерна история первого российского социалистического «общества» 1840-х годов — кружка студентов и молодых офицеров, объединившихся вокруг Буташевича-Петрашевского. Речь идет о нескольких сотнях человек, придерживавшихся самых разных взглядов. Среди них были фурьеристы, мечтавшие о коммунах-фаланстерах, где работа распределялась бы поровну и господствовала бы свободная любовь; последователи французского коммуниста-утописта Луи Огюста Бланки, вдохновленные его призывом к радикальной революции, которую осуществляет горстка конспираторов; атеисты; религиозные социалисты — и просто образованные люди, интересующиеся новыми идеями. Все вместе они работали над энциклопедией с характерным названием «Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка», два выпуска которого успели напечатать (до статьи «Орден Мальтийский»). Это был коллективный проект по категоризации и каталогизации окружающей социальной реальности с современной научной и социалистической точки зрения. Никакой иной особой «революционной» деятельности они не вели ни внутри кружка, ни за его пределами. Сама структура современной культуры предполагает необходимость «публичной сферы», в которой постоянно циркулируют и уточняются идеи, потому что источник современного знания — не отдельные мудрецы, а коллективный процесс «мозгового штурма». Именно этой особенностью объясняется динамизм и эффективность современной «западной» культуры, и попытка запретить публичную сферу напрямую ведет к выпадению общества из всякой «современности».
Как мы видели в прошлых главах, именно такую попытку (и именно с этим результатом) предпринял Николай I, напуганный французской революцией 1848 г. и нарастающим неуправляемым динамизмом «Европы» в целом. В условиях нового политического курса ведомственное соперничество между главами Третьего отделения (политической полицией) и МВД переросло в напряженное соревнование по выявлению крамолы. Жандармам, с самого начала следившим за интеллектуальным салоном Петрашевского, не пришло в голову «пришить политику» его участникам, а петербургской полиции пришло. В апреле 1849 г. начались аресты, по обвинению в «заговоре идей» военный суд приговорил 21 участника собраний к расстрелу, который в самый последний момент был заменен вечной каторгой.
Первый случай, когда интеллектуальные кружки действительно сознательно заговорили о практической подготовке революции, относится уже к эпохе Великих реформ. Наиболее известной и масштабной являлась сетевая организация с красноречивым названием «Земля и Воля» (1861−1864), которая с самого начала создавалась как подпольная и революционная. Входящие в нее кружки-ячейки действовали в десятке городов, включая Москву и Петербург. В сеть также входил один кружок военных — Комитет русских офицеров в Польше. Их деятельность координировал Исполнительный комитет, а общую идеологическую платформу формировали идеи Герцена и радикального литературного критика Николая Чернышевского (1828−1889). Землевольцы считали крестьянскую революцию неизбежной, ждали ее и надеялись ускорить посредством пропаганды. Вопрос о послереволюционном политическом устройстве они доверяли решать бессословному народному собранию. В 1862 г. лидеры «Земли и Воли», включая Чернышевского и другого радикального журналиста, Дмитрия Писарева (1840−1868), были арестованы, окончательно сеть кружков распалась в 1864 г.
Интеллигенция
Термин «интеллигенция» вошел в широкий оборот в России в начале 1860-х гг. с легкой руки популярного писателя и журналиста Петра Боборыкина (1836−1921). Термин этот, вероятно, заимствованный из польской интеллектуальной традиции (inteligencja), где он появляется после Ноябрьского восстания 1830 г., обозначал новую социальную группу, формируемую образованными людьми разных профессий. Их принадлежность к интеллигенции определялась участием в общем публичном пространстве с целью выявления и обсуждения истинного смысла исторических и социальных процессов, чтобы на этой основе вырабатывать идеологические руководства для народа. Разделяя западнические интеллектуальные ориентиры, они, подобно славянофилам, размышляли о народной «душе» и позиционировали себя как недостающее звено между элитой и народом. Используя социальный капитал элиты — знание, они претендовали на то, что могут постичь и выразить «истинные интересы» нации. Интеллигенция в последующие полвека стала основным интеллектуальным и практическим ресурсом революционного движения как альтернативного имперским властям проекта совершенствования современного общества.
Кристаллизации этой новой социальной группы способствовали изменения на рынке периодической печати в середине 1850-х гг. Функции отсутствовавшей в России свободной политической журналистики отчасти приняли на себя так называемые «толстые журналы», публиковавшие художественную прозу, поэзию и литературную критику. На фоне относительной либерализации политического климата после смерти Николая I роль главного центра интеллигентской мысли играл журнал «Современник». В число его редакторов входили поэт и писатель Николай Некрасов (1821−1877), литературные критики Николай Добролюбов (1836−1861) и уже упоминавшийся Чернышевский. Публиковавшаяся в журнале беллетристика и литературная критика воспринимались читателями как бы через особые очки, политизирующие любое эстетическое высказывание. Независимо от художественного уровня того или иного опубликованного произведения, главное, на что обращали внимание читатели — насколько оно разоблачало несправедливость российской жизни и иллюстрировало общую отсталость страны. Распространение всеобщего убеждения в отсталости России стимулировало часть образованного общества поддерживать программу правительственных реформ и участвовать в ней. Но часть интеллигенции считала реформы бесполезными и предлагала видеть в отсталости не недостаток, а преимущество. Поскольку общий ход исторического прогресса должен был привести к установлению наиболее рационального и справедливого общественного устройства — социализма — то имело смысл использовать неразвитость современных институтов и экономики в России и «проскочить» лишние стадии «капиталистического» развития, прямо к народной революции.
Журналы, подобные «Современнику», формировали интеллигентский язык и логику обсуждения реальности, т.е. дискурс, одновременно универсально-европейский и специфически-российский. Говоривший по-русски о местных проблемах с точки зрения общей культуры современности, этот дискурс казался одновременно и «своим», и «европейским». Но в его «свойскости» не было ничего само собой разумеющегося, естественного. Российский интеллигентский язык всецело ориентировался на идеал русской нации, который не афишировался открыто, но подразумевался в самой структуре интеллигентского дискурса: в том, кто, при помощи каких аргументов, в какой логике описывался как свой, а кто — как чужой и чуждый. Интеллигентский язык толстых журналов оказался нечувствительным к краевой, конфессиональной или этнической специфике и запросам имперского населения, к противоречивой многообразности имперской ситуации. Начинающий интеллигент, который осваивал русскоязычное общеимперское культурное пространство и его нормы благодаря чтению толстых журналов, с самого начала усваивал не просто стиль и моральные ценности интеллигентской среды, но и ее скрытую фиксацию на русском национальном проекте, который по-разному развивала интеллигенция.
Русский национальный аспект российской интеллигентской сферы находился в «слепой зоне» его участников уже хотя бы потому, что русский язык воспринимался «естественно» как общий язык высокой культуры в империи — просто не существовало еще сформулированной позиции, оспаривающей эту естественность (за важным исключением польской и немецкой культурной элиты). Поэтому многие нерусские интеллектуалы XIX в. не воспринимали русский язык сам по себе, вне конкретных обстоятельств, как язык колониального доминирования. Кроме того, политически российская интеллигенция обычно поддерживала любые угнетаемые группы и заведомо критиковала любые действия правительства. Тем самым, в рамках структурной колониальной ситуации — на русском языке, принимая русскую нацию «простого народа» за норму — интеллигенции удавалось отстаивать интересы любых дискриминируемых групп. Это способствовало тому, что публичное пространство революционной интеллигенции в Российской империи XIX века формировалось как пространство русского языка и мышления в универсальных категориях.
Одним из наиболее известных ранних примеров интеллигентского революционного мировоззрения стал роман Чернышевского «Что делать?», напечатанный в журнале «Современник» в 1863 г. Роман был написан под влиянием идей французского философа и социолога Шарля Фурье и представлял читателям идеал «новых людей» и новых отношений — личных и экономических. Герои этого произведения не признавали различий между обыденной речью и публичными выступлениями, и шире — между обыденной, частной сферой и публичным, социально значимым поведением. С сугубо эстетической точки зрения в романе проявилась литературная беспомощность Чернышевского как писателя, но оценивался он, в первую очередь, как идеологический манифест. Поэтому «Что делать?» заслужил репутацию выдающегося произведения, а поведение героев романа было воспринято как сценарий революционного действия. В этом отношении особенно показательны многозначительные сны главной героини романа по имени Вера Павловна. Например, в четвертом сне «светлая красавица» — свобода, знакомит Веру Павловну с миром будущего, где
все живут, как лучше кому жить, здесь всем и каждому — полная воля, вольная воля.
То, что мы показали тебе, не скоро будет в полном своем развитии, какое видела теперь ты. Сменится много поколений, прежде чем вполне осуществится то, что ты предощущаешь. …по крайней мере, ты видела его, ты знаешь будущее. Оно светло, оно прекрасно. Говори же всем: вот что в будущем, будущее светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его…
Роман «Что делать?» пользовался невероятной популярностью среди молодой интеллигенции, которая стремилась буквально подражать героям Чернышевского. Это подражание не ограничивалось копированием речи и стиля поведения «новых людей», но выражалось в конкретных поступках, воспроизводивших поступки героев романа. Так, молодые люди «освобождали» девушек из семейного рабства посредством фиктивных браков, экспериментировали со свободными отношениями, создавали коммуны и кооперативные мастерские. Реализация литературных ситуаций в жизни воспринималась как буквальное воплощение социалистических и коммунистических идей.
Первый интеллигентский заговор
После отмены крепостного права в 1861 г. «народ» из «рабов» и «крепостных» превратился в свободных крестьян. Наиболее радикальные представители интеллигенции верили, что эти свободные крестьяне безотлагательно потребуют больше свободы и земли. Многие (включая членов «Земли и Воли») ожидали революцию в скором будущем, называя даже конкретную дату — лето 1863 г. Согласно манифесту 1861 г., к марту 1863 г. во всех помещичьих владениях должны были быть введены «уставные грамоты», фиксирующие конкретные условия освобождения крестьян — их обязательства перед помещиком и размер получаемого надела. Можно понять интеллигентов, ожидавших, что эти условия вызовут взрыв возмущения крестьян, однако прогнозирование крестьянской революции летом, в разгар полевых работ, свидетельствует о невысоком уровне знакомства городских образованных людей с деревенской спецификой.
Самые нетерпеливые не хотели ждать и лета 1863 г. В мае 1862 г. в Москве, Петербурге и некоторых провинциальных городах появились прокламации под названием «Молодая Россия», призывавшие к перевороту. Прокламации были подписаны неким фиктивным Центральным революционным комитетом. Настоящим автором прокламации являлся студент Московского университета Петр Заичневский (1842−1896), лидер студенческого социалистического кружка, выступавший за немедленную революцию. Сын помещика, отставного полковника, Заичневский был непримиримым идейным революционером. Он воспринимал общество четко разделенным на две антагонистические части, «интересы которых диаметрально противоположны и которые, следовательно, стоят враждебно одна к другой»: «Угнетаемый и оскорбляемый всеми, у кого в руках есть хоть доля власти», народ и «небольшая кучка людей довольных, счастливых». Из этого противопоставления следовало, что сочувствующая народу интеллигенция и часть армии должны уничтожить враждебную половину общества и установить революционный террор и диктатуру. Следующим этапом станет формирование нового социального порядка — федерации областей, самоуправляемых сельскохозяйственных коммун, общественно управляемых фабрик и других производств. Общественная собственность на средства производства обеспечит равенство прав, уничтожит брак и семью, создаст условия для общественного воспитания детей и содержания больных и старых. Заичневский также декларировал принцип национального самоопределения и обещал свободу Польше и Литве. Впрочем, национальные задачи он и его единомышленники считали вторичными по отношению к задачам социальной и экономической революции, равно актуальной для всех категорий имперского населения. В этом проявилась характерная «этнокультурная слепота» российской интеллигенции, которая воспринимала русскость всего лишь как естественный нейтральный фон — вроде белого листа бумаги, на котором они записывали свои идеи. Деконструкции и реорганизации подлежала имперская власть, отношения собственности, даже институт брака — но не статус русскости и лидирующей роли интеллектуалов из метрополии империи.
Радикализм и конспиративная тактика Заичневского импонировали российским революционерам следующих поколений, но многие его современники, включая Герцена и Чернышевского, осудили экстремизм «Молодой России». Еще меньше поддержки Заичневскому оказали представители антиимперских национальных движений, чье понимание «народа» и иерархии политических задач было иным. С непониманием этой группы революционеров Заичневский впервые столкнулся еще в 1861 г., за год до появления прокламации «Молодая Россия». Он посетил заказанную польскими студентами в Москве католическую мессу в память жертв столкновений польских протестующих и российских войск на улицах Варшавы. После мессы Заичневский выступил с речью, в которой призвал поляков и русских «идти под одним общим знаменем» — «будет ли это красное знамя социализма или черное знамя пролетариата». Польские студенты поблагодарили его за поддержку, но призыв не восприняли: дело польского национального освобождения было для них приоритетнее глобальной социальной революции. Их понимание «революции» отличалось от «революции» Заичневского или более либеральных российских западников.
9.7. Кристаллизация революционного проекта: уточнение внешних границ, снятие внутренних ограничений
Революция vs. антиимперское восстание
На протяжении всего имперского периода недовольство различных этноконфессиональных групп в России редко достигало масштабов, действительно угрожавших правящему режиму, — хотя бы потому, что не представляло выступления всего «народа» единым фронтом. Восставали местности, социальные слои, племена — против которых удавалось мобилизовать говорящих на том же языке соседей, иное сословие или соперничающее племя, исповедующее ту же религию. Исключения лишь подчеркивают сравнительную новизну феномена «национально-освободительного движения» и его связь с распространением современной культуры и институтов. В этом можно убедиться на примере Январского восстания 1863 г. на Северо-Западe империи — последней попытки восстановить независимость польских земель. Очередное «польское восстание» поначалу было воспринято российскими властями как революция из-за неожиданной программы восставших. Генерал-губернатор Царства Польского великий князь Константин увидел в этой программе «революционное беззаконие». Его брат, император Александр II, также поначалу видел в восстании «революцию», спровоцированную некой общеевропейской «революционной партией».
Дело в том, что в январе 1863 г. революционное Временное национальное правительство (Rząd Narodowy) объявило всех граждан восставшего края свободными и равными перед законом, независимо от конфессии и происхождения. Пытаясь мобилизовать революционную нацию свободных граждан, лидеры польского восстания говорили о ней в максимально широком смысле: они обращались к литовцам как к равноправным членам нации, обещали крестьянам (полякам, литовцам, русинам и беларусам, католикам, протестантам и православным) землю и свободу от обязательств перед помещиками, напоминали евреям о братской любви, связывающей их и поляков. Только позднее в глазах властей ощущение «революции» уступило место новой трактовке событий — как национальных и антиимперских. Как писал Константин в июне 1863 г.: «Революция, мятеж и измена обняли всю нацию. Она вся в заговоре…» Сформировалось представление о национальном движении как революционной силе, не сводимой ни к «местному бунту», ни к революционному заговору в столице.
Это не значит, что после 1863 г. любое сопротивление на имперских окраинах автоматически классифицировалось как «национальное», в то время как протест под универсалистскими социальными и политическими лозунгами — как «революционный». Разногласия по поводу трактовок «народа» и переплетение национальной и революционной программ затрудняли любые простые схемы. В каждом конкретном случае интерпретация (а значит, и восприятие) антиправительственной деятельности зависела от того, насколько громко или насколько четко в этой деятельности звучали «национальные» требования — по сравнению с универсальными революционными или разнообразными локальными (региональными, племенными, сословными).
Так, протесты мусульман Кавказа в 1860-х и особенно в 1870-х гг. никогда не описывались как «революция» ни властями, ни революционной интеллигенцией, которая не усматривала в этом протесте позитивной программы. Сегодня представление о революции не столь жестко привязано к образцам французских городских восстаний 1789 или 1848 гг. И все же историки предпочитают говорить не столько о «революции» на Кавказе и в Средней Азии, сколько об «эпохе вооруженного мусульманского повстанчества». Ее отсчитывают приблизительно с 1858−1859 гг. (крупнейшие волнения этого периода включали восстания в Западном и Северо-Западном Дагестане: «вольного общества» андийцев в 1860 и 1861 гг., сельских общин Ункратля под предводительством Каракуль-Магомы из с. Хварши — всего порядка 18 восстаний). Завершение связывают с подавлением в 1877 г. восстаний на Северо-Восточном Кавказе и в Закавказье, в Абхазии. Протесты этой эпохи провоцировались изменениями системы управления в крае, ростом налогов, переселением горцев на равнину, слухами о готовящемся крещении населения и прочими действиями имперских властей. Последняя крупная вспышка мусульманского повстанчества 1877 года была связана со слухами о приближении к Кавказу освободительной османской армии, распространившимися с началом Балканской войны 1877−1878 гг. Эти слухи вызвали стихийные антироссийские бунты по всему Дагестану и Чечне.
Буквально «реакционные» цели повстанцев (восстановление прежних порядков), религиозный язык формулирования протеста как «малого газавата» (т.е. религиозной войны), а также отсутствие четко сформулированных «национальных» требований и идеи народа как источника суверенитета не позволяли современникам воспринимать эти протесты против имперского доминирования как часть общеимперского революционного движения. Современное понимание нации как ощущение причастности человека к сообществу «своих», которых лично он никогда не встречал, но с которыми разделяет некие ценности и интересы и из числа которых желает получить правителей, допускает самые разные основания солидарности. Это может быть «сообщество крови» и краевого патриотизма, политических взглядов и равных гражданских прав, может быть и солидарность единоверцев как народа. Однако, несмотря на постоянный страх имперских властей перед призраком панисламизма (который еще и постоянно путали с пантюркизмом), в ходе восстаний на Кавказе второй половины XIX века никакая «нация ислама» не проявила себя. Идея солидарности правоверных не сопровождалась однозначными и всеобщими представлениями о четких границах группы, ее конкретной политической программе. Поэтому и с аналитической точки зрения кажется не слишком продуктивным характеризовать «мусульманское повстанчество» XIX века, не имевшее разработанной программы альтернативного будущего и своего видения национального сообщества как источника суверенитета, как революционное.
Идея цареубийства
Через сорок лет после восстания декабристов, в существенно ином социальном, политическом и интеллектуальном контексте, среди российских революционеров вновь возродилась идея убийства императора. При этом Александр II подходил на роль мишени революционеров еще меньше, чем Александр I: он принял на себя политическую роль «царя-освободителя», который начал в России программу «Великих реформ», отвечавших ожиданиям самых либеральных западников. Главной реформой была, безусловно, отмена крепостного права — освобождение крестьян с землей. Казалось, при Александре II реализовалась главная цель революционно мыслящих россиян, начиная с Радищева. Однако это действительно революционное преобразование не снизило градус политического противостояния в империи. Напротив, оно привело к радикализации революционного движения.
Александр II явно не ожидал столкнуться с ненавистью и тираноборчеством со стороны тех, кто, казалось бы, не испытывал притеснений от имперского режима: населения внутренних губерний, представителей привилегированных сословий (в отличие от жителей Северо-Западного края, пострадавших при подавлении Январского восстания). Поэтому первое покушение на себя он приписал мести польских повстанцев. 4 апреля 1866 г., когда Александр II выходил из Летнего сада в Петербурге и собирался сесть в карету, в него произвел неудачный выстрел молодой человек из толпы зевак. Оправившись от шока, Александр II спросил у схваченного террориста: «Ты поляк?» Официальная информация, распространенная в Петербурге сразу после покушения, когда личность нападавшего еще не была установлена, также намекала на «польский след». Черты лица террориста описывались как польские, ему приписывалось знание польского языка.
Тем не менее, выяснилось, что первый российский террорист поляком не был. Дмитрий Каракозов (1840−1866), член московской подпольной социалистической группы, происходил из небогатой дворянской семьи. Он вырос в самом центре России, на Волге, в городе Саратове. Учился в Казанском, а затем Московском университетах, из которых был исключен за участие в студенческих организациях. Каракозов развеял иллюзию о том, что все «истинно русские» естественным образом лояльны правящей династии и что архетипический революционер в империи — «поляк».
Исключительно идеологически (даже теоретически) мотивированный акт насилия, совершенный Каракозовым, следовал программе действий «Молодой России», позднее подхваченной организованными российскими террористами. Выстрел Каракозова спровоцировал смену правительственного курса с либерального на более реакционный и положил конец постепенному расширению легальной сферы публичной мысли и полемики. Были уничтожены даже те немногие дискуссионные площадки, которые уже существовали. В частности, после покушения Каракозова правительство закрыло журнал «Современник». Радикальную акцию революционного «отмщения» вызвал не репрессивный и консервативный режим Николая I, а реформистский режим Александра II, находившийся на пике внутренней либерализации (после введения нового университетского устава в 1863 г., начала судебной и земской реформы в 1864 г.). Это лишь подтверждает тезис об отсутствии прямой причинно-следственной связи между жестокостью политического режима и радикализацией революционеров. Действия Каракозова в большей степени мотивировались его идеологическими убеждениями, а не политической реальностью момента.
С 1865 г. Каракозов входил в секретную «Организацию», выступавшую за политическую пропаганду революционных идей. Во главе этого кружка стоял двоюродный брат и друг Каракозова Николай Ишутин (1840−1879). В специальном подразделении «Организации» с характерным называнием «Ад» ее члены обсуждали возможность террора. Ишутин и все прочие члены «Организации» были привлечены к суду по делу Каракозова, им вынесли достаточно серьезные приговоры. Однако, как выяснилось позднее, 4 апреля Каракозов действовал по своей инициативе и не имел согласия «Организации» на теракт. Ишутин не видел смысла в подобном шаге, обоснованно полагая, что «царь-освободитель» слишком популярен в народе, и его убийство восстановит крестьян против революционеров. Поэтому Каракозов решил действовать не от имени революционного общества, а напрямую он лица «народа». На покушение он вышел, одевшись «как крестьянин», и на допросах поначалу выдавал себя за крестьянского сына Алексея Петрова. Однако его «крестьянский» наряд выглядел не менее искусственно, чем «русский костюм» на славянофилах 1840-х гг. Одни свидетели покушения сообщали, что Каракозов был одет, «как иностранец», другие — одет «просто», были и те, кто соглашались, что он был одет «как крестьянин». Александру II «крестьянская» одежда террориста не помешала принять его за поляка. Иными словами, тщательно подготовленное Каракозовым послание на материальном языке тела и поступка «Я — представитель простого (русского) народа, карающий тирана» — осталось недопонятым.
Несмотря на то, что Каракозов был во всех смыслах маргинальной фигурой, действовавшей даже без санкции революционной организации, он приобрел репутацию мученика. Причиной этому стали не столько его идеи и действия, сколько смертный приговор, публично приведенный в исполнение 3 сентября 1866 г. Каракозова повесили, несмотря на то, что он обращался к императору с просьбой о помиловании. Сочувственная реакция интеллигенции на приговор была, прежде всего, проявлением человеческого и христианского сострадания, а не политической солидарности. О какой либо широкой моральной поддержке его террористического поступка речь еще не шла. Тем не менее, Каракозов существенно расширил границы политического воображения российского общества, продемонстрировав, что политический терроризм может иметь «истинно русское» лицо. Более того, он показал возможности и потенциальную эффективность прямой «политики тела» (идейной борьбы посредством символически значимых физических поступков), а также необходимость профессионализации и лучшей организации революционной деятельности. Не сумев объяснить до конца ни мотивы своего поступка, ни вину режима Александра II перед народом, Каракозов предложил новую социальную практику террора, предоставив своим последователям имитировать и совершенствовать ее ради нее самой. Его казнь начала раскручивать спираль отмщения за революционных страдальцев, которая производила новых страдальцев. Жертвенность придала революционной практике самостоятельный и кажущийся самоочевидным смысл и оправдание помимо абстрактных революционных теорией. «Дело Каракозова» окончательно перевело революционную деятельность из сферы социального теоретизирования в форму практического противостояния репрессивному режиму.
9.8. Российское революционное движение как феномен глобальной современности
Начиная, по крайней мере, с декабристов, практические обстоятельства революционных движений за рубежом играли в эволюции российского революционаризма не меньшую роль, чем теоретические соображения. Даже просто новости о важных заграничных политических событиях могли оказывать существенное влияние на российских революционеров. Дмитрий Каракозов стрелял в Александра II ровно год спустя после того, как на Страстную пятницу 1865 г. Джон Уилкс Бут (John Wilkes Booth) смертельно ранил президента США Авраама Линкольна. Бут стрелял из однозарядного деррингера (короткого крупнокалиберного пистолета), Дмитрий Каракозов — из двуствольного деррингера. Конечно, это могло быть простым совпадением, но во многих других случаях сознательные заимствования очевидны.
Так, вполне ощутимым было влияние на российских революционеров борцов за объединение государств Аппенинского полуострова из организации «Молодая Италия» под руководством Джузеппе Мадзини (Giuseppe Mazzini) (достаточно вспомнить название прокламации Заичневского «Молодая Россия»). Мадзини и его последователи Джузеппе Гарибальди (Giuseppe Garibaldi) и Феличе Орсини (Felice Orsini) входили в пантеон идеальных героев российских революционеров 1860-х годов. Особенной популярностью в России пользовался предводитель революционной организации карбонариев (итал. — «угольщиков») Орсини. 14 января 1858 г. он совершил неудачное покушение на французского императора Наполеона III из-за его противодействия объединению Италии. Члены ишутинского кружка, в который входил Каракозов, обсуждали на своих собраниях тактику Орсини и устройство его бомб. Тот факт, что подданный итальянского государства (Папской области) покушался на правителя другой страны (императора Франции), не смущал российских революционеров. Они перенесли историю итальянского националиста-республиканца в актуальный для них российский контекст и пришли к выводу, что российские революционеры-республиканцы должны были убить собственного российского императора, чтобы народ наконец смог ощутить себя единой политической (и, по умолчанию, русскоязычной) нацией.
Наиболее известный российский революционер европейского масштаба, анархист и панславист, оппонент Карла Маркса, Михаил Бакунин (1814–1876) никогда не терял веру в возможность массового народного восстания с участием любых угнетенных групп, включая уголовников. В 1863–1864 гг. он разрабатывал план похода польской повстанческой армии на Петербург под руководством итальянца Гарибальди (временно оказавшегося не у дел на родине). Бакунин надеялся, что успех польского восстания положит начало социальной революции по всей Российской империи.
К 1870-м гг. российские революционеры уже сами начали экспортировать практики и идеи в страны Европы. В 1870 г. к Бакунину, как основателю международного анархистского движения, присоединился в эмиграции Петр Лавров (1823–1900) — полковник, профессор математики военного училища, член «Земли и Воли», сосланный за свои взгляды после покушения Каракозова. В 1876 г. после ареста и ссылки бежал в эмиграцию князь Петр Кропоткин (1842–1921), еще один всемирный авторитет анархизма.
Бакунин помог сделать международное имя и молодому революционеру Сергею Нечаеву (1847–1882), который приехал за границу, выдавая себя за представителя мощной российской подпольной организации. Своим коллегам-эмигрантам и иностранным друзьям, включая членов Интернационала Карла Маркса, Бакунин представлял Нечаева как «русского Мадзини» и помогал собирать деньги на его «организацию». Бакунин также помог своему протеже составить один из самых экстремистских документов российского революционного движения — «Катехизис революционера», моральный кодекс подпольщика. Этот текст Нечаева продолжал вдохновлять революционных экстремистов на протяжении многих десятилетий после его смерти. В 1969 г. он был опубликован в английском переводе афроамериканской Партией черных пантер. «Катехизис» оказал влияние и на возникшую в том же 1969 г. итальянскую подпольную леворадикальную организацию Красные бригады.
Основные положения «Катехизиса»:
§1. Революционер — человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единственным исключительным интересом, единою мыслью, единою страстью — революцией.
§2. Он в глубине своего существа, не на словах только, а на деле, разорвал всякую связь с гражданским порядком и со всем образованным миром, и со всеми законами, приличиями, общепринятыми условиями, нравственностью этого мира. Он для него — враг беспощадный, и если он продолжает жить в нем, то для того только, чтоб его вернее разрушить.
§3. Революционер презирает всякое доктринерство и отказался от мирной науки, предоставляя ее будущим поколениям. Он знает только одну науку, науку разрушения. […]
§4. Он презирает общественное мнение. Он презирает и ненавидит во всех ея побуждениях и проявлениях нынешнюю общественную нравственность. Нравственно для него все, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что мешает ему.
§5. Революционер — человек обреченный. Беспощадный для государства и вообще для всего сословно-образованного общества, он и от них не должен ждать для себя никакой пощады. Между ними и им существует тайная или явная, но непрерывная и непримиримая война на жизнь и на смерть. Он каждый день должен быть готов к смерти. Он должен приучить себя выдерживать пытки.
§6. Суровый для себя, он должен быть суровым и для других […]
Отношение революционера к товарищам по революции
§8. Другом и милым человеком для революционера может быть только человек, заявивший себя на деле таким же революционерным делом, как и он сам. Мера дружбы, преданности и прочих обязанностей в отношении к такому товарищу определяется единственно степенью полезности в деле всеразрушительной практической революции.
§9. О солидарности революционеров и говорить нечего. В ней вся сила революционного дела. Товарищи-революционеры, стоящие на одинаковой степени революционного понимания и страсти, должны, по возможности, обсуждать все крупные дела вместе и решать их единодушно. В исполнении таким образом решенного плана каждый должен рассчитывать, по возможности, на себя. В выполнении ряда разрушительных действий каждый должен делать сам и прибегать к совету и помощи товарищей только тогда, когда это для успеха необходимо. […]
§11. Когда товарищ попадает в беду, решая вопрос, спасать его или нет, […] он должен взвесить пользу, приносимую товарищем — с одной стороны, а с другой — трату революционных сил, потребных на его избавление, и на которую сторону перетянет, так и должен решить.
Отношение революционера к обществу
§12. Принятие нового члена, заявившего себя не на словах, а на деле, товариществом не может быть решено иначе, как единодушно.
§13. Революционер вступает в государственный, сословный и так называемый образованный мир и живет в нем только с целью его полнейшего, скорейшего разрушения. Он не революционер, если ему чего-нибудь жаль в этом мире […]
§14. С целью беспощадного разрушения революционер может, и даже часто должен, жить в обществе, притворяясь совсем не тем, что он есть. Революционеры должны проникнуть всюду […]
§16. [...] Итак, прежде всего должны быть уничтожены люди, особенно вредные для революционной организации, и такие, внезапная и насильственная смерть которых может навести наибольший страх на правительство и, лишив его умных и энергических деятелей, потрясти его силу.
§17. Вторая категория должна состоять именно из тех людей, которым даруют только временно жизнь, дабы они рядом зверских поступков довели народ до неотвратимого бунта.
§18. К третьей категории принадлежит множество высокопоставленных скотов или личностей, не отличающихся ни особенным умом и энергиею, но пользующихся по положению богатством, связями, влиянием и силою. Надо их эксплуатировать всевозможными манерами и путями […]
§19. Четвертая категория состоит из государственных честолюбцев и либералов с разными оттенками. С ними можно конспирировать […], а между тем прибрать их в руки, овладеть всеми их тайнами, скомпрометировать их донельзя, так чтоб возврат был для них невозможен, и их руками и мутить государство.
§20. Пятая категория — доктринеры, конспираторы и революционеры в праздно-глаголющих кружках и на бумаге. Их надо беспрестанно толкать и тянуть вперед, в практичные головоломные заявления, результатом которых будет бесследная гибель большинства и настоящая революционная выработка немногих.
§21. Шестая и важная категория — женщины, которых должно разделить на три главных разряда.
Одни — пустые, обессмысленные и бездушные, которыми можно пользоваться, как третьею и четвертою категориею мужчин.
Другие — горячие, преданные, способные, но не наши, потому что не доработались еще до настоящего безфразного и фактического революционного понимания. Их должно употреблять, как мужчин пятой категории.
Наконец, женщины совсем наши, то есть вполне посвященные и принявшие всецело нашу программу. Они нам товарищи. Мы должны смотреть на них, как на драгоценнейшее сокровище наше, без помощи которых нам обойтись невозможно.
Отношение товарищества к народу
§22. У товарищества ведь [нет] другой цели, кроме полнейшего освобождения и счастья народа, то есть чернорабочего люда. Но, убежденное в том, что это освобождение и достижение этого счастья возможно только путем всесокрушающей народной революции, товарищество всеми силами и средствами будет способствовать к развитию и разобщению тех бед и тех зол, которые должны вывести, наконец, народ из терпения и побудить его к поголовному восстанию.
§23. Под революциею народною товарищество разумеет не регламентированное движение по западному классическому образу — движение, которое, всегда останавливаясь с уважением перед собственностью и перед традициями общественных порядков так называемой цивилизации и нравственности […] Спасительной для народа может быть только та революция, которая уничтожит в корне всякую государственность и истребит все государственные традиции, порядки и классы в России.
§24. Товарищество поэтому не намерено навязывать народу какую бы то ни было организацию сверху […] Наше дело — страстное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение.
§25. Поэтому, сближаясь с народом, мы прежде всего должны […] cоединиться с лихим разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России.
§26. Сплотить этот мир в одну непобедимую, всесокрушающую силу — вот вся наша организация, конспирация, задача.
Сергей Нечаев писал этот текст, находясь в Европе, как документ возглавляемой им подпольной организации, которая якобы насчитывала порядка четырех миллионов человек. На самом деле, организацию «Народная расправа» он основал только после возвращения в Россию, имея в своем распоряжении собранные в Европе деньги. Ядро «Народной расправы» составляли несколько десятков членов, а все ее контакты не превышали четырехсот человек, преимущественно московских студентов. Когда один из членов организации попытался ее покинуть, Нечаев организовал убийство отступника, в котором участвовали четверо членов «Народной расправы». Полиция довольно быстро раскрыла преступление, но к тому моменту Нечаев успел сбежать за границу.
Члены «Народной расправы» были арестованы и в 1871 г. предстали перед судом. Этот судебный процесс стал первым открытым политическим процессом в истории российской революции. Именно благодаря публичности слушаний текст «Катехизиса» и нравы, царившие в «Народной расправе», стали широко известны в обществе. «Нечаевский процесс» вдохновил Федора Достоевского на создание одного из наиболее критических образов российского революционного подполья в романе «Бесы». Новый роман выходил порциями в 1871–1872 гг., буквально по горячим следам процесса, в популярном «толстом» интеллигентском журнале «Русский Вестник».
В 1872 г. Нечаев был арестован в Цюрихе и экстрадирован в Россию, а в 1873 г. суд приговорил его к двадцати годам сибирской каторги. Однако в дело вмешался лично император и приказал заменить каторгу пожизненным заключением, которое Нечаев отбывал в камере №1 Алексеевского равелина Петропавловской крепости в Петербурге.
Несмотря на краткость политической биографии Нечаева, его вклад в профессионализацию революционного движения в России и за рубежом очень велик. Нечаев сформулировал принципы особого революционного этоса — нравственного стандарта, который отличал революционеров-подпольщиков не только от агентов режима, но и от широкой «публики», включая тех, кто симпатизировал целям революции. По Нечаеву, быть революционером означало не только принятие определенной политической программы и участие в группе конспираторов, специально созданной для реализации этой программы. Настоящих революционеров связывала специфическая субкультура, своя особая мораль и готовность рутинно применять насилие без болезненных размышлений и душевных страданий, которые испытывали, например, декабристы — профессиональные военные, привыкшие к убийству на поле брани.
Следующий шаг к профессионализации революционной деятельности, теперь уже в направлении более эффективной организации конспиративных ячеек, сделала террористическая организация «Народная Воля» (1879–1882). Ее члены высоко ценили деятельность Нечаева и принимали общие положения его «Катехизиса». В 1880 г. Исполнительный комитет «Народной Воли» установил с ним контакт и начал планировать его побег из крепости. Однако Нечаев, в полном соответствии с тезисами «Катехизиса», отказался от этого плана, поскольку он мог отвлечь внимание и ресурсы революционеров от главного дела — убийства императора Александра II.
В то же время, далеко не все российские революционеры соглашались с моральным нигилизмом Нечаева и его демонстративным безразличием к интересам самого народа и суверенитету нации. Нечаева интересовали только конспираторы, готовящие революционный переворот. При этом, он не воспринимал их даже как социальных реформаторов, работающих с конкретными группами населения и их интересами. Никакая «нация» не имела большей власти и права, чем закрытый орден революционеров, лучше представляющих, в чем должна заключаться «народная воля». Противники нечаевской философии «революции ради революции» считали, что единственным гарантом от моральной деградации заговорщиков является прямое взаимодействие с нацией и осуществление революции при помощи народа и вместе с ним. Именно так, например, рассуждали члены основанного в 1868−1869 гг. студентами петербургской Медико-хирургической академии народнического кружка Чайковцев (по имени одного из лидеров, Николая Чайковского), известного еще как Большое общество пропаганды.
9.9. Воссоединение с народом
«Нация» как заочное сообщество мыслящих заодно индивидуумов — всегда воображаемый феномен, ведь невозможно лично узнать и даже просто увидеть всех ее участников. Эта эфемерность «нации» — при отчетливом переживании ее реальности и «материальности» — во многом и породила идею славянофилов о «двух нациях» внутри русского народа. Согласно этой идее, глубокий цивилизационный разрыв мешает представителям нации европейской культуры увидеть подлинное внутреннее единство нации «простого народа», сплоченной (как предполагает романтическая теория) общей душой. Новое поколение революционеров, впитавшее идею социологической «реальности народа», решило на практике воссоединиться с истинной нацией «простого народа» (крестьянами и рабочими). Но где потенциальный революционер второй половины XIX в. мог вступить в контакт с «простым народом» для распространения революционных идей? Значительная часть городского населения занималась физическим трудом, но социальная структура имперских городов 1870-х и 1880-х годов не способствовала содержательному общению с этим классом горожан. Непредвиденной преградой оказался символически значимый внешний облик (включая одежду), а также принципиальное отсутствие общего (не сегрегированного по сословному принципу) публичного пространства, где могла бы состояться встреча.
Студенты университетов — основа кадров революционного движения — с 1861 по 1885 гг. были освобождены от необходимости ношения формы, которая визуально подчеркивала их принадлежность к социальной элите. Тем не менее, Устав 1863 г. предписывал: «Учащиеся должны быть на лекциях в приличном платье, причем не допускается ношение национального платья и каких-либо знаков отдельной народности, товариществ и обществ». Для встречи с народом можно было приобрести «национальное платье» или одежду рабочего, но, как известно по многочисленным свидетельствам современников, в этой одежде образованный горожанин часто выглядел не менее подозрительно и странно, чем террорист Каракозов или славянофил Аксаков в своем «русско-персидском» наряде.
Переодевшись и освоившись в новом облике, где и как такой студент мог встретиться с «народом»? Самыми очевидными его представителями были дворники, они же — швейцары и обслуга в многоквартирных домах. Но в официальные обязанности дворников входило доносить полиции обо всех подозрительных лицах и происшествиях. Официант (половой в трактире) был все время на бегу; можно было остаться наедине с извозчиком, но для каждого извозчика потребовался бы отдельный агитатор. С точки зрения революционного пропагандиста, лучшей аудиторией являлись фабричные и заводские рабочие, работающие коллективно, но чужаку проникнуть за ворота фабрики не представлялось возможным. В компактных коллективах рабочих многочисленных мастерских заметить чужака было еще проще.
Можно было попытаться заговорить с «народом» в часы отдыха, когда рабочие и городская прислуга собирались в трактирах, но этот вариант, по-видимому, рассматривался представителями интеллигенции как наименее реалистичный. По крайней мере, в дошедшей до нас обширной мемуарной литературе нет упоминаний о пропаганде в трактирах. Как публичное пространство народной социализации, трактир предполагал самые примитивные, телесные формы развлечений, и попытки серьезного разговора, не говоря уже о произнесении пропагандистских речей, в этом пространстве обрекались на неудачу или даже могли вызвать насилие в ответ. Города населяли тысячи представителей «народа», но переход социальных границ и установление контакта с ними, даже с соседями по дому, представлял реальную проблему.
Деревня являлась исходным резервуаром «народа» в его естественном социальном окружении, с небольшими вкраплениями местного дворянства, сотрудников земств и полиции. Однако деревня в России середины XIX века представляла особый мир с особым укладом жизни, отрезанный даже от уездных городов из-за плохих дорог. Каждое новое лицо в сельской местности немедленно бросалось в глаза и вызывало подозрения, тем более что сама одежда и речь представителей интеллигенции выдавали социальную дистанцию. Городские революционеры выглядели в глазах крестьян как помещики или правительственные чиновники. Еще хуже получалось, когда городские юноши выдавали себя за местных, одеваясь по-крестьянски и разговаривая «народным» языком (как делали, например, украинские активисты 1860-х гг. во время вылазок в села с культурной миссией). Чужаков немедленно разоблачали, а попытка маскировки вызывала у сельчан подозрения. Крестьяне могли избить самозванцев, заподозрив в воровстве, а могли арестовать и сдать властям.
Поэтому, когда один из влиятельных революционных идеологов поколения 1870-х годов Петр Лавров призвал «критически мыслящих личностей» заняться долгосрочной мирной пропагандой среди крестьян — потенциального ядра будущей свободной российской нации, эта задача показалась современникам не менее сложной, чем захват политической власти в столице империи. Более ранние социальные теоретики, такие как Бакунин и его последователи, видели в «народе» естественного бунтаря. Казалось, достаточно одной искры, чтобы вспыхнуло революционное пламя масштабов пугачевщины. К концу 1860-х гг. эти иллюзии развеялись. Члены кружка Чайковского одними из первых подвергли критике абстрактный и чисто литературный по своему происхождению характер подобных представлений. Как выразился сам Николай Чайковский (1850−1926) в открытом письме Лаврову, «книжка составляет единственную пищу, единственный материал, из которого юной голове остается строить свои идеалы». Он формулировал задачу революционной интеллигенции так: «Необходимо настаивать на предпочтительном изучении вопросов жизни, а не науки ..., самой современной русской жизни в ее самом реально-фактическом виде».
Желание узнать настоящий «народ» в его «реально-фактическом виде» и начать работать среди и для него вдохновило так называемое «хождение в народ» 1874−1875 гг. Члены разных народнических кружков — последователи Лаврова и бакунисты, повстанцы и пропагандисты, государственники и анархисты — преимущественно люди студенческого возраста, ранее не имевшие опыта деревенской жизни, часто вообще не знавшие физического труда, бросили свои занятия и направились в деревню. В отличие от представителей поколения 1860-х гг., посещавших деревню редкими и короткими вылазками, они стремились селиться в деревнях на длительные сроки и заниматься там систематической пропагандой. Согласно официальным данным Министерства юстиции, в 1874 г. «хождение в народ» охватило 37 губерний. К этой цифре историки добавляют еще 14 губерний, фигурирующих в переписке народников и в материалах судов над ними. Таким образом, практически вся европейская часть империи была затронута «хождением». Число его участников варьируется в разных источниках, достигая максимального значения в 4000 активистов. «Хождение в народ» как массовая попытка установить постоянный контакт с «народом» и вовлечь его в современное революционное мировоззрение знаменует важную веху в истории российской интеллигенции. Оно укрепило самоидентификацию большей ее части как «народнической», т.е. выступающей от имени народа, который представлялся — вслед за славянофилами — как однородная и отдельная подлинная нация.
Чтобы легально оправдать свое проживание в сельской местности, некоторые из участников «хождения» занимали должности деревенских врачей или учителей, но таких было меньшинство. Большая часть выдавала себя за крестьян, рабочих или бедных мастеровых — иными словами, они делали вид, что, подобно крестьянам, принадлежат к низшим классам. Но и в этом случае, сменив костюм и стиль поведения, городские пропагандисты нуждались в помощи местных авторитетных людей. Политических идеалистов часто принимали у себя местные учителя и врачи и даже сочувствующие народническим идеям помещики. Часто агитаторы основывали мастерские, служившие прикрытием для их деятельности. Они стремились общаться с крестьянами на простом языке, читали им специально подобранную литературу, среди которой были книжки, написанные специально для целей «хождения». Параллельно они наблюдали крестьянскую жизнь и пытались узнать, что думают сами крестьяне.
Дополнительные сложности создавал культурный конфликт между современным типом знания интеллигенции, основанном на универсальных категориях и абстрактных идеях, и множественными вариациями локального знания крестьян, оформленного в конкретных и частных понятиях. Наиболее очевидным проявлением этого понятийного конфликта стал сам язык общения. Языком «хождения», как и языком панимперской революционной культуры интеллигенции в целом, был современный русский литературный язык (бывший «российский»). Именно этим языком, пусть и упрощенным, писались пропагандистские брошюры для «хождения в народ». Однако говор даже в разных русских деревнях центральной Нижегородской губернии мог очень сильно отличаться от русской литературной нормы. Кроме того, в широко освоенном народниками-пропагандистами поволжском регионе имелись татарские и финно-угорские деревни, а «народ» украинских губерний (Киевской, Полтавской, Екатеринославской, Черниговской и др.) разговаривал на диалектах, на основании которых сформировался литературный украинский. Сегодня еще до конца не понятно, как народники решали проблему «нахождения общего языка» с инокультурным крестьянством — как в смысле языка общения, так и в смысле логики осмысления социальной реальности. Чтобы связать проблемы собственного хозяйства или даже своего села Полтавской губернии с проблемами крестьян деревни Казанской губернии и личностями министров в Санкт-Петербурге, нужно было размышлять в категориях «крестьянства», «сельского хозяйства», «аграрной политики», «нации», «государства». Эта логика была настолько же естественной и самоочевидной для пропагандистов-народников, насколько новой и чуждой — для их деревенских слушателей. Известно, что многие из народников глубоко разочаровались в итогах «хождения», поскольку крестьяне оказались глухими, а порой и враждебными к их пропаганде. Разочарованные пропагандисты увидели решение проблемы народной инертности в возвращении к нечаевской тактике конспиративной борьбы революционеров-фанатиков, выполнявших работу за несознательный пока народ.
В целом, «хождение в народ» имело два важных последствия для российского революционного движения. Выяснилось, что «народ» действительно существует в «реально-фактическом» виде, однако реальный народ выглядит, думает и ведет себя не так, как «полагается» в теории. Так как в основе революционаризма лежало стремление реализовать некий сценарий современного общества, альтернативный проекту имперского реформизма, то ничто не должно было помешать реализации этого сценария, даже сам, пока что недостаточно сознательный, народ. Если массы еще не доросли до осознания своих собственных интересов, значит, не нужно прислушиваться к их непросвещенным (а значит, ложным) стремлениям и ожидать инициативы в начале революции. Застрельщиками и организаторами радикальных перемен должны выступить представители наиболее сознательной части народа, достигшие подлинного понимания его сути (Абсолютный дух, познавший самого себя в лице выдающихся героев).
9.10. Народничество и национальный вопрос
Народническая интеллигенция 1870-х годов заплатила высокую цену за свою идеалистическую попытку пойти в народ. Во-первых, она разочаровалась в революционном потенциале «народа», а во-вторых, сотни участников «хождения» подверглись аресту. В октябре 1877 г. началось самое продолжительное судебное разбирательство в истории российской революции XIX века, получившее название «Процесс 193», но более известное среди современников как «большой процесс» или «процесс-монстр». Членов примерно сорока народнических групп обвинили в принадлежности к единой всероссийской «преступной организации» заговорщиков, стремившейся к свержению режима и уничтожению государственных чиновников и представителей обеспеченных классов.
«Процесс 193» стал первым процессом, на котором подсудимые выработали общую для всех стратегию революционного поведения: они демонстрировали солидарность действий, использовали судебную процедуру для пропаганды своих взглядов и отказывались признавать себя виновными. Из 193 обвиняемых 28 приговорили к каторге на сроки от трех до десяти лет, 36 — к ссылке, и еще 30 человек получили более легкие приговоры. По сути, суд оправдал более половины фигурантов процесса (99 человек). Однако Александр II, посчитавший такой итог невозможным, вмешался и настоял на том, чтобы 80 человек были высланы «административным порядком», для чего не требовалось решения суда.
Озвученное на «Процессе 193» официальное обвинение стало своего рода пророчеством: многие из тех, кто участвовал в «хождении в народ» в качестве членов разных народнических кружков, после разгрома движения вступили в единую всероссийскую организацию «Земля и Воля» (1876−1878). Одним из ее руководителей стал Марк Натансон (1850−1919) — бывший член кружка чайковцев и участник «хождения», который вернулся в Петербург из ссылки в 1876 г. Формулируя цели новой организации, Натансон заявил, что теперь революционеры должны идти не от программы к народу, а от народа к программе. Тем не менее, несмотря на наличие непосредственного опыта по втягиванию преимущественно неграмотных крестьян в современный политический (революционный) процесс, большинство революционеров продолжали воспринимать «народ» через «программу», т.е. как недифференцированную социологическую категорию, в обыденном смысле совпадающую с группой бедных крестьян. В этой связи характерно, что и сам Марк Натансон понимал «народ» в том же универсальном социологическом смысле. Говоря «народ», он подразумевал не еврейских бедняков (Натансон родился в еврейской семье в Литве) и не этнокультурное сообщество русских, но всех бедных крестьян империи, которым недоставало земли и воли. Такая универсалистская трактовка народа, игнорирующая местные, этнические и конфессиональные различия, делала народничество идеологией, привлекательной для интеллигенции разного этноконфессионального происхождения.
Особенно ярко стремление бороться за права российского крестьянства проявилось у еврейских народников, которые в 1870−80-е г. массово вступали в народническое движение. Согласно подсчетам историков, в эти десятилетия число евреев в народническом движении росло на 5% каждые четыре-пять лет. Если в 1871−1873 гг. среди всех арестованных по политическим обвинениям евреи составляли в среднем 4-5%, что соответствовало их доле в населении империи, то к концу 1880-х гг. доля евреев выросла до 35-40%. 1870-е были одним из наиболее толерантных периодов в российской еврейской политике, когда либеральные реформы открыли перед евреями новые возможности для интеграции. Некоторые категории еврейского населения, включая обладателей университетских дипломов, получили право жительства за пределами Черты еврейской оседлости. Евреев поощряли получать образование в российских средних и высших учебных заведениях. На практике, более глубокая интеграция в российскую культуру означала включение еврейской молодежи в открытое публичное пространство имперской российской интеллигенции, ориентированное в тот период на народнические ценности. Присоединяясь к самому динамичному и передовому сообществу российской образованной элиты, евреи оказывались вовлечены в «революцию». Безусловно, власти никак не ожидали такого результата «русификации» евреев. Их участие в революционном движении было интерпретировано как свидетельство ошибочности политики интеграции по отношению к «неблагодарным» меньшинствам.
С другой стороны, еврейское участие в революционном движении стимулировалось реальным опытом дискриминации и острым чувством несправедливости общественного устройства в империи. Это ощущение недовольства имперского меньшинства усилилось и получило новое осмысление благодаря знакомству с современными научными и политическими теориями в процессе образования и социализации в российских университетах. Традиционная иудейская концепция сакральной библейской нации избранного народа теперь совмещалась с современным социально-экономическим понятием «народа», которое не вполне соответствовало реальной социальной структуре русско-еврейского населения. Поскольку евреям в Российской империи запрещалось владеть землей, еврейских крестьян — т.е. «подлинного народа» в народнической картине мира — не существовало, как не существовало и особого еврейского интеллигентского дискурса. Реагируя на этот социальный и интеллектуальный вызов, молодые образованные евреи делали выбор в пользу российского народничества и русских, украинских или якутских (в ссылке) «крестьян», представлявших истинный «народ». Такой выбор означал безусловное и полное вхождение в революционную нацию российский панимперской интеллигенции — людей с новым, передовым сознанием. Лишь немногие еврейские народники первых поколений принимали крещение, что юридически означало отказ от еврейской идентичности в пользу русской (православной). Те же, кто крестился, как, например, участник «хождения в народ», а позднее — член «Земли и Воли» Осип Аптекман (1849−1926), делали это для того, чтобы окончательно уничтожить культурный барьер между собой и крестьянами, среди которых они вели революционную пропаганду. Однако большая часть обходилась без смены религии: они просто отказывались от всего еврейского в образе жизни, принимая буквально революционную идентичность «западнического», современного светского человека.
В 1870-е годы не только еврейская интеллигенция массово шла в российское народничество — молодые украинские интеллигенты не менее активно участвовали в этом движении. Они также социализировались в русскоязычной культуре, поскольку среднее и высшее образование на украинском языке в империи отсутствовало. Среди лидеров народнического движения этих лет, отстаивавших универсальную революционную программу и проявлявших равнодушие к местным интересам и этническим вопросам, широко известны такие этнические украинцы, как Владимир Дебогорий-Мокриевич, Николай Кибальчич, Яков Стефанович, Сергей Степняк-Кравчинский, Валериан Осинский, Андрей Желябов.
Безусловная солидаризация интегрированных российских евреев с народничеством дала трещину в 1880-е годы, после погромной волны 1881−1884 гг. в юго-западных регионах империи. Специфика имперской социально-экономической структуры на этих территориях заключалась в том, что экономическое «разделение труда» накладывалось на этноконфессиональные разделения. Это означало, что крестьяне были преимущественно «руськими» (украино- и беларусоговорящими), дворянство — полонизированным или русифицированным, а растущий класс промышленных рабочих расширялся за счет мигрантов из украинских и русских деревень. Евреи же занимали нишу «мелкой буржуазии», контролируя все монетизированные аспекты деревенской экономики в качестве управляющих поместьями, торговцев, ремесленников и ростовщиков. Поскольку в антиеврейском физическом и экономическом насилии (погромах) ведущую роль играли крестьяне и городская беднота, погромы легко концептуализировались в классовых категориях или как столкновение местных и пришлых. В этой ситуации часть народников — как революционеров, так и сочувствующих — оправдывала и даже поддерживала погромы как свидетельство просыпающегося в массах революционного инстинкта.
Вполне возможно, что предшествовавшее погромам начала 1880-х десятилетие революционной агитации действительно способствовало радикализации крестьян, которые переводили абстрактное учение о социальной революции в знакомые им категории местных конфессиональных и экономических конфликтов. Некоторые революционные народники, со своей стороны, пытались использовать погромную волну, чтобы поднимать крупные крестьянские восстания. Возникший конфликт между лояльностью идее универсальной политической нации и неожиданно обострившейся проблемой собственной еврейской этноконфессиональной принадлежности заставил многих евреев из народнического лагеря пересмотреть не только народничество как надэтническую революционную идентичность, но и собственное еврейство. Этот пересмотр, в свою очередь, стимулировал возникновение современной еврейской национальной и националистической политики в диапазоне от сионизма до еврейского социализма.
Интеллектуальная ориентация на самые современные социальные идеи, протест против всех форм дискриминации и эксплуатации и озабоченность судьбой евреев как национальной группы реализовались в проекте первой социал-демократической партии в Российской империи — Всеобщего еврейского рабочего бунда в Литве, Польше и России (бунд — «союз» на идиш). Эта еврейская социал-демократическая партия была основана в 1897 г. на нелегальном съезде в Вильне (нынешний Вильнюс, Литва). В 1906 г. Бунд насчитывал 34.000 членов и до 1917 г. оставался самой многочисленной социалистической партией в империи. Бунд действовал почти исключительно среди еврейского пролетариата, используя идиш как главный язык пропаганды. Программа Бунда подчеркивала двойное угнетение еврейских рабочих — как представителей рабочего класса и как национального меньшинства. Именно еврейский Бунд послужил образцом для общеимперской Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), основанной в 1898 г. на съезде в соседнем с Вильной городе Черты еврейской оседлости — Минске. Таким образом, многие еврейские революционеры в Российской империи предпочли бороться за общую политическую свободу посредством мобилизации одной конкретной этноконфессиональной нации.
Украинский ответ на дилемму универсальности политических целей и специфичности интересов разных культурных групп оказался сложнее. С одной стороны, у украинских интеллектуалов имелась более длительная история современного национализма, а с другой — украинские земли входили в Российскую империю еще с тех времен, когда не могло быть и речи о национальных идеологиях. Соответственно, к концу XIX в. разные категории украинцев и разные аспекты украинства были интегрированы во многие сферы имперской экономики, культуры и администрации, а также в революционное движение. Многие этнические украинцы участвовали в общеимперском революционном движении, однако меньшая, но довольно решительная часть национально мыслящей интеллигенции сделала выбор в пользу украинского национального курса.
В городах на землях нынешней Украины и в имперской столице Петербурге стали возникать громады («общества») — кружки, которые ставили целью распространение украинской культуры и работу среди украинского «народа». Эти кружки были частью общего народнического движения, разделяя его фиксацию на «народе» как на теле и душе нации. Однако активисты громад воображали украинскую нацию как горизонтально организованное крестьянское сообщество, лишенное своей элиты (отказывая в этом статусе украинской интеллигенции). Ни русские и польские помещики, ни преимущественно не-украинское население городов не соответствовали представлениям о национальном украинстве. Получалось, что борьба украинских крестьян за землю была одновременно национально-освободительной борьбой против польских и русских помещиков, полонизированной и русифицированной украинской интеллигенции и еврейских «буржуазных угнетателей». Это специфическое переплетение национализма и социальной революции пользовалось популярностью среди украинских народников 1870-х годов.
Одним из наиболее значительных представителей этого политического направления был активист киевской Громады Михайло Драгоманов (1841−1895). Ему принадлежит известная фраза о том, что «в украинских обстоятельствах плох тот украинец, который не стал радикалом, и плох тот радикал, который не стал украинцем» («по обставинам України, тут плохий той українець, що не став радикалом, і плохий той радикал, що не став українцем.»). Драгоманов известен, прежде всего, как идеолог украинского федерализма, который считал, что Российскую империю нужно перестроить на федеративных началах и предоставить Украине в составе империи широкую политическую и культурную автономию. Он отвергал вненациональную (по его мнению — скрыто проимперскую) позицию как российских народников вообще, так и украинских в частности, идеализацию ими крестьянской общины и приятие политического терроризма. Этому типу народнической политики киевская Громада противопоставляла изучение и распространение этнографии и фольклора украинского крестьянства и производство книг для народа на украинском языке. Подобной деятельностью киевские активисты занимались под эгидой официально основанного ими в 1873 г. Юго-Западного отделения Российского императорского географического общества. Однако вскоре возможные политические последствия культурных инициатив киевской Громады вызвали серьезные опасения в Петербурге: с точки зрения имперской власти, опасность украинофилов для империи была сопоставима с опасностью российского революционного народничества. В 1875−1876 гг. правительство провело целый ряд антиукраинских мер, в результате чего ведущие активисты киевской Громады, включая Драгоманова, Федора Волка (Вовка), Николая Зибера и Сергея Подолинського, вынуждены были отправиться в эмиграцию.
9.11. Преодоление пассивности нации: исполнители народной воли
«Хождение в народ» выявило отсутствие у «народа» неких общих требований и даже единого представления о своих интересах. Созданная в 1876 г. на гребне ниспадающей волны «хождения в народ» новая народническая организация «Земля и Воля» уже своим названием формулировала за народ программу его «истинных чаяний». Хотя программа организации сохранила общую ориентацию на длительную работу среди крестьян, она предусматривала и действия, направленные на «дезорганизацию государства», в частности, систематическое уничтожение «наиболее вредных или выдающихся лиц из правительства». На фоне инертности «народа» часть революционеров заговорила о необходимости «пропаганды делами» посредством бунтов, демонстраций, стачек и политического террора. Им казалось, что такой буквальный язык революционной агитации будет понятен даже самым необразованным представителям «народа», независимо от языка и вероисповедания.
К весне 1879 г. разногласия между «пропагандистами» и «террористами» внутри организации достигли пика, и она раскололась на террористическую «Народную Волю» (1879 — середина 1880-х) и пропагандистский «Черный передел» (1879−1882). Пропагандисты, продолжавшие образовательную и агитационную работу в деревне, так и не смогли найти выход из тупика народной пассивности, в который уперлось «хождение в народ». Требовалась некая новая стратегия революционаризма. Лидеры «Черного передела» эмигрировали из России в Швейцарию и там создали первый кружок российских марксистов.
Если название организации «Черный передел» еще подсказывало крестьянскому народу, в чем его истинные цели (в полном переделе всей пахотной земли по справедливости), то название организации «Народная Воля» окончательно отказывало нации в субъектности. Революция совершается, конечно же, ради народа, но в чем заключается его «воля», знают только сознательные и жертвенные революционеры, действующие от его имени. Название новой группировке дала не воображаемая цель народа, а отобранная у него воля к действию, которую народ сам так и не проявил, к разочарованию пропагандистов «Черного передела».
Члены «Народной воли» и те, кто им сочувствовал, внесли самую значительную лепту в складывание специфической российской культуры современного политического террора. Народовольцы создали продуманную подпольную организационную структуру, и самое серьезное внимание уделили контролю над интерпретацией своих действий в общественном мнении. Они использовали религиозную риторику самопожертвования за веру для оправдания терроризма, адаптируя таким образом свои поступки к христианскому моральному канону (вместо того, чтобы публично пропагандировать альтернативную революционную мораль). Резонанс от практической террористической деятельности «Народной Воли» неотделим от ее функционирования как медиа-феномена. Публикация одноименной газеты и воззваний, а также художественных произведений разных жанров (рассказов, поэзии, беллетризованных воспоминаний и писем) создавала убедительный нарратив самооправдания революционного насилия. В результате, террористы получали моральную поддержку даже в среде умеренно-либеральной и умеренно-демократической образованной публики. Значение этой поддержки трудно переоценить, учитывая, что до конца XIX века «крестьянский народ» воспринимал народнический террор без энтузиазма.
Первое террористическое покушение, ставшее полноценным медиа-событием, состоялось в 1878 г., еще до формального раскола «Земли и Воли». Его совершила участница группы Вера Засулич (1849−1919), а жертвой был избран петербургский градоначальник Федор Трепов (1812−1889). 24 января 1878 г. Засулич стреляла в него и ранила прямо в его рабочем кабинете. Как она объясняла в суде, покушение было местью за приказ подвергнуть унизительной процедуре сечения розгами содержавшегося в доме предварительного заключения студента-революционера Боголюбова, арестованного за участие в демонстрации молодежи на площади у Казанского собора в Петербурге. Символический эффект покушения Веры Засулич по своему масштабу намного превзошел непосредственный результат теракта (тем более что Трепов выжил). Благодаря нему и последующему судебному процессу в среде интеллигенции возник настоящий культ террористов.
Суд над Верой Засулич стал образцовым медиа-событием по стандартам своего времени: никогда еще суды не привлекали столь многочисленную и разнообразную публику. Уже на стадии подготовки процесс сопровождали самые невероятные слухи, а ход разбирательства подробно освещался в российской прессе. Адвокат Засулич, Петр Александров (1836−1893), произнес блестящую речь, которая заняла почетное место в анналах русской революционной литературы. Она заканчивалась прямым обращением к присяжным: «Без упрека, без горькой жалобы, без обиды примет она от вас решение ваше и утешится тем, что, может быть, ее страдания, ее жертва предотвратила возможность повторения случая, вызвавшего ее поступок». Вопреки ожиданиям властей, присяжные оправдали террористку и целиком приняли версию защиты, представившей нападение как акт гражданского самопожертвования. Раненный в грудь Трепов подал в отставку, а Засулич, справедливо опасаясь повторного ареста, бежала из России в Швейцарию сразу после суда.
Важнейший вклад в дальнейшее развитие мифа о жертвенном революционном терроре принадлежит соратнику Засулич, Сергею Степняку-Кравчинскому (1851−1895). Он создал важнейший текст российского революционного радикализма: сборник литературных портретов террористов конца XIX века «Подпольная Россия» (1882), давший имя целой революционной контркультуре. Кравчинский объяснил непосвященным, что Засулич «вовсе не была террористкой. Она была ангелом мести, жертвой, которая добровольно отдавала себя на заклание, чтобы смыть с партии позорное пятно смертельной обиды». В «Подпольной России» Степняк-Кравчинский создал канон изображения радикальных революционеров в поэтике христианской мифологии и романтического героизма. Все персонажи Кравчинского носили «терновый венец». Да и сама Вера Засулич признавала в мемуарах: «Не сочувствие к страданиям народа толкало меня в ‘стан погибающих’. Никаких ужасов крепостного права я не видела…» В юности она читала литературу «о подвигах», относя к ней и Евангелие. Она часто цитировала строки своего любимого поэта, издателя журнала «Современник» Николая Некрасова: «Есть времена, есть целые века, когда ничто не может быть прекраснее, желаннее тернового венка».
Еще одна революционная героиня и член «Народной воли», Вера Фигнер (1853−1942), объясняла свой приход в радикальную политику воздействием учения Христа, из которого она вынесла, что «самопожертвование есть высшее, к чему способен человек». Решение присяжных по делу Засулич и энтузиазм образованного российского общества по этому поводу продемонстрировали широкую готовность принять и оправдать террористическую политику как самопожертвование во имя высших идеалов, как священную и бескорыстную месть от имени молчаливой и пассивной нации.
В «Народной Воле» уловили это изменение общественных настроений. Если первоначально цель организации включала как дестабилизацию и свержение существующего политического режима, так и идеологическую подготовку народа к революции, то в дальнейшем группа сосредоточилась только на первой части программы. Моральная поддержка общественности казалась достаточным основанием для того, чтобы воспринимать себя не кучкой заговорщиков, а борцами за народное дело. Этот поворот означал, что само образованное общество, сочувствующее революционерам, — «общественность» — фактически начало восприниматься как отдельная политическая нация граждан будущей свободной России. Разумеется, ни народовольцы, ни сочувствующие им интеллигенты не согласились бы с предположением, что они образовали нацию, противостоящую как имперской привилегированной «европейской» элите, так и массам трудящихся. Они искренне верили, что цель их борьбы — «простой народ». Однако на практике они действовали от имени прогрессивной интеллигентской общественности, а не абстрактного «народа», с которым так и не удалось установить контакт на равных. Народовольцев нельзя назвать самозванцами лишь при условии, что они имели в виду «народную волю» сочувствующих революционным планам радикально настроенных интеллигентов.
Конспиративная централизованная структура «Народной воли» включала до пятидесяти региональных отделений, которые координировались Исполнительным Комитетом. Откуда пришла эта структура и это название? Практически с самого начала, уже в первой «Земле и воле» 1861 г., руководящий центр организации назывался «центральным комитетом». «Комитеты» существовали в имперской административной практике, но «исполнительный комитет» со времен отмены коллегий был ей принципиально чужд. После провозглашения республики во Франции, в ходе революции 1848 г., первое правительство из пяти членов называлось Исполнительной комиссией (в мае-июне), но оно было отправлено в отставку на фоне восстания рабочих, подстрекаемых радикалами, — не лучший пример для подражания в глазах революционеров. Кроме того, «комиссия» — не «комитет». Более прямой может быть связь с Исполнительным комитетом чартистского движения в Англии (The Executive Committee to the Chartists of the United Kingdom): с 1839 по 1848 гг. этот орган внес в парламент несколько петиций, подписанных миллионами людей, требовавших расширения избирательных прав и социальной справедливости. После 1848 г. чартизм сошел на нет, а Николай I ужесточил цензуру, и это означает, что идея исполнительного комитета запала в память российских интеллектуалов еще в начале 1840-х гг. Вероятно, раннее народничество вообще ориентировалось на чартистский пример в гораздо большей степени, чем принято думать. Чартистские лидеры собирали на митинги десятки тысяч сторонников; вполне возможно, что ненасильственное массовое движение такого масштаба в России могло бы повлиять на правительство. Однако, как мы знаем, пропагандисты не встретили широкого отклика на свою агитацию в деревне, и «исполнительный комитет» в российской революционной традиции приобрел знакомый всем смысл ядра тайной организации немногочисленных заговорщиков.
В Исполнительный комитет «Народной воли» входили профессиональные революционеры, вовлеченные в ежедневную террористическую рутину. По свидетельству Веры Фигнер,
Так как мы… имели сообщников не только по губернским городам, но и провинциальным закоулкам (и все эти сообщники имели друзей и близких), и были окружены целым слоем так называемых сочувствующих, за которыми обычно следуют еще люди, любящие просто полиберальничать, то и выходило, в конце концов, что мы встречали повсюду одобрение и нигде не находили нравственного отпора и противодействия.
Стараясь сохранять и расширять эту моральную поддержку, члены Исполнительного комитета тщательно подбирали потенциальных террористов. Так, в 1879 г. они рассматривали кандидатуры двух добровольцев, предложивших себя для покушения на Александра II: Григория Гольдберга и Людвига Кобылянского. Оба были отвергнуты на схожих основаниях: Гольдберг — как еврей, а Кобылянский — как поляк. Исполнительный комитет считал, что террористический акт такого символического значения должен был исполнить человек, которого нельзя заподозрить в каких-либо частных или «национальных» мотивах. В результате исполнителем теракта был избран русский Александр Соловьев (1846−1879): из бедных дворян, бывший учитель, участник хождения в народ. 2 апреля 1879 г. он несколько раз стрелял из револьвера в императора, промахнулся, был арестован и приговорен к смертной казни.
Осенью 1879 г. Исполнительный комитет начал настоящую охоту на Александра II. Народовольцы изучали маршруты передвижений императора, разрабатывали планы покушений, организовали несколько динамитных мастерских по производству бомб. Химик «Народной воли» Николай Кибальчич занимался исследованиями взрывчатки, стремясь усовершенствовать технологию. 18 ноября 1879 г. с помощью динамита народовольцы взорвали железнодорожное полотно, по которому двигался императорский поезд. В результате крушения было много жертв, но Александр II не пострадал. Переход от огнестрельного оружия к взрывчатке требовал более сложной организации покушения, однако использование оружия «массового поражения» давало большую вероятность успеха, учитывая невысокий уровень подготовки убийц и ненадежность оружия. В то же время, использование бомб и мин неминуемо вело к случайным жертвам — факт, который всегда игнорировался в пропаганде народовольцев. Более того, жертвенная мифология терроризма, выстроенная вокруг образа героя-революционера, затушевывала вопрос об убийстве, которое совершал террорист, жертвуя собственной жизнью, и о случайных жертвах покушений.
Одно из самых кровавых террористических покушений «Народной Воли» произошло прямо в императорской резиденции в Зимнем дворце 5 февраля 1880 г. Степан Халтурин (1856−1882), устроившийся во дворец плотником, пронес туда около 30 кг динамита. План состоял в том, чтобы устроить взрыв под столовой, где обедал император. Александр II опоздал в тот день к обеду, что спасло ему жизнь, однако одиннадцать военнослужащих Лейб-гвардии Финляндского полка, стоявших в карауле, погибли, и 56 человек были ранены. Все погибшие были героями недавно закончившейся Балканской войны.
Через год «Народная Воля» подошла к высшей точке своей истории: 1 марта 1881 г. Исполнительный комитет, наконец, реализовал план цареубийства. Террористы бросили две бомбы в карету Александра II в центре Петербурга. После первого взрыва император вышел из кареты и направился к раненым, и тогда второй бомбист убил его. Кроме Александра II, ранеными и убитыми оказались еще двадцать случайных свидетелей покушения.
1 марта 1881 г. стало одновременно и самым черным днем в истории организации. Один из арестованных на месте покушения террористов, Николай Рысаков, выдал товарищей по подполью. 26 марта 1881 г. Андрей Желябов, Софья Перовская, Николай Кибальчич, Тимофей Михайлов и сам Николай Рысаков предстали перед судом и были приговорены к смертной казни, 3 апреля того же года их повесили. За казнью «первомартовцев» последовали новые аресты.
Гибель Александра II не вызвала народного восстания. Напротив, вопреки стараниям Исполнительного комитета подбирать исключительно «русских» террористов, распространились слухи о том, что «царя-освободителя» убили евреи. Эти слухи спровоцировали волну еврейских погромов. «Народная воля» все еще существовала, но потеряла былую организационную силу. В 1886 г. в Петербурге появилась «Террористическая фракция партии ‘Народная воля’», которую сформировали независимо от других членов организации студенты Петербургского университета (среди прочих — Александр Ульянов, старший брат будущего руководителя социал-демократической партии большевиков Владимира Ульянова-Ленина). 1 марта 1887 г. они предприняли неудачное покушение на императора Александра III, были арестованы и казнены.
9.12. Революционеры на службе исторического прогресса и империи
Таким образом, к середине 1880-х г. революционное движение в Российской империи испытало две основные стратегии: стимулирование народной революции снизу и переворот сверху, который должен был обезглавить верховную власть посредством террора и привести к изменению политического режима. Ни одна из этих стратегий не достигла цели, в то время как радикально новых идей, способных изменить направление революционного движения, не появлялось. Почти на десять лет, приблизительно совпавших с правлением Александра III (1881−1894), российские революционеры сбавили интенсивность борьбы по сравнению с предшествующей эпохой «штурма и натиска». Казалось, что нация «простого народа» демонстрировала пассивность и не желала потребовать узурпированные тираном права, а место одного тирана, убитого жертвенным патриотом — праведным народным мстителем, занял еще худший тиран. Эта неудача, правда, не подорвала базисную установку революционеров на неизбежность лучшего будущего.
Декабристы выражали свою веру в то, что история (или, скорее, Божественное Провидение как истинный двигатель истории) на их стороне. Славянофилы и западники — последовательные гегельянцы — рассуждали в более абстрактных категориях Абсолютного Духа, восходящего к новым высотам самопознания и самореализации, наполняя исторический процесс трансцендентным значением и придавая ему четкий вектор. Народники 1870-х годов отбросили эту метафизику в пользу законов социальной эволюции. В логике прогресса они не сомневались, отдавая при этом должное и роли критически мыслящей личности в истории.
Начиная с 1860-х годов российская интеллигенция рассматривала новейшие достижения науки как доказательство всеобщего и однонаправленного характера исторического процесса. Дарвинизм, антропологические исследования сохранившихся примитивных обществ и филологические интерпретации классических исторических текстов указывали на существование единого вектора развития и общих этапов, через которые проходило рано или поздно любое общество. Так, аргументом в пользу неизбежности социализма в будущем, несмотря на пассивность народа и устойчивость имперского режима в настоящем, служили данные науки о том, что в давнем прошлом уже существовал первобытный «коммунизм». Более того, пережитки доисторического коммунизма все еще можно было наблюдать непосредственно у «примитивных» обществ. В частности, это было возможно на дальних границах обширной Российской империи, где разные группы местного населения продолжали жить практически вне воздействия современной цивилизации. Сотни российских революционеров совершали подобные «эволюционные» экскурсии помимо своей воли, в качестве политических ссыльных, которых власть отправляла в Восточную Сибирь и на Дальний Восток.
Начиная с 1860-х гг. все категории недовольных и протестующих ссылались в Сибирь: народники и польские патриоты, украинские протонационалисты и еврейские активисты, революционеры и разбойники с Кавказа. Главными местами назначения ссыльных были Забайкальский регион, Якутия, Енисейская, Иркутская и Томская губернии, а после 1886 г. — еще и остров Сахалин. Точных данных о том, сколько человек прошло через сибирскую ссылку за период с Петра I до 1917 года, нет. Приблизительные подсчеты дают цифру порядка 50.000.
Положение ссыльного могло быть лучше или хуже в зависимости от места ссылки, тяжести совершенного преступления, общего политического климата в стране, местных обстоятельств и личного достатка, но в любом случае ссылка была сложным опытом, как физическим, так и эмоциональным. Многие революционеры готовили себя к разного рода тяготам и лишениям, но не могли представить, что психологически одним из самых сложных аспектов ссылки окажется необходимость существования в закрытой колонии таких же политических ссыльных. Это напоминало атмосферу подпольной революционной группы, из которой, однако, нельзя было вернуться в обычную жизнь, и деятельность которой не приводила ни к каким результатам. Изо дня в день, на протяжении месяцев и лет, ссыльные жили в атмосфере, отравленной мелкими идеологическими разногласиями, приобретавшими в искусственной изоляции от реальной жизни и борьбы ненормальные пропорции. Бедность, безработица и бесплодные идеологические конфликты способствовали депрессии. Самоубийства и психические проблемы были нередки в колониях ссыльных.
Самые активные и способные ссыльные использовали любую возможность избежать бесплодного существования. Некоторые пытались бежать в европейскую Россию или за рубеж, что, учитывая огромные расстояния и отсутствие требующихся документов, было непросто и опасно. Но имелись и другие возможности. Парадоксально, но сосланные враги имперского режима на местах ссылки часто оказывались в привилегированной позиции потенциальных агентов империи. В этих отдаленных местностях образованные, обладающие профессиями люди были редкостью. Несмотря на подрывные политические взгляды ссыльных, имперские власти часто просто не могли игнорировать столь ценный человеческий ресурс. Местные власти привлекали их как советников, профессионалов (врачей, учителей, бухгалтеров) и исследователей. Оказываясь в структурно колониальной ситуации, многие ссыльные находили возможным сотрудничать с режимом, который нес цивилизацию «примитивному» населению Сибири и Дальнего Востока.
Современная модель управления, в том числе и колониального, основывается не только и не столько на прямом принуждении, сколько на знании и на праве его интерпретировать и им манипулировать. В этом смысле показательно, что некоторые отрасли знания о Сибири непосредственно связаны с историей ссылки. Так, ссыльные польские националисты и российские народники заложили основу таких исследовательских дисциплин, как этнография и антропология коренного населения Сибири. Имперское правительство нуждалось в надежной статистике этих народов и в стабильных каналах взаимодействия с ними, в то время как народники перенесли свою заботу о «народе» (понимаемом в социоэкономических категориях) на коренное население (как на этнографическую и антропологическую категорию). Ссыльные народники рассматривали коренных сибирских охотников и рыболовов по аналогии со славянскими крестьянами-общинниками, как «элементарные» человеческие коллективы, которые живут в гармонии с природой и могут стать легкой жертвой цивилизационного давления эксплуататорских классов и государственных институтов.
Яркий пример ссыльного, занявшегося наукой, — известный польский этнограф Бронислав Пилсудский (1866−1918). Будучи студентом юридического факультета Петербургского университета, он вместе с Александром Ульяновым готовил покушение на Александра III, за что был сослан на Сахалин. Там Пилсудский заинтересовался этнической группой айнов, стал изучать их язык, предложил его письменную форму, женился на местной женщине и преподавал в деревне своей жены русский язык. Все еще отбывая срок ссылки, Пилсудский получил грант от Императорской Российской академии наук на продолжение своих новаторских исследований культуры айнов — мифов, музыки, образа жизни, обычаев и языка.
В то же самое время будущий ведущий российский и раннесоветский этнограф Лев Штернберг (1861−1927), сосланный на Сахалин за участие в подпольных группах, связанных с «Народной волей», начал изучать антропологию нивхов (гиляков). Еще один член «Народной воли», Владимир Богораз-Тан (1865−1936), в ссылке занялся изучением чукчей. Видный народоволец, возглавлявший динамитную мастерскую подпольщиков, Владимир Иохельсон (1855−1937), в ссылке создал себе имя в науке благодаря изучению юкагиров. Этот перечень можно продолжить, называя имена ссыльных, не имевших специальной подготовки в области этнографии, но ставших экспертами по разным народам и культурам Сибири и Дальнего Востока. В качестве одного лишь примера можно упомянуть, что в 1894−1897 гг. Императорское Русское географическое общество организовало большую этнографическую экспедицию в Якутию, в составе которой работали политические ссыльные: Богораз-Тан, Иохельсон, польский активист и член «Земли и Воли» Эдвард Пекарский (1858−1934), народоволец Иван Майнов (1861−1936), член одесского революционного кружка Николай Виташевский (1857−1918) и др.
Лишенные возможности продолжать политическую деятельность в европейской части империи, эти люди реализовывали свою революционную миссию посредством «хождения в народ», о котором до ссылки ничего не знали. Будучи истинными народниками, преисполненными симпатии к угнетенным и лишенным права голоса (в политическом или культурном смысле) социальным группам, они описывали и изучали коренные народы, чтобы сделать их известными «цивилизованному миру». Таким образом эти народы входили в «историю» и обретали «свой» голос — хотя очень часто это был голос ссыльного этнографа, считавшего себя непредвзятым рупором «примитивных» племен (как ранее народники выступали от лица крестьян внутренней России). В отдельных случаях ссыльные этнографы создавали алфавиты для местных бесписьменных языков, и это был важный акт символического освобождения коренных культур, поднятия их статуса до статуса любой другой «цивилизованной» культуры с письменным языком.
В то же время, этнографы-народники могли проявлять откровенно колониальное отношение к аборигенам. Так, когда срок ссылки заканчивался, политические ссыльные часто бросали своих туземных жен и детей, а потом заводили новые семьи в европейской России. Более того, как показал опыт ссыльных революционеров-экспертов, их интересы и убеждения не обязательно противоречили интересам и политике имперского государства на дальних окраинах. Вне специфического политического контекста радикального революционаризма и полицейских репрессий обе стороны могли сотрудничать в рамках проектов модернизации и благосклонного колониализма. Расходясь в программе построения современного общества в центре империи, они могли полностью соглашаться в вопросе о том, как постепенно осовременивать «отсталые окраины». Идея исторического прогресса позволяла революционерам продолжать народническую деятельность в ссылке, не идя при этом на болезненные компромиссы и не подвергая свои этнографические и статистические исследования самоцензуре.
9.13. Появление современного революционаризма
Вера в универсальность стадий прогресса и в объективность законов истории знаменовала новую эпоху в российском революционном движении. К 1890-м гг. старые «субъективные», романтические и психологические народнические теории вытеснило «объективное», научное марксистское мировоззрение. Классическая концепция народа как источника суверенитета в марксизме была пересмотрена на новых теоретических основаниях. Марксистская политическая философия рассматривала революцию и справедливый социальный порядок, к которому она должна была привести, не как реализацию народной воли, но как неизбежный результат объективных и обезличенных законов истории. В этом смысле марксизм был по-настоящему универсальной теорией, ведь одни и те же законы истории действовали для всех наций и всех обществ. Марксизм подчеркивал роль рабочего класса (пролетариата) в революционной борьбе, но этот аналитически выделяемый класс был только агентом истории. Через него выражали себя объективные законы социально-экономического развития. Пролетариат характеризовался «объективно» формирующимся у него революционным классовым сознанием, которое диктовало его политические и экономические интересы и классовые альянсы (например, с буржуазией — на этапе буржуазной революции, или с трудовым крестьянством — в борьбе за социализм). В этом смысле революционное сознание отличалось от абстрактной предрасположенности к коллективизму, справедливости и равенству, которую народническая традиция приписывала воображаемому «народу».
Сильными сторонами марксизма были как раз претензия на то, что он озвучивает научно доказанные законы истории (прогресса), и более аналитическое определение «народа» — пролетариата — как нации будущего. В то же время, его слабостью была трудность точного определения положения каждого общества на шкале глобального исторического прогресса, открытого интерпретациям и дискуссиям. Так, одни считали, что Россия входит в клуб современных капиталистических обществ, другие же говорили об ее отставании от развитых капиталистических стран. Вторая точка зрения открывала возможность для революционных сценариев, не предусмотренных марксисткой доктриной. Марксизм описывал общество капиталистической стадии развития, для которой характерно появление рабочего класса с развитым революционным самосознанием. Кроме того, тактически марксизм предлагал революционерам все ту же пропаганду и не содержал внятных рекомендаций на случай политического кризиса. Поэтому признание России не вполне капиталистической — в первую очередь, с точки зрения развития сельской экономики — открывало перспективы для появления целого спектра так называемых неонароднических идеологий в диапазоне от умеренного эволюционизма до радикального революционаризма.
Самая большая неонародническая партия — Партия социалистов-революционеров (ПСР, или партия эсеров) — была создана в 1902 г. в результате слияния нескольких неонароднических групп: Северного общества социалистов-революционеров (создано в 1896 г.), Рабочей партии политического освобождения России (действовала с 1899 г.) и нескольких более мелких организаций. Программа ПСР сочетала традиционную народническую ориентацию на крестьянство с марксистской социальной теорией, а на уровне тактики признавала важность широкой политической пропаганды, отводя при этом особую роль политическому террору. Активно работая среди крестьян, ПСР была также популярна среди рабочих. Она ставила задачу установления в России демократического социализма. Новая партия включала в себя полуавтономное и глубоко законспирированное террористическое подразделение — Боевую организацию (БО ПСР). За годы ее высшей активности (1902−1908) через БО прошло около 80 террористов.
Неонародники признавали неизбежность капиталистического развития России и разделяли социологическую модель классового общества, где класс определяется отношением к средствам производства и прибавочному продукту. Крестьяне в этой модели воплощали не столько «истинный народ», сколько наиболее многочисленный в России эксплуатируемый класс. Ведущий идеолог эсеров Виктор Чернов (1873–1952) пояснял, что пролетариат был только «авангардом» трудового крестьянства, составлявшего большинство революционной армии. Защищая интересы крестьян, программа ПСР ставила задачу социализации земли, т.е. распределения ее между крестьянскими домовладениями. Эсеры, таким образом, расходились с социал-демократами, которые выступали за национализацию земли государством. За шумными нескончаемыми терминологическими и теоретическими спорами между партиями стояло сущностное согласие: землю у частных владельцев нужно конфисковать и поделить ее между крестьянами.
Первая собственно марксистская группа в российском революционном движении — «Освобождение труда» — возникла в 1883 г. в процессе критического пересмотра ее членами идейного багажа народничества. Основатели группы принадлежали к «политической» (не террористической) фракции «Земли и Воли», которая позднее выделилась под названием «Черный передел»: Георгий Плеханов (1856−1918), Павел Аксельрод (1849/50−1928), Лев Дейч (1855−1941) и Василий Игнатов (1854−1884). Единственной террористкой среди них была Вера Засулич. К марксизму все они обратились в эмиграции, в Женеве, где окунулись в современный европейский интеллектуальный и политический контекст. Члены группы выступали с публикациями, в которых критически разбирались философия и тактика народничества и утверждалась точка зрения, согласно которой социалистическая революция возможна только при капитализме и наличии революционной рабочей партии. Помимо этого, они организовали перевод на русский язык трудов Карла Маркса. Плеханов сам перевел «Манифест Коммунистической партии» (Das Manifest der Kommunistischen Partei) Маркса и Фридриха Энгельса, снабдив, таким образом, ранние социал-демократические кружки первым программным документом. В собственных работах («Социализм и политическая борьба» [1883], «Наши разногласия» [1884], «О развитии монистического взгляда на историю» [1895]) он интерпретировал идеи Маркса и Энгельса применительно к российским условиям.
Хотя группа «Освобождение труда» была лишь кружком эмигрантов, она оказала мощное интеллектуальное влияние на российское революционное движение, способствовав серьезным переменам в политическом воображении революционеров. Марксисты нового поколения стремились абстрагироваться от любого партикуляризма — национального, славянофильского, регионального, этноконфессионального. Марксизм, как универсальная революционная идеология, «научно» гарантировал изменение всего мира. Однако на практическом уровне этот новый универсализм должен был отвечать на старые вызовы имперского разнообразия. Российский «пролетариат» на деле оказался внутренне не менее разнообразен, чем «народ»-крестьянство. Рабочие на шахтах Донбасса (в нынешней Украине), на нефтяных разработках в Баку (нынешний Азербайджан), на химических заводах Казани (нынешняя Республика Татарстан в Российской Федерации), в еврейских мастерских и на принадлежащих евреям производствах в Черте оседлости, на фабриках Москвы и Петербурга по многим параметрам отличались. Региональные лояльности, жизнь в крупных или мелких городах или даже поколенческие отличия часто играли не меньшую роль, чем этническое происхождение и конфессиональная принадлежность.
Бунд настаивал на специфичности ситуации и потребностей еврейских рабочих, которые часто оказывались объектами антисемитских атак собратьев по «классу». Но похожие претензии на исключительность выдвигали и представители других социал-демократических групп, которые подчеркивали приоритетность этноконфессиональной солидарности над общими целями рабочего движения: Социал-демократическая партия «Гнчакян» — армянская социалистическая национальная партия, возникшая в 1887 г. в Женеве; Социал-демократия Королевства Польского (создана в 1893 г. из объединения Союза польских рабочих и партии «Пролетариат»); Социал-демократическая партия Литвы (1896); Мусульманская социал-демократическая партия «Гуммет» («Химмат»), основанная в Баку комитетом РСДРП для политической работы среди азербайджанских рабочих (1904); Украинская социал-демократическая рабочая партия «Спилка» (1904) и др. Несмотря на марксистскую догму о «природном» интернационализме пролетарского классового сознания, социал-демократические группы и партии должны были прикладывать значительные усилия для воспитания рабочих в духе общих революционных ценностей. На ранних этапах модель общения революционных активистов и рабочих напоминала «хождение в народ», где первичной была инициатива интеллигенции, а отношения с «народом» строились на патерналистской основе. Однако со временем появился тип так называемых «сознательных рабочих» — полноценных партнеров интеллигенции, по крайней мере, в сфере революционной деятельности. В начале ХХ в. стали говорить о самостоятельном феномене «рабочей интеллигенции».
Характерно, что общеимперская социал-демократическая партия возникла позднее местных и региональных групп и на их основе. 1 марта 1898 г. четыре делегата от Петербургской лиги борьбы за освобождение рабочего класса (куда входил Владимир Ульянов, младший брат казненного народника-террориста Александра Ульянова), три делегата от Бунда и два от киевских социал-демократов впервые собрались в Минске (нынешняя Беларусь), чтобы обсудить создание единой всероссийской социал-демократической партии. Хотя решение было принято, практических результатов эта встреча не дала из-за ареста делегатов. Поэтому единая Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия (РСДРП) фактически была создана только через пять лет, на съезде в 1903 г. Съезд проходил в Брюсселе и Лондоне, горячие дискуссии по разным вопросам программы и тактики длились 37 заседаний. Голосование показало, что партия с самого начала включала две конкурирующие фракции: большинство — «большевиков» и меньшинство — «меньшевиков». Основной раскол проходил по линии определения целей и задач, а также стиля политической культуры (большевики проявляли больший политический экстремизм в программе и авторитарный централизм в организации партии).
Сложности внутри единой общеимперской социал-демократической партии были связаны с самой идеей универсальной идеологической платформы, которая в равной мере устраивала бы все региональные и национальные группы и удовлетворяла различным местным обстоятельствам. По сути, речь шла о попытке вместить многообразие имперской ситуации в рамки единой политической организации — то есть о полной альтернативе имперскому проекту в сопоставимых масштабах. Между тем, стремление имперского режима установить контроль над разными землями и культурами кажется более логичным и понятным, чем желание революционеров распространить влияние централизованной политической структуры на всю территорию Российской империи. В отличие от «Народной воли», убийство императора или восстание в столице не числились среди главных целей социал-демократии. Исходя из представления об интернационализме (или, скорее, а-национализме) пролетариата, революционеры-марксисты не должны были ограничивать свою деятельность кругом рабочих определенной национальности или местности. В этой логике даже политические границы империи не могли рассматриваться в качестве естественных рамок борьбы социал-демократов. Поэтому нет ничего логичного в том, что непримиримые противники имперского режима фактически легитимировали империю, признав ее политическое пространство естественным полем своей деятельности.
Единственным объяснением их стремления интегрировать региональные и национальные группы в общую организацию может быть пример иностранных социал-демократических и рабочих партий, которые действовали в границах уже сложившейся современной политической системы национального государства. Принимая участие в легальной парламентской политике, эти партии (например, Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) строились как общенациональные политические машины. Однако в России не существовало легальной сферы современной парламентской политики, а потому не было и никаких «естественных» рамок партийной деятельности. Революционным партиям еще предстояло создать политическую систему, основанную на изъявлении воли нации, и поэтому важно, что социал-демократы с самого начала предопределяли рамки будущей свободной политической нации существующими границами Российской империи. Несмотря на то, что они являлись идейными противниками имперского режима и всяческих форм угнетения, границы империи, вероятно, воспринимались ими как «естественные». Логика их подспудного «империализма» вытекала из самого процесса самоорганизации, «освоения» политического пространства, еще не освоенного сильным конкурентом. Когда-то так определялись границы исторического региона Северной Евразии, который начинался там, где заканчивались пределы «исторических» культурно-политических образований юга. Таким же образом на заре современной массовой политики в этом же регионе проводилось размежевание проектов современных политических наций. Создатели РСДРП «по умолчанию» видели своим полем деятельности всю Российскую империю, но на практике им приходилось учитывать существование мощных местных социалистических проектов на польских и литовских землях, в Закавказье и в украинских губерниях. Внутреннее противоречие между стихийным «революционным империализмом», сознательной освободительной программой и тактическими соображениями РСДРП в дальнейшем существенно скорректирует границы новой российской революционной нации.
Другим важным следствием ориентации РСДРП и других социалистических группировок на образцы легальных социал-демократических партий (прежде всего, СДПГ) была завышенная оценка собственной роли в обществе. Легализованная в 1890 г. как парламентская партия, СДПГ на выборах в Рейхстаг опередила все остальные партии; за десятилетие, предшествующее первой мировой войне, численность членов СДПГ утроилась, превысив миллион человек. Это была подлинно народная политическая партия. Очевидно, российские социалисты примеряли на себя роль СДПГ, с поправкой на вынужденно подпольное существование. Успех, достигнутый СДПГ в конкурентной борьбе вопреки дискриминационному законодательству, они принимали за «естественный» статус рабочей партии. Не испытав себя в открытом политическом процессе в российских условиях, РСДРП и другие радикальные партии претендовали на монополию на «современность», на выражение «передовых идей» от лица всей будущей революционной нации.
В Российской империи не было парламента, а самопровозглашенные левые партии, включая такие многочисленные, как Бунд, Польская социалистическая партия (ПСР) или РСДРП, не были массовыми партиями в буквальном смысле слова. Скорее, их можно описать как гибкие сети подпольных кружков. За исключением кратких периодов революционных подъемов, их поддерживала наиболее радикальная часть общественности, представлявшей лишь часть (пусть и значительную) образованного общества, которое само составляло меньшинство населения Российской империи. Будучи относительно небольшой частью потенциальной гражданской нации империи, российские социалистические протопартии заранее заявляли о выражении интересов «всех трудящихся». Несоответствие притязаний и реальной, весьма скромной, социальной базы рождало подозрительное отношение к парламентской политике: стоит ли рисковать потерять монополию на выражение «народной воли»? Что, если в силу несознательности народа или несовершенства закона эта «воля» не совпадет с планами социалистов? Эта подозрительность, в свою очередь, формировала видение революции как бескомпромиссной гражданской войны.
Непарламентская природа российских неонароднических и социал-демократических партий превращала некогда принятые абстрактные идеологические аргументы и принципы в главный критерий размежевания с конкурентами и поддержания внутреннего единства. Вообще, культурные механизмы оказались единственным эффективным средством поддержания и структурирования пространства нелегальной революционной мысли и действия. Можно сказать, что протопартии рубежа XX века являлись сложными идеологическими продуктами «Подпольной России» как культурной сферы, альтернативной легальному имперскому обществу и его институтам. Подпольные группировки и не нуждались в полноценной партийной политике для того, чтобы привлекать последователей и распространять свое влияние на население, — эту задачу решала сфера массовой культуры, особенно литературы и публицистики. Легальная и нелегальная литература формировала и популяризировала типажи героев, их идеальные отношения, сценарии поведения в характерных ситуациях, которые проецировались на конкретные подпольные группы точно так же, как партийные программы формируют имидж кандидата от парламентской партии. Реальной политической нацией подпольных партий была общеимперская общественность, за симпатии которой они вели борьбу между собой в рамках субкультуры «Подпольной России». Границы общественности расширялись, включая все больше представителей нерусских элит, а также «сознательных» рабочих и крестьян.
Перспективы революционных партий оказались под угрозой, когда значительная часть общественности (наиболее сочувствующей революционаризму части образованного общества), напуганная уровнем насилия реальной революции в 1905−1906 гг., выразила поддержку планам реформирования имперского режима и приветствовала создание парламента — Государственной думы. В очередной раз подтвердилась закономерность: легитимность имперского режима напрямую зависит от его способности проводить радикальные реформы, сглаживающие конфликты «имперской ситуации». Подпольной России стало сложно сохранять идейную чистоту и изоляционизм в атмосфере политического плюрализма и частичной легализации политической деятельности.
* * *
Так на протяжении чуть более века в России сформировались революционная культура как альтернативный сценарий построения современного общества в империи. Революционное движение проделало эволюцию от полустихийного бунта до организационных форм, претендовавших на более передовой характер, чем парламентские партии того времени. Главной движущей пружиной революционаризма был поиск немедленного и окончательного ответа на проблемы, которые режим решал путем постоянного реформизма. Если в основе этих проблем лежала сама структурная имперская ситуация многомерного разнообразия и конфликтов локальных интересов, то революционный подход мог привести к успеху, только разбив единое политическое пространство империи на множество максимально однородных сообществ — то есть приведя ее в состояние, напоминавшее исходную ситуацию в начале процесса самоорганизации региона Северной Евразии. Приняв «по умолчанию» границы Российской империи как «естественные» границы будущей революционной нации, социалистические партии начала ХХ в. обрекли себя на дилемму, которая стояла и перед имперским режимом. Противоречия имперской ситуации удавалось держать под контролем в рамках общего политического пространства только путем постоянного реформирования и коррекции, учитывающих новые конфигурации социальных сил и групповые интересы. Смена политического режима никак не отменяла и даже не меняла эту задачу.
Абстрактное представление о суверенитете, который принадлежит народу, оставалось главным аргументом в пользу необходимости революции, но его интерпретация менялась. Начальная и наиболее абстрактная идея установления народного представительства оказалась подчинена поискам «истинного народа», который, собственно, и заслуживал полных политических прав. Многоуровневое и многогранное имперское разнообразие усложнило задачу выкраивания единой, внутренне гомогенной нации. Разные идеологические течения в разные исторические периоды приписывали «народу» различные смыслы: особой цивилизации, этноконфессионального сообщества, социально-экономической группы или класса. Кажется, не менее сложная проблема наделения всех разнообразных членов общества равными гражданскими правами интересовала больше правительственных реформаторов, чем революционеров. Во всяком случае, формулирование этой цели либералами немедленно создавало им репутацию приспешников режима в глазах радикальной общественности.
Вторым важным импульсом революционного мышления и движения был культ тираноборчества, радикальное республиканское мировоззрение, в свете которого наследственный монарх — независимо от своих личных качеств и политической программы — представал узурпатором. Риторику тираноборчества использовали революционеры, которые воспринимали себя выразителями воли нации или самой истории. Однако «нация», которую они якобы представляли и которой служили, оставалась равнодушна к их борьбе или просто не существовала как активное сообщество единомышленников.
Третий важный стимул революционного действия был связан не с конкретным идеалом будущего общества и не с политическим протестом против тирании, но с идеей поступательного и однонаправленного исторического прогресса. Романтическая вера в осмысленность и одухотворенность истории, гегельянское представление о восхождении Абсолютного Духа на более высокие ступени самопознания и дарвиновская модель эволюции в разные времена питали революционные теории. Последователи этих теорий не обязательно были врагами режима или рассматривали монарха как тирана — они просто не могли смириться с недостатками существующего общества в сравнении с идеалом аналитически сконструированного справедливого и рационального порядка. Подобная «кабинетная» политика будущего стала особенно влиятельной с появлением марксизма как самопровозглашенной теории научного социализма, основанного на «объективных» законах истории. Неслучайно самый важный интеллектуальный вклад в революционную теорию российской социал-демократии внесла когорта ученых и публичных интеллектуалов, известных как «легальные марксисты». На личном уровне они, как правило, не интересовались и не занимались конспиративной революционной работой. Один из них, Петр Струве (1870−1944), был автором «Манифеста социал-демократической рабочей партии» — программного документа, принятого первым съездом РСДРП в Минске в 1898 г. Позднее «кабинетный революционер» Струве признавался: «Социализм, прямо скажем, никогда не вызывал у меня каких-либо волнений, а еще меньше увлечений… Социализм интересовал меня главным образом как идеологическая сила, которая… могла быть направлена либо на завоевание гражданских и политических свобод, либо против них».
Таким образом, у революционаризма была своя логика, достаточно независимая от степени репрессивности режима. Многие революционеры выбрали этот путь потому, что темпы развития России казались им слишком медленными, или потому, что империя не признавала по-разному определяемые ими сообщества «настоящего народа» как единственную нацию, имеющую право контролировать государственность и суверенитет, или потому, что формы национально-освободительной борьбы совпадали с революционной. Империя, а точнее — имперская ситуация несистемного разнообразия, была главным источником недовольства и революционных настроений в обществе, но она же была главным вызовом для революционеров — не столько в лице репрессивного имперского аппарата, сколько как структурное препятствие на пути создания широкой и внутренне непротиворечивой революционной коалиции. Однако когда такие попытки широкой революционной мобилизации удавались, имперская гетерогенность работала против стабильности режима и, соответственно, способствовала революции.
Глава 10. XX век: империя в эпоху массового общества
Часть 1. Крах режима русской национальной империи
10.1. «Восстание масс»
Феномен современного массового общества
На протяжении последней трети XIX века, когда сотни радикально настроенных интеллигентов отчаянно пытались вовлечь в революционное движение хотя бы несколько тысяч представителей «народа», в Российской империи происходила невидимая социальная революция. Системные реформы в сочетании со все более громкой реакционной риторикой эпохи Александра II, сменившиеся неприкрытой и последовательной реакцией правления Александра III, приковывали внимание образованных людей к официальной политической сфере. А между тем, в это время происходило переформатирование общества на пространстве Российской империи, подрывавшее основы «старого режима». Миллионы людей выпадали из структур старого порядка и вступали в новые отношения, в очень малой степени опосредованные и регулируемые официальными властями и даже такими «виртуальными» факторами, как обычай или воспитание.
Наиболее очевидным внешним проявлением растянувшегося на несколько десятилетий социального переворота стала мобильность населения — прежде всего, буквальное перемещение с обжитых мест. За первые два десятилетия после крестьянской реформы 1861 г. численность людей, получивших внутренний паспорт (необходимый документ для отъезда из дома) удвоилось. За следующие два десятилетия — от убийства Александра II до начала ХХ в. — оно еще раз удвоилось. В подавляющем большинстве случаев речь шла о крестьянах, которые отправлялись в города в поисках временной или постоянной работы. За неполные четыре пореформенных десятилетия, к 1897 г., население Саратова выросло в 1.6 раза, Вильны (Вильнюса), Москвы и Санкт-Петербурга — в 2.2−2.4 раза, Одессы — в 3.4 раза, Киева — в 3.6 раз, Риги — в 4.7 раз, Екатеринослава (Днепропетровска) в 5.7 раз. Всего же численность крестьян, ставших горожанами, увеличилась в пять раз.
За полвека после реформы 1861 г. доля жителей городов среди населения империи выросла с 10 до 18%. Эта пропорция может показаться скромной — примерно соответствующей уровню урбанизации в США накануне Гражданской войны, Франции к 1848 г., германских государств накануне объединения в 1871 г. В наиболее передовых обществах, на которые равнялась и с которыми конкурировала Российская империя, к началу ХХ в. в городах проживало уже 40-50% населения страны. Однако дело не в абстрактных процентах — никакого особого магического смысла в них нет. Уровень урбанизации важен именно тем, что указывает на масштабы городского населения: в 1897 г. оно составило в Российской империи 15.6 миллионов человек (около 25 миллионов к 1913 г.). Это значит, что структурно, размерами своего городского общества, Россия со своими полутора десятками миллионов горожан к началу ХХ в. примерно соответствовала уровню Франции (около 14 млн.), на четверть превышала потенциал Австро-Венгрии (12 млн.) и примерно в два раза уступала Великобритании (29 млн.) и Германии (25 млн.).
Конечно, это довольно условное сравнение, никак не учитывающее качество «человеческого капитала» — уровень образования горожан, их экономический потенциал, политический вес. Речь идет именно о самой структурной возможности развивать современное общество нового типа и о формальных масштабах нового социального пространства. Города не превращали в одночасье вчерашних крестьян в каких-то других людей — дисциплинированных рабочих, мелких буржуа с налаженным бытом, интеллигентных завсегдатаев театров и музеев. Просто в городе они оказывались в едином, все менее и менее сегрегированном физическом и социальном пространстве, вступая в прямое взаимодействие друг с другом и сообща переживая форматирующее влияние событий и идей.
Стремительный рост городского населения в конце XIX в. знаменовал собой «восстание масс» — пока что в смысле «восстания из небытия», а не против кого-то. Прежняя статистическая абстракция «народа», «населения» становилась физической реальностью: одновременно в одном месте могли собраться десятки, сотни тысяч человек, что было невозможно в социальном мире деревень даже на пике «крестьянского восстания» (включая такое масштабное, как Пугачевщина). Население Москвы превысило миллион в 1897 г., но даже в стотысячных губернских городах «толпа» превратилась из чрезвычайного временного феномена в постоянное «агрегатное состояние» общества: на рынках и в трамваях, в местах досуга и на рабочем месте (будь то завод или пристань). Формировался феномен массового общества, «горизонтального» в смысле социальной иерархии и эгалитарного по своему социальному воображению (потому что трудно отстоять формальный социальный статус в толпе). Массовое общество находится в постоянном внутреннем движении, как в физическом, так и в социальном смысле: в отличие от привязанного к своему хозяйству крестьянина, городской работник (особенно малоквалифицированный) часто переходит с места на место, переезжает из города в город. В 1897 г. лишь около трети жителей города были рождены в нем (например, в Казани), остальные были мигрантами. Постоянное перемешивание городской толпы вырабатывает некую общую городскую субкультуру и создает запрос на новую массовую культуру: сравнительно простую по художественной форме, практически ориентированную на «реабилитацию» тяжело трудящихся людей после работы, а не на удовлетворение сложных эстетических запросов скучающего высокообразованного элитарного потребителя искусства прошлых эпох. Есть и еще одно очень важное свойство массового общества: даже вполне мирную толпу занятых своим делом людей очень трудно контролировать.
Секрет успеха компактного и недорого имперского государства былых десятилетий заключался в том, что население империи контролировало себя, главным образом, самостоятельно (что, разумеется, не значит добровольно). Вплоть до эпохи Великих реформ имперские власти предпочитали полагаться на сложившиеся на местах формы управления: инкорпорировали местную элиту в ряды имперского привилегированного класса или чиновничества, поддерживали власть духовенства, общинные институты. В этом отношении мало что изменилось в механизмах социального контроля со времен средневековья: человек жил не в «империи» и не в «государстве», а в общине соседей, с которыми он был связан узами родства и неформальной социальной иерархии. Даже в русских деревнях существовали «знатные» крестьянские роды, представители которых традиционно занимали посты в местной администрации, независимо от меняющихся названий должностей. Чаще всего, ближайший полицейский чин находился за десяток-другой километров, поэтому в повседневной жизни главными сдерживающими факторами было мнение и авторитет соседей, а наиболее обычным воплощением власти — староста, чей статус официально подтверждал помещик или корона.
Империя сравнительно успешно справлялась с удержанием власти над пестрым многокультурным населением, потому что это население состояло из множества внутренне однородных общин, почти не сталкивающихся с иноверцами и инородцами. Большинство мусульман жили в окружении мусульман, подчиняясь местным мусульманским авторитетам; большинство евреев жили среди евреев, полностью ограничиваясь в повседневном общении идишем. Русские в поморских селах Архангельской губернии говорили на диалекте, малопонятном русским Курской губернии. По торговым делам разъезжало незначительное меньшинство, на заработки отправлялись, с санкции местных властей или помещика, не дальше ближайшего города. Многоязычие и более активное взаимодействие разных групп населения было более интенсивным на окраинах империи, но и там имперский административный режим позволял и даже принуждал полностью идентифицироваться со своей общиной. Главным обстоятельством, вырывавшим человека из привычного общинного окружения, был рекрутский набор, который воспринимался как стихийное бедствие — в том числе и потому, что человек, на которого выпал жребий, пропадал, чаще всего, навсегда для своей общины. После десятилетий службы отставник селился, как правило, в городе, и его опыт взаимодействия с «большим миром» пропадал для сельского общества. Ключевую роль связующего звена между местными сообществами и центральными властями играли многоязычные посредники, составлявшие служебную элиту империи. Именно эта многокультурная элита образовывала основу империи как единого пространства, а большинство населения существовало в рамках местных общин, со своим «локальным знанием»: языком, культурой, хозяйственными и военными навыками. Это социальное устройство позволяло сохранять общий политический контроль над огромными пространствами Северной Евразии, собирая с населения сравнительно незначительный объем людских и материальных ресурсов для поддержания статуса Российской империи как великой державы.
Как уже говорилось в прошлых главах, в XIX в. выяснилось, что без интеграции «населения» в «нацию» даже современное (камералистское) государство неспособно оперативно и эффективно мобилизовывать ресурсы, необходимые для поддержания прежнего статуса. Поисками перспективной нации было озабочено и правительство, и сторонники альтернативных сценариев построения будущего общества. Между тем, сама социальная база для нации и современных обществ на ее основе уже возникала в городах. До начала эпохи всеобщего образования и вовлеченности в общественную жизнь через газеты (а тем более, через электронные СМИ) только там существовала физическая возможность для взаимодействия массы людей в некоем общем культурном и идейном пространстве, с преодолением многочисленных перегородок локального знания и местных культур. Именно горожан можно было быстро и эффективно мобилизовать — буквально, доставив на сборный пункт, или в политическом смысле — собрав на митинг или демонстрацию, или в экономическом, используя их навыки трудовой мобильности.
Даже без отчетливого осознания себя членами единой нации с общей судьбой, культурой и интересами, масса горожан все равно действовала в логике современного массового общества. В повседневной жизни на них почти не влиял авторитет религиозных лидеров, их было практически невозможно связать узами круговой поруки соседской общины. Абсолютное большинство горожан не имели отношения к государственной службе, поэтому растущее городское массовое общество почти полностью оказалось вне сферы государства. По полицейским нормативам 1887 г. в городах полагалось иметь одного городового на 500 жителей — но взрывной рост численности горожан, с трудом поддающийся крайне нерегулярному учету, делал и это соотношение недостижимым. На практике, к началу ХХ века на одного городового в некоторых городах приходилось до тысячи человек (например, в Уфе). Конечно, в сельской местности соотношение доходило и до одного полицейского чина на десять тысяч человек, но в городах никаких других средств контроля над постоянно скученной массой населения не существовало. Это означало, в частности, что в случае беспорядков, когда пассивная «масса» превращалась в согласованную «толпу», единственным способом совладать с ней было демонстративное применение крайних форм насилия, как правило, со стороны регулярных войск. Жестокой расправой над несколькими членами толпы можно было попытаться обратить ее в бегство, посеяв панику, — в противном случае толпа легко сметала со своего пути несколько десятков правоохранителей.
Таким образом, массовое нарушение правопорядка — столь типичное явление для больших городов, особенно переполненных мигрантами, в эпоху индустриализации и сопровождающих ее конфликтов, — неизбежно перерастало в военную операцию с многочисленными жертвами. Толпа в 10 тысяч человек не была чем-то неслыханным даже для провинциального города (на праздничных гуляниях или на рабочей демонстрации), а все наличные полицейские силы едва превышали полусотню городовых, вооруженных револьверами и шашками. Поддержание порядка в случае конфронтации превращалось в эпизод гражданской войны властей против собственного населения.
Аналогом деревенской внутриобщинной саморегуляции в современном массовом обществе служат механизмы самоконтроля сознательных членов нации, разделяющих общие правила поведения, общие культурные представления о норме и недопустимом. При этом предполагается определенный культурный и образовательный уровень среднестатистического «члена нации», который бы позволил ему или ей стать частью «воображенного сообщества», усвоить и принять общие ценности и идеи, а также стать объектом воздействия прямой и опосредованной (через массовую прессу, моду, модели поведения) пропаганды. Идея «национальной власти» (народной власти) не только придает администрации авторитет, но и обеспечивает ее невидимым, но эффективным механизмом контроля, когда главным сдерживающим фактором становится не полицейский, а внутреннее «я» самого человека. Он отождествляет себя с установленным порядком так же, как и житель сельской общины, только на более абстрактном уровне. Фактически, растущее городское общество в Российской империи стихийно вырабатывало такие правила и культуру — пусть и самые элементарные, во многом действуя как «нация горожан». Только в недемократическом имперском обществе социальное воображение этой элементарной нации с трудом соотносило себя с органами власти, где у большинства горожан из низших слоев населения не было представительства (ни в полиции, ни в городской администрации или центральных государственных ведомствах). Поэтому стихийная «национализация» населения сама по себе никак не способствовала поддержанию социально-политической стабильности.
Сознательно или стихийно, имперские власти все чаще прибегали к манипулированию чувствами групповой солидарности горожан, пытаясь удержать контроль над «восстанием масс». В отсутствие демократических институтов, они могли предложить только этнокультурное, узкое понимание нации как «истинно русской», противопоставляемое всем остальным. Возбуждая неприязнь одной категории массового общества против другой, власти получали непрочный контроль хотя бы над частью толпы — той, которую власти поощряли. Ценой довольно условного контроля была систематическая дестабилизация городского массового общества.
У стихийной национализации был и еще один аспект. Именно в массовом обществе городов просветительская и пропагандистская деятельность национальных активистов находила самую благодатную среду. Разные проекты этнокультурных наций, как и разные версии революционной нации, развивались именно среди горожан, вне институтов государства, способных как-то регулировать притязания этих наций на политическое влияние. Точнее, отдавая все более явное предпочтение идеологически монархической русской этноконфессиональной версии нации, имперский режим отчуждал и ожесточал все остальные. Массовое общество, выраставшее во многом вне рамок государства и потому несущее ему потенциальную угрозу, и внутри себя таило потенциал множественного «межнационального» конфликта. Типичное порождение имперской ситуации, этот конфликт существовал в нескольких измерениях: классовое противостояние обретало характер межэтнических столкновений, а экономические противоречия вели к политическому взрыву.
Воспроизводя логику имперской ситуации, эти деления не обязательно входили в конфликт друг с другом, а гораздо чаще сосуществовали. Как мы видели в прошлой главе, рабочее движение организовывалось по национальному признаку, но при этом рабочий — член Бунда или Спилки — мог переезжать из города в город империи, всюду находя привычные формы занятости и досуга. Это значит, что социокультурные различия и разные групповые интересы могли формировать множество национальных сообществ, но могли и стихийно находить компромисс в едином пространстве имперского массового общества. И только имперский режим и государственный аппарат почти не принимали участия в этих процессах, постепенно становясь посторонними факторами для наиболее современного и динамичного сегмента населения Северной Евразии.
Первое столкновение с современной массой: Ходынка
Император Александр III умер 21 октября 1894 г., и на престол вступил его 26-летний сын Николай. При авторитарном режиме личность правителя играет определяющую роль в формировании политической программы, поэтому решимость нового императора Николая II всецело продолжать курс Александра III отличалась от обычных обещаний политиков «продолжить дело» предшественников. Николай действительно считал, что отец оставил страну не на исторической развилке, а на единственно верной дороге. Выступая публично в первый раз в качестве монарха в январе 1895 г., Николай II заявил:
Мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления. Пусть все знают, что я, посвящая все свои силы благу народному, буду охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный покойный родитель.
Взрывоопасность сочетания «самодержавия» и «народности», которое пытался воплотить режим Александра III, немедленно проявилась при его преемнике. Новое правительство не успело еще предпринять никаких принципиальных шагов, а уже оказалось в ситуации нарастающего политического кризиса. Современники поспешили связать разрастающийся кризис с «несчастливой» личностью Николая II, но очевидно, что глубокие структурные проблемы его царствования возникли не «вдруг». Николай был ответственен лишь за упрямое и последовательное усугубление проблем, порожденных химерой «русской национальной империи» как политической программы Александра III.
Уже коронация Николая II в Москве 18 мая 1896 г. омрачилась трагедией: во время страшной давки в толпе, собравшейся на Ходынском поле для получения бесплатных подарков, погибли около 1400 человек, сотни были искалечены. Эта катастрофа никак не повлияла на график коронационных торжеств: балов, приемов, спектаклей. Власти постарались замолчать трагедию, при этом пролив поток денег на семьи жертв, которые получили неслыханно щедрые компенсации в 1000 р. (эквивалент годового жалования гимназического учителя со стажем или жалованья рабочего за пять-шесть лет). Ходынская трагедия со временем была осмыслена как плохое предзнаменование, спустя десять лет поэт Константин Бальмонт написал стихотворение, предрекающее трагический конец Николаю: «Кто начал царствовать Ходынкой, тот кончит, встав на эшафот».
Ходынка действительно может рассматриваться как символическое событие, хотя и не в том мистическом смысле, который ей обычно приписывают. В общем, ничего необычного в катастрофическом начале царствования не было. Коронации предшественников Николая II сопровождали не менее мрачные обстоятельства: Александр I вступил на престол в атмосфере слухов об отцеубийстве, Николай I в день принесения присяги столкнулся с восстанием декабристов и расстрелом властями многих сотен горожан, Александр II короновался через несколько месяцев после подписания унизительного Парижского мирного договора по итогам Крымской войны. Символизм Ходынки заключался именно в том, что в логике демонстрации преемственности власти организаторы постарались воспроизвести буквально, без изменений, сценарий народных празднеств прошлых коронаций, игнорируя новый контекст массового общества — и спровоцировали катастрофу. Конкретнее, они не сумели предусмотреть последствий энтузиазма масс и справиться с возбужденной толпой.
И сегодня трудно подсчитать число людей, собирающихся на массовые мероприятия, поэтому оценки размеров толпы в XIX в. следует воспринимать с долей условности. Так, очевидцы празднеств по поводу коронации Николая I, прошедших на Девичьем поле в Москве в начале сентября 1826 г., на удивление единодушно повторяют круглую цифру, приводя данные о собравшемся народе: 200 тыс. человек. Все население Москвы в это время составляло не более четверти миллиона человек, считая младенцев, а большинство крестьян пригородных деревень были крепостными, ограниченными в передвижении, так что цифра эта кажется в несколько раз завышенной. Бесспорно, однако, что собралась огромная толпа. Праздник был организован по старинной традиции пира. На поле установили 240 столов в 24.5 м каждый, с угощениями: в среднем приходилось по одному барану на стол, по 9 уток или гусей, по 30 курей, по 10 ведер водки и 16-17 ведер пива, по сотне калачей и пр. Очевидцы вспоминают разгром, устроенный на поле собравшейся толпой, но о жертвах не сообщалось, да и сами масштабы приготовлений указывают на сравнительно ограниченный размер празднующей толпы. Судя по программе празднования, власти ожидали, что пирующие будут восседать за столами на лавках (на деле, все старались сразу унести с собой все, что попало в руки). Исходя из размеров столов, это значит, что всего готовились принять не более 25-35 тысяч человек. Если каждому пирующему полагалось по калачу, то толпа не должна была превысить 24 тысячи. Перечень угощения включал еще 9600 хлебов из просеянной муки, и если их планировали так же из расчета «один в руки» в добавление к калачам, то и тогда пирующих не должно было быть больше 34 тысяч.
Народные празднования по поводу коронации Александра II спустя 30 лет перенесли на новое место — на Ходынское поле. Они были организованы по тому же принципу пира, только количество столов увеличили в три раза. То есть, практически, они могли вместить около ста тысяч человек. Население Москвы к 1856 г. выросло до 378 тыс., так что это был вполне обоснованный расчет. Сто тысяч человек — огромная толпа, но тогдашние размеры Ходынского поля примерно в 1 км2 оставляли и в этом случае достаточно места для размещения и передвижения людей (до 10 м2 на человека или чуть меньше, учитывая место, занятое столами и павильонами).
Александр III отказался от идеи пира на коронационных праздниках по соображениям безопасности, но также, вероятно, потому, что этот формат праздников казался уже совершенно старомодным в пореформенной России. Вместо столов с угощениями, толпу пропускали по узким дорожкам мимо сотни павильонов, из которых каждому выдавался стандартный набор-подарок: два пирога, пакет с гроздью винограда и орехами, фунт сладостей и глиняная кружка с гербом и надписью «1883». Этот формат гораздо адекватнее соответствовал современному массовому обществу, символизируя новый характер взаимоотношения с ним: индивидуальный контроль и стандартизацию. Трудно определить, сколько людей прошли через Ходынское поле на праздновании коронации 1883 г. Зарубежная пресса приводила цифру между 300 и 400 тыс. человек, существуют и более скромные оценки в 200 тыс. В это время население Москвы перевалило за 700 тыс. человек, был отмечен наплыв на празднования крестьян из уездов, так что, теоретически, любая цифра выглядит вполне реалистичной. 400 тысяч человек — колоссальная масса народа, но даже в случае такой концентрации на Ходынке на человека приходилось свыше 2 м2 площади. По современным критериям, это даже не «редкая», а «разреженная» толпа, когда люди находятся друг от друга на расстоянии более вытянутой руки (разумеется, равномерно распределившись в данном ограниченном пространстве). Для контролирования порядка были привлечены войска, пространства хватало настолько, что в места повышенного скопления публики направлялись марширующие военные оркестры разбивать толпу.
Сочетание архаических форм контроля над населением (привлечение армии) и сравнительной новизны феномена современной «массы» позволили празднованиям 1883 г. обойтись без особых происшествий. Однако в 1896 г. Николаю II, твердо ступающему по стопам отца, не помогло бы уже и чудо. Население Москвы достигло миллиона человек. Кроме того, хозяева подмосковных фабрик бронировали целые железнодорожные составы для доставки рабочих на празднования — ходили слухи о 200 тыс. человек, прибывших таким путем, и это не считая притока жителей деревень. В отличие от сравнительно недавних времен коронации Александра III, новая масса не была в полном смысле стихийной, случайным сборищем индивидуальных зевак. Люди действовали по продуманному плану. Согласно данным официального расследования министра юстиции Николая Муравьева, люди начали собираться на Ходынском поле за сутки до начала гуляний. К ночи собралась толпа, достигавшая, по консервативным оценкам Муравьева, полумиллиона человек. Люди старались расположиться ближе к павильонам, из которых должны были утром раздавать подарки, напоминавшие гостинцы прошлой коронации. Некоторые уверяли, что подарочные кружки будут не пустыми, а наполненные монетами. Или что платки, в которые заворачивались подарки, служат лотерейными билетами: изображение коровы позволит счастливчику получить корову и т.п. (На самом деле, на хлопчатобумажном платке был изображен кремль, а на обороте — императорская чета).
Самые расчетливые обустраивались лагерем на поле еще за несколько дней до начала мероприятия. Раздача подарков была намечена на 10 утра, но уже на рассвете плотно стоящие люди были в таком возбуждении, что персонал павильонов начал разбрасывать подарки в 6 утра. Измученная ожиданием толпа, подогревая себя слухами о том, что подарки выдают сначала «своим» и на всех не хватит, ринулась на штурм 150 павильонов по узким проходам, сметая заграждения и затаптывая нагибающихся за узелками с подарками людей. Плотность толпы была такая, что несколько десятков умерших людей пронесли стиснутыми между живыми, в вертикальном положении. Очевидно, плотность толпы превышала 5-6 чел. на м2, т.е. была по крайней мере в десять раз больше, чем на празднованиях 1883 г. Даже по формальным физическим показателям это был беспрецедентно новый тип толпы, масса.
Устроителей празднования (а позже и Николая II) упрекали в ошибках организации, в недостаточном количестве войск, выделенных для контроля над соблюдением порядка. 1800 городовых, отправленные на Ходынское поле, — почти все патрульные Москвы — не могли справиться с полумиллионной толпой. Проблема в том, что количество уже перешло в качество и сравнение Ходынки 1896 г. и 1883 г. не вполне корректно. Масса ХХ века — это не просто механическое сборище людей. Объединенная общей идеей и целями, эта масса воспринималась наблюдателями как единое живое существо, реагирующее на внешние обстоятельства, подстраивающееся под изменение ситуации. Все городовые Москвы не могли сдержать толпу, объединенную стремлением урвать бесплатный подарок — но и несколько полков войск были бы сметены полумиллионом человек (а вполне возможно, что утром 18 мая 1896 г. на Ходынском поле собралось в полтора-два раза больше людей). Современные рекомендации соотношения правоохранителей и толпы на открытом пространстве варьируются от 1:10 до 1:100, в зависимости от обстоятельств. Это значит, что мирными средствами можно было контролировать современную мотивированную толпу на Ходынском поле в 1896 г. силами до 50 тыс. подготовленных силовиков — нескольких армейских дивизий мирного времени. Либо, гораздо меньшими силами, надо было оцепить Ходынское поле за несколько дней до торжеств и не допускать скопления толпы — но где бы физически находились 0.5-1 млн. человек, стремившихся принять участие в народном гулянии в ожидании официального начала праздника?
В том-то и дело, что химера «русской национальной империи» не является лишь социологической абстракцией. Режим Николая II, как и режим Александра III, желал собрать народные массы на праздновании коронации, огромная толпа воспринималась как пассивный референдум о доверии авторитарному режиму как «народному». При этом самовосприятие «народной монархии» плохо сочеталось с картиной выдачи оцепленной войсками толпе «пайков». Этот вполне практичный и традиционный метод поддержания общественного порядка вызывал нежелательные ассоциации с недавними реалиями: подавлением деревенских бунтов и раздачей продовольствия голодающим крестьянам в 1891 г. В народной монархии патриотически настроенная толпа должна была сдерживаться внутренним моральным чувством, а дополнительную помощь должны были оказать современные технологические средства контроля. Ожидалось, что на коронационном гулянии 1896 г. собравшаяся толпа будет разбиваться на полторы сотни ручейков, «процеживаясь» между 150 павильонами по узким проходам (шириной чуть более 1 м). Чтобы снизить напор людей, площадку с павильонами метрах в тридцати от них огораживал ров двухметровой ширины: видимо, предполагалось, что постепенно преодолевая препятствие, люди начнут формировать правильные очереди. Привлеченные полицейские силы и несколько рот солдат должны были лишь препятствовать правонарушениям, а не регулировать поток толпы.
Теоретически, это был вполне разумный и современный план, только совершенно абстрактный. Справиться с самостоятельно собравшейся толпой в 1896 г. так, как справлялись в 1826 или 1856 гг., было уже невозможно, потому что это была другая толпа — и количественно, и качественно. Пятьсот тысяч человек — не просто в пять раз больше, чем сто тысяч. Эта масса ведет себя гораздо автономнее и бесстрашнее, тем более, когда в нее объединяются люди с очень отчетливым представлением о своих целях. От прошлой коронации 1883 г. коронацию 1896 г. отделяли всего 13 лет (не 27-30, как в прежние времена), в Москве отчетливо помнили о процедуре раздачи подарков, а народное воображение лишь расцвечивало эти конкретные воспоминания. Собравшаяся толпа была, вероятно, совершенно верноподданной политически, но мотивировало ее, скорее всего, не выражение лояльности, а желание получить дармовой товар. Казне каждый подарок обошелся меньше рубля (за вычетом «логистических» расходов на организацию раздачи и алкоголь — копеек в 75 за набор), но по розничным ценам его стоимость была в несколько раз больше, достигая эквивалента недельного заработка рабочего. Всего были заказаны 400 тыс. наборов подарков, и если эта информация распространилась в народе (хотя бы от работников булочных Филиппова, который получил заказ на 400 тыс. саек), то совершенно объяснимо стремление людей оказаться в первых рядах при получении подарков. Ни на полмиллиона, ни даже на 400 тысяч человек заготовленных наборов не хватило бы, коль скоро сотни нанятых для раздачи подарков «артельщиков» действительно могли вполне легально «отложить» для себя, своей семьи и знакомых по несколько комплектов (это помимо гипотетически возможных криминальных схем). Такое поведение артельщиков вполне рационально в условиях современной крупномасштабной «социальной» акции, и столь же рациональны были подозрения толпы, а также ее реакция на прогнозируемую ситуацию. И только организаторы массового мероприятия исходили не из рационального анализа фактической обстановки, а из идеализированных представлений о должном.
Прежнее компактное имперское государство не было подготовлено к «восстанию масс», а имперский режим, игнорируя это обстоятельство, пытался действовать так, как будто существовал в условиях представительной демократии национального государства с развитыми институтами самоконтроля. При этом ни одна демократия не могла позволить себе той идеализации неорганизованной массы и легкомысленного отношения к ней, которую проявил самодержавный режим, вообразивший себя «народной монархией». Ходынская катастрофа была явным предостережением о несоответствии «технологии власти» идеологическим претензиям режима и новым социальным реалиям. Власти предостережение проигнорировали, предпочтя списать разразившуюся катастрофу на «невезение». Но это было много хуже, чем невезение: это было преступное заблуждение.
10.2. Русская национальная империя в эпоху массового общества
Консервативный модернизм режима Николая II
Николай II родился в 1868 г. Он не только не застал крепостного права, но даже земская и судебная реформы были провозглашены задолго до его рождения. В конкурентной политической системе правитель его возраста был бы поистине человеком новой эпохи, воспринимавшим новые социально-политические реалии как норму. В значительной степени Николай и его ровесники из числа правящей элиты и ориентировались на самые современные стандарты, когда речь касалась быта, технического прогресса или общей морали. Так, Николай II любил спорт (в том числе теннис), автомобили, разделял буржуазные семейные ценности, охотно позволял снимать себя и семью для первых кадров кинохроники. К ужасу многих российских дипломатов и военных, он выступил инициатором первой в истории международной конференции по разоружению, которая открылась в Гааге в мае 1899 г., в день его рождения. Конференция приняла конвенции о правилах ведения войны и заключения мира, в значительной степени основанные на «кодексе Либера» — введенных декретом президента Линкольна в 1863 г. правилах поведения армии Северян во время американской гражданской войны. Кроме того, были приняты декларации, ограничивающие применение бомбардировок с воздуха и химического оружия, а также запрещающие использование разрывных пуль. Однако общей рамкой для всех этих новаций являлся политический идеал неограниченной монархической власти, не столько унаследованный как часть некой древней традиции, сколько изобретенный режимом Александра III. Результатом стало формирование своеобразной политической культуры «консервативного модернизма» — сочетания буквально оксюморонного (взаимопротиворечивого), но не менее реального, чем порожденный этой культурой проект «русской национальной империи».
В этом отношении Николай II напоминал славянофилов начала 1840-х годов. Подобно славянофилам, Николай II был человеком «европейской культуры» с нациецентричным социальным воображением и крайне фантастическими представлениями о реальном «русском народе». Только культурно-политическое воображение славянофилов было подлинно революционным для своего времени, а Николая — спустя полвека, в совершенно ином социальном и интеллектуальном контексте — было принципиально реакционным. Славянофилы испытывали давление политической цензуры, интеллектуального авторитета романтизма и гегельянства, но смогли сформулировать оригинальную протонационалистическую концепцию. Интеллектуальное становление Николая II происходило уже после опыта «хождения в народ» российской интеллигенции и формирования современных позитивистских социальных наук (в том числе, теорий нации). Фантастический мистицизм его представлений о нации в конце XIX в. свидетельствовал уже, скорее, об умственной лености и равнодушии, когда славянофильское социальное воображение заимствовалось бессознательно, через «вторые руки», как идеи, ставшие «общим местом».
В этом отношении примечателен параллелизм между Николаем II и славянофилами в формулировании «национального чувства». Он свидетельствует не столько о прямом идейном влиянии, сколько о структурно аналогичном уровне воображения нации. Подлинно программным заявлением Николая II — невыразительного оратора со скудным репертуаром политических идей — стал костюмированный «русский бал», состоявшийся в Зимнем дворце в феврале 1903 г., самый масштабный за время его правления. Праздник был приурочен к 290-летию династии Романовых и проводился в два этапа. На сам бал 13 (26) февраля собралось 390 гостей в специально сшитых богатых костюмах XVII в. Хотя праздновались события 1613 г. — избрание царем Михаила Романова, правившего при помощи постоянно действующего земского собора, полагаясь на авторитет патриарха, — большинство костюмов относились к эпохе самодержавного правления сына основателя династии, Алексея Михайловича. Император Николай II с головы до ног был облачен в одежды царя Алексея Михайловича, императрица была одета Марией Милославской, первой женой царя. Даже дворцовый оркестр был наряжен в допетровские костюмы. В предшествующие десятилетия уже проводились маскарады в русских исторических костюмах, но зимний бал 1903 г. был беспрецедентен своим масштабом, пафосом аутентичности, а главное, политическим подтекстом: он проходил впервые в Зимнем дворце, как вполне официальное мероприятие, и впервые император переодевался сам в старинные царские одежды. Важной частью праздника было художественное фотографирование в нарядах, индивидуальное и групповое. Почти 200 фотографий вошли в опубликованный «Альбом костюмированного бала в Зимнем дворце».
Это событие, давшее мощный толчок распространению моды на «русский стиль», буквально воспроизводило логику поведения славянофилов 60 годами ранее, когда Константин Аксаков надевал «русский национальный костюм» (в котором его принимали за «персиянина») и фотографировался в нем для друзей. Правда, его брат, не менее убежденный славянофил, Алексей Аксаков, был способен на ироничную деконструкцию этого националистического «языка тела», подчеркивая, что демонстративно «русский» портрет изображал человека «с татарской фамилией и нормандского происхождения» в костюме, «сшитом французским портным». Фотография — технология изготовления портрета — являлась «изобретением западным XIX века», а сам портрет предназначался для «приятеля, светского молодого человека». В отличие от представителей старого московского дворянского рода Аксаковых, императорская семья и великие князья — участники бала 1903 г. — имели совершенно номинальное отношение к допетровскому Московскому царству и куда больше оснований для самоиронии. Тем не менее, Николай II на полном серьезе записал в дневнике свое впечатление от бала: «Очень красиво выглядела зала, наполненная древними русскими людьми». Спустя несколько месяцев он заявил начальнику канцелярии двора, что «любит Петра меньше, чем других своих предков, за его увлечение западной культурой и попирание всех чисто русских обычаев». Совершенно в духе славянофилов, он высказывал неприязнь к формализму бюрократии и бездушной государственной машине.
Славянофилы отдавали себе отчет в том, что исторический антураж XVII в. является лишь символом и даже метафорой той современной национальной идеи, для формулирования которой им не хватало аналитического и политического языка. Николай II и его ближайшее окружение действительно верили в реальность появления «древних русских людей» в современной России, стоит только сменить одежду и другие внешние маркеры культурного кода. В начале ХХ в., когда противоречия имперской ситуации облекались в социальную форму разнонаправленных национализмов, такой настойчивый, но буквально «бессознательный» национализм правителя заведомо обрекал имперский политический проект на крах.
Альтернативы имперского режима
Общая идеология режима формулировалась Николаем II — если не концептуально, то, по крайней мере, стилистически — поощрением определенной риторики и образного ряда. Но и в рамках общей риторики народной («русской национальной») империи находились государственные деятели, вполне трезво оценивавшие ситуацию. Они отдавали себе отчет в опасности нарастающего отчуждения имперского режима и государства от новых социальных форм, включая массовое общество, и пытались предложить меры, способные восстановить утрачиваемый социальный контроль. Проблема заключалась в том, что традиционная политика имперского реформизма исчерпала возможности существующего политического режима еще в 1870-х, при Александре II. Дальнейшие реформы, способные примирить противоречия имперской ситуации в рамках единой социально-политической системы, неизбежно вели к отказу от авторитаризма и предоставлению политического представительства наиболее влиятельным формам социальной самоорганизации — разнообразным «нациям».
Теоретически, это мог быть проект современной империи, признающей политическую роль всех категорий наций и предоставляющей им представительство, независимо от принципов группности: этносам и конфессиям, сословиям и профессионально-экономическим классам, политическим партиям и регионам. Отражая само несистемное разнообразие структурной имперской ситуации, такая империя имела бы не меньший запас устойчивости, чем первоначальная конструкция, созданная Екатериной II. Альтернативным решением было бы сознательное и последовательное принятие национальной перспективы, признающей единственный тип различий, достойный политического представительства: этноконфессиональной нации. В этом случае, авторитарный имперский режим сохранял бы легитимность (а значит, стабильность), делясь полномочиями с несколькими признанными крупными «нациями», которые на своей территории действовали бы как уменьшенные копии империи, подавляя более мелкие национализмы. Стабильность такой системы зависела от политических факторов: как долго центральной имперской власти будет удаваться сохранять заинтересованность в себе и лояльность со стороны национальных территорий.
Режим Николая II не допускал ни одного из этих вариантов, а потому оставалось прибегать к крупномасштабным, но техническим решениям. Основных направлений решения проблемы массового общества было три: ограничение физической концентрации «масс» за счет переселения населения и разрушения институтов мобилизации протеста; участие государства в решении наиболее болезненных конфликтов, вызывающих рост массового недовольства; и привлечение масс на сторону режима путем патриотической социальной мобилизации. Не меняя саму структуру социально-политического устройства, в контексте имперской ситуации правительство достигало этими, вполне рациональными мерами, непредвиденных результатов — подобно тому, как рациональное планирование народных гуляний на Ходынском поле в 1896 г. закончилось катастрофой.
Политика контроля населения
Целенаправленная государственная переселенческая политика была сформирована в период правления Александра III. Уже в июле 1881 г. были утверждены «Временные правила о переселении крестьян на свободные казенные земли», им на смену в июле 1889 г. пришел закон «О добровольном переселении сельских обывателей и мещан на казенные земли», а за несколько месяцев до смерти Александра III, в июне 1894 г., циркуляр МВД окончательно упорядочил переселение крестьян в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию. Так что и в этом отношении режим Николая II всецело продолжал курс предшествующего правительства. С одной стороны, государственная политика населения была направлена на удержание в сельском хозяйстве наиболее готовых к социальной мобильности групп. За неполные четверть века, с 1883 по 1905 г., в Среднюю Азию, Сибирь и Дальний Восток из европейской части империи переселились свыше 1.6 миллиона человек. Если бы не колонизация окраин, эти люди пополнили бы ряды мигрантов в города, увеличив число горожан еще на 10-12%.
Переселенцам отводились щедрые участки земли (сначала по девять гектаров, позже по 33, цифры варьировались и по регионам). Созданное при Николае II в декабре 1896 г. Переселенческое управление в составе МВД постепенно стало больше помогать колонистам, снабжая их сельскохозяйственными орудиями и семенами, предоставляя агрономическую помощь, строя школы и помогая в организации инфраструктуры (будь то строительство дорог или копание колодцев после разведки водоносных слоев). В то же время, правительство стремилось не допускать несанкционированного переселения, к примеру, в среднеазиатские оазисы — чреватого конфликтом с местным населением и экономическим ущербом местным стратегическим сельскохозяйственным культурам (прежде всего, хлопку, необходимому для легкой промышленности и порохового производства). Строительство Транссибирской железнодорожной магистрали в 1890-х гг. переориентировало значительную часть потока колонистов в Восточную Сибирь и на Дальний Восток после открытия движения в 1901 г., и само обосновывалось необходимостью колонизации региона.
Вторым направлением государственных мер по снижению взрывоопасного потенциала массового общества было формирование зачаточной социальной политики. Строго говоря, это не была «государственная политика» в смысле официально признанной программы и приоритетов. Скорее, речь идет о разрозненных инициативах отдельных ведомств и даже чиновников. И вновь начальной точкой отсчета этих мер служит эпоха Александра III. В 1882 и 1885 гг. по инициативе министерства финансов были приняты «временные правила», ограничивающие продолжительность рабочего дня для подростков и женщин на производстве. Одновременно был создан специальный государственный институт фабричной инспекции, призванный следить за исполнением рабочего законодательства. Закон от 3 июня 1886 г. впервые регулировал правила найма и увольнения рабочих, общего порядка оплаты труда и штрафов. Развитием этих первых опытов стал закон, подписанный Николаем II в июне 1897 г., «О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской промышленности». Впервые законодательно ограничивалась продолжительность рабочего дня (11.5 часов для мужчин, 10 часов для женщин), запрещалась работа по воскресеньям и в главные праздники (14, а после 17 дней в году). В 1903 г. были приняты правила о страховании от несчастных случаев на производстве. Эти законы могут показаться сегодня довольно умеренными, однако, в общем, они соответствовали нормам, принятым в это время в других европейских странах — за одним исключением. Нигде еще, даже в Германии, с ее детальным регулированием трудовых отношений, не существовало всеобщего законодательного ограничения продолжительности рабочего дня для взрослых мужчин.
Если инициатива рабочего законодательства исходила от министерства финансов (точнее — от связанных с ним профессоров-экономистов), то созданием профсоюзного движения для улучшения экономического положения рабочих занялся Департамент полиции. Еще в 1886 г. молодой интеллигент Сергей Зубатов (1864−1917) стал сотрудничать с московским охранным отделением — органом политического сыска. Уже при Николае II, в 1896 г., он возглавил московскую охранку, а в 1898 г. подал начальству докладную записку, в которой, проанализировав причины распространения социал-демократических кружков среди рабочих, предложил перехватить инициативу у революционеров. Эта радикальная идея получила поддержку ультраконсервативного московского генерал-губернатора, великого князя Сергей Александровича (родного дяди императора), что, косвенно, означало одобрение в общеимперском масштабе. По инициативе и под контролем Зубатова в 1901 г. в Москве было официально зарегистрировано «Общество взаимопомощи рабочих механического производства», первоначально занимавшееся просветительской деятельностью. Вскоре для руководства общества был создан Совет («Совет рабочих механического производства»), который выступил посредником в переговорах рабочих с фабрикантами. Уже в феврале 1902 г. Общество взаимопомощи организовало продолжительную (целый месяц) забастовку на Шелковой мануфактуре Муси. Когда управляющий фабрики уволил более тысячи забастовщиков, московская полиция попыталась оказать давление на руководство, требуя выполнить требования рабочих.
Одновременно московский эксперимент Зубатова распространили в Западном крае: в июле 1901 г. под негласным контролем полиции в Минске была создана Еврейская независимая рабочая партия. При поддержке губернских полицейских властей партия добивалась уступок у работодателей, ее отделения открывались в белорусских и литовских городах, в которых рабочее движение традиционно контролировалось Бундом. В 1902 г. в Одессе появилась Независимая рабочая группа, основанная на тех же принципах, но не ограничивавшаяся работой только среди евреев. В том же 1902 г. Зубатова перевели в центральный аппарат Департамента полиции в Санкт-Петербурге, где оперативно возникло «Общество взаимопомощи рабочих механического производства г. Санкт-Петербурга». Среди лекторов, приглашенных для просвещения рабочих, был священник Георгий Гапон, уроженец Полтавской губернии.
Третьим направлением решения проблемы контроля над возникающим массовым обществом было его «идейное приручение». Здесь государственная политика также проявлялась не столько в смысле формулирования официального курса, сколько через поддержку определенных частных инициатив. Так, приближение Александром III Михаила Каткова заставило воспринимать его публицистику как отражение того, что сегодня мы назвали бы «официальной идеологией». Режим Николая II не солидаризировался так тесно ни с одним из конкретных консервативных публицистов, зато всецело поддержал распространение «Протоколов сионских мудрецов» с подачи Петра Рачковского — заведующего Заграничной агентурой Департамента полиции.
Скомпилированные из французского политического памфлета против Наполеона III 1864 г., фрагментов нескольких литературных произведений и антисемитских фельетонов по итогам первого сионистского конгресса в Базеле 1897 г., «Протоколы» представляли план тайного еврейского заговора по установлению мирового господства. Впервые опубликованные в Санкт-Петербурге в газете «Знамя» в сентябре 1903 г., в 1905 г. «Протоколы» были изданы отдельными изданиями (в том числе в типографии Красного Креста в Царском Селе религиозным писателем Сергеем Нилусом, приближенным в то время к императорской семье). По свидетельству жандармского офицера Константина Глобачева, Николай II воспринял «Протоколы» с восторгом, оставив такие отметки на полях: «Какая глубина мысли!.. Какая точность в осуществлении программы!.. Не может быть никакого сомнения в их подлинности…» Впрочем, каким образом Глобачев, служивший тогда в польских губерниях, мог узнать эти детали — неизвестно. Считается, что спустя несколько лет официальное расследование установило сфабрикованность этого текста, и он потерял поддержку политического руководства. Николай II якобы наложил резолюцию: «Протоколы изъять. Нельзя чистое дело защищать грязными способами». Тем не менее, нескольких лет официальной поддержки «Протоколов» было достаточно для прояснения идеологической позиции режима: не просто антисемитской, но представляющей «русскую национальную империю» осажденным лагерем. «Нерусские» объявлялись не просто культурными «инородцами», но потенциальными изменниками, проводниками интересов иностранных национальных правительств. Если чужого национального правительства не существовало (например, у евреев), приходилось его выдумывать. Таким образом, «русским» не оставалось ничего другого, как сплотиться вокруг правительства, чтобы защититься от внешних врагов и внутренней смуты.
Суть позитивной «русскости», с которой предлагалось отождествить себя верноподданному населению, формулировалась не столь определенно. По-прежнему в центре официально признаваемой национальной русскости помещалось православие и верность правительству, а способом активной пропаганды этих идеалов среди масс стали публичные мероприятия. Подобно тому, как национальный идеал Николая II был сформулирован в формате костюмированного бала в феврале 1903 г., идея русского национального единства прояснялась для населения путем подбора значимых исторических событий для празднования. По подсчетам современного историка, в период правления Николая II отмечались юбилеи свыше 160 событий, и чем дальше, тем интенсивнее становилась эта «юбилеемания». Фиксация на отмечании событий прошлого обычно свидетельствует о завершении определенного этапа, превращающего эти события в «историю», в то, о чем вспоминают лишь благодаря круглой дате. Это процесс «изобретения традиций», когда прошлое актуализируется в определенной современной интерпретации.
Можно увидеть определенную логику в юбилейной кампании эпохи Николая II. С одной стороны, центральную роль во всех торжествах играла церковь: крестные ходы и богослужения составляли главное содержание любых торжеств, включая юбилеи военных побед. При этом, однако, демонстративно игнорировались события, связанные с самой церковью как самостоятельным институтом. Так, еще при Александре III, летом 1888 г., по всей стране прошли масштабные мероприятия, посвященные «900-летию крещения Руси», но трехсотлетие учреждения патриаршества в 1889 г. осталось почти незамеченным. В 1901 г. пышно отмечалось 700-летие Риги (в том числе, многомесячной «Юбилейной выставкой промышленности и ремесел»), в празднованиях приняли участие 800 тыс. человек, но 350-летие Стоглавого собора было проигнорировано. Та же избирательность обнаруживается в выборе достойных отмечания государственных событий. Ни освобождение крестьян 1861 г., ни учреждение земств в 1864 г., ни реформы Екатерины II не стали поводом для официальных торжеств (зато полувековые юбилеи Великих реформ активно отмечались оппозиционной общественностью). Таким образом, переведенная в плоскость массовой пропаганды, правительственная версия русского национализма проявляла прежнюю двусмысленность. Православие признавалось основой русской культуры, но лишь постольку, поскольку оно обслуживало власть; подлинно национальная власть связывалась не с государством как таковым, а с его триумфами, доказывавшими ненужность дальнейших улучшений и реформ. Синтез этой избирательной национальной лояльности «власти» олицетворялся правящей Гольштейн-Готторп-Романовской династией, которая, однако, мало соответствовала распространявшемуся в массовом обществе «этническому» пониманию нации.
10.3. Массовая политика при утрате обратной связи
Ригидный режим и модерное общество: кризис взаимодействия
С модерностью связывают самые разные конкретные проявления: от технического прогресса до политических реформ, от новаторского искусства до экспериментов в сексуальной сфере. Не вдаваясь в бесплодный спор о «сути модерности», можно отметить, что это понятие полезно для описания особого исторического опыта. Когда общество включает в себя множество активных социальных «игроков», преследующих разнообразные интересы, и сохраняет целостность лишь потому, что находится постоянно в состоянии «неустойчивого равновесия», о нем начинают говорить как о модерном. Литература становится площадкой сложных взаимоотношений «канона» и «авангарда», когда успех автора связывается с новизной, но, одновременно, и со способностью создать новый канон, как правило, в диалоге с прежним. Постоянная техническая инновация требует «стабилизации» в виде отработанных надежных технологий, на основании которых появляется возможность формулировать новые технические задачи. Политическое и социальное реформирование нуждается в опоре на новое знание, так или иначе нормализованное в академической или околоакадемической сфере.
Во всех случаях главным стимулом изменений и, одновременно, критерием принятия или неприятия новшеств является рынок — универсальная метафора модерного общества. Рынок идей, потребительский рынок, рынок моды, рынок политиков и пр., наводящий порядок из хаоса своей «невидимой рукой» (но также и ввергающий в хаос только что упорядоченную социально-экономическую среду), не означает ничего другого, кроме своего буквального смысла: множества людей, напрямую вступающих друг с другом в отношения, в результате которых меняется свойство всей «системы». Бывает «дорогой базар» и «рынок покупателя», «регулируемый рынок» и «рыночная паника» — во всех этих случаях общая ситуация складывается из множества частных транзакций. В обществе, условно называемом «домодерным», в принципе, есть все, что отличает современное общество, кроме одного: социально активным является сравнительно незначительная часть населения, в результате чего конфликты и противоречия удается часто улаживать «в ручном режиме», даже если это означает дворцовый переворот или войну. В общем «рынке» участвуют только грамотные и мобильные, те, чьи социально значимые действия не опосредованы разного рода «представителями» и «заместителями»: помещиками, князьями, скупщиками товара.
Все меняется с появлением массового общества широкой грамотности и экономической самостоятельности. Каким бы ничтожным ни был индивидуальный потенциал фабричного рабочего или фермера, их самостоятельность как «игроков» приводит к колоссальному усложнению социальной среды, фактически — превращению ее в «открытую систему», все влияния на которую в принципе невозможно описать единой формулой. Просчитать последствия того или иного фактора можно лишь в категориях вероятности. В массовом обществе грамотных людей, способных взаимодействовать с незнакомцами при помощи абстрактных идей, даже рабочий, получающий пять рублей в неделю, способен причинить миллионные убытки индустрии в случае участия в забастовке, а то и вызвать политический кризис. Поэтому равновесие модерного массового общества всегда неустойчиво, а главным фактором поддержания даже такого равновесия становится не твердая власть, а способность поддерживать обратную связь на всех уровнях и гибко (и адекватно) реагировать на поступающие сигналы. Вот почему рыночная экономика и политическая демократия оказываются тесно связанными с модерным обществом: не в силу неких моральных качеств именно этих форм организации, а благодаря способности постоянно обеспечивать обратную связь с разнообразными многочисленными «игроками» общества, помогать находить компромисс или менять общие «условия игры».
В принципе, имперская ситуация и означает описание общества как «открытой системы» многофакторного разнообразия множества самостоятельных «игроков». До определенного момента реальная политическая конструкция империи стихийно примиряла это разнообразие в рамках единого общества — пока можно было решать межгрупповые конфликты, договариваясь с десятками или сотнями лидеров каждой группы. С появлением массового общества, когда число активных и непредсказуемых социальных игроков пошло на миллионы, имперская ситуация вышла из-под контроля ручного управления. Консервативный модернизм оказался самым взрывоопасным из всех возможных сценариев в этой ситуации. С одной стороны, не признавая права отдельных социальных игроков, режим блокировал каналы обратной связи с обществом. С другой, не желая совершенно отказываться от «европейскости» и не имея ресурсов для подавления всякого своеволия, режим «народной империи» оказывался беспомощным перед лицом нарастающих конфликтов.
Принимавшиеся режимом Николая II меры сами по себе были вполне рациональными способами замедлить взрывной рост и отчуждение от власти массового общества: затормозить приток населения в города, сбить градус недовольства трудящихся, привлечь симпатии народа напоминаниями о славных победах прошлого и пропагандой чувства превосходства над «инородцами». Однако предпринимались эти меры в рамках политического курса, который доказал свою тупиковость еще при жизни Александра III. В структурной имперской ситуации они не только привели к непредвиденным результатам, но, вступив в противоречие друг с другом, вызвали масштабный политический кризис, который смел старый режим в 1905 г.
События начали развиваться лавинообразно в первые годы ХХ века на фоне принятого курса на укрепление режима русской национальной империи. В основе этого курса лежала политика внутренней колонизации, коллективным субъектом которой являлись «истинно-русские люди» (любимое выражение Николая II) под предводительством самодержца. Только в этой структурной ситуации насаждения «русскости» могла реализоваться политическая утопия единения авторитарного правителя и этноконфессиональной нации, не требующей политических прав. Сначала внутренняя колонизация была направлена на окраины империи: на Западный край — против «польского засилья» на польских землях; на Закавказье — прежде всего, против армянского национализма и независимости апостольской григорианской церкви; на Великое княжество Финляндское — против автономности местных институтов от общеимперских. Внутренняя колонизация Средней Азии и Сибири проходила под лозунгом захвата ресурсов и преодоления перенаселенности внутренних губерний (то, что в Германии начали называть Lebensraum — «жизненное пространство»). Историки указывают на многозначность и противоречивость разных версий «русскости» на разных участках внутренней колонизации: этнокультурной (в западных губерниях), конфессиональной (в Закавказье) или административной (в Финляндии). Но для самого режима Николая II эти различия не имели значения, потому что главной была сама ситуация колонизации от имени «истинно-русских людей», которые воплощали идеальных «своих»: по языку, религии, быту и беззаветной преданности.
Внутренняя колонизация от имени русской империи вызывала протест, в том числе вооруженный. В 1898 г. вспыхнуло Андижанское восстание в Туркестане; в 1903 г. на кавказского наместника («главноначальствующего гражданской частью Кавказа»), князя Григория Голицына, было совершено покушение членами армянской социал-демократической партии Гнчак; «объединительная» политика в Великом княжестве Финляндском вызывала нарастающее сопротивление. Однако вместо коррекции политики внутренней колонизации, по многим направлениям явно зашедшей в тупик, режим Николая II предпочел форсировать «национально-патриотическую» колонизацию, распространяя ее вовне. Внутренняя колонизация как форма утверждения единства авторитарного режима с нацией переросла в империалистическую экспансию, а затем в войну.
Империализм как продолжение «внутренней колонизации»
В октябре 1901 г. в целом закончилось сооружение Транссибирской железной дороги, связавшей Москву с Дальним Востоком. Строительство магистрали велось с 1891 г. отдельными отрезками, и хотя регулярное сквозное движение началось в июле 1903 г., поток людей и грузов пошел по железной дороге много раньше. Сооружение дороги не в последнюю очередь диктовалось интересами колонизации восточных окраин крестьянами — переселенцами из европейской части империи. За десятилетие с 1894 до 1903 г. по строящемуся еще Транссибу в Сибирь проследовали свыше 1.1 миллиона переселенцев и четверть миллиона разведчиков-«ходоков». Однако по мере реализации проекта само понимание «колонизации» приобрело совсем иной смысл. Поворотным моментом стало принятие решения в середине 1890-х гг. о том, по какому маршруту проводить трассу к востоку от Байкала. Собственно, конфигурация российских владений не оставляла выбора (см. карту): дорога должна была делать огромную петлю на север, проходя вдоль берега Амура (границы с Цинской империей), а потом возвращаться на юг, к Хабаровску и дальше — до Владивостока. Приамурский генерал-губернатор Сергей Духовский считал, что эта дорога имела бы огромное «колонизационное и базоустроительное значение». Однако существовал и прямой путь к Тихому океану, почти на 1000 км короче (и, по первоначальной смете, экономящий свыше 40 млн. рублей) — только проходил он через Манчжурию, малозаселенную северо-восточную провинцию Цинской империи (плотность населения Манчжурии едва превышала 5 человек на км2).
Используя благоприятные внешнеполитические обстоятельства, 2 мая 1896 г. (за две недели до Ходынской катастрофы) в Москве был подписан секретный союзный договор с Цинской империей, который, в частности, разрешал строительство Китайско-восточной железной дороги (КВЖД) по территории Манчжурии. Изначально «технический» интерес к чужой территории быстро приобрел самостоятельное стратегическое значение. Строительство КВЖД началось в 1897 г., а уже в 1898 г. у Цинской империи дополнительно взяли в аренду на 25 лет территорию на юге Ляодунского полуострова — южной оконечности Манчжурии, в 1400 км от российского пограничного Благовещенска (см. карту). Главной целью аренды были два незамерзающих порта на Желтом море, известные в России как Порт-Артур и Дальний. К ним от КВЖД протянули на юг ветку дороги длиной свыше 1000 км. В Порт-Артуре началось сооружение мощной военно-морской базы, и приоритеты колонизации Дальнего Востока окончательно сместились в сторону империалистической экспансии. Если в 1898–1900 гг. в среднем в год в Сибирь приезжали по 157 тыс. переселенцев, то в 1901−1903 гг. эта цифра сократилась в два раза (до 83.5 тыс.).
Затем, незадолго до официального завершения строительства КВЖД, летом 1901 г. правительство утвердило устав Восточно-Азиатской промышленной компании (ВАПК) — акционерного общества, созданного приближенными к Николаю II отставными гвардейскими офицерами, высокопоставленными чиновниками и членами императорской семьи. Через цепочку посредников компания стала владельцем лесной концессии на севере Корейского королевства, которую в 1896 г. получил от корейского правительства владивостокский бизнесмен Юлий Бринер (дед голливудского актера Юла Бриннера). Концессия Бриннера давала право в течение 20 лет добывать лес «на казенных землях в верховьях реки Тумень и по ее правым притокам», а также «лесные площади на корейской территории системы реки Ялу». За этим приблизительным географическим описанием скрывается огромная территория, практически целиком совпадающая с полуторатысячекилометровой китайско-корейской границей, как раз и проходящей по рекам Ялу (Ялуцзян) и Тумень (Туманган). Ялу впадает в Желтое море у восточного основания Ляодунского полуострова, на южной оконечности которого располагались Порт-Артур и Дальний (см. карту).
Придворное акционерное общество, в котором сам император Николай II имел пакет в 42.5% акций, заинтересовалось лесодобычей на севере Корейского полуострова не потому, что в Сибири уже закончился лес. Инициаторы проекта ориентировались на идеал британской Ост-Индской компании, которая колонизовала индийский субконтинент как частное предприятие, а потом передала административный контроль правительству Великобритании. Николая II и высокопоставленных сановников в проекте привлекала перспектива «мягкого» подчинения Кореи и установления контроля над Манчжурией, прямо сформулированная в обосновании проекта компании. В то же время, инициаторы предприятия — прежде всего, отставной кавалергард Александр Безобразов — выстраивали его как идеальную коррупционную схему. ВАПК создавалась преимущественно на казенные средства (ни у кого из пайщиков, кроме императора, не имелось необходимых по уставу средств), но ее дочерние фирмы действовали как коммерческие предприятия. Реальный бизнес-план основывался на получении и распределении казенных средств, вместо инвестиции в производство. Неудивительно поэтому, что лесодобыча оказалась нерентабельной, и чтобы показать хоть какие-то результаты, местные субподрядчики вылавливали в реке разбитые плоты корейских лесорубов, ставили на них клеймо «Русского лесопромышленного товарищества» («дочки» ВАПК) и сплавляли дальше на продажу, а после стали просто отбирать целые плоты у корейцев. Высокие внешнеполитические цели оправдывали в глазах политического руководства экономическую неэффективность ВАПК.
Напрасно министр финансов Сергей Витте пытался сопротивляться деятельности ВАПК и дискредитировать его лоббистов, в своих воспоминаниях утверждая, будто жена Безобразова публично сокрушалась: «Никак не могу понять: каким образом Саша может играть такую громадную роль, неужели не замечают и не знают, что он полупомешанный?» Даже этот анекдот, скорее, подчеркивал параллель с британским образцом: в своем классическом исследовании 1883 г. «Экспансия Англии» кембриджский профессор Джон Сили обронил ставшую крылатой фразу: «Кажется, мы завоевали полмира в приступе рассеянности». Только относилась эта фраза к событиям XVIII в., а Ост-Индская компания, при всех своих политических амбициях, являлась публичным коммерчески выгодным предприятием, и уже тогда ее деятельность в Индии воспринималась в метрополии как коррупционный скандал. В 1770-х — 1780-х гг. британский парламент принял серию законов, подчинивших деятельность компании парламентскому контролю. По новым законам, предпринимательская деятельность компании четко отделялась от политической, которая полностью ставилась под надзор правительства. Возможно, во времена царя Алексея Михайловича политическая и деловая культура ВАПК показалась бы нормальной и руководству Ост-Индской компании, но в начале ХХ в. это было уже немыслимо. Дело не в том, что изменились стандарты в Великобритании, а в том, что управление Российской империей «в приступе рассеянности» и в изоляции от всякой обратной связи с реальным миром (и даже с правительственными министрами) гарантировало катастрофу.
13 февраля 1903 г. в Зимнем дворце состоялся костюмированный «русский бал», своеобразный манифест русской национальной империи, а также важное свидетельство состояния социального воображения имперской элиты. Если переодевшись в заказанные в петербургских ателье стилизованные под XVII век костюмы можно было ощутить себя «древними русскими людьми», то и для реализации уже ощущаемого «господства в Азии» больших усилий не требовалось. Спустя три месяца, в начале мая 1903 г., Николай II собрал совещание высших сановников и главных лоббистов ВАПК, на котором был провозглашен «новый курс» политики на Дальнем Востоке. Он сводился к отказу от соблюдения принятых договорных обязательств и учета сложного баланса внешнеполитических интересов под бутафорским прикрытием — столь же убедительным, как переодевание придворного оркестра в «древнерусские костюмы».
Первоначальный проект ВАПК 1898 г. предполагал размещение на территории лесной концессии на севере Кореи 20 тысяч военных под видом служащих компании: по мысли Безобразова, это позволяло отстаивать нейтральный статус Кореи как страны, свободной от иностранных войск, при фактическом российском военном преобладании. На деле, этот проект необъявленной «гибридной войны» и начал проводиться в жизнь с лета 1903 г. Уже в мае сотня запасных чинов российской армии в штатском появились в деревушке в устье Ялу, занимаясь подготовкой рыбацкого порта к приему больших судов и грузов. К концу года общее число выдаваемых за лесорубов солдат составило батальон. В нарушение договора годовой давности с Цинской империей был остановлен вывод российских войск из Манчжурии, временно оккупированной для подавления разрушительного «боксерского восстания», сотрясшего всю империю. Строительство дорог, складов и обустройство порта в Корее являлось не только нарушением условий концессии, но и, в сочетании с действиями в Манчжурии и лихорадочным наращиванием военного присутствия в Порт-Артуре, служило демонстративным вызовом Японии.
Японские притязания на контроль над Кореей или на Ляодунский полуостров были такими же империалистическими, как и российские. Разница состояла только в том, что если Николай II и его приближенные, включая противников военной экспансии, размышляли о Манчжурии в абстрактных категориях (вроде современных понятий «геополитики» и «проекции силы»), то для японского правительства это были совершенно конкретные территории, за которые уже велась война с Цинской империей в 1894–1895 гг. и которые формально принадлежали ей по Симоносекскому мирному договору. Будучи членами модерного общества, Николай II и его окружение, включая военного министра генерала Алексея Куропаткина, разделяли многие массовые стереотипы своего времени: о «желтой угрозе» и неполноценности «азиатской расы», о формальном различении открытого военного вторжения и скрытой экспансии, на которую японцы «не имели права» давать военный ответ. Но, в отличие от многих практических политиков эпохи, российская элита «консервативных модернистов» позволяла себе принимать эту стереотипную картину мира за реальность и игнорировать все внешние обстоятельства, которые грозили разрушить гармонию «виртуальной реальности».
А реальные внешние обстоятельства были таковы: с конца 1880-х гг. основной базой российской Тихоокеанской эскадры были японские порты Йокогама, Нагасаки и Кобе. Бухта Владивостока замерзала зимой, до завершения строительства Транссиба подвоз материалов для ремонта и обслуживания кораблей во Владивостоке был практически невозможен, отсутствовали необходимые запасы угля и продовольствия по ценам, сопоставимым с японскими. Но и после основания базы в незамерзающем Порт-Артуре, более чем в 1000 км к югу от Владивостока, проблема флота не была полностью решена, и серьезный ремонт больших кораблей должен был проводиться в Японии. К концу 1903 г. оборудование базы в Порт-Артуре было готово на 20%, окончание работ планировалось на 1909 г. Закрытая со всех сторон бухта Порт-Артура имела единственный узкий, спиралевидный вход: расстояние между берегами не превышало 300 м, а в самом узком месте фарватер сужался вдвое. При этом длинный извилистый вход в гавань с быстрым течением был еще и мелким, позволяя большим боевым кораблям выходить в море только медленно, на буксире, и лишь дважды в сутки, на пике прилива. Безусловно, все эти проблемы были технически разрешимы: можно было пробить второй выход из гавани и углубить имеющийся, построить новый сухой док для ремонта больших кораблей и закончить укрепление батарей Порт-Артура (хотя и тогда сухопутное снабжение по железной дороге за тысячу километров могло быть легко перерезано, узкий вход в гавань заминирован, а сама база блокирована с суши). Но начинать гибридную войну до решения хотя бы этих технических проблем — вдали от метрополии, силами батальона в корейских лесах и одного армейского корпуса в Маньчжурии (на территории в миллион км2), полагаясь на необорудованную военно-морскую базу Порт-Артура, — можно было лишь с уверенностью в своей полной безнаказанности.
Война с Японией
В июле 1903 г. японское правительство заявило протест недружелюбным и угрожающим действиям России в Корее и Маньчжурии, а в августе предложило проект формального раздела сфер влияния. Полгода тянулись безрезультатные переговоры, откровенно саботируемые Россией, под прикрытием которых она наращивала военную группировку на Дальнем Востоке. Заинтересованное в реализации собственных империалистических планов в регионе и понимая, что время работает в пользу России, японское правительство 24 января (9 февраля) 1904 г. объявило о разрыве дипломатических отношений и немедленно начало боевые действия. Два дня спустя в ходе ночной торпедной атаки внешнего рейда Порт-Артура были серьезно повреждены три корабля российской эскадры. На следующий день японская эскадра уничтожила крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец», находившиеся в бухте Чемульпо (Инчхон), возле Сеула, для силовой поддержки российского политического присутствия в столице Кореи. Параллельно осуществлялась высадка японской армии на Корейском полуострове, и к концу апреля 1904 г. японские сухопутные силы вышли на границу с Манчжурией по реке Ялу, вступив на территорию лесной концессии ВАПК. Единственный узкий выход из гавани Порт-Артура был заминирован японским флотом. 31 марта (13 апреля) броненосец «Петропавловск», выйдя в море, подорвался на минах и затонул. Вместе с экипажем корабля и почти всем штабом эскадры погибли недавно назначенный командующим эскадрой адмирал Степан Макаров и художник-баталист Василий Верещагин. Еще один броненосец надолго вышел из строя. В начале мая, после нескольких неудачных попыток, японцы окончательно заблокировали гавань Порт-Артура затопленными транспортами, и мощная Тихоокеанская эскадра российского флота практически перестала существовать как военный фактор. Три крейсера, зимовавших в замерзшем Владивостоке, не смогли существенно помешать действиям японского флота и высадке десанта (см. карту).
После этого ход событий был предопределен географией: стратегическими целями в Маньчжурии и способностью оперативно доставлять к ним войска воюющих сторон. До Порт-Артура морем почти такое же расстояние от Нагасаки, как по железной дороге от Харбина, главной российской станции КВЖД. Только до Харбина войска еще надо было почти две недели перебрасывать из-за Урала по недавно построенному Транссибу. Причем, из-за ограниченной пропускной способности магистрали (через Байкал составы переправлялись на специальных паромах), в среднем в день, с учетом вооружения и снаряжения, прибывало лишь около тысячи солдат. Поэтому российская армия, обладая практически неограниченными ресурсами, постоянно находилась в ожидании подкреплений, уступая инициативу противнику. Японская сухопутная группировка была сравнительно незначительной — первоначально чуть более 80 тыс. человек. Российские войска на Дальнем Востоке к началу войны почти вдвое превышали это число, но они были разбросаны на огромной территории, не имели единого оперативного командования и гораздо медленнее перебрасывались в нужное место (см. карту). В результате, за несколькими исключениями, «русско-японская» война представляла собой цепь сражений, в которых российские войска оказывали героическое сопротивление существенно превосходящим силам противника — и отступали.
Первая японская армия, высадившаяся под Сеулом, 18 апреля переправилась через реку Ялу на территорию Маньчжурии, разбив заслон российских войск, уступавший ей в численности в два с половиной раза. Вторая японская армия высадилась к концу мая недалеко от заблокированного с моря Порт-Артура и немедленно перерезала сообщение базы с материком, разгромив малочисленные российские заслоны. После этого часть японских войск начала осаду Порт-Артура, обстреливая укрепления и запертые в гавани корабли из осадных орудий, а остальные части начали очищать Маньчжурию от российских войск, продвигаясь с юга на север.
Лишь в середине августа 1904 г. произошло многодневное генеральное сражение при Ляояне — примерно в одной трети пути от Порт-Артура к Харбину. Несмотря на численное превосходство и стойкость солдат командующий российской армией, бывший военный министр генерал Алексей Куропаткин, приказал отступить от Ляояна. Спустя месяц он предпринял наступление на японские позиции на реке Шахэ, в полусотне километров к северу. Однако полуторакратного превосходства российских войск оказалось недостаточно для преодоления упорного сопротивления японской армии. 6 (19) февраля 1905 г. началась самая крупная сухопутная битва в истории до начала первой мировой войны. На стокилометровом фронте в районе города Мукден (Шэньян) в течение трех недель сражались примерно равные по численности армии, в общей сложности более полумиллиона человек. Российская армия под командованием генерала Куропаткина проиграла это сражение и, полностью деморализованная, утратила боеспособность. 25 февраля (10 марта) началось многодневное отступление российских войск, которое не завершилось полной военной катастрофой только по причине собственных боевых потерь и усталости японской армии (см. карту).
Чтобы отрезать японские сухопутные силы от снабжения и деблокировать осажденный Порт-Артур, в конце сентября 1904 г. в Тихий океан была отправлена мощная эскадра, созданная из кораблей Балтийского флота и новейших, только что достроенных, судов. Переход по маршруту в 33 тыс. км занял более полугода, почти три месяца эскадра простояла у Мадагаскара, ожидая отправленные вслед подкрепления. Корабли воюющей страны не могли пополнять запасы топлива в нейтральных портах, а потому в составе эскадры находились разномастные транспорты-«угольщики», перевозившие часть необходимого для похода полумиллиона тонн угля. На полпути пришло известие о капитуляции Порт-Артура 20 декабря 1904 г., но эскадра продолжила путь, рассчитывая пробиться во Владивосток. Кратчайший маршрут на север проходил через Цусимский пролив между Кореей и Японией. Чуда не произошло: ожидавший российские корабли японский соединенный флот обнаружил медленно движущийся караван. Японский флот перерезал путь российской эскадры и, в ходе дневного артиллерийского боя 14 (27) мая 1905 г. и последующих ночных торпедных атак, уничтожил ее.
Завершающим ударом по российскому военному престижу стала оккупация японскими войсками острова Сахалин в июле 1905 г. Вновь японские силы имели большой численный перевес, вновь российская армия не смогла вовремя отреагировать на угрозу и организовать эффективное сопротивление. И хотя Сахалин — ставший российским владением лишь в 1875 г. — был единственной территорией Российской империи, занятой противником (на материке линия фронта так и стабилизировалась в южной Маньчжурии), в России и за ее пределами война считалась проигранной. Начались переговоры о мире, который был заключен 23 августа (5 сентября) 1905 года в американском Портсмуте. Несмотря на поистине катастрофическое военное поражение Российской империи (несравнимое с локальным поражением в Крыму полувеком ранее), окончательные условия мира были мягкими. Россия передавала Японии южную часть острова Сахалин, базы на юге Манчжурии и железную дорогу, ведущую от них на север, а также признавала Корею сферой интересов Японии. По сути, Россия просто соглашалась не препятствовать Японии играть в регионе ту доминирующую роль, которая она и так уже фактически играла в последнее десятилетие. За мягкими условиями мирного договора для России стояло давление на Японию остальных «великих держав», проявивших расистские двойные стандарты и не желавших допустить торжества «азиатов» над признаваемой «европейской страной» Россией.
У войны 1904–1905 гг. было много аспектов, и вовлеченность в нее Российской империи далеко не исчерпывается коррупционными интересами и политическим авантюризмом «безобразовцев». В ситуации, когда ведущие страны участвовали в колонизаторской эксплуатации Китая, казалось, что сам статус России как великой державы зависел от способности проявить агрессивный империализм. Так, занятие Порт-Артура мотивировалось тем, что незадолго до этого район бухты Циндао (Qingdao), в 300 км южнее Порт-Артура, под угрозой применения силы был получен Германской империей в концессию на 99 лет. И все же сознательное подражание колонизаторской стратегии британской Ост-Индской компании или авантюрному империализму германских Кайзерлихмарине только подчеркивает специфику российской политики на Дальнем Востоке. Результаты российских действий оказались радикально отличными от того, чего добились остальные великие державы, демонстрировавшие тот же репертуар империализма: авантюризм, колониализм, коррупцию и культурные предрассудки. Всего за несколько лет стратегический партнер — Япония, многие годы предоставлявшая свои порты для базирования российского флота, превратилась в непримиримого противника. Правительства Цинской империи и Корейского королевства, занимавшие пророссийскую позицию, оттолкнуло демонстративное нарушение российской стороной принятых на себя обязательств. Правительства и предпринимательские круги европейских держав остро отреагировали на попытку Российской империи не просто аннексировать Манчжурию, но и монополизировать всю внешнюю торговлю в регионе.
Еще отчетливее проявилась специфика режима Николая II в ходе ведения войны. Любое сражение идет не по плану, всегда и всех подводит погода или техника (по некоторым оценкам, японские корабли понесли больший урон от подрыва собственных боеприпасов, начиненных неустойчивым тринитрофенолом, чем от попаданий российских снарядов). Но последовательность катастроф российской армии выходит за пределы статистической вероятности неудачного стечения обстоятельств и даже ошибок командования. За последнее столетие ход Цусимского сражения был воссоздан едва ли не по минутам, пересчитано количество орудий разного калибра (с поправкой на разницу в составе взрывчатого вещества), сравнена толщина брони на всех судах и скорость хода. Получается, что по количеству и огневой мощи линейных кораблей (эскадренных броненосцев) российский флот имел существенный перевес, но сильно уступал по количеству крейсеров и орудий среднего калибра. На этом основании ответственность за разгром обычно возлагается либо на начальника Главного морского штаба Зиновия Рождественского, назначенного командующим эскадрой, который не сумел использовать более чем двукратное преимущество в орудиях главного калибра, либо на техническое несовершенство артиллерии, бронирования и ходовой части российских судов. В этом анализе важна сама логика — очевидно, та самая, которой руководствовался Николай II и его окружение.
В этой логике стирается грань между реальностью и упорядоченным логическим представлением о ней. Реальность — войны, политики, экономики — это «открытая система», которую невозможно полностью адекватно описать, а значит, и предсказать. Можно просчитать некий вариант развития событий на ограниченном временном отрезке, на конкретной территории, и подготовиться отреагировать на несколько наиболее вероятных сценариев развития ситуации. Чем обширнее и чаще обмен информацией с внешним миром, тем точнее удается скорректировать изначальные, ограниченные в своей применимости планы. Консервативный модернизм готов использовать новейшие средства для достижения своих целей, но не в состоянии понять логику современного массового общества, изменчивого и динамичного, как океанская погода.
Вторую Тихоокеанскую эскадру отправили на войну не для того, чтобы ее уничтожил в первом же сражении японский флот: по подсчетам штабистов — как и современных историков — по некоторым важнейшим показателям российский флот имел преимущество над японским. По тем же подсчетам, технически флот мог успешно совершить кругосветное путешествие, перевозя уголь транспортами и на палубах броненосцев. Новейшие корабли были вооружены современной артиллерией и снарядами с высокотехнологичным взрывчатым веществом (пироксилином), снабжены радиосвязью. На бумаге уравнение решалось в пользу российской эскадры. Точно так же, на бумаге, российские вооруженные силы на Дальнем Востоке действительно превосходили по численности силы вероятного японского десанта. Первая Тихоокеанская эскадра была мощнее японского флота, целиком даже не помещаясь в гавани Порт-Артура. Так же на бумаге — в публицистике и художественной литературе — «желтая раса» не воспринималась в качестве достойного противника. Статистически численность населения Российской империи в три раза превосходила население Японии. По документам, российское присутствие на севере Кореи было связано исключительно с мирной экономической деятельностью. Формально вывод российских войск из Манчжурии прекратился в 1903 г., в нарушение договора, по неким уважительным причинам. Статистика, пропаганда и ложь перемешивались, формируя виртуальную реальность — и не существовало ни навыков мышления, ни формальных институтов, которые заставляли бы политическое руководство сверять усвоенную картину мира с действительностью. В расчет принималось то, что можно просчитать: калибр орудий, запас топлива. Но как оценить формально — в цифрах и процентах — к примеру, психологическое состояние экипажей вступивших в Цусимское сражение российских кораблей, проведших до этого в море 220 суток, по 650–850 человек в замкнутом пространстве корабля?
Японская армия и флот комплектовались такими же крестьянами, что и российские. Индивидуальные боевые качества солдат и офицеров, как и техническое оснащение войск, были вполне сопоставимы. Очевидно, что российский режим (по крайней мере, в той части, что отвечала за военную машину) оказался структурно неспособен к стратегическому планированию и эффективному управлению массой войск в сотни тысяч человек, как частным случаем современного массового общества.
10.4 Антиимперский выбор: отказ от компромисса
Новый курс власти: изменение как измена
Переход имперского общества в состояние открытого кризиса проходил параллельно с формированием кризиса внешнеполитического, несмотря на, казалось бы, прямо противоположные исходные обстоятельства. Все же к началу ХХ в. позиции Российской империи на Дальнем Востоке казались прочными и выгодными, в то время как внутри страны нарастали экономические проблемы и политическое напряжение. Однако различия между внешней и внутренней политикой оказываются второстепенными, если, подобно режиму Николая II, полностью игнорировать внешние обстоятельства, как благоприятные, так и враждебные. Замкнувшись в своих представлениях о реальности, режим русской национальной империи в итоге загнал себя в тупик по всем фронтам. Отсутствие обратной связи вызывало все более радикальную реакцию на действия режима, а провальный империализм и нарастающий внутренний политический кризис взаимно усиливали друг друга.
Символом перехода внутриполитических проблем в новое качество стало покушение на министра внутренних дел Российской империи Дмитрия Сипягина. Он был убит пятью выстрелами 2 (15) апреля 1902 г. буквально «на рабочем месте», в вестибюле Мариинского дворца (месте заседания комитета министров и Государственного совета) в Санкт-Петербурге. Это было первое политическое убийство столь высокопоставленного государственного деятеля за два десятилетия. Дерзкое покушение было организовано Боевой организацией (БО) при Центральном комитете только что образованной партии социалистов-революционеров (эсеров). Боевая организация возродила революционный террор как метод борьбы, сделав важный шаг вперед по сравнению с народовольцами. Индивидуальный по форме, новый революционный террор был массовым, признавая легитимными жертвами всех чиновников. В течение года БО организовала покушения на обер-прокурора Священного Синода, идеолога режима Александра III Константина Победоносцева и петербургского градоначальника Николая Крейгельса (которые сорвались), харьковского и уфимского губернаторов (первый ранен, второй убит). Удачные и сорвавшиеся покушения, как и поимка, суд и казнь террористов становились важнейшими информационными поводами раскручивания литературно-пропагандистской машины «Подпольной России». Уже сложившиеся темы и интерпретации (народная кара преступника-чиновника, бескорыстная личная жертва и моральное превосходство революционеров) наполнялись новым конкретным содержанием с каждым новым терактом.
Спустя несколько дней произошло другое знаковое событие, оставшееся почти незамеченным в обществе, взбудораженном убийством Сипягина. Один из идеологов модерного русского национализма, известный журналист Михаил Меньшиков, опубликовал фельетон, в котором с иронией рассказал о попытке убедить его в подлинности неких секретных документов, касающихся всемирного еврейского заговора. Судя по всему, это было первое публичное упоминание «Протоколов сионских мудрецов», манифеста «всемирного еврейского заговора», направленного на дестабилизацию законных национальных режимов. Опытный газетчик Меньшиков сразу распознал в этом тексте графоманскую фальшивку (и возмутился попыткой использовать его для низкопробного «вброса») что, впрочем, не помешало дальнейшей политической популярности «Протоколов».
Убийство Сипягина не вызвало немедленного масштабного карательного поворота во внутренней политике. Отсутствие прямой реакции режима на новые внешние обстоятельства могло даже показаться признаком более гибкой и адекватной позиции. Можно вспомнить, что в эти же дни (26 марта / 8 апреля 1902 г.) российский посланник в Пекине подписал с правительством Цинской империи соглашение о поэтапном выводе из Манчжурии войск, участвовавших в подавлении боксерского восстания. Полгода спустя, к октябрю 1902 г., российская сторона выполнила обязательства по первому этапу вывода войск из Манчжурии. Тогда же, в октябре 1902 г., автора проекта «полицейского социализма», реформатора Сергея Зубатова, перевели из Москвы в Петербург и поставили во главе политического сыска в империи. Он возглавил Особый отдел Департамента полиции, начав распространять московский эксперимент по организации контролируемой борьбы рабочих за улучшение своего экономического положения по всей стране. Решение о назначении Зубатова последовало по итогам его встречи с новым министром внутренних дел Вячеславом Плеве летом 1902 г., на которой Зубатов представил министру свою программу социальной политики. Одним из результатов этой встречи стало разрешение МВД лидерам зубатовской Еврейской независимой рабочей партии провести в Минске вторую Всероссийскую конференцию сионистов 22-28 августа (4-10 сентября) 1902 г. – единственный легальный сионистский съезд в истории Российской империи.
Но никакой «позиции», а тем более политики, за этими решениями не стояло. Одновременно с выводом трети российского оккупационного контингента из Маньчжурии полным ходом шло обустройство Порт-Артура. Распродавались участки под застройку, был сооружен завод для ремонта корабельных котлов и даже построен крематорий при кладбище. Капитальные инвестиции в развитие Порт-Артура мало согласовались с готовностью освободить его по окончанию концессии уже через двадцать лет, а необходимость охраны тысячекилометровой сухопутной дороги до Харбина — с обязательствами по выводу войск из Манчжурии. Точно так же отправивший Зубатова на повышение в Петербург новый министр внутренних дел сам не воспринимал серьезно его программу социальных реформ. По воспоминаниям Зубатова, Плеве с самого начала считал поддержку рабочего профсоюзного движения не решением проблемы революционной угрозы, а временным отвлекающим маневром, допустимым только в условиях политической стабильности. Активизация «зубатовских» профсоюзов нарушала политическую стабильность в старом полицейском понимании эпохи до-массового контролируемого общества. Публичное проведение масштабного сионистского съезда (526 участников) в российском губернском городе, по сути, означало признание законности еврейского национального движения, а значит, и любого другого. Это признание было несовместимо с проектом русской национальной империи, который подозрительно относился даже к модерному русскому национализму как самостоятельному и динамичному движению (а не просто синониму верноподданнических чувств).
Возможность режима одновременно проводить разнонаправленную политику структурно исчерпала себя еще при жизни Александра III, а осенью 1902 г. речь шла уже о необходимости однозначного выбора курса в смысле конкретных политических шагов. Переломный характер момента проявился в резком развороте позиции министра финансов Сергея Витте. Во второй половине октября 1902 г. он вернулся из инспекционной поездки в Маньчжурию с посещением Порт-Артура, по итогам которой попытался убедить Николая II и его окружение в необходимости сворачивания экспансионистской политики на Дальнем Востоке. Витте выступал против прямых военных действий (включая устройство базы в Порт-Артуре) с самого начала, отстаивая сугубо экономический империализм: строительство железных дорог и получение торговых преференций, колонизацию «полосы отчуждения» вдоль проложенной трассы. Однако в основе его экономического империализма лежало то же пренебрежительное отношение к «азиатам» и та же идеализация мощи российского государства, что и в основе военной экспансии его политических оппонентов. Судя по выступлениям конца осени 1902 г., Витте осознал связь назревающего военного противостояния с захватнической экономической деятельностью. Он настаивал не только на необходимости демилитаризации Манчжурии, но и на сворачивании экономического присутствия в Корее и даже вдоль КВЖД, являвшейся с начала до конца его собственным проектом. Взамен КВЖД он предлагал достроить забайкальскую ветку Транссиба целиком по российской территории — вопреки своим собственным расчетам и аргументам середины 1890-х гг.
Однако, как мы видели, военный экспансионизм был связан не только с экономическим колониализмом, но со всем строем «русской национальной империи». Идеи Зубатова и предложения Витте кажутся рациональными и соответствующими интересам режима, но рациональны они лишь с точки зрения постоянного взаимодействия с меняющейся окружающей действительностью. Взаимодействовать с реальностью — значит меняться вместе с ней, корректируя тактику и даже принятые цели. В течение почти полутора столетий именно таким образом — постоянной трансформацией в процессе реформ — поддерживалась устойчивость Российской империи перед лицом изменчивой имперской ситуации. Сформулированный режимом Александра III проект русской национальной империи был тупиковым, потому что отождествлял идеал неизменной «русской нации» с логикой современного государства и пространством империи. Принятый Николаем II как самое драгоценное наследие, этот проект парализовал возможность изменений, которые начали буквально ассоциироваться с изменой: менять что-то в государстве русской нации значило пытаться трансформировать саму эту, извечно неизменную, нацию. Именно глубокий национализм, созвучный романтическому восприятию нации как единства народного тела и души, лежал в основе отказа Николая II поступиться авторитарной формой правления и уверенности в колонизаторской миссии русской империи в «Азии». За кажущимися нерациональными решениями стояла не жажда власти и не глупость как таковые, а сочетание определенного типа социального воображения с возможностью распоряжаться почти безграничными ресурсами. Разучившись воспринимать империю как «целый мир» (сложную систему) и воображая ее при помощи органицистских метафор славянофильских журналистов как единое и однородное тело, окружение Николая II всеми силами защищало этот образ — прежде всего, от любых внешних влияний, способных исказить воображаемую гармонию «воображенного сообщества». В случае прямого столкновения с принятой картиной мира, сторонники прагматичной коррекции курса отторгались режимом, невзирая на политическую лояльность и заслуги.
Выслушав самого влиятельного правительственного чиновника Витте, Николай II несколько месяцев колебался. Именно в этой ситуации окончательного выбора пути 13 (26) февраля 1903 г. в Зимнем дворце прошел программный «русский бал». На следующей неделе Николай II приказал приостановить вывод войск из Манчжурии, сорвав второй этап демилитаризации провинции. 26 марта он открыл заседание, обсуждавшее дальневосточную политику, объявлением своей поддержки лесной концессии в Корее, и лишь сопротивление министров во главе с Сергеем Витте не позволило принять тогда более радикальных решений. На следующем заседании 7 мая был все же объявлен агрессивный «новый курс» на Дальнем Востоке. 15 августа 1903 г. Сергея Витте уволили с поста министра финансов. 19 августа министр внутренних дел Плеве вызвал к себе в кабинет Зубатова, устроил ему публичный разнос, обвинив в потворстве стачечному движению и антиправительственной деятельности Еврейской независимой рабочей партии. Зубатов был не только уволен со службы, но и выслан под надзор полиции во Владимир. Режим отторгал тех сотрудников, которые пытались спасти его ценой реформ.
Сценарий реакционного восстания масс: кишиневский погром
28 августа 1903 г., спустя десять дней после увольнения Зубатова, в петербургской газете «Знамя» начали печататься «Протоколы сионских мудрецов», которые в апреле 1902 г. отказался печатать в газете «Новое время» Михаил Меньшиков. Трудно сказать, препятствовал ли Зубатов (общавшийся с Меньшиковым) публикации «Протоколов», но известно, что после длительного рассмотрения, разрешение на печатание выдал сам Плеве, сразу после увольнения Зубатова. Газету «Знамя» основал перебравшийся в столицу молдавский журналист Паволакий Крушеван, известный до этого изданием в Кишиневе единственной местной ежедневной газеты «Бессарабец». Печатавшаяся большим тиражом (до 6000 экземпляров), газета к началу ХХ в. превратилась в рупор расового антисемитизма и русского национализма. Перед Пасхой 1903 г. на страницах газеты развернулась пропаганда «кровавого навета»: Крушеван описывал подробности ритуального убийства иудеями христианского юноши в соседних Дубоссарах и призывал к отмщению. Официальное следствие раскрыло преступление и потребовало, чтобы газета опубликовала опровержение (в том числе фантастического описания внешнего вида трупа и характера ран). Но в эпоху массового общества влияние информации лишь косвенно зависит от ее официального статуса «правдивости». Тем более что в это же время в «Бессарабце» публиковалась «Речь раввина» — обработка главы старого немецкого антисемитского романа «Биарриц», послужившего одним из источников «Протоколов». Более того, накануне Пасхи в Кишиневе в публичных местах стали распространяться листовки с призывами к погрому. Листовка, обнаруженная в трактире «Москва», в частности, объясняла: «А дай только волю жиду, тогда он воцарится на нашей святой Руси, заберет все в свои лапы, и будет не Россия, а Жидовия».
Ни в самом «кровавом навете» (обвинении евреев в ритуальном убийстве христиан на Пасху), ни в обостренном переживании главного события в православном календарном цикле (осуждения иудейской администрацией на смерть Иисуса Христа и его чудесного воскресения), провоцировавшем антииудейские настроения, не было ничего нового. Однако обычно слухи о ритуальном убийстве распространяли неграмотные крестьяне, а представители образованной элиты и администрация пытались их разубедить. В данном же случае антиеврейские чувства возбуждала главная неправительственная газета региона. Столкновения, подчас крайне ожесточенные, которые называли в XIX веке еврейскими погромами, преимущественно носили межконфессиональный характер. С этим связана привязка погромов к Пасхе и их антииудейский характер. Развернувшаяся в Кишиневе пропаганда буквально революционизировала погромную традицию, переводя конфликт из религиозного в политическую плоскость. «Речь раввина» убеждала в планах евреев захватить мировое господство, а листовки недвусмысленно обвиняли их в революционной деятельности: «А сколько они приносят нашей матушке России вреда?.. Они хотят завладеть ею. Они печатают разные прокламации к народу, чтобы возбудить его против власти, даже против нашего царя-батюшки». Используя традиционную форму еврейского погрома, Крушеван и его соратники создали универсальный сценарий монархического контрреволюционного городского восстания. Непосредственным объектом насилия толпы были евреи, но смысл антиеврейского насилия был связан не только и даже не столько с религиозной рознью или культурным конфликтом, а с враждебными политическими идеями, которые приписывались им как главным чужакам с точки зрения режима «русской национальной империи».
Вспыхнувший в Кишиневе в первый день православной Пасхи погром (6 (13) апреля 1903 г.) оказался абсолютно беспрецедентным по разрушительности и количеству жертв. В ходе погрома были убиты более четырех десятков человек (цифры разнятся), несколько сотен ранены, пострадали полторы тысячи домов. Это был первый геноцидальный погром, когда толпа не ограничивалась символическим насилием (уничтожением собственности или религиозных символов), а стремилась убивать. Это был также первый погром новой эпохи массовой политики, когда объединенная общей идеей толпа громил сталкивалась с организованным сопротивлением. Первый день погрома прошел «скромно»: по официальным данным, были разгромлены два еврейских магазина и несколько складов, никто не пострадал, а полиция арестовала 60 хулиганов. На следующий день, когда информация о погроме распространилась на окраинах и в город направились ватаги чернорабочих и крестьян, несколько сотен евреев Кишинева вооружились (в том числе и огнестрельным оружием) и попытались дать отпор. Согласно отчету прокурора Кишиневского окружного суда, выстрелом был убит подросток из толпы громил, после чего толпа озверела и принялась уничтожать имущество и людей в местах, откуда раздавались выстрелы.
Антисемитские комментаторы обычно подчеркивают, что эскалация насилия была вызвана насильственными действиями кишиневцев-евреев, и если бы не это, все бы обошлось обычным «ритуальным» хулиганством. В определенном смысле они были правы: в обществе «старого порядка», где этноконфессиональные группы официально ранжированы и обладают каждая особым статусом, одни имеют больше прав, чем другие. Представители официальной религии имеют моральное, если не легальное право на символическое насилие по отношению к «меньшинствам», для которых оказывается благоразумнее «перетерпеть». Но в современном массовом обществе сословный статус группы перестает играть существенную роль, а в условиях отторжения массового общества от государства формальный статус вообще теряет всякий смысл. В начале ХХ в., на фоне распространения еврейской национальной политики (будь то Бунд или сионизм), ответом на погромную угрозу стала симметричная мобилизация евреев, которые реагировали теперь на конкретную ситуацию, а не на формальные обстоятельства «статуса» или «традиции». Предположение, что одна группа населения имеет право на традиционное «самовыражение» религиозных чувств через символическое насилие, а другая должна «благоразумно» пережить унижение, очень характерно для химеричного социального воображения «русской национальной империи» — достаточно «национального», чтобы отождествлять себя с определенной этноконфессиональной общностью, но архаично-имперского в своем восприятии этой национальной общности как привилегированного правящего сословия.
Даже если бы погром не перешел в разрушительную и геноцидальную фазу, сам факт антиеврейских беспорядков в Кишиневе, в котором евреи составляли не менее 46% населения, свидетельствует о роли пропаганды Крушевана и его сторонников. Нет ничего естественного и «традиционного» в пасхальном погроме в губернском городе, в котором евреи составляют самую многочисленную этноконфессиональную группу (и практически половину населения). Погромы XIX в. в Одессе или Николаеве по характеру были такими же соседскими конфликтами прихожан, демонстрировавших религиозность через символическое насилие, как и нападения на еврейские местечки православных крестьян из близлежащих деревень: они обычно вырастали из личного конфликта и отличались невысоким уровнем физического насилия. Только после кишиневского погрома, в котором пострадало треть домов города и сотни людей, появился новый тип антиеврейского насилия: собственно национального, не зависящего от местных демографических пропорций. Напротив, новые погромы организовывались как этнические чистки, призванные изменить состав населения, и чем значительнее было присутствие евреев, тем более ожесточенным оказывался погром. Еврейский погром стал элементом массовой политики, потеряв религиозную (антииудейскую) подоплеку. Благодаря многочисленным газетным репортажам, технология кишиневского погрома — в значительной степени, авторский продукт Крушевана — стала всеобщим «выученным» знанием: обвинение евреев в подготовке свержения строя; представление погрома как исполнения национально-патриотического долга; нападение погромной толпы после «убийства подростка», снимающего любые самоограничения и ведущего к убийствам заведомо беззащитных детей и стариков. Убийство начинает восприниматься не как эксцесс, а как норма погрома.
Именно явная политизированность кишиневских погромщиков породила представление о том, что погром был инспирирован властями. В результате этих слухов приостановила свою деятельность, а 6 июня приняла формальное решение о самороспуске, не считая возможной легальную деятельность под патронатом Департамента полиции, Еврейская независимая рабочая партия (поддержка которой стала официальной причиной увольнения Зубатова спустя два месяца). Всего несколькими неделями ранее революционному движению был нанесен не менее сильный удар: в Киеве арестовали Григория Гершуни, лидера БО партии эсеров. Его место руководителя террористической ячейки занял Евно Азеф, давний агент Департамента полиции, что было воспринято полицейским руководством как решительная победа.
Однако к лету 1903 г. нарастающий политический кризис достиг такого уровня, что отдельные личности и даже партии перестали играть в нем решающую роль. Был уволен Зубатов и свернуты его легальные рабочие организации, но остались (сформированные, в том числе, при его участии) навыки правильной организации рабочего движения, включая забастовки. Прямым результатом деятельности Еврейской независимой рабочей партии и других зубатовских обществ стала всеобщая стачка на Юге Российской империи летом 1903 г., которая парализовала жизнь десяти промышленных центров (включая Киев, Екатеринослав, Николаев, Одессу, Баку, Тифлис, Батум). В стачке приняли участие до 200 тысяч рабочих — небывалый прежде по масштабам и координации всплеск забастовочного движения.
Боевую организацию партии эсеров возглавил полицейский агент Азеф, саботировавший одни покушения и организовывавший другие. Вот только, при всей резонансности покушений террористов БО и роковой роли Азефа для организации, в это время она уже утратила монополию на политический террор. Он превратился в элемент массовой политики, опирающийся на отработанные технологии: обязательную опору на риторическую поддержку «Подпольной России» и усиливающий эффект публикаций в популярной прессе. Между 1902 и 1911 гг. БО организовала 11 успешных покушений, а всего за этот период в Российской империи произошло несколько десятков тысяч атак под политическими лозунгами, в результате которых было убито и ранено порядка 17 тыс. человек. Методики подсчета и конечные цифры могут разниться, но в любом случае на долю «флагмана террора» БО приходится не более одной тысячной всех терактов.
Сценарий революционного восстания масс: анархистский мятеж
Постепенное перерастание структурного «восстания масс» в реальную политическую революцию массового общества нашло наиболее наглядное отражение в истории современного российского анархистского движения, зародившегося летом 1903 г. В это время революционная деятельность оставалась уделом представителей образованной элиты, пришедших к революции в результате сугубо интеллектуальной эволюции. Как и четверть века назад, радикальные интеллигенты организовывали кружки для чтения и обсуждения теоретической литературы, пытались распространять свои взгляды среди «народа», а самые нетерпеливые — готовили убийства высших чиновников. К 1903 г. сети участников кружков, разделявших общие теоретические воззрения, составили несколько объединений, объявивших себя революционными партиями (РСДРП, ПСР и пр., см. предыдущую главу). Таким же интеллигентским кружком была группа анархистов-коммунистов, начавшая издавать в Женеве ежемесячный журнал «Хлеб и воля». В отличие от остальных революционных партий, которые обосновывали необходимость революции теоретическими соображениями и даже рабочих пытались вербовать при помощи текстов К. Маркса и Ф. Энгельса, анархисты исповедовали идеологию непосредственного протеста: революция необходима, потому что невыносимы условия жизни простого человека. Целью революции должно стать уничтожение любых внешних дисциплинирующих форм, а не парламентская демократия (на период «буржуазной революции») и не диктатура пролетариата (на период борьбы с буржуазией). Социал-демократы с пренебрежением относились к незамысловатой идеологии анархистов, но она оказалась удивительно близка рядовым представителям городского массового общества. Впервые простые люди открывали в себе революционеров, а не учились ими становиться.
Анархистские группы стали распространяться на юге Российской империи во второй половине 1903 г. со скоростью лесного пожара. Костяк первых организаций составляли бывшие члены социал-демократических и эсеровских групп, а особенно Бунда (в его составе было больше всего простых рабочих). Но очень скоро анархистские группы обросли новыми членами, прежде не имевшими опыта работы в нелегальных кружках. Спустя несколько лет более пяти с половиной тысяч анархистов действовали в 180 городах Российской империи, практически во всех губерниях. Учитывая, что не существовало единой анархистской партийной организации и даже координирующего центра, широта спонтанного распространения анархистского движения свидетельствует о его популярности.
Анархистов не интересовал земельный вопрос: эти люди не имели никакой собственности, зарабатывая на жизнь поденным трудом, и естественной социальной средой для них была многокультурная городская толпа. Они активизировались там, где поднималась стачечная борьба: требовали от хозяев уступок, немедленно переходя к террору в случае несговорчивости. Первым терактом анархистов, положившим начало эскалации политики «прямого действияˮ, стало покушение 18-летнего Ниселя Фарбера на владельца белостокской прядильной фабрики Авраама Кагана. Три четверти населения Белостока составляли евреи, поэтому, при отсутствии этнокультурных различий, конфликт рабочих с фабрикантами воспринимался исключительно как проявление классовой борьбы. Еврейская специфика этого классового конфликта проявилась лишь в том, что Фарбер знал, когда находящийся под охраной полиции Каган окажется уязвимым для атаки: в первый день еврейского нового года (10 сентября нового стиля) Фарбер подкараулил свою жертву у синагоги и нанес несколько ударов ножом. Спустя месяц Фарбер совершил еще более спонтанную атаку, стоившую ему жизни: он явился с самодельным взрывным устройством в полицейский участок. Никого из начальства не было на месте — Фарбер не удосужился даже потратить несколько дней, чтобы выяснить распорядок дня пристава и его помощника. Не желая отказываться от задуманного, Фарбер метнул бомбу. В результате взрыва ранения получили два городовых и писарь, но также погибли два случайных посетителя и сам террорист.
Спонтанный и бездумный массовый анархистский террор — метание бомб в людных местах, пальба из пистолетов (анархисты предпочитали полуавтоматические браунинги) — отличался от «штучного» и тщательно спланированного «интеллигентского» террора Боевой организации. Так, история покушения на министра внутренних дел Плеве практически совпадает с хронологией русско-японской войны: многомесячная подготовка за границей во второй половине 1903 г. завершилась переправкой группы террористов в Россию, все собрались в Петербурге после начала войны. Первые неудачные попытки были предприняты 18 (31) марта 1904 г. и спустя неделю — в это время первая японская армия продвигалась от Сеула на север Кореи, а флот пытался заблокировать выход из гавани Порт-Артура. Утром 31 марта на минах погиб броненосец «Петропавловск» вместе с командующим эскадрой Макаровым и большинством штабных офицеров, а в ночь на 1 апреля в гостиничном номере взорвался член БО Алексей Покотилов, снаряжая бомбу для завтрашнего покушения на Плеве. Охоту на него продолжили в июле: со второй попытки Плеве был убит 15 (28) июля 1904 г., а через несколько дней началась японская осада Порт-Артура.
Партия социалистов-революционеров немедленно опубликовала воззвание «Ко всем гражданам цивилизованного мира», пытаясь оправдать теракт:
Вынужденная решительность наших средств борьбы не должна ни от кого заслонять истину: сильнее, чем кто бы то ни был, мы во всеуслышание порицаем, как это всегда делали наши героические предшественники «Народной Воли», террор, как тактическую систему в свободных странах. Но в России, где деспотизм исключает всякую открытую политическую борьбу и знает только один произвол, где нет спасения от безответственной власти, самодержавной на всех ступенях бюрократической лестницы, – мы вынуждены противопоставить насилию тирании силу революционного права…
Члены БО возмущались оправдательным тоном официального партийного заявления и лицемерным, как они считали, заигрыванием с буржуазным общественным мнением. Зато анархисты в ответ на убийство Плеве без экивоков провозглашали тотальное восстание масс против любых форм социального контроля:
«А дальше что?»… Конечно, убийство Плеве, как и вообще подобный акт, имеет огромное, колоссальное политическое значение… к восстанию призывает, к революции зовет оно обездоленных и эксплуатируемых. К революции, — но какой? Знаете ли, рабочие, что означает то «народоправление» — конституция, — во имя которого хотят с вами объединиться? ... Вам дадут на основании закона свободно собираться, обсуждать, но зато вы должны будете и вести себя законно… А если вы взбунтуетесь, вам в «народном» государстве ответят штыками и пулями.
Вот почему, рабочие, вы в убийстве [так] Плеве должны ответить так, как подобает КЛАССУ, отделяющемуся от НАЦИИ, должны сделать это событие исходной точкой вашего пролетарского восстания…. мы будем продолжать — как при самодержавии, так и демократии — свою борьбу отдельно, как КЛАСС, нашим девизом будет: «ДОЛОЙ ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ И ГОСУДАРСТВО». Вот каков должен был ответ, по мнению анархистов-коммунистов, на предложения требовать Земский Собор.
После убийства Плеве Боевая организация более полугода готовила следующее громкое покушение, местные комитеты эсеров и социал-демократов занимались пропагандой, организацией забастовок и политических забастовок. Белостокские анархисты уже в конце лета 1904 г. разработали сценарий всеобщей вооруженной стачки, включавшей несколько этапов: организация забастовки, разрушение средств коммуникации и вооруженный захват и охрану пекарен (для снабжения бастующих). К весне 1905 г. из первых набросков возникло законченное представление о революции как серии городских восстаний, ведущих к установлению коммунизма — описанного столь же наглядно в одной из мартовских листовок:
Мы не будем откладывать нашу борьбу на ГОДА, потому что мы ТЕПЕРЬ, мы сейчас хотим жить, а потому теперь же [на] работу, теперь же на БОРЬБУ!
… Это — самая главная и последняя наша задача; мы должны устроить в своем городе всеобщую стачку (можно разом по всей России) и разом выйдем на улицу вооруженные бомбами. Чтобы восстание было успешным, мы поделимся заранее по артелям и на каждую артель определим такой-то магазин, банк, такой-то полицейский участок, казарму с солдатами и проч., [таким образом] мы сразу с ничтожными потерями займем весь город. Оставшихся в живых генералов и богачей возьмем в заложники на тот случай, если будут стрелять из пушек по городу, то мы их взорвем. Затем приведем в наличность все городские припасы, переменим подвалы на хорошие квартиры и минируем окружающие поля, чтобы войска не смогли подойти к городу. Крестьян же мы наделим бомбами, чтобы и они присоединялись к восстанию. А потом мы приступим к введению новых порядков: ОБЩИННО-АНАРХИЧЕСКИХ.
1) Всем городом соберемся на площадь и порешим с общего согласия, по скольку часов надо работать мужчинам, женщинам и слабым (4-х часов в день для работы вполне достаточно), чтобы считаться ЧЛЕНОМ этой общины (коммуны).
2) Затем каждый будет работать положенное количество часов на любой фабрике или мастерской, без всякого контроля со стороны кого бы то ни было.
3) Все товары этого города будут лежать в общинных складах, отныне каждый будет брать по ПОТРЕБНОСТЯМ, — кому сколько надо.
4) Каждый завод или мастерская выберут от себя товарищей в статистическое бюро, где будут подводить ежедневный подсчет тому, какого и сколько товару произвела их фабрика; а также и то, какой материал и в каком количестве нужен для предприятия. Результаты этих ежедневных подсчетов будут печататься в новой ежедневной газете, всецело созданной для этой цели. Оттуда каждый из нас сможет узнать, где и сколько лежит материала для нашего завода, как угля, нефти, железа, хлопка, разных машин и прочее. Только таким образом мы избавимся от всяких начальников и распорядителей и будем легко добывать сами все, что ни потребуется для нашего завода. Легко будет сделать это еще потому, так как каждый город будет выпускать и рассылать всем общинам свои статистические газеты. Так, например, нам, рабочим данного завода, нужна нефть; из газет мы видим, что в Баку есть столько-то нефти, оттуда мы ее сейчас же и выпишем. …
По железным дорогам будут ездить и отправлять товар без всяких платежей и билетов; потому что и на них будут анархические порядки: там все, начиная с стрелочников и кончая инженером, будут работать одинаковое количество часов и будут жить в одинаковых квартирах с одинаковым правом на жизнь. Но главное, тогда никто не будет управлять другим, так как и стрелочники, и конторщики, и инженеры будут делать свое дело по общему соглашению между собою.
5) С уничтожением частной собственности и государства мы уничтожим все, что служило их защитой: суды, тюрьмы, полицию, войска и прочее. Они нам не нужны потому, что мы равные — все РАБОЧИЕ.
Все наши общинные дела мы будем решать на сходах по ЕДИНОГЛАСНОМУ СОГЛАШЕНИЮ, а не как того захочет большинство или меньшинство: известно, что хорошее для всех хорошо! На те дела, которые решим по соглашению, мы выберем уполномоченных на каждое дело отдельно, которых мы уполномочим только сделать порученное им дело, и притом так, как постановило собрание.
Только тогда, товарищи, мы избавимся от начальников, которые ворочали бы нами, как это им захочется, и помыкали бы товарищами как баранами. Мы отродясь не любили начальников, будь он хоть выбранный или самим богом посланный. Мы их терпеть не можем, потому что хотим быть только братьями, хотим непосредственно участвовать в решении наших дел. Мы хотим одного, чтобы все были равные, чтобы у каждого было вдоволь и хлеба, и счастья, а потому ДА ЗДРАВСТВУЕТ АНАРХИЯ!
Социал-демократы и эсеры с пренебрежением относились к теоретическим построениям анархистов, однако никто больше не сформулировал так наглядно план революционного выступления и постреволюционного общества. Именно этот образ коммунизма оказался господствующим в воображении простых людей и политиков на протяжении ХХ века. И именно этот сценарий революции начал реализовываться на практике в масштабах Российской империи с начала 1905 г.
10. 5. Революция массового общества
Референдум против имперского режима: союз освобождения от власти
20 декабря 1904 г. (2 января 1905 г.) капитулировал осажденный Порт-Артур. Собственно военное значение поражения окруженного гарнизона и почти уничтоженного уже флота было несопоставимо с морально-психологическим и политическим эффектом этой катастрофы. Война за господство на Дальнем Востоке была не отвлекающим маневром, а воплощением сути режима русской национальной империи. Идея нации основана на представлении о существовании коллективного субъекта, единодушно принимающего некие судьбоносные решения. Причем, как выяснилось еще во времена Николая I, недостаточно было однажды «объявить» нацию и закрепить ее существование формально. Подобно остальным элементам модерности, нация «процессуальна», т.е. существует как состояние неустойчивого равновесия в движении, и цель движения заключается в том, чтобы находить вечно смещающийся «центр тяжести». Как сформулировал еще в 1882 г. (в начале правления Александра III) знаменитый французский обществовед Эрнест Ренан, «нация — это ежедневный референдум». В начале ХХ в. все националисты Европы знали эту формулу, но не все отдавали себе отчет в том, что это не просто метафора. Для сохранения живого чувства принадлежности к сообществу необходима действующая демократия (реальный референдум) либо постоянный информационный повод проявлять свое эмоциональное отношение к общему делу. Интеллигентская нация российской «общественности» координировалась через публичную сферу литературы и периодики, которые реагировали на все аспекты окружающей действительности, выносили суждения и ожидали от интеллигентного читателя осознанного морального выбора в каждом отдельном случае. Русская национальная империя не допускала никакой обратной связи — ни формальных выборов, ни публичного обсуждения, но для своего осязаемого существования и она должна была включаться в некий процесс, причастность которому сплачивала бы зачисленных в нее членов нации каждый день. На зимнем балу 1903 г. придворная элита в костюмах XVII в. превращалась в «древних русских людей» лишь на время маскарада (понимая это, Николай II после бала пытался ввести маскарадные костюмы в качестве новой придворной формы одежды, но его остановила крайняя дороговизна проекта). Единственным пространством для совместного действия членов русской национальной империи становилась заграничная экспансия, потому что внутри страны места для самостоятельной «национальной жизни» не было.
И вот в конце 1904 г. главный символический ориентир российской экспансии, «информационный повод» совместного эмоционального переживания — Порт-Артур — капитулировал перед японской армией. Это был не просто удар по престижу имперского режима: российское массовое общество, развивавшееся на периферии государственной сферы «начальников, будь он хоть выбранный или самим богом посланный», ответило на Порт-Артур «так, как подобает КЛАССУ, отделяющемуся от НАЦИИ». Военные неудачи окончательно наложились на внутриполитический кризис, положив начало периоду глобальных потрясений. Этот период современники с самого начала назвали «революцией», хотя он не походил ни на одну из известных исторических революций. Не было провозглашено революционное правительство, и даже не определился некий альтернативный центр власти, никто не покушался на свободу и жизнь императора. Просто самые разные социальные слои и группы населения своими действиями однозначно проголосовали на «референдуме» за недоверие русской национальной империи. Входя в стратегические альянсы или вступая в борьбу друг с другом, классы рабочих или крестьян, политическая нация общественности и этноконфессиональные нации, политические группировки в диапазоне от конституционных монархистов до анархистов выдвигали свои коллективные требования и расшатывали государственную систему режима Николая II.
Самой массовой и заметной формой протеста стало рабочее движение. В конце 1904 г. на нефтяных промыслах в Баку бастовали 25 тыс. рабочих. Еще более мощное забастовочное движение поднялось в столице империи Санкт-Петербурге. Здесь оно координировалось «Собранием русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга» — наследником зубатовского профсоюзного объединения, возглавляемым священником Георгием Гапоном (1870–1906). Не являясь членом ни государственного аппарата имперского режима, ни революционного подполья, Гапон представлял собой идеальное воплощение лидера нового имперского массового общества низкого социального происхождения, действовавшего вполне легально, но не в логике властей. Вскоре после распространения новости о падении Порт-Артура, реагируя на слух об увольнении четырех своих членов-рабочих на Путиловском механическом заводе, Собрание повело дело к всеобщей стачке. 4 января 1905 года в Петербурге бастовали 15 тысяч рабочих; 5 и 6 января число забастовщиков возросло вдвое — до 30 тысяч. 7 января во всеобщей стачке участвовало уже 70 тысяч петербургских рабочих.
Всеобщая стачка на множестве предприятий без всякого непосредственного масштабного повода (в реальности был несправедливо уволен один-единственный рабочий) стала возможной благодаря существованию постоянно действующего профсоюза с местными отделениями — детища Зубатова. Функционеры Собрания организовали постоянный забастовочный комитет и фонд для поддержки бастующих, не получающих жалованья (анархисты в этой ситуации предлагали захватывать пекарни и облагать данью продуктовые лавки). Также благодаря Зубатову рабочие четко представляли себе, как взаимодействовать с начальством: «естественным» образом, исходя из своего повседневного опыта, они не только не имели бы практического представления о заводской иерархии выше мастера цеха, но и не знали бы, как и о чем разговаривать с руководством.
А между тем, уже в конце декабря депутации рабочих были приняты менеджментом Путиловского завода (в том числе и директором), старшим фабричным инспектором (правительственным чиновником, наблюдавшим за соблюдением рабочего законодательства) и градоначальником Санкт-Петербурга. Требования восстановить уволенных рабочих и уволить враждебного мастера цеха не были удовлетворены, что стало формальным предлогом для начала забастовки на заводе. Через несколько дней директору Путиловского завода — наемному менеджеру акционерного общества — рабочие предъявили расширенные требования, включавшие свое участие в организации производства и установление восьмичасового рабочего дня. Эти требования выходили за пределы компетенции администрации завода, что говорит также и о том, что рабочее движение исчерпало возможности сценария действий, разработанного Зубатовым. Одно дело договариваться об условиях контракта и его соблюдении с непосредственным нанимателем, другое дело требовать пересмотра экономической модели от владельца бизнеса. Требования изменения расценок и участия рабочих в урегулировании трудовых конфликтов директор завода отказался даже обсуждать, что стало толчком для всеобщей городской стачки.
5 января 1905 г., на фоне ширящейся стачки, расширенные требования бастующих были рассмотрены правлением Путиловского завода и министром финансов, который доложил свое мнение императору. Сам по себе этот факт уже был беспрецедентным, немыслимым всего несколько месяцев назад: проблемы массового общества обычно находились всецело в ведении МВД, а урегулированием протестов занимался, в лучшем случае, полицмейстер города. Однако непосредственного эффекта от стачки не последовало: общее собрание акционеров Путиловского завода, которое могло решать вопросы оплаты труда, предстояло только через несколько недель; министерство финансов, которое могло подготовить закон о восьмичасовом рабочем дне, не собиралось этого делать. Вставал вопрос о смысле продолжения забастовки и о том, как использовать уже достигнутую мобилизацию рабочих.
Сложилась странная ситуация: десятки тысяч людей выступили с протестом, но отсутствовало четкое понимание, против чего именно направлен их искренний протест и что делать дальше. Возможно, социологическая абстракция «класса, отделяющегося от нации», вполне корректно описывала эту ситуацию, но ясности не прибавляла. Гапон сотрудничал с петербургскими социал-демократами, но никакого практического плана для рабочих (помимо очередных социологических лозунгов) у них не было: для них образцом служила деятельность парламентской СДПГ в условиях свободной прессы. Практический план именно на время всеобщей стачки выработали за несколько месяцев до этого анархисты Белостока, но в Петербурге влияние анархистов еще не ощущалось, да и забастовщики не были готовы к такому уровню насилия. В итоге была поддержана идея составить петицию о народных нуждах, собрать к ней подписи и коллективно подать ее Николаю II.
Эту инициативу позже пытались представить наивной и архаичной, воспроизводящей древнюю традицию челобитных царям. Те, кто выдвигал эту версию, призванную скомпрометировать инициативу Гапона, не знали, что подача челобитных напрямую государю была запрещена еще в Московском царстве в 1700 г. и эта мера неоднократно подтверждалась указами императоров Российской империи. Непонятно, каким образом после перерыва в два столетия до простых рабочих могла дойти некая «древняя традиция». В то же время, содержание петиции, несмотря на ее сдержанный тон, не соответствовало не только всякой «традиции», но и практическому горизонту и даже нуждам простых рабочих. Преамбула петиции, написанная самим Гапоном, звучит как манифест современного массового общества:
Государь! Нас здесь больше трехсот тысяч — и все это люди только по виду, только по наружности; в действительности же за нами не признают ни одного человеческого права, ни даже права говорить, думать, собираться, обсуждать наши нужды, принимать меры к улучшению нашего положения.
Мало того, что риторика «прав» (не «привилегий») была чужда как Московскому царству, так и имперской юридической культуре. Следующий за ней перечень из 13 требований (разбитый на три раздела) был целиком заимствован у идеологов парламентской республики:
I. Меры против невежества и бесправия русского народа:
1) Свобода и неприкосновенность личности, свобода слова, печати, свобода собраний, свобода совести в деле религии.
2) Общее и обязательное народное образование на государственный счет.
3) Ответственность министров перед народом и гарантии законности управления.
4) Равенство пред законом всех без исключения.
5) Немедленное возвращение всех пострадавших за убеждения.
II. Меры против нищеты народа:
1) Отмена косвенных налогов и замена их прямым, прогрессивным и подоходным налогом.
2) Отмена выкупных платежей, дешевый кредит и постепенная передача земли народу.
III. Меры против гнета капитала над трудом:
1) Охрана труда законом.
2) Свобода потребительно-производительных и профессиональных рабочих союзов.
3) 8-часовой рабочий день и нормировка сверхурочных работ.
4) Свобода борьбы труда с капиталом.
Маловероятно, что свобода вероисповедания стояла на первом месте в списке приоритетов петербургских рабочих, и тем более маловероятно, что они действительно хотели бы, чтобы из их жалования начали вычитать прямые налоги (вместо незаметной и теоретически необязательной уплаты акцизного налога при покупке водки, сахара или табака). Эта программа, как и сама идея петиции, была заимствована не из давней традиции низов московского общества, а из репертуара современного элитного протеста.
Еще в 1902 г. политический эмигрант Петр Струве наладил в Германии издание журнала «Освобождение», где публиковал критические и разоблачительные корреспонденции из России под псевдонимами и пытался выработать общую оппозиционную платформу, способную объединить противников режима в широком спектре, от радикальных революционеров до умеренных лидеров земств. Эта общая платформа предполагала реформирование Российской империи в соответствии с актуальным пониманием «современности», теперь предполагавшим постоянную обратную связь с ширящимся массовым обществом. Для всех «европейских» стран того времени массовое общество представляло острую проблему, чреватую социальными потрясениями, но в России пока что приходилось добиваться признания существования самой этой проблемы.
В августе 1903 г. из сторонников журнала сформировалось политическое движение «Союз Освобождения», ставившее целью организацию ненасильственных массовых кампаний против режима с требованием проведения «земского собора» — учредительного собрания новой политической системы, которому надлежало принять конституцию. Становление «Союза Освобождения» проходило параллельно с развитием в России анархистского движения, которое представляло противоположный полюс заявившего о своих правах современного массового общества (отсюда яростные возражения против идеи «земского собора» в анархистской листовке, процитированной ранее). Первый съезд Союза прошел в Петербурге на частных квартирах в январе 1904 г., накануне начала войны с Японией. В конце октября 1904 г., после провала наступления российской армии на р. Шахэ, в Петербурге собрался второй съезд Союза, принявшего решение о массовой подаче петиций с требованием реформы (очевидно, приспосабливая наследие британского чартизма к российским условиям).
Разумеется, легальный сбор и подача петиций были невозможны, поэтому обращения к властям замаскировали под череду банкетов, посвященных сорокалетнему юбилею судебной реформы 20 ноября 1904 г. Скованные присутствием наблюдателей от полиции, ораторы произносили не политические речи, а «тосты» о необходимости введения свобод и конституции, и принимали соответствующие застольные резолюции. Незадолго до этого (6-9 ноября 1904) в Петербурге состоялся первый легальный земский съезд, который официально назывался «Частное совещание земских деятелей». На него съехались 98 делегатов из всех земских губерний, принявших итоговое постановление из 11 пунктов. Последний пункт, поддержанный большинством, требовал учреждения парламента с правом контроля над исполнительной властью. Провозглашавшие «тосты» на юбилейных банкетах ораторы не просто выступали с абстрактными пожеланиями, а выражали поддержку конкретному документу — принятому земскими делегатами постановлению. В рамках «банкетной кампании» состоялись более 120 банкетов в 34 городах, в них приняли участие до 50 тысяч человек — очень существенная часть политической нации общероссийской общественности. В конце ноября 1904 г. представители Союза Освобождения встретились с Гапоном и еще несколькими лидерами его организации и предложили присоединиться к кампании подачи петиций.
Таким образом, приняв 5 января решение подать коллективную петицию от петербургских рабочих, руководители рабочего движения примкнули к единому фронту противников режима, который уже включал межпартийный Союз Освобождения и земских лидеров, добивавшихся для земств парламентского статуса. Вот почему текст петиции Гапона наполовину цитирует Эрфуртскую программу СДПГ 1891 г. (в том, что касается требования восьмичасового рабочего дня и других условий работы, а также введения прогрессивного налога), а наполовину — Постановление совещания земцев. Так, постановление земцев требовало введения гражданских свобод («свободы совести и вероисповедания, свободы слова и печати, а также свободы собраний и союзов») «для полного развития духовных сил народа», а петиция Гапона называла эти же свободы мерами «против невежества и бесправия русского народа». В обоих случаях кажется странным привязка гражданских прав именно к духовным потребностям «народа», понимаемого, судя по контексту, как социальные низы (земцы) и в этноконфессиональном смысле (гапоновцы). По сути же, все было логично: речь шла о признании гражданских прав нации, не признающейся таковой старым режимом русской национальной империи.
Гапон хотел напечатать петицию большим тиражом и распространять по городу, но забастовка парализовала работу типографий. Тогда, начиная с 7 января, петицию начали зачитывать в 11 районных отделениях Собрания русских фабрично-заводских рабочих и собирать подписи под ней, которые рабочие ставили с колоссальным энтузиазмом. Это был акт личного политически значимого волеизъявления в рамках коллективного действия — то есть буквально нациестроительства. Есть данные, что в одном только отделе за несколько дней собрали порядка 40 тысяч подписей, то есть общий счет подписей мог идти на сотни тысяч. Отдавая себе отчет в общенациональном значении петиции, Гапон специально встречался с представителями социал-демократов и эсеров и просил не вносить партийный раскол в ряды рабочих. Согласно правительственному отчету, партийная агитация пресекалась самими рабочими, революционные листовки уничтожались. Впрочем, учитывая, что никто на самом деле не знал, как «делать революцию» и мобилизовать под революционными лозунгами не студентов — участников нелегальных кружков, а широкие массы, революционеры сами подчинялись авторитету Гапона. Как вспоминал большевик Дмитрий Гиммер, партийные деятели, «выступая в отделах [Собрания], …во всем копировали Гапона и даже говорили с его украинским акцентом».
Перед лицом массовой мобилизации рабочих Санкт-Петербурга власти могли выбрать один из нескольких сценариев: пойти навстречу требованиям и начать политическую реформу или, приняв петицию и пообещав рассмотреть ее, постепенно спустить вопрос «на тормозах», дождавшись спада протестного движения. Был избран третий вариант, соответствующий обычному отношению к массовому обществу: просто проигнорировать петицию и восстановить порядок полицейскими мерами. В условиях современной массы людей, сплоченных общей целью, при существовавших тогда технологиях контроля толпы, это заведомо означало применение крайних форм насилия. Утром воскресенья 9 января в разных частях города, в том числе у самого Зимнего дворца, толпы рабочих, направлявшихся к императорской резиденции, были остановлены войсками. После предупреждений и требований разойтись толпа рассекалась казаками, на скаку бивших людей шашками — плашмя (за неимением резиновых дубинок) или рубивших лезвием. В случае упорства, по толпе давались залпы из винтовок.
По официальным данным, в результате разгона демонстраций погибли 130 и были ранены около 300 человек. Возможно, число жертв было в полтора-два раза выше (особенно раненых), но это не были многие тысячи, как утверждала революционная и иностранная пресса, ссылаясь на слухи. Эти слухи (о пяти или даже двадцати тысячах жертв) передавали в количественной форме масштаб потрясения от самого факта расстрела мирной демонстрации. Почти за 80 лет до этого, 14 декабря 1825 г., при подавлении выступления декабристов от залпов картечи, по некоторым данным, погибли 970 горожан (не считая восставших), большей частью «черни». Эта цифра в несколько раз превышает число жертв 9 января 1905 г., однако тогда она не вызвала особого эмоционального отклика современников и даже интереса к точным подсчетам. В этом и заключается принципиальное отличие ситуации начала ХХ века: «чернь» стала частью массового общества, заявившего о своих правах, как новой версии нации. Расстрел демонстрации 9 января получил колоссальный резонанс не в силу некой небывалой жестокости властей, а потому, что наглядно продемонстрировал принципиальную враждебность режима русской национальной империи практически для всех групп политической солидарности (наций) Северной Евразии, подданных Российской империи.
Революция как событие
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. было воспринято как начало революции. Действительно, за ним последовали расширение протестного движения и эскалация насилия, параллельно с нарастающей катастрофой в войне с Японией.
По сути же, политический кризис 1905 г. стал выражением уже свершившейся социальной революции. Городское массовое общество превратилось в самостоятельную социально-экономическую силу, разделенную на «классы» по материальному уровню и способу внутригрупповой координации (публичная сфера заочного общения через тексты — у членов общественности, непосредственное общение и прямое коллективное действие — у городских низов). К концу 1904 г. в каждом из этих слоев распространилось вполне отчетливое понимание собственных групповых интересов и сформировалось представление о тактике борьбы, а главное, появилось ощущение межгрупповой солидарности. Именно это широкое чувство осмысленной солидарности превратило отдельные демонстрации, банкеты с протестными тостами и теракты в политическую революцию как единый процесс, преследующий определенный результат.
Собственно революционеры составляли ничтожную часть городского массового общества, и Департамент полиции вполне обоснованно полагал, что держит антиправительственную деятельность под контролем. В начале 1905 г. в партии социалистов-революционеров состояло от 1500 до 2000 членов, социал-демократами числили себя от 2500 до 8400 человек, по самым щедрым подсчетам. Некоторые члены этих партий входили в Союз Освобождения, который к марту 1905 г. насчитывал 1600 членов. Наиболее радикальная часть вступала в анархистские группы, которые к этому времени достигали нескольких тысяч участников. Еврейский Бунд обгонял по численности все левые общероссийские партии, насчитывая в своих рядах до 23000 членов, к тому же сконцентрированных в пределах черты оседлости. (Многочисленность Бунда объясняется тем, что среди его членов большинство составляли рядовые рабочие — грамотные, привычные к чтению абстрактных текстов, тогда как основу остальных партий составляли интеллигенты — профессиональные революционеры.) Но даже если к бундовцам прибавить всех прочих активных революционеров, суммарная цифра не объяснит повсеместности и массовости проявления протеста.
Строго говоря, в 1905 г. происходили все те же события, что и в предыдущем году, только во все возрастающих масштабах. Главным же отличием было то, что и протестующие, и правительство теперь знали, что эти отдельные события — проявления революции, и что они не прекратятся до ее победы.
После 9 января распространяются забастовки рабочих, они становятся все более массовыми и продолжительными, прежнее их деление на «экономические» и «политические» теряет смысл. Вообще любая форма протеста в контексте революции приобретает политический характер. В ходе двухмесячной забастовки 70 тысяч текстильщиков в Иваново-Вознесенске, начавшейся в середине мая 1905 г., для координации действий был избран Совет рабочих депутатов. Вновь пригодился практический опыт зубатовской организации — ведь первый «Совет рабочих механического производства» был организован именно по его инициативе в Москве в 1901 г., как раз для организации стачки и ведения переговоров с руководством предприятий. В начале октября 1905 г. очередная забастовочная волна переросла во Всероссийскую октябрьскую политическую стачку, охватившую к 12 октября свыше 2 млн. рабочих по всей стране.
Большинство активистов рабочего движения принадлежали к той или иной революционной партии, но практическим форматом их работы были профсоюзные объединения, организацией которых с декабря 1904 г. занялся межпартийный Союз Освобождения. В феврале 1905 г. для координации возникающих профсоюзов создали Центральный Комитет Союза союзов, а на четвертом съезде Союза Освобождения 8-9 мая в Москве возникло самостоятельное объединение под названием «Союз союзов». В разное время в него входили: Союз земцев-конституционалистов, Союз инженеров и техников, Всероссийский союз железнодорожников, Союз рабочих печатного дела, Союз служащих правительственных учреждений, Союз учителей, Академический союз, Союз писателей, Союз конторщиков и бухгалтеров, Союз адвокатов, Союз медицинского персонала, Союз фармацевтов, Всероссийский крестьянский союз, Союз равноправности женщин. Всего в организациях «Союза союзов» состояло до 135 тысяч членов. На протяжении последующих месяцев, до октябрьской всеобщей стачки 1905 года, «Союз союзов» фактически стоял во главе революции, руководствуясь программой, принятой в конце марта на третьем съезде Союза Освобождения. Главными положениями этой программы были созыв Учредительного собрания как основа политической реформы, установление восьмичасового рабочего дня как главное требование рабочего движения и отчуждение частновладельческих земель в пользу крестьян в рамках радикальной аграрной реформы. Сама идея «союза союзов» выросла из давнего идеала российского революционаризма — «федерации свободных общин», проповедовавшегося Михаилом Бакуниным в 1860-х гг. Этот утопический идеал оказался лучшим практическим решением в структурной имперской ситуации, позволив объединить в рамках общего революционного движения активистов с самыми разными групповыми интересами: рабочих и чиновников, феминисток и учителей.
Одновременно, с января по октябрь 1905 г., происходила эскалация насилия. Правительство пыталось бороться с забастовочным движением, используя полицию и войска, сторонники революции пытались сопротивляться, а кроме того, в собственной логике развивался революционный террор. БО эсеров после длительной подготовки осуществило свой последний теракт особого символического значения: 4 (17) февраля 1905 г. был убит вел. кн. Сергей Александрович, незадолго до того оставивший пост Московского генерал-губернатора. Местные комитеты эсеров и группы анархистов занимались массовым террором: едва ли не каждый день совершалось нападение на полицейских чинов (от простого городового до полицмейстера) и гражданских чиновников, каким-то образом скомпрометированных политически или просто вызывавших личную неприязнь террористов.
Отдельным фактором террористической деятельности становятся национальные партии. Еще 16 июня 1904 г. финляндский националист Эйген Шауман застрелил генерал-губернатора Великого княжества Финляндского Николая Бобрикова, воплощавшего унификаторскую политику имперского режима. В 1905 г. террор становится постоянной тактикой финляндской Партии активного сопротивления. Уже 11 января боевик партии убил прокурора финляндского Сената, в марте было совершено покушение на выборгского губернатора, в июне — на помощника финляндского генерал-губернатора, осенью — еще на нескольких губернаторов. Группа старшеклассников из Гельсингфорса (Хельсинки), называвших себя «кровавыми собаками», выбирали цели поскромнее — в основном, полицейских чинов, — но тоже ранили и убили несколько человек. На Северном Кавказе на фоне политического кризиса и экономических проблем активизировалось абречество — местный вариант партизанства-бандитизма. В Закавказье в 1905 г. Федерация армянских революционеров «Дашнакцутюн» перенесла террористическую деятельность на территорию Российской империи. В частности, 11 мая 1905 г. дашнаки убили бакинского губернатора, князя Михаила Накашидзе.
10.6. Модернистская контрреволюция режима
Использование национальной мобилизации против политической: бакинский погром
Убийство Накашидзе было связано с другим аспектом восстания массового общества: стихийной национализацией нового «ничейного» пространства — оставленного империей и невостребованного современным государственным порядком политической нации. Армянские активисты сочли Накашидзе виновным в организации «армянского погрома» в Баку 6-9 февраля 1905 г., в результате которого были убиты 205 и ранены 128 бакинцев-армян.
Российская империя распространилась на территории Северной Евразии путем интеграции уже сложившихся политий разного уровня сложности и включением местного населения в параллельные социальные иерархии: сословий, конфессий, государственной службы, культурной сферы, экономических сетей. Как правило, все эти поглощенные политии были «донациональны» по принципу организации подданных. В основе режима русской национальной империи, начавшего формироваться при Александре III, лежало национальное восприятие населения (в смысле этноконфессиональных групп), сопровождавшееся примитивной национальной политикой. Имперское законодательство 1880-х гг. пыталось дискриминировать поляков, евреев или армян как «нации», одновременно насаждая представление о русской нации как новом господствующем сословии. «Забыв» имперские практики управления различиями, российский режим к началу ХХ в. не имел ни навыков, ни институтов для регулирования «межнациональных» (межэтноконфессиональных) отношений. Резкий рост массового общества за счет притока в города мигрантов из сел впервые свел вместе, в общей толпе, десятки тысяч представителей разных народов и конфессий. Распространение националистических идей на фоне традиционного этноконфессионального разделения труда позволяло воспринимать экономические конфликты как межнациональные. В то же время, местные администраторы, неспособные эффективно контролировать массовое общество, при помощи крайне грубой массовой политики пытались переводить политический конфликт в межгрупповой. Эта принципиально «антиимперская» политика становилась важным фактором общего антисистемного восстания.
Бакинская губерния Российской империи была создана на территории аннексированного в начале XIX в. Бакинского ханства, на северо-востоке древнего исторического региона Азербайджан (Атрпатакан), большей частью принадлежащего Ирану. Местное население, основную часть которого с 1930-х гг. начали идентифицировать как «азербайджанцев», демонстрировало типичную для Северной Евразии пестроту и многослойность. Две трети жителей губернии, которых в начале ХХ в. имперские власти называли «кавказскими татарами», говорили на местной разновидности тюрки (азери). При этом численность мусульман в губернии, считая вместе суннитов и шиитов, почти в полтора раза превышала число тюркоговорящих. Но даже ту часть мусульман, которая совпадала с количеством тюркоговорящих, трудно было представить как единую этноконфессиональную группу, потому что умма Бакинской губернии была расколота на шиитов и значительное меньшинство (39%) суннитов. Сунниты обычно ассоциируются в регионе с тюркоговорящими группами (например, волжские татары, мусульмане Средней Азии). Как правило, тюркоговорящие сунниты ориентировались в культурном и политическом отношении на Османскую империю, персидскоязычные шииты — на Иран. То обстоятельство, что азериязычному большинству Бакинской губернии соответствовало шиитское конфессиональное большинство, запутывало привычную культурно-политическую «карту» и усложняло формирование групповых солидарностей.
К 1905 г. Баку представлял собой пороховую бочку. Нефтедобыча в регионе составляла половину мирового производства нефти. Растущее производство, неизбежно сопровождавшееся трудовыми конфликтами, привлекало мигрантов, большей частью азериговорящих из сел Российской империи и Ирана, нищих и неграмотных. Среди рабочих было немало столь же бедных армян или русских, но они принадлежали к более квалифицированным и лучше интегрированным в производство стратам. Что касается новой элиты массового общества — городского среднего класса, включавшего и менеджмент нефтедобывающих предприятий, — то старинное «городское сословие» армян было заметнее традиционной тюркской знати. Армянские жители города вдвое уступали по численности «азербайджанским». Меньшая численность армян компенсировалась более высокой групповой мобилизованностью: доля неграмотных среди армян была вдвое ниже, чем среди азериговорящих бакинцев, а древняя конфессиональная обособленность (благодаря Армянской апостольской церкви) сочеталась с развитым современным национализмом, нашедшим выражение, в том числе, в создании политических партий вроде «Дашнакцутюн». Тюркоязычное население исторического Азарбайджана, разделенное государственными границами, языками общения и суннито-шиитским расколом, не имело готового обособленного национального проекта и даже общепринятого наименования, и местные активисты в Баку с трудом формулировали основания собственной группности. При этом они испытывали нарастающее национализирующее давление извне (со стороны интеллигентской элиты армянской общины Баку и режима «русской народной империи»). Одновременно мобилизация азериговорящего населения поощрялась антиармянской государственной политикой империи начала ХХ в., которая достигла кульминации в 1903 г. с принятием решения о конфискации имущества армянской церкви. На этом фоне стихийной «национализации» острые трудовые и классовые конфликты на нефтяных промыслах привели к вспышке так называемой «армяно-татарской войны», первым эпизодом которой стал февральский погром 1905 г.
Преимущественно неграмотное азериговорящее население Баку переживало и проявляло формирующуюся национальную солидарность через прямое коллективное действие, прежде всего — через массовое насилие по отношению к группе, чей статус воспринимался как незаслуженно привилегированный. Армянская община располагала хорошо организованным и мотивированным отрядом боевиков, но этого было недостаточно для защиты массы обывателей от толпы погромщиков. Городские власти не могли предотвратить столкновения силами полиции (сорока городовых), а военные, подчинявшиеся губернатору, не спешили прекратить насилие — очевидно, рассчитывая руками погромной толпы ослабить армянскую национальную мобилизацию в регионе, коль скоро азербайджанский национализм не воспринимался в качестве существенной угрозы в то время. В результате спровоцированный убийством азербайджанца конфликт перерос в ожесточенное асимметричное противостояние: толпы «татар» против армянских обывателей и армянских боевиков — против погромной толпы.
Статистика, собранная межобщинным татарско-русско-армянским комитетом по оказанию помощи пострадавшим, потрясала количеством жертв: были убиты 205 армян (20% — старики, женщины и дети) и 121 ранены, а также 111 «мусульман» (погибли две женщины), 128 ранены. Если сравнить эти цифры с кишиневским погромом 1903 г., всего за несколько часов активной фазы которого были убиты свыше 40 человек и более 400 ранены, продолжавшееся больше трех суток побоище в Баку демонстрирует, пожалуй, меньший накал насилия. Но даже если не гадать о том, сколько людей было бы убито и ранено в Кишиневе в случае большей продолжительности погрома, сам факт того, что в Баку приказ войскам остановить беспорядки был дан не через три часа после начала убийств (как в Кишиневе), а через трое суток, наглядно демонстрирует желание губернских властей использовать конфликт в политических целях.
С точки зрения прежних имперских принципов «правомерного государства», это было должностное преступление: коронные чиновники не могут заниматься публичной политикой, их задача — поддержание порядка. Однако режим русской национальной империи разъедал едва сложившееся регулярное государство, поощряя «политическое» мышление и поведение чиновников в рамках системы, не допускавшей никаких механизмов политической обратной связи.
Как показывает история ХХ века в разных странах, в том числе и самых «передовых», возникающая по самым разным поводам протестная толпа городского восстания начинает действовать в собственной логике, и чем менее отчетливы идеологические мотивы участников, тем легче ее действия переходят в слепое разрушение — погром. Социальные маргиналы, уголовники, психически неуравновешенные люди, не контролирующая себя молодежь, религиозные фанатики легко переходят одну грань насилия за другой, а возможность захвата собственности в ситуации общего замешательства привлекает к участию в погроме массы самых обычных людей. Толпой бакинских погромщиков двигали самые разные соображения — экономического протеста и религиозной розни, личной мести и столь же личной корысти, но власти решили отнестись к ней как «национальному» выступлению. Беспорядки переросли в погром, потому что администрация поддержала их в логике собственной антилегальной «национальной политики», направленной на нейтрализацию армянского национализма.
Традиционные (религиозные) общинные лидеры и представители современной национальной интеллигенции с обеих сторон пытались ликвидировать последствия насилия и предотвратить новые вспышки, создавали совместные комиссии по распределению помощи среди пострадавших, сообща собирали для них деньги. Однако «восстание масс» минимизировало влияние традиционных религиозных авторитетов (тем более, не способных отказаться от самой идеи межконфессиональной розни), а имперский режим не позволял немногочисленной формирующейся азербайджанской интеллигенции на практике выступить в роли лидеров нации. В результате главным форматом переживания групповой солидарности для массы мусульман «русского Азербайджана» стало противостояние армянскому национализму.
Несмотря на более высокую идеологическую степень и организованность, армянский национализм оставался элитным или, во всяком случае, ограниченным феноменом, не исключавшим трудовой, экономической и соседской солидарности с «мусульманами». Именно этим обеспечивалась динамическое равновесие в регионе. Теперь, благодаря местным имперским властям, разные категории «армян» (сельские и городские, бедные и зажиточные, католики и протестанты, социалисты и монархисты) стали восприниматься как однородная «нация» в этноконфессиональном смысле, которая вступила в конфликт с другой нацией. Главным фактором кристаллизации аморфного и многопланового массового азербайджанского национализма явилось именно это противостояние с будто бы соперничающим армянским национализмом. Тем самым раскручивался маховик взаимного насилия: залогом коллективной безопасности виделась национальная сплоченность, которая достигалась через физическое насилие над представителями «враждебной нации». Из Баку беспорядки перекинулись в другие части Южного Кавказа, где проживали армяне и «азербайджанцы» (точнее — христиане и мусульмане, обособленные региональные общины, члены различных родственных сетей и т.д). Информация о бакинских столкновениях распространялась быстро — через прессу, по железной дороге, по почте. Так же быстро бакинцы позднее узнавали о столкновениях мусульманского и христианского населения в таких городах, как Шуша, Нахичевань, Ереван, Елизаветполь (Гянджа). В ответ на насилия мусульман в городах горцы-армяне Карабаха поголовно вырезали мусульманские селения, провоцируя новые нападения — в других местах, против непричастного к прошлым атакам населения. Взаимная «национализация» участников конфликта приводила к формированию представлений о коллективной вине и «социологическому» принципу выбора жертвы для мести.
Поэтому последствия поведения бакинских губернских и военных властей превосходят по своему значению попустительство кровопролитию в отдельном городе. Они способствовали тому, что острый конфликт, вызванный многогранными противоречиями имперской ситуации, оказался структурированным в единственном формате –этноконфессионального противостояния. Кровавые столкновения явились не столько следствием неких предшествующих «межнациональных противоречий», сколько главным фактором последующего формирования самой идеи национальной солидарности — как азербайджанцев, так и армян. Массовое насилие заставляло делать однозначный выбор, не допускающий промежуточных позиций, и границы воображенного сообщества нации объективизировались памятью о реальных жертвах, задним числом зачисляемых в ряды сознательной нации будущего.
Так, столкнувшись с восстанием масс и не имея ни возможности, ни желания пойти им навстречу, имперский режим в Закавказье попытался нейтрализовать угрозу власти, направив одну часть толпы на другую и канализировав протест в русло межнационального конфликта. В долгосрочной перспективе это решение грозило не меньшими потрясениями, чем прямая политическая революция, но политическая культура администраторов Николая II не позволяла им ни осознать угрозу разыгрываемой карты этнонационализма, ни использовать традиционные имперские практики контроля населения.
Компрометация революции: Броненосец «Потемкин» и провокация восстания
Другой подход к борьбе с восстанием масс применил одесский градоначальник Дмитрий Нейдгардт. В прошлом офицер гвардейского Преображенского полка (ротный командир наследника престола, будущего Николая II) и выпускник академии Генерального штаба, он искал возможность покончить с протестом разом, в одном генеральном сражении. Однако «революция», которую видели в событиях 1905 г. и протестующие, и представители режима, являлась скорее социологической абстракцией, чем конкретным феноменом. В Одессе (как и в других городах империи) она состояла из периодических терактов, забастовок рабочих, распространения листовок, а главное, выражалась в формировании оппозиционного общественного мнения, звучавшего как на нелегальных митингах, так и в разговорах в трамвае. Это было проявление неповиновения самого массового общества, которое невозможно было подвергнуть тотальному запрету имеющимися в распоряжении градоначальника средствами. Нельзя было расстрелять мирно бастующих рабочих или арестовать всех студентов только на основании их явного оппозиционного настроения.
Случай для генерального сражения представился в середине июня 1905 г. Спустя ровно месяц после Цусимы, 14 (27) июня 1905 г. произошло спонтанное восстание команды броненосца Черноморского флота «Князь Потемкин-Таврический». Это был один из наиболее мощных кораблей флота, только вступивший в строй в мае и вышедший в море на учебные стрельбы. Никакого революционного заговора на корабле не готовилось, но на борту присутствовала лишь половина списочного состава офицеров, а матросы находились под впечатлением недавних контактов с рабочими судостроительных заводов и слухов о возможной отправке на Дальний Восток после уничтожения эскадры Балтийского флота в Цусимском сражении. На этом фоне цепочка недоразумений и необдуманных действий командования привела к бунту: шесть офицеров были убиты командой, в схватке погиб один из лидеров восставших, унтер-офицер Григорий Вакуленчук, еще несколько матросов стали случайными жертвами перестрелки. Всеобщая уверенность в происходящей в стране революции позволила взбунтовавшейся команде осмыслить свои действия как акт борьбы с самодержавным режимом.
Вечером броненосец, объявленный «территорией Свободной России», вошел в Одесский порт. Нужно было пополнить запасы воды и продовольствия, лидеры восстания хотели связаться с местными революционными организациями и определиться с дальнейшими действиями. Уже сам по себе захват корабля такого класса восставшей командой в военное время свидетельствовал о глубоком кризисе государства. Потемкинцы многократно усилили революционный эффект, распространив сочиненные при помощи одесских меньшевиков «Обращение ко всему цивилизованному миру» (сообщая, что ведут борьбу за свержение самодержавия) и «Обращение к иностранным державам» (с обязательством уважать экономические интересы иностранных держав в регионе), а также выпустив по городу несколько снарядов. В довершение унижения имперских властей, взбунтовавшийся корабль не удалось подчинить силой. 19 июня он смог покинуть российские территориальные воды и уйти в румынский порт Констанца, где, в конце концов, команда сдалась властям. Однако одесский градоначальник Нейдгардт сумел, как ему казалось, использовать бунт на броненосце в свою пользу.
Одесситы узнали о приходе «Потемкина» утром 15 июня, любопытные горожане потянулись в порт. На территории порта располагались и сотни лачуг грузчиков и низкооплачиваемых служащих, однако Нейдгардт пришел к выводу, что встречать мятежный броненосец собрались «все особенно неблагонодежные элементы городского населения». Все революционеры — в одном замкнутом пространстве! По оценкам полиции, к восьми утра в порту было уже до пяти тысяч человек. Пристав портового полицейского участка обратился к градоначальнику Нейдгардту с просьбой разрешить очистить портовую территорию от посторонних, выделив для подкрепления пару рот солдат. Однако Нейдгардт, напротив, приказал полицейским покинуть порт, в результате чего туда смогли попасть запоздавшие горожане. Толпа зевак, согласно официальному отчету, была настроена миролюбиво, но после 9 утра Нейдгардт объявил, что «гражданская власть бессильна водворить порядок» и передал контроль над городом командующему Одесским военным округом генералу Семену Каханову. Порт был окружен войсками, которым приказали никого не выпускать из оцепления.
Это решение кажется бессмысленным (горожане, собравшиеся в порту, не нарушали никаких законов) только с точки зрения обычных «полицейских» целей: охраны правопорядка и товаров на портовых складах. Политически это была идеальная провокация, демонстративное превращение случайной массы зевак в толпу бунтовщиков, заслуживающих высшей кары. Сверху, с высоты бульваров, собравшиеся за оцеплением наблюдали происходившую в порту эволюцию, как на арене амфитеатра. Около четырех пополудни, когда со времени завтрака пришедших в порт прошло часов десять, самые нетерпеливые начали разбивать ящики с товарами на берегу, в толпе были замечены бутылки с алкоголем. Потом начали ломать двери пакгаузов и громить содержимое. В этот день солнце зашло в 19:53, а после восьми вечера на разных участках порта появились подростки с огнем. Они носились «с криком и гиканьем», пуская ракеты и поджигая сигнальные шашки, от которых немедленно загорелись тюки с хлопком. К 10 ночи торговый порт (практическая гавань) был охвачен пожаром. И только когда огонь стал угрожать карантинной гавани — иностранным товарам и судам, таможенным складам — была дана команда солдатам рассеять одичавшую толпу.
По данным официального расследования, в результате ночной стрельбы были убиты 10 человек (из них двое солдат) и 75 ранено, полицейские документы говорят о гибели 57 гражданских лиц. Таким образом, ценой уничтожения торгового порта со всеми товарами и инфраструктурой (но благоразумно избежав международного скандала, не допустив пожара в карантинной гавани) градоначальник Дмитрий Нейдгардт провел блестящую военную операцию против «революции». Весь город увидел подлинный облик «восставших масс», многие десятки, если не сотни смутьянов получили заслуженную пулю на совершенно законных основаниях. Более того, масштаб беспорядков послужил легитимным основанием для введения на следующий день военного положения в Одессе. Военное положение было снято спустя три месяца — как раз ко времени подъема новой протестной волны, которая еще через месяц снесла старый режим. Ловкая спецоперация отставного гвардейского полковника Нейдгардта ожесточила горожан, послужив толчком к действительно массовым и насильственным столкновениям в октябре 1905 г.
10.7. Взрыв имперской ситуации
23 августа (5 сентября) 1905 г. в американском Портсмуте был подписан мирный договор с Японией. Условия договора были восприняты как национальное унижение в Японии. В Токио собралась 30-тысячная демонстрация протеста. В ходе подавления беспорядков погибли 17 человек, около тысячи получили ранения. Протестующие считали, что блестящие военные победы и принесенные ради них огромные человеческие и материальные жертвы остались почти не вознагражденными. По итогам договора, победителю не только не предлагались выплата контрибуции и уступка территорий (за исключением южной части острова Сахалин), но японские войска должны были покинуть Манчжурию, как и российские. Японское современное массовое общество, мобилизованное в нацию, демонстрировало эффект обратной связи с государством: люди не просто оказались подвержены пропаганде и поддержали войну, но, действительно считая ее своей, потребовали от правительства справедливого, по их мнению, мира.
В России, проигравшей войну, заключение мира (при всей важности этого события для сотен тысяч семей фронтовиков) уже не имело особого политического значения. Война превратилась в символ режима — для кого-то после сдачи Порт-Артура, для кого-то после Мукдена или Цусимы. Русская национальная империя, зримым символом жизнеспособности которой должно было стать установление гегемонии в «Азии», была скомпрометирована и доказала свой фантомный характер. Восстание масс из социологической метафоры превратилось в реальный социальный процесс со своей логикой и инерцией. Оно было «революционным» в той мере, в какой угрожало стабильности имперского режима, но не сводилось к борьбе с режимом. Любая форма групповых интересов становилась основой для отдельного фронта борьбы («как подобает классу, отделяющемуся от нации», по выражению анархисткой листовки). Раз за разом, от стачки к стачке, в течение многих месяцев рабочие и студенты, этноконфессиональные группы и политические партии все четче формулировали представления о своих целях. Далеко не все из них могли осуществиться в результате даже самой радикальной политической реформы, одни противоречили другим. Имперский режим играл все более маргинальную роль в урегулировании разнонаправленных групповых интересов, и все социальное пространство, прежде контролировавшееся им, переходило в состояние социальной самоорганизации. Социальное воображение людей, участвующих в этой самоорганизации, было уже сформировано современными идеями: о классовой борьбе и всемирном еврейском заговоре, о парламентской демократии и национальном самоопределении. Но не существовало готовых социальных институтов, способных упорядочить стихийную самоорганизацию имперской ситуации в соответствии с распространенными современными идеями.
В результате сложилась многослойная парадоксальная ситуация: сам фундаментальный социальный переворот — формирование современного массового общества — произошел в рамках всей Российской империи. Возникшая (преимущественно городская) масса существовала в едином экономическом, культурном и идейном пространстве, ее связывали воедино пути сообщения, новостная среда, личный опыт миграций. Однако имперский режим самоустранился от взаимодействия с массовым обществом, его претензии на господство в масштабах региона Северной Евразии «по историческому праву» были скомпрометированы, а новые идеи, при помощи которых происходила самоорганизация массового общества, тяготели к «нациецентризму». Современное социальное воображение помогало помыслить практически любую группу как однородную и самодостаточную нацию, несовместимую с другими. Поэтому общеимперское восстание масс выглядело как скоординированная политическая революция против режима, но каждая группа преследовала собственные интересы, разрывая исходную общность. Рабочим не нужен был парламент, польским националистам не было дела до условий труда на Урале, либералы не считали законными притязания на особый статус русской этноконфессиональной нации. Восстание масс угрожало Российской империи как форме политического господства над регионом Северной Евразии, но главные векторы восстания вели к разрыву самого общего социального пространства региона.
Эта взаимопротиворечивость разных центростремительных революционных сил начала наглядно проявляться летом 1905 г., с первыми стихийными и организованными попытками захвата городов. В июне расстрел войсками массовой рабочей демонстрации в Лодзи, крупнейшем текстильном центре польских губерний, привел к гибели 25 человек. В ответ город покрылся баррикадами, началось стихийное вооруженное восстание, продолжавшееся четыре дня. Цели рабочего движения не просто усиливали программу польского национального антиимперского движения, но и вступали с ним в противоречие. Польская социалистическая партия (ППС) по главе с Юзефом Пилсудским стремилась придать восстанию сепаратистский характер, чему препятствовала национально-демократическая партия (эндеция) под руководством Романа Дмовского. Эндеки стремились нейтрализовать ППС, подталкивавшую поляков к гибельному, по их мнению, пути. При этом Дмовский пытался (безрезультатно) давить на российское правительство, предлагая восстановить автономию Царства Польского, без чего, как он доказывал, революционную стихию не побороть. В итоге, боевики двух партий сражались на два фронта: друг с другом и против правительственных войск.
После подавления восстания в Лодзи началось «ползучее восстание» в Белостоке, на этот раз координируемое анархистами. На протяжении почти целого года в городе существовало двоевластие. Полиция не контролировала пролетарский район вокруг Суражской улицы (современная Suraska), который превратился в место проведения нескончаемых митингов и «рабочих университетов». Местный анархист утверждал, что на митинги собирались до 5000 рабочих (в городе с населением в 70 тыс. человек). После работы активисты вели образовательные кружки, каждый проводил по семь занятий в неделю. Несколько раз в город вводились войска, предпринимались попытки разогнать «майдан» на Суражской силой (местные называли это постоянное собрание рабочих «биржей»), но взять под контроль ситуацию властям не удавалось. У повстанцев также не хватало сил для того, чтобы распространить контроль на весь город и реализовать план «временной коммуны», предложенный летом 1905 г. белостокским анархистом, бывшим социал-демократом Владимиром Лапидусом:
Предстояло захватить город, вооружить массы, выдержать целый ряд сражений с войсками, выгнать их за пределы города. Параллельно со всеми этими военными действиями должен был идти все расширяющийся захват фабрик, мастерских и магазинов.
Однако анархисты практически еженедельно совершали теракты, начиная от убийства дворника, обвиненного в «шпионстве», кончая покушением на гродненского губернатора. Бывали периоды, когда полиция баррикадировалась в полицейском управлении, а повстанцы имитировали пожар, пытаясь выманить полицейских из укрытия в подготовленную засаду. В обстановке постоянного насилия, непрекращающихся забастовок и экспроприаций, городская экономика стагнировала, закрывались предприятия, росло взаимное ожесточение горожан.
Начало общероссийской стачки в октябре 1905 г. послужило сигналом для попыток начать восстания даже в тех городах, где было мало вооруженных боевиков. В Екатеринославе 10 октября учащиеся коммерческого и музыкального училищ объявили забастовку и отправились толпой по городу «снимать» с учебы гимназистов и реалистов. К вечеру забастовали заводы и депо. На следующий день школьники соорудили баррикаду в центре города и открыли митинг, а на окраине города рабочие провели вооруженную демонстрацию и также строили баррикады. Войска стреляли по демонстрантам и разрушали баррикады, откуда по ним в ответ вели огонь и метали самодельные бомбы. Перестрелки продолжались неделю, по имеющимся данным, число жертв с обеих сторон достигло сотни.
В Одессе всеобщая забастовка началась 12 октября, а отдельные предприятия не работали с начала месяца. Как и в Екатеринославе, первыми на улицы вышли школьники. 14 октября толпа учеников старших классов и студентов, направлявшаяся срывать занятия в еще работающих учебных заведениях, была разогнана отрядом городовых. 20 полицейских, направленных против многотысячной толпы подростков, применили крайнюю силу для устрашения: по крайней мере пятеро учеников были серьезно ранены шашками. Это происшествие стало поводом для яростного митинга в стенах Новороссийского университета — после частичного восстановления автономии 27 августа (включая выборы ректоров и ограничение присутствия полиции на «кампусе»), университеты превратились в общественные клубы. Новоизбранный ректор, популярный профессор механики Иван Зачневский, шел навстречу инициативам студентов. Студенты же создали коалиционный совет, включавший представителей всех политических партий, для координации протестной деятельности в масштабах города. На университетском митинге вечером 14 октября раздавались призывы к свержению режима и расправе с градоначальником Нейдгардтом, а потом его многочисленные участники ворвались в здание городской думы и потребовали разоружения полиции и учреждения городской народной милиции — стандартный пункт революционной программы. 15 октября полиция перекрыла посторонним доступ на территорию университета, и на следующий день, в воскресенье 16 октября, тысячи не попавших внутрь одесситов устроили митинг прямо на улице. Затем толпа двинулась по городу, останавливая трамваи и пролетки, потом перешли к строительству баррикад. К вечеру баррикады были взяты штурмом войсками и разрушены, свыше 200 демонстрантов арестованы.
Похожая динамика наблюдалась во многих городах Российской империи: после недель забастовок люди начали выходить на улицу с более или менее насильственными коллективными акциями. Технически эти выступления не представляли особой угрозы имперскому режиму: даже в тех городах, где насчитывалось несколько десятков вооруженных и морально готовых к действию боевиков, правительственные силы имели многократный численный перевес. Наверное, для властей было бы даже желательно, чтобы вооруженная толпа попыталась штурмовать Зимний дворец или хотя бы резиденцию какого-нибудь провинциального губернатора. На эту атаку можно было бы ответить прямым применением силы, подобно тому, как одесский градоначальник Нейдгардт в июне создал повод для легального расстрела толпы «бунтовщиков» в порту. 14 октября 1905 г., когда рабочие бастующих заводов и ученики закрывшихся школ начали собираться в возбужденные толпы на улицах российских городов, петербургский генерал-губернатор Дмитрий Трепов издал грозное объявление, расклеенное по городу, в котором сообщал, что приказал полиции и войскам при «массовых беспорядках» «холостых залпов не давать и патронов не жалеть». Впрочем, к этому времени само наличие армии и полиции больше не воспринималось как гарантия порядка: восстание на броненосце «Потемкин» продемонстрировало всю глубину падения дисциплины даже в элитных флотских экипажах, а с заключением Портсмутского мира моральное разложение армии превратилось в самостоятельный фактор общей нестабильности. К середине октября 1905 г. проблема была уже не в отдельных массовых беспорядках, а в буквальном «массовом беспорядке» как фундаментальном состоянии массового общества, восставшего против любого старого порядка урегулирования многоуровневой имперской ситуации — юридического, экономического или культурного. В «беспорядок» было бесполезно стрелять боевыми патронами, потому что это было восстание не столько против правящего режима, сколько «помимо» него.
Именно превращение императора-«самодержца» в малозначительный фактор стало главным итогом политического кризиса 1905 года. Согласно базе Национального корпуса русского языка, в 1905 г. частота упоминаний Николая II в печатных текстах сократилась по сравнению с 1904 г. в два раза; слова «император» — также в два раза (а по сравнению с 1903 г. — почти в три); «царь» — в полтора раза. Зато частота упоминания абстрактного «самодержавия» выросла по сравнению с 1903 г. почти в три раза. Характерно, что в обстановке ежедневного насилия, среди сотен терактов против должностных лиц всех уровней никому и в голову не пришло даже попытаться организовать покушение на Николая II. Позже полицейские агенты пугали руководство слухами о подготовке революционерами бомбардировки императорской резиденции с воздуха. В начале 1907 г. Боевая организация по инициативе Азефа и вправду связалась с изобретателем аэроплана, анархистом Сергеем Бухало, планируя использовать его для убийства императора. Заведомая утопичность этого плана (в те годы даже управляемый камикадзе самолет не представлял опасности для находящихся внутри каменного здания) только подчеркивает важность отсутствия фантазий этого рода в 1905 г. В отличие от Александра II, своего деда, Николай II никого не интересовал в 1905 г. даже как жертва.
Шокирующая «посторонность» правящего режима разворачивавшимся событиям была вызвана изначальным игнорированием проблем массового общества, на смену которому в 1905 г. пришло хронически запаздывающее реагирование. 19 января 1905 г. в Царском Селе Николай II принял делегацию специально отобранных благонадежных рабочих Петербурга и прочитал им краткую речь. Отметив, что «все истинно-русские люди должны дружно и не покладая рук работать» во имя победы, он пообещал рабочим позаботиться о том, «чтобы все возможное к улучшению быта их было сделано и чтобы обеспечить им впредь законные пути для выяснения назревших их нужд». Возможно, в начале января даже такая протокольная встреча с туманными обещаниями могла разрядить обстановку, но спустя всего десять дней после «кровавого воскресенья» это мероприятие выглядело как бессмысленная издевка.
18 февраля (3 марта) 1905 г. был издан Высочайший рескрипт («дано поручение») на имя нового министра внутренних дел Александра Булыгина, который должен был разработать проект законосовещательного органа при императоре. Со времен проекта «конституции Лорис-Меликова» 1881 г. на высочайшем уровне не обсуждалась столь радикальная политическая реформа. Только объявлена она была слишком поздно — через две недели после того, как в московском кремле от рук террориста БО погиб бывший градоначальник Москвы, родной дядя Николая II. На этом витке эскалации антисистемного протеста вопрос выборов в совещательную «общественную палату» не являлся главной проблемой ни для общества, ни для правящего режима.
Изданный 17 (30) апреля «Указ об укреплении начал веротерпимости» имел огромное значение для уменьшения правовой дискриминации по религиозному признаку и, в общем, являлся важным шагом в направлении реформирования русской национальной империи. Однако он не отменял, а скорее подчеркивал принципиальную важность конфессиональных границ. С этой точки зрения, спустя два месяца после бакинской резни и на фоне разгорающейся «татаро-армянской войны» на Южном Кавказе, указ прочитывался, скорее, как поощрение одних конфессиональных общин (прежде всего, исламской уммы) за счет других (будь то православие — с точки зрения части русских националистов, или грегорианской церкви — с точки зрения армянских националистов).
Наконец, 6 (19) августа 1905 г. императорским манифестом была учреждена Государственная дума, созываемая к середине января 1906 г. как «особое законосовещательное установление, коему предоставляется предварительная разработка и обсуждение законодательных предположений и рассмотрение росписи государственных доходов и расходов». Еще в начале весны это решение могло бы радикально повлиять на ход событий, но не после Цусимы, «Потемкина» и Лодзи. Даже умеренные члены «Союза Освобождения» и русские националисты-монархисты к этому времени считали необходимым введение полноценного народного представительства.
10.8. Манифест: второй шанс имперского режима и вспышка гражданской войны
В середине октября, совершенно неожиданно не только для населения, но и для высших сановников (включая министра внутренних дел), был объявлен «Высочайший манифест об усовершенствовании государственного порядка», который вернул режиму статус законодателя правил игры в условиях вышедшей из-под контроля имперской ситуации.
Подписанный вечером 17 октября документ в трех кратких пунктах объявлял «незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов», допускал к выборам в Государственную думу «те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательских прав», а за самой Думой признавал статус высшего законодательного органа и право контроля над исполнительной властью. В основе манифеста лежал «всеподданнейший доклад» председателя комитета министров Сергея Витте, составленный еще за неделю до этого. Сам Витте настаивал, что в случае принятия его проекта должна последовать публикация доклада с одобрительной резолюцией императора — но не готовый манифест. Это была логика не просто царедворца и карьериста, но и системного государственного деятеля: объявляя немедленно полные гражданские свободы, манифест не мог предложить никакого механизма их реализации. Возникал разрыв между новыми, провозглашенными в самом общем виде принципами и старой «конституцией» государственной машины. Вот почему главное место в докладе Витте уделялось правительству (которое он, к тому же, намеревался возглавить):
…задачей Правительства является установление таких учреждений и таких законодательных норм, которые соответствовали бы выяснившейся политической идее большинства русского общества и давали положительную гарантию в неотъемлемости дарованных благ гражданской свободы. Задача эта сводится к устроению правового порядка. Соответственно целям водворения в государстве спокойствия и безопасности, экономическая политика Правительства должна быть направлена ко благу широких народных масс, разумеется, с ограждением имущественных и гражданских прав, признанных во всех культурных странах.
То есть предполагалось, что в качестве политического жеста, призванного разрядить ситуацию, будет объявлен план конституционной реформы, который начнет реализовываться спустя некоторое время через конкретные постановления правительства и ведомственные инструкции (губернаторам, полиции, цензорам и пр.). Но этот подход совершенно не устраивал Николая II, который не собирался отдавать инициативу правительству: и потому, что подозревал Витте в желании узурпировать власть, и потому, что ему была глубоко чужда сама идея регулярного государства как сложного самостоятельного механизма. Николай II заявил о желательности именно манифеста, представляющего его единственным инициатором реформы и не упоминавшего никакие последующие распоряжения правительства. Решившись на ограничение «самодержавия» (в смысле авторитарного режима правления), он столь же авторитарно и антисистемно объявил наступление новой политической эры.
С одной стороны, результат манифеста 17 октября 1905 г. был именно таким, на который рассчитывали в правительственных кругах. Из пассивного символа обреченного старого режима, играющего маргинальную роль в нарастающем кризисе, Николай II вдруг превратился в ключевую фигуру складывающегося нового имперского порядка. Не будучи в состоянии прекратить разнонаправленную мобилизацию разных категорий имперского общества, манифест действительно создал условия для выработки нового компромиссного урегулирования главных конфликтов структурной имперской ситуации на основе существующей государственной системы Российской империи. Многие социальные группы проигнорировали манифест или отнеслись к нему враждебно: не только анархисты и прочие радикалы, но и часть польских или кавказских националистов. Точно также нараставшие с начала осени 1905 г. крестьянские беспорядки или бунты в разлагающихся воинских частях только усилились после объявления манифеста. Однако руководство «Союза союзов» и большинство членов «Союза освобождения» приняли манифест и сформировали легальные партии (Конституционно-демократическую и более умеренную — Союз 17 октября), готовые сотрудничать с правительством на основе принципов манифеста. Это была единственная сила, координировавшая разнонаправленные протесты 1905 года в общеимперское революционное движение. В этом «союзовцам» пригодились навыки интеллигентской «общественности» как общеимперского феномена, способного интегрировать разнообразные формы в рамках проектов альтернативного реформизма. Без «Союза освобождения» непримиримая оппозиция распадалась на отдельные сектантские группировки, неспособные к совместной деятельности.
С другой стороны, неожиданное объявление конституционного режима без всякой конкретизации упоминавшихся в манифесте новых принципов и правовой основы их осуществления вызвало шок, и гораздо более сильный, чем опасался Витте. Вплоть до октября 1905 г. в протестных акциях — забастовках, студенческих демонстрациях, вооруженных акциях боевиков — принимало участие относительное меньшинство городского массового общества: вероятно, не более 10-25% даже в самые драматичные моменты, в самых крупных индустриальных центрах. Остальные многие месяцы жили под двойным прессом невысказанного недовольства и растерянности, вызванных не только действиями правительства, но и экономической разрухой, резким всплеском насилия, неопределенностью будущего. Манифест 17 октября (ставший известным за пределами столицы 18 и даже 19 октября) произвел эффект разорвавшейся бомбы. По многочисленным свидетельствам, местные обыватели и власти восприняли манифест как победу революции, смысл которой все понимали по-разному — вплоть до объявления республики и роспуска государственных органов. Начались стихийные массовые празднования, во многих городах фактическая власть переходила в руки городских дум, растерянные губернаторы отзывали с улиц полицию, на смену которой выходила добровольческая народная милиция.
Для тех, кто пережидал беспорядки 1905 г. как стихийное бедствие, объявление манифеста показалось крушением всего привычного социального строя, чреватого обобществлением собственности, потерей социального статуса, сменой культурного кода (включая умаление религии). Только если прежде эти опасения не находили выхода, поскольку переживались каждым индивидуально перед лицом массового протеста, то теперь вдруг у растерянных горожан появился свой координирующий центр. Всеобщее признание манифеста 17 октября восстанавливало утраченную было роль даровавшего его императора и правительства как реальных источников власти. Теперь можно было открыто выступить в защиту своих интересов не против вооруженных революционеров, а в поддержку законной власти. Впервые возникла ситуация, чреватая гражданской войной, когда разные группы населения не просто расходились в своих стремлениях, а вступали в прямой конфликт из-за различных взглядов на желательную политику центральной власти.
В ответ на революционные празднования по всей Российской империи 18-22 октября прошли «патриотические» демонстрации, выражавшие поддержку Николаю II и прежним политическим ценностям. Часто они организовывались при участии местных властей, однако многочисленность и энтузиазм демонстрантов свидетельствовали о том, что у значительной части городского массового общества, прежде безмолвно наблюдавшей за событиями, появилась возможность и желание заявить о себе. Публикация манифеста 17 октября не остановила, а лишь переформатировала «восстание масс». Во многих случаях патриотические манифестации перешли в городские восстания, которые в то время неизменно называли еврейскими погромами — даже там, где еврейские общины были незначительны и основными жертвами были не евреи, а (как в Казани) русские участники революционной милиции.
Подобно тому, как стандартный сценарий «патриотической» антиреволюционной демонстрации строился по модели крестного хода, с обязательным молебном, несением икон и царских портретов, представление о контрреволюционном восстании формировалось идеей еврейского погрома. Во-первых, массы противников революции просто не знали, как иначе организовать насильственное выступление (ведь до появления наглядных объяснений в анархистских листовках 1904 г. рядовые горожане не представляли, как конкретно должно выглядеть и революционное восстание). Здесь важную роль играли ультраправые пропагандисты и активисты наподобие Крушевана, которые не только призывали к нападениям на евреев, но и распространяли адреса жертв. Крайне своевременным оказалось первое издание отдельной брошюрой «Протоколов сионских мудрецов» Сергеем Нилусом в Царском Селе. 16 октября 1905 г. митрополит Московский Владимир (Богоявленский) распорядился зачитывать фрагменты «Протоколов» в издании Нилуса по всем церквям города. Во-вторых, «победа революции» воспринималась как полный переворот привычного социального порядка: монарх переставал быть самодержцем, богатый становился потенциальной жертвой эксплуатации (экспроприации), лишенные прав евреи становились полноправными гражданами. Простейшим способом восстановить утраченный порядок было унижение евреев. В-третьих, в черте еврейской оседлости евреи действительно составляли большинство членов революционных группировок, а прикрытый монархическими политическими лозунгами погром позволял безнаказанно заниматься мародерством. Таким образом, еврейский погром оказывался таким же универсальным способом борьбы с революцией, как расстрел запертой в одесском порту толпы, собравшейся поглазеть на броненосец «Потемкин»: иначе невозможно было представить абстрактное понятие «революционеры» в виде конкретной группы и применить к ней силу — подобно тому, как революционеры с легкостью идентифицировали по формальным признакам «слуг режима» или «капиталистов».
Антиреволюционные восстания разворачивались в ответ на недавние попытки революционного захвата города или одновременно с ними. Монархисты-повстанцы пользовались поддержкой властей, которые использовали погромщиков как «патриотическую милицию» против революционной милиции, закрывая глаза на «эксцессы» по отношению к мирному населению. При этом войскам приказывали открывать огонь по революционным боевикам или отрядам еврейской самообороны. Даже согласно официальному расследованию, в результате киевского погрома в октябре 1905 г. большинство жертв было вызвано огнем войск.
До сих пор отсутствует хотя бы приблизительная общая статистика контрреволюционных городских восстаний 18-29 октября 1905 г. Цифры разнятся и в рамках традиционной интерпретации всех монархических выступлений как еврейских погромов. Максимальная цифра в 660 населенных пунктов включает, очевидно, все места восстаний. Оценки жертв погромов варьируются от 800 до 3,5-4 тыс. убитых евреев и до 10 тыс. раненых. При этом даже антисемитские авторы никогда не интересовались числом жертв среди нееврейского населения. Между тем, в одной Одессе речь может идти более чем о сотне жертв, включая 15 членов еврейской самообороны — не-евреев, а также погромщиков, случайных жертв стрельбы войск среди обывателей — то есть до одной трети от погибших евреев. В Екатеринославе погибли 67 евреев и 63 не-еврея. Вне черты оседлости пропорция была обратной: так, погром в Томске унес жизни 66 человек (в полтора раза больше, чем в Киеве), преимущественно русских.
Октябрьские погромы были таким же элементом восстания массового общества, как и почти одновременные городские революционные восстания, с тем же социальным составом участников. Большинство погромщиков составляли рабочие, для части которых еврейский погром не отличался принципиально от других форм антисистемных выступлений 1905 года: стачек, строительства баррикад, «экспроприаций» местных лавочников (тех же евреев) на нужды бастующих. В шахтерской Юзовке погромщики убили 10 евреев (некоторые были брошены в доменные печи) и ранили 38, разгромили и разграбили 84 магазина и лавки, более 100 квартир. Описан случай, когда шахтеры, работавшие на удаленных от городов шахтах, прослышав о погроме, остановили поезд и заставили везти их в ближайший город, где шел погром. По пути следования машинист по требованию шахтеров давал гудки, созывая желающих присоединиться. Не исключено, что в революционных выступлениях и еврейских погромах принимали участие одни и те же рабочие. Всероссийская стачка означала для них две-три недели отсутствия работы и заработка (без всяких сбережений за душой), а прекращение забастовки после объявления манифеста 17 октября без установления «коммуны» и даже без получения какой-либо материальной компенсации вызывало глубокое разочарование и приводило к социальному взрыву, одной из важных форм которого — хотя и не единственной — были нападения на евреев.
Возвращение правительства как реального центра власти и появление организованной «контрреволюции» (как в виде массовых монархических восстаний, так и оформления ультраправых партий наподобие Союза русского народа) в конце октября 1905 г. послужили толчком для революционного выступления в узком смысле: как скоординированных попыток захвата власти. По всей стране в декабре прокатилась новая волна стачек, переходивших в городские восстания. Декабрьские мятежи отличались от стихийных и «ползучих» восстаний начала октября. Октябрь стал кульминацией «восстания масс» в буквальном смысле: многочисленностью и разнообразием социального состава участников, отсутствием единой организации, импровизированным следованием общей идее «восстания», а не конкретному плану действий. После провозглашения Манифестом 17 октября конституционного режима и последовавшего распада широкой антисистемной коалиции, левые группировки — большевики, эсеры, анархисты — попытались объединить наиболее недовольные или непримиримые группы населения. Они объявили бойкот предстоящим выборам в Думу и занялись подготовкой «правильной» революции как гражданской войны, а не акта общенационального единения. Вновь идея реализации конкретного социально-политического устройства любой ценой взяла верх над представлением о революции как общенародном «референдуме», на котором насилие применяется вынужденно и избирательно, лишь по отношению к упорствующему меньшинству.
Наибольший резонанс (хотя и не самый крупный масштаб) имело декабрьское восстание в Москве. На 5 декабря (именины Николая II) партия эсеров назначила протестную акцию в Москве на Тверской улице, напротив дома генерал-губернатора. По сведениям полиции, собравшиеся рабочие должны были быть вооружены железными прутами, организаторы собирались их напоить и направить на разгром губернаторского дома. Независимо от достоверности этих сведений, на деле в манифестации приняли участие лишь несколько десятков рабочих, абсолютное большинство участников демонстрации составляли безоружные учащиеся (главная социальная опора революционных партий), которых жестко разогнала полиция. В ответ 7 декабря 1905 г. Московский совет рабочих депутатов, где с осени доминировали большевики, объявил всеобщую политическую стачку, которая охватила около 60% заводов и фабрик. На улицах проходили митинги и собрания под охраной вооруженных дружин, составленных из партийных активистов. Было парализовано железнодорожное сообщение (действовала только Николаевская дорога до Санкт-Петербурга, которую обслуживали солдаты). Вечером город погружался в темноту, поскольку Совет запретил фонарщикам зажигать фонари. В такой ситуации московский генерал-губернатор Федор Дубасов 8 декабря объявил в Москве и Московской губернии чрезвычайное положение. 9 декабря началось подготовленное восстание: за сутки огромный город покрылся сотнями баррикад. Число революционных дружинников на баррикадах оценивается сегодня в 1000-1500 человек, что в десятки раз превышало концентрацию боевиков в большинстве «горячих точек» в прежние месяцы, включая Белосток и даже Одессу. Этого количества все равно было недостаточно для одномоментного захвата города, но повстанцы компенсировали недостаточную численность высокой мобильностью. Они перемещались от одной баррикады к другой, появлялись в разных частях города, нападая на отдельные воинские посты и городовых, защищая баррикады, бросая бомбы в полицейские участки и даже врываясь в квартиры представителей режима, чтобы «казнить» их по приговору Совета. Всего, по официальным данным, в декабре 1905 г. в Москве было убито и ранено свыше 60 полицейских.
В ночь с 14 на 15 декабря из Петербурга по работающей Николаевской железной дороге в Москву прибыл Семеновский гвардейский полк. К этому моменту действовавшие в городе казаки и драгуны при поддержке артиллерии оттеснили повстанцев из центра Москвы на рабочие окраины, где и шли бои. Военные расстреливали захваченных повстанцев без суда и следствия. Жертвами городских боев становились и случайные прохожие, и московские врачи, которые помогали раненым на улице вне зависимости от того, чью сторону они поддерживали. Лишь десять дней спустя, к 19 декабря, восстание было подавлено.
По схожему сценарию одновременно проходили восстания по всей империи, от юго-западного края до Забайкалья. «Читинская республика» возникла еще в конце ноября, когда революционеры захватили армейские склады с оружием и сформировали вооруженную дружину численностью до четырех тысяч человек — что составляло треть от всего населения Читы, считая детей. Повстанцы установили контроль над Транссибом и телеграфом, отправляли своих представителей и целые вагоны с оружием в соседние населенные пункты, вплоть до Иркутска (за 1100 км). Лишь в конце января правительству удалось ликвидировать восстание, практически не встретив сопротивления многотысячной вооруженной армии повстанцев, силами одного батальона под командованием участника Японской войны, генерала Павла Ренненкампфа. Очевидно, спустя несколько недель после фактической победы революционного восстания в Чите, его участниками был утерян смысл дальнейшего существования революционной «республики».
На другом конце Российской империи особенно ожесточенным было декабрьское восстание в Ростове-на-Дону, продолжавшееся неделю (13-20 декабря 1905 г.), в течение которой правительственные войска пытались освободить захваченный восставшими городской вокзал. В Ростове на баррикадах и на вокзале сражались примерно 400 революционных дружинников. Рабочий район Екатеринослава Чечелевка был объявлен «республикой» и находился в руках восставших с 8 до 27 декабря. Такие же временные «республики» возникли в Люботине, Островце и других промышленных южных городах. Два дня уличные бои шли в Харькове.
Несмотря на многочисленность революционных боевиков, их решительность и организованность, декабрьские восстания были подавлены, как всегда и везде подавлялись прямые вооруженные мятежи против имперского правительства. Сама устойчивость российского имперского государства объясняется наличием в его распоряжении почти неограниченных ресурсов, позволявших остановить любую силовую атаку. Правда, возможность использовать эти ресурсы обусловлена одним ключевым условием: признанием имперского режима легитимным и востребованным наиболее социально активными группами населения. Именно отсутствие этого признания поставило режим Николая II на грань существования в октябре 1905 г., когда высшие сановники и члены императорской семьи открыто обсуждали планы бегства династии за границу. Николаю II удалось восстановить свой статус и воспользоваться ресурсами имперского государства только потому, что в своем манифесте 17 октября он признал самостоятельную политическую роль массового общества и обязался поддерживать обратную связь с его разными сегментами.
Сохранение монархического правления и Николая II на троне стало возможным не из-за «слабости» революции, а благодаря стихийному консенсусу, достигнутому имперским массовым обществом. За исключением радикальных польских националистов и части революционеров, никто не представлял себе послереволюционное устройство вне привычных рамок Российской империи — даже анархисты собирались существовать после своей победы за счет прямого обмена товарами между Белостоком и Баку, не разделенными национальными границами и национальными языками печатающихся газет. Если никто не пытался убить Николая II в 1904–1905 гг., какой смысл было менять фигуру на троне после объявления конституционного режима? Сама же отмена монархии не являлась принципиальным условием правового парламентского государства, к тому же, она была чревата колоссальными потрясениями, как показали монархические погромы конца октября 1905 г., когда объявление манифеста было воспринято как ликвидация самого института монархии.
На фоне ожесточенных городских боев 11 декабря 1905 г. был опубликован закон о выборах в Государственную думу — и очень значительная часть современного массового общества приняла решение участвовать в выборах. Тем самым признавалась легитимность верховной власти, принявшей этот закон, и нелегитимность вооруженного восстания против нее. Индивидуально многие сочувствовали революционерам и ненавидели лично Николая II и российскую монархию, но сделанный выбор в поддержку парламента означал предоставление обновленному имперскому режиму кредита доверия. Последующее десятилетие прошло под знаком поисков нового имперского проекта, способного консолидировать пестрое население Российской империи и дать ответ на новые вызовы многоуровневой имперской ситуации территорий и культур Северной Евразии.
Часть 2. Самоорганизация «прогрессистской империи»
Казалось бы, успешно подавив к началу ХХ в. угрозу революционного движения, имперский режим, тем не менее, не смог устоять перед подлинной социальной революцией ‒ взрывоподобным разрастанием массового общества, которое лишь в малой степени контролировалось институтами государства и традиционными практиками имперского управления через интеграцию местных элит. Возникающее массовое общество создавало единое городское пространство, в котором представители разных народов и социальных слоев находили общий язык. Одновременно внутри этой общей среды кристаллизовались современные типы национальной солидарности: революционных рабочих партий, литовских или украинских националистов, панимперской интеллигентской общественности. Воспроизводя логику имперской ситуации, эти деления не обязательно входили в конфликт друг с другом, а гораздо чаще сосуществовали. Следующее после 1905 г. десятилетие прошло под знаком поисков нового политического проекта, способного вновь консолидировать пестрое население Российской империи и дать ответ на новые вызовы многоуровневой имперской ситуации территорий и культур Северной Евразии.
10.9. Бескомпромиссная думская система
Общеимперский парламент в эпоху национализации политики
Имперский режим Николая II был спасен от, казалось бы, неизбежного краха в октябре 1905 г. объявлением об установлении конституционного правления и скором созыве парламента. В коротком Манифесте 17 октября ничего не обещалось бедным городским слоям, крестьянам или национальным движениям — главным участникам социальной революции массового общества. Но сама демонстрация готовности вступить в диалог и пересмотреть российскую политическую систему с учетом разнообразных местных интересов вновь вернула режиму роль посредника, а вместе с тем и политическую легитимность. Это был резкий разворот после категорического отказа от взаимодействия с подданными в предшествующие четверть века (с момента восшествия на престол Александра III), и в этом смысле можно говорить о крахе «старого режима» в 1905 г. Впервые речь шла о том, что новый политический порядок устанавливается в результате выработки компромисса между отдельными группами имперского общества, а не навязывается властью. Если прежде в ситуации острого политического кризиса действовала логика, которую, упрощенно, можно отождествить с теорией Томаса Гоббса (государство устанавливается как наименьшее зло в атомизированном пространстве борьбы «всех против всех»), то теперь реализовывалась модель Джона Локка (государство учреждается в результате общественного договора и на основе уже сложившегося в обществе консенсуса).
Эта структурная ситуация на практике осложнялась как конкретными политическими обстоятельствами и даже личностными особенностями, так и спецификой имперского общества. В нем оказывался почти недостижимым компромисс в смысле единого и всеобъемлющего плана, который одинаково понимают и принимают во всех регионах и социальных слоях. Облегчение нужды бедных крестьян и защита частной собственности, запрещение многоженства и разрешение разводов, свобода вероисповедания и женское равноправие, развитие национальных культур и защита этноконфессиональных меньшинств не просто противоречили друг другу, но и понимались очень по-разному на Кавказе и в Сибири, в городе и деревне, среди образованных и необразованных людей. К тому же, в новом массовом обществе любое разногласие по частному вопросу потенциально могло перерасти в принципиальный конфликт с миллионами участников с каждой стороны.
Структурная имперская ситуация постоянно порождала такие разногласия и конфликты, и единственным способом избежать масштабного противостояния было разграничение центров принятия решений по определенным вопросам, а также ограничение сферы применимости этих решений. К примеру, если бы каждое губернское земство могло самостоятельно принимать решение о перераспределении земельного фонда на подконтрольной территории (вплоть до конфискации частновладельческой земли в пользу малоземельных крестьян), а фабрично-заводская инспекция в каждом городе имела право ограничивать продолжительность рабочего дня на местных предприятиях, то важнейшие конфликты эпохи, не теряя своей остроты, приводили бы к совершенно иным последствиям. Решения принимались бы в конкретных условиях и в локальном масштабе, в максимальном приближении к населению, которое имело бы прямой доступ к местным органам власти и прямую заинтересованность в участии в их формировании. В то же время, многократно возрастала бы возможность достижения компромисса благодаря наглядности имеющихся локальных вариантов выбора и наличию механизмов достижения договоренностей (в том числе, неформальных). Такой расклад оставлял бы центральным органам власти (и исполнительной, и законодательной) роль верховного арбитра и координатора местных инициатив, способного поддержать некоторые из них дополнительной финансовой помощью или вступиться за притесняемое меньшинство.
Запланированный же общеимперский парламент должен был принимать законы, обязательные к исполнению на всей территории страны и одинаково понимаемые повсюду, то есть адресованные единой политической нации. В реальности же о подобной глобальной и одномерной солидарности речи идти не могло. Все участники политического процесса в Российской империи после 1905 г. воспринимали общество через призму нации, но понимаемой по-разному, и контуры этих разных «наций» не совпадали с государственными границами. Это была не «многонациональность» по принципу лоскутного одеяла, когда ограниченные территориально фрагменты при объединении составляют некое общее целое. Каждый из альтернативных сценариев нации (правительства, образованного общества, революционеров, этноконфессиональных групп и пр.) претендовал на реализацию в масштабах всей страны.
Любое решение парламента должно было приниматься в масштабах всей нации (в любой ее версии), в центре политической власти. Разумеется, никакого универсально применимого по всей стране решения той или иной проблемы центральная власть не могла предложить в принципе, независимо от своей реакционности или революционности. Соответственно, неизбежное частное или всеобщее недовольство принятым решением каждый раз обращалось против центра власти, компрометируя его. В то же время, единственным способом добиться желаемых перемен казалось установление контроля над этим общим центром власти. Его удаленность (пространственная и социальная) от большинства жителей страны и невозможность достичь сколько-нибудь реального представительства 160-миллионного населения империи в общеимперском парламенте делало политический процесс уделом элитарных и даже просто случайных группировок и персонажей. Когда от лица миллиона человек выступают 3-4 делегата, почти не имеет значения, по каким правилам их выбирали и пропорционально ли они воплощают этноконфессиональный, классовый или гендерный состав населения. Ибо идея пропорционального представительства имеет смысл только в двухмерном пространстве нации: во всех ее пределах крестьяне всегда крестьяне, а социал-демократы — просто социал-демократы. В обществе имперской ситуации эти и аналогичные социальные маркеры мало значат сами по себе, они всегда сопровождаются другими обстоятельствами и лишь отчасти предопределяют то, какие интересы в итоге защищает депутат парламента.
Сложилось парадоксальное положение: структурную имперскую ситуацию воспринимали и описывали через множество взаимопротиворечащих версий нации. Сторонники Николая II рассчитывали выкроить ядро «истинно-русских людей», поставив их в привилегированное положение относительно остальных подданных империи. Интеллигентская общественность воспринимала полноценными членами нации только «трудящихся», намереваясь перераспределить в их пользу часть «незаработанной» собственности, то есть приобретенной не за поденную плату рабочего или профессора. Этноконфессиональные националисты пытались провести территориальные границы своих наций и решить двойную задачу: изгнать с этой территории как имперских чиновников, так и всех «инородцев», нарушающих «чистоту нации». То, что российское имперское общество в 1905 г. не распалось по границам всевозможных наций, объясняется лишь фундаментальностью имперской ситуации, когда отдельные национальные проекты переплетались друг с другом или вынуждены были вступать в альянсы. К примеру, лидеры грузинского национализма были социал-демократами, что вовлекало их в общероссийское поле левой политики, а латышские националисты нуждались в поддержке имперской власти в борьбе против традиционного доминирования немецкой элиты Ливонии / Лифляндии. Все надеялись реализовать собственное видение идеальной нации при помощи имперских институтов, при этом рассматривая компромисс лишь как тактическую меру, временную уступку. С этим настроем на временную передышку перед решительной и окончательной победой собственного национального проекта большинство участников политического процесса и подошли к выборам в парламент.
С одной стороны, Николай II воспринимал крах прежнего политического режима как личное несчастье и измену идеалу авторитарного правления (он называл 17 октября 1905 г. «днем крушения»). С самого начала он готовился к саботажу вырванного у него силой (как он полагал) конституционного строя. В то же время, часть подданных империи — например, на финских или польских землях — стремились не к новому компромиссу, а к политической независимости от России, ожидая лишь подходящего момента. Наконец, с третьей стороны, представители политической нации российской общественности понимали компромисс как постепенное навязывание своей политической программы легальными мерами (вместо революции). Созыв Государственной Думы восстанавливал легитимность общеимперской государственности, но лишь как арены противоборства национализмов, стремящихся в итоге к упразднению сложно переплетенного имперского общества.
Избирательная система социальной инженерии
Положение о выборах в Государственную Думу, опубликованное 6 августа 1905 г., представляло парламент как консультативный орган при имперском правительстве. В Манифесте 17 октября 1905 г. Дума уже объявлялась органом законодательным. Выборы в нее не были ни всеобщими, ни прямыми, ни равными. Согласно закону о выборах 1905 г. учреждались четыре категории выборщиков («избирательные курии»): землевладельческая, городская, крестьянская и рабочая, каждая со своим принципом формирования. Этот принцип наделения населения правом голоса напоминал земскую избирательную систему, сформированную еще в начале 1860-х гг., когда была предпринята первая успешная попытка политически упорядочить многомерность имперского общества.
Сама по себе куриальная и многоступенчатая система выборов (когда избиратели голосуют за своих представителей-выборщиков, которые уже подают голоса за депутатов парламента) не является однозначно архаичной и реакционной. До победы нациецентричного социального воображения и распространения современного массового общества, идея равнозначности голосов избирателей вовсе не воспринималась как сама собой разумеющаяся. Мало того, что полная гражданская дееспособность признавалась только за лично свободными и экономически независимыми людьми — оставляя за рамками политического процесса женщин и наемных работников, молодых людей и арендаторов земли; в некоторых странах даже допущенных до голосования ранжировали по степени «гражданской состоятельности». Так, в Бельгийском королевстве в начале ХХ в. мужчины среднего достатка получали один дополнительный голос на выборах, а выпускники университетов — два дополнительных голоса. В Великобритании владение недвижимостью в разных избирательных округах предоставляло избирателю по голосу в каждом из них.
В этой же логике, система курий разделяла избирателей по ценности их голоса. Только применялась эта система не к прямым, а к многоступенчатым выборам: избиратель голосовал за выборщиков по своей курии, а уж потом выборщики избирали депутата парламента (иногда через дополнительные промежуточные этапы). По российскому избирательному закону 1905 г. один выборщик в землевладельческой курии приходился на 2 тысячи избирателей, в городской — на 4 тысячи избирателей, в крестьянской — на 30 тысяч, в рабочей — на 90 тысяч. Иными словами, голос избирателя-землевладельца равнялся двум голосам избирателей по городской курии. Также можно отметить, что многоступенчатые выборы в огромной стране с низкой грамотностью населения и отсутствием подлинно массовых средств информации позволяли избирателям голосовать более осмысленно — за местных выборщиков, которых можно было встретить лично или, хотя бы, оценить на основании местной репутации. В крестьянской курии сначала каждые десять дворов выбирали представителя — хорошо знакомого соседа — для следующего этапа: волостного схода. На сходе отбирали делегатов на уездный съезд. Уездный съезд определял собственно выборщиков, которые на губернском или областном съезде совместно с выборщиками от других курий избирали депутата в Государственную думу.
В стране, где до 17 октября 1905 г. не существовало ни одной легальной партии и отсутствовало широкое обсуждение политических платформ, многоступенчатые выборы позволяли осознанно голосовать за конкретные политические фигуры, обладающие лишь локальной репутацией. Куриальная система могла обеспечить реальное политическое представительство в условиях имперского общества, в котором более социально интегрированные группы могли навязывать остальным своих кандидатов. К примеру, в Палестине под британским управлением с 1920 по 1949 гг. еврейское население выбирало Ассамблею представителей (Assembly of Representatives). Чтобы гарантировать пропорциональное представительство основных категорий населения, с 1931 г. выборы проводились по трем куриям: для ашкенази, сефардов и йеменских евреев. В Российской империи курии могли обеспечивать доступ в парламент для меньшинств, у которых было мало шансов провести своего кандидата на общих выборах. Или, напротив, курии могли играть роль «замедлителя» слишком бурной демократизации, предоставляя больше прав традиционным элитам — сословным (дворянству), имущественным (по уровню доходов) или культурным (по уровню образования). Однако режим Николая II в очередной раз продемонстрировал свою активную идеологическую позицию, выбрав третий путь и доказав свою приверженность консервативному модернизму.
Не допуская гражданского равноправия избирателей, принцип формирования Государственной думы полностью игнорировал и существовавшие официальные категории населения Российской империи, такие как сословия. Вместо них вводились совершенно новые, ни на чем не основанные понятия, совершенно произвольно синтезирующие класс, юридический статус и местожительство в новые социально-политические идентичности. Позднее к этим социологическим факторам добавились дополнительные критерии финансовой состоятельности и национальности. Небогатый дворянин-интеллигент лишался права голоса, а приписанные к крестьянскому сословию могли оказаться в любой из четырех избирательных курий.
Система избирательных курий представляла собой определенную «карту» общества, причем, не прошлого, а некоего желательного будущего. По избирательному закону 1905 г. крестьяне получали квоту на 42% выборщиков; средние и крупные землевладельцы — почти на 33%; обеспеченные горожане — на 22.5%, а рабочие всего на 2.5% выборщиков. При этом территориально более 21% мест в парламенте резервировалось для окраинных и «неевропейских» губерний. Очевидно, сконструированный таким образом политический класс Российской империи представлял собой предел компромисса с современным массовым обществом, на который был готов пойти режим. Квота для городов была существенно завышена по сравнению с реальным уровнем урбанизации в стране (около 15%), а учитывая высокий имущественный статус допущенных до выборов, доля выборщиков-горожан была примерно в 15 раз выше практического социального веса городской элиты. Правда, одновременно избирательный вес допущенных до выборов по курии землевладельцев был раздут в законе в 50 с лишним раз (в реальности их численность была в 150 раз меньше количества крестьянских дворов). Соответственно, примерно вдвое было занижено представительство крестьянства.
В данном случае, важны не столько цифры, которые впоследствии менялись, сколько сама готовность имперского режима к агрессивной социальной инженерии. Как признавался позднее архитектор думской избирательной системы, правовед Сергей Крыжановский (1862–1935),
главная задача времени была создать Думу уравновешенную и государственную, а для этого приходилось вылавливать из современного общества чуть ли не по крупинке тех немногих лиц и начала, которые были способны к этому делу… вместе с тем и неимущие, и интеллигенты, и рабочие не лишены были возможности отвести в Думе душу.
Основной проблемой избирательной системы после 1905 г. была не консервативность, а реформаторский произвол, искажающий сам смысл института выборов — волеизъявление граждан. С одной стороны, к выборам допускались беднейшие слои земледельцев и рабочих, которые в 1905 г. не имели права голоса в Австрии, Италии или Голландии. С другой, основное гражданское право — избирать представителей в парламент — не получали реально сложившиеся группы социально-политической солидарности, осознающие свою особость: предприниматели, интеллигенция или аристократия (как отдельные и самодостаточные сообщества). Ни политическая нация российской имперской «общественности», ни этноконфессиональные нации отдельных краев не получили общих избирательных прав — пусть и ограниченных в рамках той или иной курии. Исключив прямое личное голосование и разбив избирателей на курии, закон о выборах позаботился о том, чтобы никаких общих, даже корпоративных, интересов эти курии не выражали. Крупные землевладельцы и хозяева небольших поместий в 100 га, владельцы рудников («горнозаводских дач») и сельские священники, включенные в общую землевладельческую курию, не разделяли ни социального опыта, ни экономических интересов, ни культурных горизонтов. Думская избирательная система не предполагала «представительства» вообще ничьих интересов — ни элиты, ни масс, никакого локального или общеимперского общества. Единственной целью социологических манипуляций по выкраиванию «чуть ли не по крупинке» избирательных курий было обеспечение поддержки любым инициативам исполнительной власти — все равно, реформаторским или реакционным. Государственная дума по своей архитектуре не являлась собственно имперским парламентом, даже консервативным: продукт административно-социологических манипуляций, она должна была имитировать политическую нацию лояльных «истинно-русских людей», о которой мечтал Николай II.
Режим консервативного модернизма против партийной самоорганизации общественности
Важно подчеркнуть, что Николай II возглавлял и представлял особый политический режим, и консервативный модернизм был отчетливо выраженной идеологией его ведущих сотрудников. Ровесником архитектора думской избирательной процедуры Сергея Крыжановского был назначенный в 1906 г. премьер-министром Петр Столыпин (о котором речь пойдет ниже), на год старше их был одесский градоначальник Дмитрий Нейдгардт, двумя годами младше — автор проекта «полицейского социализма» Сергей Зубатов. Целая когорта высших чиновников, родившихся в пореформенный период и поступивших на государственную службу при Александре III, разделяли некий общий тип социального воображения. Из имперской политической традиции они унаследовали лишь приверженность авторитаризму, в котором видели залог единства гетерогенного имперского пространства. Желая сохранить контроль над всем этим пространством, они при этом сами считали империю пережитком прошлого и ориентировались на идеал современного общества: единую этноконфессиональную нацию, с однородным законодательством и системой управления. Их главной заботой было взращивание русской монархической нации в теле империи, что и позволяет характеризовать этот химерический (но вполне конкретный) политический проект как «русскую национальную империю». (При этом демократический, республиканский и просто самодеятельный русский национализм, который угрожал режиму и единству империи, не поддерживался).
Столь же химеричной была политика режима. Не являясь публичными политиками, еще до 1905 г. высшие чиновники Николая II позволяли себе идеологически мотивированное политиканство. Зубатов развивал рабочее движение под контролем полиции, Нейдгардт формировал революционную толпу из отдельных возмущенных или просто возбужденных горожан и подводил ее под солдатские пули. На языке эпохи конструирование социальной реальности властями ради достижения конкретного желаемого результата называлось «провокацией». Созыв Государственной Думы оказался не просто уступкой восставшему массовому обществу, но гигантской провокацией режима. Политически мобилизованное общество в целом с энтузиазмом включилось в избирательный процесс, тем самым признав легитимность режима Николая II — но кроме функции поддержки верховной власти, сконструированная Дума ни на что не годилась. Из-за того, что за депутатами стояли не отчетливые социальные группы, с которыми необходимо было считаться, а сконструированные правительством же социологические фикции, даже ограниченный диалог парламента с правительством оказался невозможен, что и продемонстрировали дальнейшие события.
Единственным, чего не учли николаевские «политтехнологи», была высочайшая степень самоорганизации, достигнутая российским обществом к началу ХХ в. Как показали события 1905 г., в Российской империи сформировалась публичная сфера общества, способного на продуктивный диалог разных групп интересов, достижение компромисса и сложную организационную работу (подобную той, что взял на себя Союз Союзов). Игнорируя эту «локковскую» реальность, архитекторы Государственной Думы опирались на «гоббсовскую» логику насильственной разверстки населения по изобретенным правительством категориям, как в XVIII веке. Однако уже в октябре 1905 г. оформились легальные политические партии, отличающиеся идеологией и программой, которые повели борьбу за выборщиков на выборах в Государственную Думу в феврале-марте 1906 г. Вместо социологических типажей избирателям были предложены идеи, и представляли их конкретные, известные многим выборщикам кандидаты. В результате, собравшаяся Дума оказалась структурирована не куриями, а партийными фракциями. Не осуществляя представительства определенных социальных слоев, депутаты все же смогли объединяться по идейным соображениям.
Из примерно 500 депутатов Государственной Думы, собравшихся на первое заседание 27 апреля 1906 г. в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге, лишь пятая часть не примкнула к той или иной политической платформе. Самая большая фракция (34% депутатов) принадлежала партии конституционных демократов (КД, или «кадетов»), для большей понятности массам называвшей себя также «партией народной свободы». Созданная во время октябрьской всеобщей стачки 1905 г. на основе умеренного крыла Союза освобождения и радикальных членов земского движения, партия кадетов представляла медиану политической нации российской общественности. Иными словами, ее программа хотя бы отчасти совпадала с позицией каждой отдельной группировки (за исключением, разве что, анархистов) и представляла наиболее широкую базу для компромисса. Кадеты выступали против отмены и обобществления собственности, однако допускали перераспределение ее (прежде всего, земли) в соответствии с некими более справедливыми и рациональными принципами. Они соглашались с сохранением режима конституционной монархии в России, но считали необходимым созыв Учредительного собрания для выработки конституции и введения прямых и всеобщих выборов. Признавая возможность полной политической автономии для Великого княжества Финляндского и бывшего Царства Польского, кадеты в целом соглашались на развитие всех национальных культур в империи (в том числе в сфере школьного образования). Член ЦК кадетской партии, профессор гражданского права Московского университета Сергей Муромцев был избран председателем Думы. Заместителями председателя стали члены кадетского ЦК, земский активист князь Петр Долгорукий и харьковский профессор гражданского права Николай Гредескул. Еще один член ЦК кадетов, либеральный земец князь Дмитрий Шаховской, стал секретарем Думы.
Следующей по численности фракцией (включавшей почти четверть депутатов — 23%) была «трудовая группа», или трудовики. Ее составили беспартийные депутаты, придерживающиеся народнических взглядов, более радикальные, чем кадеты, в вопросах экономики и собственности.
Еще 15% депутатов сформировали фракцию автономистов, в которую вошли представители национальных движений. Половину фракции составили польские депутаты (Koło Polskie — «польский кружок»), остальные участники представляли интересы украинских и беларуских, кавказских и балтийских, а также тюрко-татарских («мусульманских») национальных проектов.
Партия умеренных конституционалистов, считавших достаточной политическую реформу, обещанную октябрьским манифестом, и минимальное регулирование социально-экономических отношений, так и назвала себя — Союз 17 октября. С ней идентифицировались умеренная часть земцев и промышленники, консервативная часть интеллигенции. Доля октябристов в Думе составила всего 3%. Никакие организованные радикальные группировки — правые или левые — в Думу не прошли.
Таким образом, несмотря на все манипуляции избирательного законодательства, Государственная дума 1906 г. оказалась довольно представительным портретом политически мобилизованного российского общества. Выходило, что большинство разделяло политическую программу глубокой либерализации и социально-экономических реформ кадетов или примыкало к ней, независимо от курий, по которым проходило голосование. Это большинство представляло политическую нацию общественности. Помимо нее — и вступая с ней в стратегические альянсы — развивались этноконфессиональные национальные проекты. Бойкотирующие выборы ультралевые и ультраправые группировки являлись маргиналами. Несмотря на свою способность и готовность развязать широкомасштабное насилие, они находились на периферии переговорного процесса и общих согласованных действий.
Дума как площадка бескомпромиссного столкновения национальных проектов
По сути, избранная Государственная Дума являлась последним государственным институтом, способным выступить в роли координатора сложной имперской ситуации и хотя бы отчасти сгладить остроту противоречий, многократно усиленных разнонаправленной национальной мобилизацией населения. Однако и депутаты, и правительство видели в Думе исключительно инструмент национальной политики — каждые своей. Нации, реально представленные в Думе, не сочетались с химерической «русской нацией», которую пыталась сконструировать администрация Николая II, — ни структурно, ни идеологически. Правительство не признавало думские партии, упорно рассматривая депутатов как частных лиц, прошедших в парламент от соответствующих курий. Думское большинство считало себя выразителем национальных интересов, отказывая в полной легитимности имперскому режиму до созыва учредительного собрания и принятия конституции. Несовместимые национальные проекты режима и общества сталкивались в Думе, которая в качестве своего авторитета и основы для компромисса могла опереться лишь на фикцию «курий» с крайне немногочисленным количеством выборщиков, не представлявших никакие реальные социальные силы.
Соответственно, правительство под председательством чиновника с 45-летним стажем, Ивана Горемыкина (1839–1917), сменившего на посту Сергея Витте, игнорировало Государственную думу. Лишь спустя почти три недели после ее открытия, в Думу поступил первый законопроект: о выделении 40 тыс. рублей на перестройку пальмовой оранжереи и сооружение прачечной при клинике Юрьевского университета. Не всякое уездное земство сочло бы это серьезным поводом для обсуждения. Со своей стороны, депутаты Думы были озабочены изменением политического строя в стране. Они добивались признания принципа подотчетности Совета министров перед парламентом, а в рамках уже существующих своих полномочий за несколько недель внесли 391 запрос о незаконных действиях правительства. Кроме того, большинство депутатов требовали ликвидации Государственного совета как верхней палаты парламента, отмены смертной казни и полной политической амнистии. Одобрив лишь один законопроект из 56, внесенных правительством, — об ассигновании средств для помощи пострадавшим от неурожая, — депутаты сосредоточились на решении аграрного вопроса.
Среди российской «общественности» господствовало представление о «малоземелье» крестьян как главной причине их бедности. Поэтому обсуждение проблемы сводилось к решению вопроса о том, откуда и на каких условиях передать крестьянам дополнительные земельные угодья. Самым умеренным был проект, предложенный кадетами в начале мая 1906 г.: они предлагали распределять земли, принадлежащие государству, церкви и династии, а также принудительно выкупать их у частных собственников сверх некой нормы. Спустя две недели трудовики представили более радикальную модификацию этой схемы, а еще через две недели на обсуждение в Думу был внесен законопроект, вообще предполагавший отмену частной собственности на землю и национализацию всех природных ресурсов. Теперь уже речь шла не только об изменении политического строя, но и радикальном перераспределении собственности.
На фоне обсуждений в Думе вариантов передела земли сошедшие было на нет крестьянские беспорядки вспыхнули с новой силой в мае 1906 г. В отличие от революционных листовок, подрывные призывы, исходившие из органа власти, не цензурировались и пользовались повышенным вниманием со стороны избирателей. В этой обстановке зашедшего в тупик противостояния ветвей власти 6 (19) июля 1906 г. Николай II отправил в отставку главу правительства Горемыкина, а спустя три дня распустил Государственную Думу. В императорском манифесте депутатам прямо ставилось в вину то, что «крестьянство, не ожидая законного улучшения своего положения, перешло в целом ряде губерний к открытому грабежу…» Вместо положенных по закону пяти лет, первая Государственная дума просуществовала всего 72 дня.
С точки зрения администрации Николая II, все было сделано максимально корректно. Сначала был уволен назначенный императором премьер-министр, что подчеркивало большую вину правительства за политический кризис. В манифесте о роспуске Думы назначался конкретный срок созыва следующей — 20 февраля 1907 г., спустя семь месяцев. Выборы должны были состояться по тем же правилам, что и предыдущие, давшие столь радикально настроенных депутатов. Суть кризиса объяснялась в манифесте нарушением депутатами своих полномочий и «основных законов», которые регламентировали разделение компетенции ветвей власти. Однако самих депутатов роспуск Думы привел в бешенство. Половина из них собралась за пределами досягаемости российской полиции — в Выборге, на территории полуавтономного Великого княжества Финляндского. Там 180 человек подписали воззвание к жителям России, призывая их к гражданскому неповиновению (включая отказ от уплаты налогов и службы в армии), за что впоследствии были приговорены судом к нескольким месяцам тюремного заключения и лишению права избираться. Дело было не в буквальной революционности депутатов — в смысле приверженности радикальным политическим взглядам. Даже среди тех, кто подписал Выборгское воззвание, большинство не поддерживали ни насильственную смену власти, ни перераспределение собственности без полной компенсации. Просто депутаты считали себя законными представителями единственной признаваемой ими нации, а Думу — не инструментом достижения компромисса, а рупором, выражающим подлинные национальные интересы, сформулированные заранее и вне стен зала заседаний в Таврическом дворце.
Мало что изменилось в отношениях между депутатами и правительством с созывом Второй Государственной Думы в феврале 1907 г., хотя в ней заседали уже совершенно другие люди (всего 6% депутатов Первой Думы попали во Вторую). Несмотря на то, что к концу 1906 г. «восстание масс» в стране потеряло форму острого противостояния с имперской властью, по своему политическому составу новая Дума оказалась еще радикальнее первой. Всего 10% депутатов были беспартийными (включая монархистов) и еще 11% депутатов, избранных от партии октябристов, были готовы работать с правительством, не выдвигая заранее встречных требований и условий. Остальные разделяли настороженно-враждебное отношение к исполнительной власти. Кадеты контролировали теперь 20% голосов. Трудовики — 14%, но им удалось составить коалицию с другими народнически настроенными депутатами и создать фракцию на несколько человек многочисленнее кадетов. Социалисты (эсеры, социал-демократы и народные социалисты) вместе имели почти 24% голосов. Еще 15% депутатов входили в блок автономистов.
Столь радикальный состав Думы, когда умеренные конституционалисты — октябристы — начинали казаться консерваторами, на фоне постепенного спада политической напряженности в стране может иметь одно объяснение. Выборы в Думу даже по искусственно сконструированным куриям служили формой «национального самоопределения» и наибольшую поддержку получали те, кто открыто противостоял режиму Николая II и его «официальной нации». Революционность являлась лишь одним из признаков альтернативного национализма.
Со своей стороны, правительство, возглавленное после отставки Горемыкина министром внутренних дел Петром Столыпиным, демонстрировало готовность к компромиссу. С мая 1906 г. велись переговоры о предоставлении нескольких второстепенных министерских портфелей лидерам умеренных либералов из числа октябристов и членов Партии мирного обновления. Для рассмотрения Думой были внесены 287 законопроектов, включая такие принципиальные, как государственный бюджет и масштабная аграрная реформа. Дума рассмотрела лишь 31 законопроект, сосредоточившись на выработке закона об отмене военно-полевых судов для участников антиправительственных выступлений.
По утвержденному Николаем II «Положению об учреждении военно-полевых судов» от 19 августа 1906 г., в местностях, находящихся на военном положении (к этому времени — свыше 92% территории империи), для рассмотрения тяжких преступлений против жизни, собственности или порядка управления собирались военные суды в составе пяти офицеров. Они рассматривали дела в течение 48 часов, в устном порядке, без привлечения сторон обвинения и защиты. За восемь месяцев действия Положения эти суды вынесли 1144 смертных приговора. Благодаря, в том числе, яростному сопротивлению депутатов Государственной Думы, правительство не решилось внести положение от 19 августа на ее утверждение, а без этого военно-полевые суды «автоматически» лишились права судить гражданских лиц 19 апреля 1907 г., через два месяца после открытия Думы. Но ни о каком сотрудничестве депутатов с правительством речи идти больше не могло. Даже умеренные октябристы отвергли предложение войти в правительство Столыпина, потому что это было бы воспринято как измена политической нации общественности.
Исчезновение самой «империи» как промежуточного, «ничейного» пространства компромисса не позволяло осуществить элементарное парламентское соглашение, кажущееся столь логичным и заурядным в политической практике: оппозиция поддерживает правительство в обмен на предоставление постов и корректировку правительственного курса. Функциональное разделение властей в России совпадало с разделением политических наций (режима и «общества»), и уступка со стороны одной из них воспринималась как политическое подчинение другой. Понятие «нация» является аналитической абстракцией, но представление об этом противостоянии было совершенно реальным, осознававшимся и открыто выражавшимся обеими сторонами. Конфликт описывался членами общественности как противостояние «народа» и «власти». В манифестах Николая II (например, о роспуске Первой Думы) «верные сыны России» противопоставлялись смутьянам. В императорском манифесте 1907 г. причина конфликта между ветвями власти связывалась с тем, что Дума не была «русской по духу» и «иные народности» оказались «вершителями вопросов чисто русских», переча «исторической власти русского царя». Самые прагматичные политики оказывались заложниками непримиримого «межнационального» противостояния.
Нарушение равновесия: «бесстыжий вариант»
В начале мая 1907 г. полиция через информатора получила доказательства причастности группы депутатов Государственной Думы из числа социал-демократов к подпольной подрывной деятельности. Последовал месяц обострения конфронтации Думы с правительством, и 1 июня премьер-министр Столыпин потребовал от Думы немедленного отстранения от заседаний на период расследования 55 депутатов — членов РСДРП — и снятия неприкосновенности с 16 из них. Обсуждение этого требования затянулось, и 3 июня последовал императорский манифест о роспуске Второй Государственной думы и созыве новой, уже по новым правилам.
Изменение избирательного законодательства было возможно лишь после одобрения Государственной Думой и Государственным Советом — так гласила статья 87 Основных государственных законов Российской империи, ее фактической конституции. Единолично изменив закон о выборах, Николай II совершил государственный переворот, проявив большую революционность и радикализм, чем Государственная Дума. При этом единственной альтернативой этому решению был аналогичный переворот, только совершенный Думой: сложившаяся политическая система и господствующее политическое воображение ее участников не предполагали никакого промежуточного варианта. Император и премьер-министр на протяжении трех месяцев пытались направить работу Думы по программе правительства, а думское большинство все это время пыталось добиться изменения статуса правительства и его политического курса.
Столетием ранее, включив Финляндию в состав Российской империи, император Александр I не пытался навязать ее жителям православную веру, русский язык и даже законы: конструкция империи предполагала управление отдельными провинциями посредством традиционных местных элит или даже (как в случае Финляндии) сохранение местной политической системы. Эта логика была уже совершенно непонятной в начале ХХ в., когда практически рассматривались лишь две альтернативы: полная независимость Великого княжества Финляндского или его полная интеграция в Российскую империю. Правительство Столыпина последовательно боролось за отмену финляндской автономии и культурную русификацию, добившись принятия в 1910 г. закона, который ставил под контроль центральной власти решение всех ключевых вопросов в Великом княжестве и отменял местное законодательство, противоречащее общеимперскому в этих вопросах. Государственная Дума — не провинция Российской империи, но в ее взаимоотношениях с правительством проявилось то же непримиримое бинарное восприятие сложного политического пространства и неумение помыслить «наднациональную» сферу отношений.
Представляя собой государственный переворот с формальной юридической точки зрения и являясь важным эпизодом политического противостояния в стране, объявление нового закона о думских выборах 3 июня 1907 г. никак не меняло сам характер института Государственной Думы. Новая схема выборов лишь корректировала изначально произвольные квоты и поднимала имущественный ценз. Теперь доля «землевладельцев» составляла не треть, а половину всех выборщиков, а представительство «крестьян» сократилось до 22% (с 42%). Наиболее радикальные изменения коснулись выборов на «национальных окраинах», где резервировались отдельные квоты для русских «по национальности» депутатов, а общее представительство регионов в Думе сокращалось более чем втрое.
Новый закон о выборах сами участники его обсуждения в правительстве называли «бесстыжим», и это определение с удовольствием подхватил император Николай II. Столь же «бесстыжим» (сегодня сказали бы «циничным») становилось проведение самих выборов, когда местные власти от морального давления на избирателей и кандидатов перешли к прямым манипуляциям — например, не допуская до выборов оппозиционных кандидатов под разными формальными предлогами. Несостоятельность формальных придирок могла быть доказана в суде, но происходило это уже после завершения голосования.
Новые «правила игры» могли казаться более циничными лишь потому, что более последовательно и откровенно навязывали модель, изначально заложенную в институте Государственной Думы. Радикальная социальная инженерия желаемого общества через систему курий столь же «бесстыже» игнорировала социальные и правовые реалии империи.
Введение критерия «русской национальности» при выборах в кавказских или польских губерниях было совершенно революционным шагом: такого понятия не существовало ни в законе, ни в статистике. Свободное употребление выражений «русская империя», «русские люди», «русская земля» или «русский царь» даже в официальных документах оправдывалось тем, что «русский» означало то же, что и «российский». Разумеется, это было лукавство, и новый избирательный закон официально признавал Российскую империю национальным государством русских «по национальности», а остальных «русских подданных» — гражданами второго и даже третьего сорта. Правда, это была иллюзорная и избирательная русскость консервативных модернистов: она не включала массы русских крестьян, Сибирское казачье войско или переселенцев в Туркестан, лишившихся избирательных прав после 3 июня. Зато все еще признавались «своими» обрусевшие немцы или украинцы, при условии безоговорочной поддержки режима. Так как Государственная Дума с самого начала проектировалась как представительство этой фантастической нации «истинно-русских людей», то и новые критерии вроде «русской национальности» не отличались принципиально от изначальной куриальной системы, которая столь же произвольно конструировала социальные группы избирателей.
Несмотря на все манипуляции, администрации Николая II не удалось изменить профиль Государственной Думы до неузнаваемости. В реальности политически активная часть населения империи ассоциировала себя с группами заочной солидарности, которые можно описать как общеимперскую политическую нацию общественности, а также этноконфессиональные национальные проекты русских, поляков, грузин, татар и т.п. Кто-то мог поддерживать правящий режим по идейным или тактическим соображениям, но сама идея нации как сообщества равных, с собственной «душой» и стремлениями, была несовместима с недемократической политической культурой соратников Николая II, которые не признавали никакой самостоятельности даже за своими верными сторонниками.
Опираясь на самые современные социологические теории, авторы нового избирательного закона отрегулировали параметры избирательных курий так, чтобы сконструировать идеальную монархическую нацию. Ожидалось — вполне в духе марксистских идей — что если предоставить решающий голос «крупным помещикам и капиталистам», то в Думу пройдут верноподданные монархисты. На деле, самой большой фракцией в III Государственной Думе оказались октябристы — почти 35% мест. Кадеты смогли получить 12% мандатов, трудовики и социал-демократы вместе — 7.5%. Около 6% депутатов представляли национальные движения (автономисты). Столько же депутатов представляли партию прогрессистов, которую, упрощая, можно поместить между кадетами и октябристами. Таким образом, две трети депутатов Думы по-прежнему представляли разные группы общероссийской общественности и национальных движений, только в иных пропорциях. Все, чего смогли добиться правительственные «политтехнологи», это увеличить базу сторонников монархии с 10% в прежней Думе до 33%.
При этом лишь небольшая часть из считавшихся опорой режима депутатов действительно безоговорочно поддерживали правительство и разделяли его идеологию консервативного модернизма — примерно треть из них (11% всех депутатов Думы). Они называли себя «правыми» и обычно ассоциировались с черносотенными организациями. Эти депутаты представляли собой протофашистское течение, всецело ориентированное на императора как на вождя. Их мотивация вполне исчерпывалась возможностью угнетения «инородцев» и получения материального и карьерного вознаграждения за преданность. Остальные противники либералов и социалистов представляли собой разные сегменты современного русского национализма. Они поддерживали режим Николая II лишь постольку, поскольку считали его действия отвечающими интересам русской нации, никак не ограниченной по классовому или сословному признаку. В чем заключаются эти интересы, постоянно определялось в ходе широкого обсуждения на страницах националистической прессы, в рамках таких политических организаций, как Всероссийский национальный союз, и, конечно же, в ходе думских дебатов, — но никак не императорскими манифестами и министерскими циркулярами. При определенных обстоятельствах, русские националисты могли оказаться еще более опасными для режима, чем любые «нерусские» автономисты.
Вопреки расчетам, самые преданные администрации Николая II депутаты (правые) представляли более «демократические» слои населения, чем октябристы и кадеты: мелких землевладельцев и даже крестьян, священников. Полувеком ранее таких людей, выпадавших из регулярной социальной структуры, называли «разночинцами». Если они не причисляли себя к политической нации общественности или к местным национальным движениям, разночинцы находили себе место только в отождествлении с правящим режимом — все равно, каким. Зато промышленники и крупные землевладельцы не только очень хорошо могли сформулировать свои интересы, не полагаясь на авторитет правительства, но и обладали достаточным кругозором, чтобы помыслить такой тип общества, который удовлетворял бы этим интересам в долгосрочной перспективе. В зависимости от политического темперамента, эти категории выборщиков поддерживали кадетов, прогрессистов или октябристов, но никак не маргинальных «правых», не представлявших ни одного самодостаточного сообщества заочной солидарности. Стремление режима опереться на верноподданническую нацию «истинно-русских людей» оказалось в принципе неосуществимым, потому что в реальности на эту роль подходило только протофашистское черносотенное движение, игравшее маргинальную роль в имперском обществе.
Феномен виртуальной имперскости: Третья Дума и Столыпин
Третья Дума проработала весь отведенный ей пятилетний срок, рассмотрев 2380 законопроектов — примерно 96% всех, представленных правительством. С формальной точки зрения может показаться, что политическая система наконец-то вышла из тупика и заработала, пусть и ценой «бесстыжих» манипуляций с избирательным законом. Однако именно системность отсутствовала в отношениях, которые со стороны выглядят как продуктивное взаимодействие парламента и правительства. Ключевую роль в работоспособности этих отношений играло достаточно случайное обстоятельство: личность главы правительства, Петра Столыпина.
Из семи председателей Совета министров Российской империи, занимавших этот пост после его учреждения в октябре 1905 г., Столыпин единственный приближался к типу современного публичного политика, способного взаимодействовать с Думой. Правда, будучи профессиональным чиновником, назначенным на должность императором, а не парламентским большинством, Столыпин не имел права на «политику», то есть приоритетное обслуживание одних групповых интересов в ущерб другим. Но именно в этой логике принимались им многие решения, в том числе и по линии МВД. Активная политическая ангажированность чиновников была разрушительна для государственной системы, подрывая сам принцип ее анонимности и нейтральности. Если единый избирательный закон на практике применяется по-разному по отношению к разным кандидатам в Думу, в зависимости от их политических взглядов, а для достижения желательного результата издаются дополнительные ведомственные инструкции и даже законы в обход стандартных процедур, воображаемая «машина» современного государства начинает разваливаться. Николай II, неприязненно относившийся к «бюрократии», не видел в этом никакой проблемы и долгое время считал Столыпина единомышленником, что было некоторым заблуждением.
По взглядам Столыпину ближе всех были современные русские националисты: судя по его публичным выступлениям и политическим инициативам, он воспринимал Россию государством русской этноконфессиональной нации, по отношению к которой остальные народы должны играть подчиненную роль. В собрании его речей эпитет «российский» встречается всего 10 раз и только как часть официальных титулов и наименований, «русский» — почти 400 раз, и даже программу развития флота он называл «национальной задачей» и утверждал, что Финляндия — «составная часть русской Империи». При этом с именем Столыпина связывалось введение военно-полевых судов для гражданских лиц в августе 1907 г. (хотя первым эту идею выдвигал еще «либерал» Сергей Витте в бытность премьер-министром) и вообще твердость в борьбе с беспорядками — что привлекало в нем правых и самого Николая II. Таким образом, в III Государственной Думе он сразу мог полагаться на треть депутатов — националистов и правых. Но Столыпин импонировал и октябристам, которые в течение нескольких лет видели в нем прагматичного и современного политика, готового к взаимодействию с парламентом. Октябристы и прогрессисты поддерживали масштабную аграрную реформу, продвигаемую Столыпиным с 1906 г. Она включала лишение общины прежних прав по контролю над личностью и собственностью крестьян; стимулировала крестьян к выходу из общины и консолидации разрозненных земельных участков в единое владение (землеустройство); развитие доступного кредита для покупки земли крестьянами (через Крестьянский поземельный банк) и систему агрономической помощи; а также масштабную программу крестьянского переселения за Урал. Октябристы и прогрессисты добавляли еще свыше 40% голосов поддержки при голосовании по многим инициативам правительства. Принципиальная оппозиция контролировала лишь около четверти мест в III Думе, что было совершенно недостаточно для оказания давления на исполнительную власть.
Большинство главных решений, которые правительству Столыпина удалось провести через Государственную Думу, сочетали одновременно несколько аспектов, привлекательных для разных думских фракций, что и позволяло набрать нужные голоса. Так, аграрная реформа явно имела задачу разрушить организационную структуру массовых беспорядков в деревне — крестьянскую общину с ее принципом круговой поруки. Частные собственники не должны были собираться в толпы бунтовщиков и громить помещичьи усадьбы. Понимая это, реформу поддерживали правые.
При этом основной целью реформы было развитие крестьянства, превращение его из слоя асоциальных и темных «сельских обывателей» в класс сознательных экономических производителей-фермеров, основу сообщества солидарности — нации. Этот аспект реформы был близок националистам в Думе. Со времен славянофилов и первых народников, «крестьянский вопрос» воспринимался через призму поместий в центральных губерниях (от Московской до Новгородской). Поэтому в социальном воображении российской общественности «крестьяне» ассоциировались с русскими православными мелкими земледельцами, владеющими землей в рамках передельной общины. Раз в несколько лет такие общинники перераспределяли землю между крестьянскими дворами «по справедливости», в зависимости от размеров семьи (едоков или работников) и качества земли, отчего на один двор могло приходиться несколько (или даже десятки) «полос» в разных местах, разного качества и хозяйственного назначения. Отсюда и упор реформ Столыпина на разрушение передельной общины и консолидацию земельных участков в один «хутор». Правда, эти проблемы были неизвестны большинству мелких земледельцев империи — ни русским крестьянам Архангельской губернии, ни украинским крестьянам Полтавской, ни белорусским крестьянам Гродненской губернии. Но даже в экспертной литературе начала ХХ в. преобладал устойчивый стереотип: крестьяне — это русские общинники. Поэтому «освобождение» крестьян от гнета общинного коллективизма без разжигания классовой войны с помещиками приветствовалось как необходимое условие формирования современной всесословной русской нации.
Наконец, аграрная реформа представляла собой образец современной последовательной социально-экономической политики. Она была направлена на развитие принципа частной собственности и стимулирование рыночной экономики в деревне как механизмов саморегуляции в ситуации открытого массового общества. Передельная община (там, где она существовала), выполняла функции саморегулирования в искусственно замкнутом сельском мире: она перераспределяла фиксированный и ограниченный набор ресурсов в зависимости от потребностей жителей деревни. Население деревни росло, а площадь пашни, лугов и лесов оставалась прежней. Можно было увеличить ее за счет помещиков (там, где они были) — как требовали народники, социалисты и даже кадеты, — но любому аналитику было ясно, что это было временное решение проблемы, в лучшем случае — на одно поколение. Новые механизмы саморегулирования снимали жесткое ограничение площадью земли. Собственники, ведущие производство для продажи (а не своего пропитания), при помощи новых агрономических технологий могли обходиться прежней территорией, а могли продать хозяйство и попробовать реализоваться в любой другой сфере. Эта модель современной социальной инженерии импонировала октябристам и прогрессистам (и даже части кадетов), резонируя с их собственной картиной мира.
В результате, Государственная Дума в серии законов одобрила «столыпинскую реформу».
Та же логика действовала при принятии закона о введении земства в «Западных губерниях». После активных дебатов, но в рекордно короткие сроки, 1 июня 1910 г., Государственная Дума приняла закон, который распространял действие «Положения о земских учреждениях» 1864 г. на шесть губерний на украинских, белорусских и польско-литовских землях: Киевскую, Подольскую, Волынскую, Витебскую, Могилевскую и Минскую. До тех пор, почти полвека в этих губерниях вместо выборных земских управ действовали администрации «по делам сельского хозяйства», в которых служили государственные чиновники. Это была долгожданная победа либералов-земцев (октябристов и, отчасти, кадетов), требовавших расширения прав земств и распространения их на всю территорию страны.
В то же время, это было важное достижение русского национализма. Прежде режим «русской национальной империи» Александра III и Николая II не вводил земства в западных губерниях из-за того, что в случае выборов по общим правилам, местные земские управы оказались бы под контролем шляхты, да и крестьяне в этих губерниях не были русскими. Закон Столыпина использовал опыт «бесстыжих» социологических манипуляций при выкраивании избирательных курий на думских выборах и предлагал еще более изощренную схему, предоставлявшую исключительные права «русскому элементу» — чиновникам, духовенству и мелким собственникам. Демократически настроенные депутаты Думы настояли на исключении из закона создания отдельной курии для православных священников и прямой дискриминации «польских» землевладельцев, но поддержали принцип разделения выборщиков по национальным куриям, с привилегированным положением «русских». Националисты и большинство правых приветствовали «торжество русского дела на окраинах».
Зато III Государственная Дума проигнорировала куда более «простые» и однозначные законы, например, о подоходном налоге или о неприкосновенности личности и жилища и тайне корреспонденции. У этих законов не было никакой «второй» и «третьей» стороны, более того, практически все депутаты в принципе поддерживали эти меры. И националисты, и социалисты, и капиталисты считали современной и справедливой формой налогообложения прямой подоходный налог, никого не нужно было убеждать в его преимуществах. Единственной проблемой становился сугубо технический вопрос о ставках обложения. К примеру, первоначальный правительственный проект (подготовленный еще в мае 1905 г.) предполагал необлагаемый прожиточный минимум в 1500 руб. в год. Тем самым, налогом не облагались доходы не только крестьян и рабочих, но и мелких служащих и даже большинства «интеллигентных» профессий, включая школьных учителей и земских врачей. Прогрессивная шкала налогообложения начиналась с 1.1% (с 1500 руб. дохода) и доходила лишь до 5% (100 тыс. руб.). Принятый в итоге Государственной Думой уже следующего созыва в апреле 1916 г. закон понижал необлагаемый минимум доходов с 1500 до 900 руб.: с учетом инфляции — более чем в два с половиной раза, включая теперь в число налогоплательщиков практически все население со средним образованием. Ставка налогообложения начиналась с 0.66% и составляла 5% уже при доходе в 20 тыс. руб., останавливаясь на 12.5% для доходов свыше 400 тыс. рублей.
Таким образом, ничего принципиально невозможного в принятии закона о подоходном налоге не было. Даже исходный правительственный законопроект предполагал, что богатые платят больше, чем бедные (правда, тоже не слишком много). Итоговый закон понижал налоговую нагрузку для низкооплачиваемых, повышал ее для богатых, расширял общую массу налогоплательщиков — но даже такие частные технические изменения оказались слишком поляризующими для III Государственной Думы. Депутаты не стали рассматривать закон, который грозил привести их к прямому конфликту друг с другом (пусть и по совершенно техническому вопросу) и парализовать голосование. Единственным способом преодолеть самоизоляцию отдельных фракций, ни одна из которых не имела решающего перевеса при голосовании, было представить для обсуждения закон, в котором каждая фракция узнавала бы свою программу. Парадоксальным образом, функцией «имперского» («ничейного и общего») пространства обладала не Государственная Дума как институт, а некоторые законы, которые ей предлагались на обсуждение. Депутаты были не способны к совместной компромиссной работе в Думе и не умели находить общий язык с верхней палатой парламента — Государственным Советом. И лишь премьер-министр Столыпин мог в особо важных случаях формулировать политическую повестку таким образом, чтобы основные группы интересов находили в ней отражение собственных требований. Совмещение нескольких «национальных» логик в одном проекте создавало «имперский» эффект многогранности, разводящий потенциально конфликтные положения по разным плоскостям восприятия текста, — вероятно, неосознанно.
Крах виртуального имперского компромисса
При этом, как уже отмечалось, сам Столыпин был чужд старой имперской политической культуре, и именно это обстоятельство погубило его политическую карьеру. Закон о введении земств в Западном крае, одобренный разными фракциями Государственной Думы 1 июня 1910 г., далее отправлялся на утверждение Государственным Советом как верхней палатой парламента. Ожидалось, что этот этап окажется чистой формальностью. Совершенно неожиданно закон натолкнулся на решительное противодействие лидеров консервативной части Государственного Совета: пожилого сановника Петра Дурново (1845–1915) и представителя поколения Столыпина Владимира Трепова (1863–1918). Их оппозиция приняла форму непубличной интриги, и, как в любой интриге, личный конфликт, карьерные соображения и принципиальные разногласия оказались тесно переплетены. Тем не менее, с самого начала отчетливо и убедительно ими была сформулирована главная политическая претензия к закону: национальная дискриминация польских выборщиков в хитроумной системе курий приводила к подрыву сословного строя и противозаконному ущемлению прав крупных землевладельцев (пускай и поляков или полонизированных католиков).
Формально, так оно и было: в отличие от подробно прописанных в законах сословий, «национальность» не являлась юридической категорией. Просто для любой версии национализированного восприятия общества единственной реальностью являлось однородное пространство нации, а «сословия» представлялись бессмысленными пережитками. В этом отношении Столыпин сходился не только с русскими националистами, но и с октябристами и даже с «гражданскими» и «социальными» националистами (кадетами и социалистами). Голосуя за земский закон, они принимали в Думе противозаконные и прямо революционные меры, разрушавшие прежний имперский строй, потому что уже не умели понимать его логику. Но, оказывается, оставался сегмент политической элиты, верный прежним принципам. Причем, очевидно, это был не просто поколенческий феномен. Еще можно предположить, что Дурново, который закончил Морской корпус в 1860 г. и большую часть турбулентных шестидесятых провел в дальних плаваниях, в специфической кастовой флотской среде, сохранил «дореформенное» социальное воображение. Однако Владимир Трепов сформировался совершенно в иную эпоху. Тем не менее, по словам наблюдательного мемуариста Владимира Гурко (его коллеги и ровесника), основой имперского режима «в представлении В. Ф. Трепова был существовавший в России сословный строй».
Дурново сформулировал свои претензии к закону в записке, которую Трепов представил Николаю II лично и задал вопрос: можно ли членам Государственного Совета голосовать «по совести», или считать политику Столыпина исполнением воли императора? Если отбросить условности этикета, в начале 1911 г. от Николая II потребовали сделать выбор между узким русским национализмом и имперским сословным универсализмом. Делать выбор, как отмечали все знавшие его лично, Николай II не любил и не терпел около себя тех, кто однажды заставил его принять радикальное решение. В данном случае дело было не только в особенностях личности, о которых невозможно с уверенностью судить заочно, но в самой структурной межеумочности положения Николая II и его политической культуры. Судя по дневникам и публичным высказываниям, ему был близок и понятен романтический русский национализм и образ «русского царя» — но при этом он считал своим долгом и сохранение контроля надо всей территорией империи. Романтическая утопия Николая II была элитарна и иерархична, как социальный строй Московского царства. Реальный же русский национализм неизбежно вел дело к демократизации общества, прежде всего, к отмене всякого юридического неравенства среди этнических русских.
На провокационный вопрос о том, могут ли члены верхней палаты российского парламента голосовать «по совести», Николай II ответил утвердительно — видимо, еще и потому, что ему был понятен и близок принцип сословной солидарности. В результате, 4 марта 1911 г. большинство членов Госсовета проголосовали за принятие поправки к закону, отменяющей национальные курии на земских выборах в Западных губерниях (а значит, разрушающей всю хитроумную «бесстыжую» конструкцию его). На следующий день, взбешенный провалом, Столыпин подал прошение об отставке, приведшее Николая II в растерянность: о смене председателя правительства он и не помышлял, но оставаться на своем посту Столыпин соглашался только на своих условиях. Лишь пять дней спустя император сделал выбор в пользу Столыпина и выполнил его требования: на три дня распустил верхнюю и нижнюю палаты парламента и в их отсутствие принял «земский» закон в изначальной редакции личным указом (процедурой, предусмотренной 87 статьей Основных законов). Кроме того, Николай II приказал Трепову и Дурново воздержаться от участия в заседаниях Государственного Совета до конца года под предлогом медицинских проблем — чем грубо нарушил сразу несколько юридических процедур.
Победу Столыпина в этом конфликте обычно называют «пирровой». Николай II не простил ему выдвижения ультиматума и своего подчинения давлению. Он заметно охладел к Столыпину и начал подбирать ему замену. Вероятно, помимо психологического фактора, не менее важную роль сыграло политическое разочарование: оказалось, что Столыпин преследует некие собственные виды, помимо реализации монаршей воли. Его национализм оказался отличным от химерического национал-империализма Николая II. Одновременно от Столыпина отвернулись октябристы, возмутившиеся протаскиванием в обход Думы закона, уже доработанного и одобренного Думой. Лидер партии октябристов А. И. Гучков в знак протеста сложил с себя полномочия председателя Государственной Думы. Ушел в отставку с государственной службы и Владимир Трепов, посчитавший предательством поведение императора. Обнаружив, что Столыпин потерял поддержку Николая II, думские правые перестали считаться с ним. Налаженная, казалось бы, политическая система рассыпалась из-за конфликта, который многим современным историкам вполне объяснимо кажется «малозначительным». Оказалось, что пространство компромисса существовало лишь в эфемерной «виртуальной реальности» личных взаимоотношений между разными фракциями Государственной Думы, премьером Столыпиным и Николаем II. Более того, сам эффект единого имперского политического пространства возникал в этой виртуальной реальности лишь благодаря заблуждениям каждой из сторон: октябристы считали, что Столыпину важна позиция Думы, Николай II полагал, что Столыпин озабочен лишь интересами монархии, а сам Столыпин верил, что все монархисты являются русскими националистами. Иллюзорное единство не выдержало столкновения с реальной проблемой отношения к наследию империи.
Николаю II не пришлось увольнять Столыпина. В конце августа 1911 г. императорская семья и высшие государственные чиновники прибыли в Киев на церемонию открытия памятника Александру II. Через день, 1 (14) сентября 1911 г. Столыпин был смертельно ранен в городском театре бывшим членом анархистских группировок и давним осведомителем Киевского охранного отделения Дмитрием Богровым. Под смехотворным с точки зрения любой службы безопасности предлогом — пообещав указать на предполагаемых террористов прямо в зале, полном высшими руководителями страны, — Богров был допущен в театр даже без личного досмотра. Давали «Сказку о царе Салтане». После второго действия, в котором Лебедь-птица сообщила Гвидону: «Ты не коршуна убил, Чародея подстрелил», в антракте Богров беспрепятственно приблизился к премьер-министру и двумя выстрелами из пистолета смертельно ранил его на глазах императорской семьи.
Завершая десятилетие политического террора, убийство Столыпина принципиально отличалось от всех прошлых громких покушений. В нем отразилось новое состояние российского массового общества, после всех манипуляций с выборами в Государственную Думу окончательно утратившего «карту» основных социально-политических делений, а значит и способность помыслить себя как целое. В отсутствии такой четкой «карты» впервые оставалось совершенно непонятным, кто убил Столыпина, зачем, и почему именно его. Разумеется, убийца был схвачен на месте свидетелями преступления и после стремительного судебного разбирательства (всего в одно закрытое заседание) казнен. Но действовал ли он как член подпольной террористической группировки, полицейский агент, или страдающий от депрессии состоятельный молодой человек? Совершил ли Богров убийство как еврей (Мордко Гершкович) или аккультурированный петербуржец (Дмитрий Григорьевич)? Почему он выбрал мишенью именно Столыпина — и почему «всего лишь» Столыпина?
Столыпин сидел в пятом кресле первого ряда партера, который начинался прямо от ложи, в которой находился Николай II с дочерьми. В момент убийства в антракте он стоял у прохода, между 6 и 7 местами — то есть не дальше, чем в 4-5 метрах от императора. Богров был вооружен браунингом М1900, который позволял ему с такого расстояния атаковать Николая II практически с тем же результатом, что и Столыпина (см. карту). При том, что ни одна из революционных группировок не взяла на себя ответственность за теракт (в отличие от прежних времен), немедленно возникли вопросы к властям. Помимо феерического провала охраны в самом театре, скандальным выглядел отказ Николая II увидеться с раненым Столыпиным в больнице, молниеносный и малоинформативный суд над Богровым, а главное, прощение императором всех полицейских чинов, допустивших покушение. Скудость и противоречивость имевшихся сведений позволяли причислить к подозреваемым в организации покушения практически всех: революционеров, черносотенцев, спецслужбы и даже Николая II. И хотя, скорее всего, убийство Столыпина стало результатом чудовищного стечения обстоятельств, не имевших непосредственного отношения к политике, суть дела не меняется. Никогда прежде в истории Российской империи нельзя было и предположить, что убийство главы правительства мог санкционировать император или что его могли убить просто от безразличия охраны. Само появление подобных версий свидетельствовало о распаде политической структуры общества, переставшей быть имперской и не перестроившейся в национальную (ни в одном из возможных вариантов). Политические убийства оказываются нераскрытыми, когда непонятно, кто чей друг, а кто враг, и по какому принципу.
После распада иллюзорного партнерства Думы, Столыпина и Николая II перспектива сотрудничества администрации и парламента стала абсолютно призрачной. Невзирая на конкретные личности депутатов, Государственная Дума действовала как представитель нации или нескольких наций, воплощая идею высшего — народного — суверенитета. Несмотря на собственный национализм, Николай II настаивал, что только власть монарха служит источником высшего суверенитета (самодержавия): лишь находясь над любой «нацией», можно было удерживать вместе и контролировать многочисленные локальные национальные территории и группы. Это современное и довольно формальное понимание имперской власти способствовало упорному сохранению явно архаических юридических норм вроде категории «сословия» или наделения церкви функциями государственного учреждения (в сфере формального и неформального контроля населения): претендуя на свою «наднациональность», монархия нуждалась в собственных, особых институтах.
Николай II был убежден, что его самодержавная власть была «истинно русской», но структурно его национал-империализм противоречил русскому модерному национализму, не признавая верховенства воли «народа». В то же время, идея «исторической власти русского царя» противоречила и проекту империи как универсальной и вненациональной политической структуры, главным представителем которой только и являлся император, черпавший свою легитимность в служении империи. Ненациональная и неимперская, власть Николая II являлась именно «императорской», не представлявшей никого и ничто, кроме абстрактного принципа чистого господства во имя сакральной идеи. Предвосхищая появление вождистских режимов ХХ века, политическая программа Николая II опередила свое время, не имея возможности опереться на массовое популистское движение. Сознательная попытка создать такое движение — черносотенное — окончательно провалилась к 1913 г., несмотря на прямые финансовые вливания и организационную поддержку спецслужб и даже губернаторов.
Принципиальная несовместимость Думы как института национальной политики с императорским политическим режимом (при обоюдном игнорировании «империи») неизбежно должна была привести в будущем к торжеству одной из сторон над другой. На фоне спада протестной активности в стране, позиции Думы оставались слабыми. Чтобы заручиться лояльностью депутатов в будущем, на выборах в IV Государственную Думу в ноябре 1912 г. администрация прибегла к массовым манипуляциям. Впервые губернаторам не только разрешили, но настоятельно рекомендовали вмешиваться в избирательный процесс. Они использовали «административный ресурс» — прежде всего, полицию — для срыва кампаний неугодных кандидатов и обеспечения преимущества проправительственным деятелям. В результате всех этих усилий, предпринятых в дополнение к действующей «бесстыжей» схеме выборов, удалось на треть увеличить размер фракции «правых» в IV Думе и на четверть — русских националистов.
И все равно, 58% депутатов представляли разные сегменты общеимперской общественности или нерусских национальных проектов. Причем на этот раз октябристы перешли в открытую оппозицию правительству, протестуя против «фальсификации народного представительства» во время выборов. Но и из остальных — предположительно проправительственных — депутатов (42%) самая многочисленная фракция националистов (27%) заняла выжидательную позицию. Русские националисты враждебно относились к другим национальным проектам, но при этом не вполне доверяли и правительству, в котором не видели идейно близкой себе фигуры типа Столыпина. Правительство же, возглавляемое министром финансов Владимиром Коковцовым, занималось технической реализацией уже принятых программ и старалось не взаимодействовать с Думой по принципиальным вопросам.
Переписка людей из ближнего круга депутата IV Думы, кадета Льва Велихова, передает гнетущую атмосферу среди депутатов и ощущение политического тупика в начале 1914 г.:
Никто не верит в будущее. Одним словом, нудно, серо и скверно. Около сотни депутатов взяли отпуска еще на 2-4 недели. Многие хотят уходить. Паралич в правительстве, паралич в Гос. Думе, паралич у земцев. Все валится из рук. И ни одного бодрящего луча. Таково сейчас всеобщее настроение. Это вовсе не реакция. Реакция все же — сила, а теперь — туман, болото, всеобщее недоумение, всеобщее бессилие и всеобщий сон. …И даже самое пресловутое «недовольство» как-то беспартийно, безлично, бесталанно.
В Гос. Думе — бардак. 85 депутатов взяли отпуск. …Все старые слова надоели, все орудия притупились, надежда поблекла, и исхода не видно.
10.10. Общественность как имперская нация
«Многонациональность» социального воображения
Бескомпромиссная «национализация» политической сферы не привела к немедленному распаду Российской империи в силу незначительности масштабов этой политической сферы. Совместно и думская, и нелегальная политика охватывали лишь несколько процентов населения страны. За исключением польского Кола, ни одно национальное движение, входившее в думскую фракцию автономистов, не могло похвастаться действительно массовой («народной») поддержкой. Современный национализм был уделом городских образованных слоев, а в начале ХХ в., за немногими важными исключениями, большинство этноконфессиональных групп было представлено преимущественно сельским населением, распыленным среди полуизолированных деревень.
Согласно переписи 1897 г., больше всего горожан было среди евреев (точнее, тех, кто назвал идиш своим родным языком) — почти 50%. Даже с учетом того, что многие «города», в которых жили евреи, представляли собой небольшие местечки — те же села — евреи больше других подходили для любой формы национальной мобилизации. Этому способствовали высокая грамотность и распространенность текстуальной культуры даже среди беднейших слоев, существование формальных и неформальных социальных сетей для взаимной поддержки в неблагоприятных внешних условиях. То же самое можно сказать о тех, кто считал родным языком армянский: среди них доля горожан превышала 23%. Правда, армяне были сравнительно немногочисленны, и при всей значительности их социально-политической роли в Закавказье, в масштабах империи они составляли чуть больше полутора процентов всех горожан. Евреи были гораздо заметнее среди городских жителей, в целом по империи они составляли почти 15% обитателей городов. Но евреи участвовали в целом ряде национальных проектов: революционном общеимперском и нескольких еврейских социалистических (Бунд, Поалей Цион), а также разных еврейских националистических (автономистском, сионистском и т.п.). Не существовало единого «еврейского» национального проекта, который бы мог опираться на довольно значительную массу образованных и мотивированных еврейских горожан.
Среди тех, для кого родным был польский язык, в 1897 г. горожан было свыше 18%. Культурная польскость, включавшая, как правило, католическое вероисповедание, во многом напоминала по своей мобилизующей функции еврейскую и армянскую общинную солидарность. И хотя в целом по империи поляки составляли менее 9% населения городов, на территориях бывшей Речи Посполитой они представляли большинство горожан или (например, в Вильне) очень значительное меньшинство. При всех политических разногласиях между польскими общественными движениями, все они поддерживали курс на автономию «Польши». Именно это единодушие делало польский национализм самым заметным в империи, намного опережающим любую версию еврейской национальной мобилизации. Однако именно исключительность польского национализма фактически ставила его вне рамок имперской политики: после 1905 г. и в правительстве, и среди русских националистов установилось молчаливое согласие по поводу неизбежности предоставления «этнографической Польше» автономии. Даже когда «автономию» представляли по аналогии со статусом Великого княжества Финляндского в составе империи, имелось в виду, что Польша уже «отрезанный ломоть». А если верить свидетельству сына Петра Столыпина, к 1920 г. планировалось полное отделение преимущественно польских по составу населения территорий от Российской империи.
Более половины горожан считали своим родным языком русский, однако при всей организационной и финансовой поддержке со стороны администрации, русский национализм оставался маргинальным феноменом. Даже интеллектуалы и политические лидеры затруднялись с формулированием цельной националистической программы (наподобие польской или финляндской). Евреи требовали равноправия, поляки — автономии, а в чем была цель русских (как бы ни определять границы этой группы)? Как только русский национализм выдвигал претензию на господствующее положение в Российской империи, он немедленно оказывался связанным иной — имперской — логикой (наподобие национал-империализма Николая II). Так, в 1908 г. «истинно русские люди» из Союза русского народа (СРН) предлагали звание «истинно-русских мусульман» казанским татарам, вступившим в их организацию. Эта инициатива прекрасно вписывалась в логику имперского компромисса, но прямо противоречила собственно русскому национализму СРН, основой которого была православная вера и русская этничность («природная русскость»). Поэтому русский национализм проявлял себя, главным образом, по частным поводам и «реактивно», в ответ на проявления чужого национализма. Почти две трети членов националистических организаций (58%) проживали в черте еврейской оседлости, а в преимущественно «русских» городах вроде Нижнего Новгорода националисты влачили жалкое существование. Местным группировкам не хватало денег даже на издание собственной газеты, потому что ее никто не хотел покупать. Можно ли представить в таком положении польских активистов в Лодзи или еврейских — в Вильне?
Русский национализм оставался элитным феноменом, а широкую массовую поддержку среди малообразованных городских слоев получило «черносотенство», т.е. упрощенная версия «национал-империализма». Сочетая безоговорочную преданность верховному вождю, требование диктатуры и привилегированного положения членов движения, черносотенство являлось протофашистской политической силой. Взрыв массового общества в 1905 г. перевернул привычный социально-политический порядок, выбив из привычной колеи многих небогатых горожан. В обстановке экономического кризиса и роста нерусских национализмов (особенно в «окраинных» губерниях), статус «истинно русского» обещал конкурентные преимущества и восстановление прежнего порядка вещей. Черносотенное движение достигло пика в 1907–1908 гг., когда в его орбиту были вовлечены, по некоторым оценкам, до 400 тыс. человек. Помимо мелких торговцев и ремесленников, в организации наподобие СРН или Союза Михаила Архангела записывались даже чернорабочие — например, грузчики в одесском порту, поскольку «союзническим» артелям обещали постоянную занятость.
Любой национализм основан на отождествлении человеком себя с неким заочным коллективом («нацией»), в противопоставлении другим коллективам и их индивидуальным представителям. Проводя четкие и однозначные социальные границы, национализм является гораздо более вероятной и эффективной основой для межгруппового насилия, чем имперский режим или даже религиозный фанатизм. Поэтому черносотенство, безусловно, было продуктом нового национального социального воображения, как и любая форма фашизма. Однако это была «плебейская» версия национализма — не столько в смысле низкого социального положения участников, сколько неспособности их сознательно участвовать в национальной публичной сфере: обсуждении (в прессе, на собраниях) глобальных и частных проблем и выработке по ним коллективного отношения как «нации». В чем заключается русский национальный интерес во внешней политике? По рабочему вопросу? По крестьянскому? Основная масса черносотенцев не задумывалась по этим поводам, полностью передав осмысление «больших» проблем своим лидерам или вообще исключительно императору. Членство в черносотенных организациях было аналогично принадлежности к привилегированному сословию, только в новых условиях массового общества: оно давало формальный статус и гарантировало экономические и правовые преимущества ценой уплаты членских взносов. Собственно, и самоназвание национал-имперского движения — «черная сотня» — объясняли заимствованием наименования низшего городского сословия ремесленников и торговцев в Московском царстве. Не читая даже собственных газет (совокупный тираж которых был в 5-10 раз меньше численности черносотенцев), не участвуя в соревновательном демократическом процессе, рядовые черносотенцы не являлись собственно гражданами нации.
Иначе говоря, они не формировали нацию своими сознательными поступками и осознанным выбором, а выступали представителями ее — уже «готовой», с четко очерченными кем-то свойствами и статусом, фактически гарантированными государством. Пространство личного выбора ограничивалось решением объявить себя официальным «представителем» нации («истинно русским человеком») или воздержаться. В этой ситуации даже самый искренний патриот оказывался вне рамок нации как процесса («ежедневного референдума»), оставаясь членом атомизированного современного массового общества, в котором «каждый сам за себя». Просто у одних, благодаря значку члена СРН, оказывалось больше прав и возможностей, чем у других (вопреки идее нации как сообщества равных, но вполне в духе национал-имперской социальной логики).
В этом заключалась ахиллесова пята «служилого национализма», который казался идеальной опорой современной власти, позволяя почти бесплатно мобилизовывать массы сторонников-энтузиастов. Если представительство «официальной нации» сулило привилегии, находилось множество желающих примкнуть к движению. Когда же выяснилось, что вместо реальных преимуществ членство в черносотенной организации связано с тяготами, начался развал движения. Рабочие-«союзники» (члены СРН) использовались как штрейкбрехеры для срыва забастовок и в результате сами столкнулись со снижением расценок. Вместо того чтобы избавиться от «нерусских» конкурентов, лавочники-черносотенцы начали терять часть покупателей. Протофашистское движение черносотенцев как «представителей нации» не смогло взять под контроль российскую государственную систему и экономику, а без этого не удавалось гарантировать своим членам реальные льготы. Поэтому после 1910 г. движение черносотенцев постепенно сходит на нет.
Зато практически идеальной нацией общеимперского масштаба являлась «общественность»: ее членами признавались лишь «сознательные» личности, следящие за публикациями по актуальным вопросам жизни и очень часто сами пишущие о них. Пока трудно оценить численность этих людей: большинство из них имели среднее образование, но не все выпускники гимназий принадлежали к кругу общественности (например, часть чиновничества, включая армейских офицеров). В то же время, членами общественности, особенно ее наиболее радикальной части («Подпольной России»), были люди с начальным образованием или самоучки. Вероятно, реально можно говорить о двух-трех сотнях тысяч людей, которые воспринимали действительность и свое место в ней через призму публичной сферы общественности (газеты и журналы, пьесы и экспертные исследования, а главное, художественную литературу). К началу 1910-х гг. их число увеличилось, но и по самым щедрым оценкам оно не могло превышать полумиллиона.
При этом кризис 1905 г. способствовал внутренней поляризации общественности: она сохранила общее культурное и социальное пространство, но политически дифференцировалась. Одна часть общественности приняла участие в думской политике, поддерживая разные фракции (хотя далеко не все имели возможность голосовать в силу цензовых ограничений). Другая, вероятно, более многочисленная, связанная с радикальными течениями («Подпольной Россией»), воспринимала период после 1905 г. как «эпоху безвременья». Разумеется, общественная жизнь не утратила динамизма, и время не остановилось, но разочарование в политическом терроре и способности в одночасье изменить общество в результате революции привели к краху традиционного революционного сценария, а значит, и четкого понимания «исторического прогресса». Наконец, все более широкие слои общественности переориентировались на идеал практической профессиональной деятельности в общих интересах (будь то народное образование или реформа городского хозяйства). Таким образом, и общественность больше не отстаивала единый сценарий, который однозначно проводил бы четкие границы нации.
В результате, после 1905 г. в России сложилась парадоксальная ситуация: «нация» являлась господствующей формой социального воображения среди образованных людей, но ни одна конкретная версия нации не была доминирующей. Более того, учитывая относительную немногочисленность образованного слоя, можно сказать, что большинство населения Российской империи в начале ХХ в. существовало вне определенных национальных рамок или испытывало воздействие одновременно нескольких разнопорядковых представлений о нации. Вера в нацию, «знание» своей нации имели в эту эпоху примерно то же значение, что и религия в средние века. В условиях массового общества, когда ослабевали прежние механизмы общинного контроля, а достаточно компактное государство имело очень скромные возможности (на каждого российского полицейского приходилось более 1100 жителей), самоидентификация с нацией оказывалась главным способом социального регулирования. Сам по себе национализм не гарантирует от совершения правонарушений, но он помогает четко сформулировать и повсеместно распространить четкие нормы социального взаимодействия, игнорирование которых и является составом преступления. Поэтому отсутствие или размытость общих представлений о принадлежности к нации лишало российское массовое общество начала ХХ в. «духовных скреп», которые могли бы отчасти компенсировать неразвитость всеобъемлющих политических институтов. После тысячи лет упорядочивания территорий и населения Северной Евразии — политического, конфессионального, языкового, юридического, культурного — регион вновь оказался во власти «первозданной» стихии самоорганизации. Национальные структуры были слишком слабы, чтобы провести четкие границы для его распада, а старый имперский проект воспринимался безнадежно устаревшим даже правителями, выступавшими от его имени.
Совершившаяся к 1905 г. социальная революция — взрывообразное распространение массового общества — на некоторое время открыла окно почти неограниченных возможностей для конструирования нового порядка. Самой активной социальной силой стали массы недавних мигрантов из деревень в города, почти одинаково далекие как от местных общинных традиций, так и от культурных и идеологических построений малочисленных новых национальных элит. Практически любой сценарий — национальный или имперский, — который захватил бы воображение масс, мог радикально изменить общество региона. Главными факторами, ограничивающими эти потенциально безграничные возможности, была пестрота «масс» и нестабильность общества в процессе интенсивной самоорганизации. Очень немногие идеи можно сформулировать так, чтобы они были одинаково поняты людьми с очень разным культурным и социальным опытом, и очень недолго можно удерживать «неустойчивое равновесие» без того, чтобы не возобладала какая-то одна-единственная тенденция. Поэтому масштабы открывшегося «окна возможностей» исчислялись годами, не десятилетиями.
Самоорганизация массового общества и расширение зоны контакта
«Самоорганизация» в российском обществе после 1905 г. представляла собой череду импровизированных решений и реакций на внешние обстоятельства, в результате которых происходило изменение этих внешних обстоятельств — а значит, и смысла предпринятых, казалось бы, вполне рациональных, шагов. Импровизировал каждый, от простого крестьянина до политических партий, их действия влияли друг на друга, создавая неожиданные комбинации и приводя к непредсказуемым результатам.
Например, парень из татарской деревни решал перебраться в город. Скорее всего, городом оказывалась Казань с большой татарской общиной (до 20% населения), к которой намеревался примкнуть мигрант. До конца XIX в. татарское население проживало компактно в Новой и Старой татарской слободе Казани. Однако татарские слободы не могли принять массового притока пришлых: не хватало дешевого жилья, не было работы. Поэтому многие приезжие селилась в русской части города, точнее, в районе «Суконной слободы», историческом центре старообрядческой общины Казани. Там жили «этнические русские», но воспринимающиеся как «другие». Приезжий из деревни не владел русским языком — в старой имперской системе этого совершенно не требовалось. Поэтому он прибивался к компании земляков, снимавших вскладчину жилье у местного домовладельца. В городе можно было заниматься извозом, найти поденную работу или устроиться на фабрику. С этого момента приезжий оказывался в зоне активного контакта: он постоянно взаимодействовал с русской средой, местные русские осваивали азы знания о татарской культуре. Они сталкивались по работе и на гуляниях в парке, на представлениях в цирке и музыкальном театре, дрались или вступали в дружеские отношения. Независимо от характера общения, формировалась новая карта социального воображения, размеченная фантастическими и реальными представлениями друг о друге. Город и, шире, свое социальное пространство теперь воспринимались как общее — даже если к чужакам сохранялось негативное отношение.
Непосредственным результатом нового социального воображения стало ускорение перемешивания разнокультурного населения: никто больше не ожидал, что татары должны проживать только в татарской слободе. Татарские мигранты по-прежнему старались держаться вместе, открывая для себя в традиционно «русских» кварталах специальные татарские трактиры и публичные дома с полностью татарской прислугой. Казалось бы, в этом проявлялся изоляционизм: обычные заведения такого рода обслуживали любых клиентов. Но они представляли не «филиалы» старой закрытой Татарской слободы, а совершенно новые социальные формы. Более того, это жизнь в слободе начинала меняться в соответствии с новыми установками мигрантов. Так, после 1905 г. на территории Татарской слободы открываются первые публичные дома — нечто немыслимое в рамках прежнего общинного контроля. Сама «татарскость» оказалась переосмысленной, и новые представления о норме были выработаны в «зоне контакта», из опыта постоянного взаимодействия с чужаками. «Присвоение» социальной реальности происходило по новым правилам: «свое» больше не сводилось к изолированному мирку деревни или слободы. Весь город (фрагмент массового общества) становился «своим», потому что приезжий из татарской деревни мог найти в нем татарский постоялый двор или бордель, хотя работать и отдыхать ему предстояло среди русских. Но и русские горожане осваивали татарскость как часть своего опыта, хотя бы через посещение татарских трактиров или фольклорного праздника Сабантуй.
Тот же механизм действовал на более элитарном уровне — среди татарских предпринимателей, религиозных реформаторов, политиков, деятелей искусства. Они также расширяли «зону контакта», которая стала играть ключевую роль в определении их собственной татарскости. Традиционная логика описания межкультурных контактов как «приобщения» одной культуры к «более развитой» другой (в смысле частичной ассимиляции) исходит из представления о существовании готовых «культур» со своим однозначным «культурным кодом». В этой логике считается, что татарская (и многие другие) культуры, принимая элементы русской культуры, приобщались к еще более передовой «европейской» или «западной» культуре. Различия в интерпретации зависят лишь от политической позиции: с империалистической точки зрения, эта логика доказывает превосходство одних национальных культур над другими, а глядя с антиколониальных позиций, татарская (или индийская) культура всегда была «сама собой» и не нуждалась ни в каких чужеродных «прививках».
Взгляд на разнообразие как структурную «имперскую ситуацию» лишает саму эту логику всякого смысла, потому что любое «свое» пространство всегда оказывается многомерным, более и менее освоенным, воспринимающимся по-разному в зависимости от положения наблюдателя. Все, что локальная культура осваивает, переводя на свой «язык» (и буквально, и в смысле привычного символизма или поведения), становится неотъемлемой ее частью — и больше ничьей. Поэтому заимствование дальневосточной чайной церемонии в Британии середины XIX в. было адаптировано к местным условиям и переосмыслено как «традиционный» местный ритуал «файф-о-клок». Практически одновременно чаепитие начало восприниматься и как «русский народный» обычай, хотя широкое распространение потребление чая в России приобрело лишь с началом его поставок по морю в 1862 г.: за полвека, к началу ХХ в., объем импорта чая увеличился в 10 раз (до 57 тыс. тонн), одновременно больше чем в 10 раз упала его цена. С другой стороны, сегодня очевидно, что увлечение Александра Пушкина французской литературой не превратило его творчество во «французское», заимствование элементов японской художественной эстетики не сделало французское арт нуво «японским», а знакомство Габдуллы Тукая с произведениями Николая Гоголя не привело к украинизации или русификации его поэзии. Точно так же, когда казанская газета «Баянулхак» выпустила в 1908 г. бесплатным приложением книжечку рассказов Льва Толстого в переводе на татарский язык, это стало шагом в сторону расширения зоны контакта и освоения (присвоения) татарской культурой нового опыта, а не в направлении ее «русификации». Потому что групповая (в том числе, «национальная») культура — это постоянный процесс осмысления нового опыта внутри активного сообщества, разделяющего общие ассоциации и ценности, а не архив затвердевших форм.
До постоянного опыта взаимодействия с «чужаками» — в повседневной жизни, по общим правилам — не возникало самого «татарского дискурса», то есть живого и постоянного совместного обсуждения сути татарскости в связи с конкретными злободневными вопросами. Не случайно именно после 1905 г. среди казанского тюркоязычного населения получает широкое распространение самоназвание «татары», окончательно вытеснив прежнее самоопределение «мусульмане» — одновременно и жестко противопоставляющее «своих» иноверцам, и лишающее волжских тюрок-мусульман собственной специфики. (Поэтому и русский национализм получил развитие в эти годы лишь в регионах, где «этнические» русские находились в постоянном взаимодействии с многочисленными «чужаками» — будь то Бессарабия или украинские губернии.)
Сама потребность в активном осмыслении своей принадлежности к некой группе «своих» возникла лишь с распространением массового общества: общинная жизнь (в деревне или в слободе) и так проходит среди лично знакомых с детства соседей и родственников. В условиях массового общества, в перемешивающейся городской толпе, человек оказывается сам по себе, в окружении случайных людей. Все связи становятся заочными, дистанционными, и такой же заочной оказывается общинная жизнь: на место деревенского схода приходит абстрактная (но не менее действенная) «мобилизация», передача знаний и опыта из личного общения перемещается на страницы газет и журналов, даже сватовство передается специальным брачным газетам, которые растут как грибы в России после 1905 г. Из достаточно абстрактной политической и правовой категории, которой пользовались представители европейской интеллектуальной элиты с начала XIX в., из не менее безличного научного «этнографического» понятия середины века в массовом обществе «нация» превращается в живое переживание заочного членства в общине «своих».
Одним из направлений процесса самоорганизации в начале ХХ в. было формирование представлений о границах этой заочной общины, которая должна переживаться и «узнаваться» эмоционально — как при возвращении в родную деревню. При всей важности подготовительной культурной работы интеллектуалов, «нация» не начинает ощущаться как реальная группа от одного лишь изучения географической карты или зарисовки «национальных» костюмов — тем более что в современном городе большинство населения одевается одинаково. Это переживание вырабатывается лишь при постоянном взаимодействии с разными людьми, в процессе «притяжения и отталкивания» (как описал его в 1909 г. русский модерный националист Петр Струве) — а уж идеологи национализма объясняют, какие из «притяжений» и почему считать важными, а какие — случайными.
Только после распространения массового общества, когда татарская «зона контакта» стала задавать тон в определении и осмыслении «своих и чужих», татарский национальный проект — политический, культурный, бытовой — смог провести свои границы в средневолжском регионе. На практике это «проведение границ» и выработка «национального проекта» представляли собой череду инициатив, которые соревновались за признание как можно более многочисленными и влиятельными сторонниками. Первоначально, в начале ХХ в., лишь часть татарской интеллигенции целенаправленно разрабатывала именно национальную (этнокультурную) версию сообщества. Куда большее распространение получили идеи реформирования ислама — джадидизма (от араб. «обновленчество»). Кроме того, татарские интеллигенты принимали участие в общероссийской «общественности», включая радикальные политические группировки.
Главной сложностью для татарского национального проекта являлся поиск баланса между локальным патриотизмом и сопричастностью глобальному сообществу (религиозному или языковому). Точно также русские, белорусские или украинские крестьяне вплоть до начала ХХ в. определяли себя одновременно как местных («тутэйшыя») и «православных». Принадлежность к умме мусульман-суннитов была главной и привычной формой заочной солидарности, но таким образом невозможно было провести границы с единоверцами в Туркестане или Османской империи. Аналогичную роль играл язык, объединительную функцию которого подчеркивала светская элита: разные варианты тюрки были распространены во всей Северной Евразии. С точки зрения представления о нации европейской элиты середины XIX в. религия или язык казались достаточными факторами горизонтальной солидарности — именно поэтому правящие круги Российской империи пугали себя призраками панисламизма и пантуркизма, а в соседних империях так же опасались панславизма как «супернационализма». Но для обычного члена массового общества «панисламизм» или «панславизм» значит не больше, чем «европейцы» или «горожане». Далекие единоверцы не могут помочь, у них свои — возможно, даже противоречащие местным — интересы (например, экономические). Национализм как политическая сторона национальной солидарности нацелен на достижение власти, но как можно добиваться власти мусульманам или славянам «вообще»? Единственными вариантами является всеобщий джихад мусульман или мировая война «славянства» против «турок» и «германцев», но в начале ХХ в., в условиях сложившегося мирового порядка, никто эти варианты серьезно не рассматривал.
Такие же трудности возникали, если за основу нации принимали слишком конкретный местный образец, ограничивавший абстрактное воображение и неизбежно подчеркивавший специфические отличия. Фокус на местной специфике мешал вообразить «нацию». Как признался в 1913 г. один русский крестьянин из села Семеновка Самарской губернии по поводу публикаций о «национальной» экономике: «статьи, вообще, … понятны, но дело в том, что все изложено в статьях не про наш уезд, а другая местность нам семеновцам чужда». Человек в «зоне контакта» массового общества больше всего сочувствовал такой версии сообщества солидарности (нации), которая одновременно и напоминала ему о далеком доме, и не мешала ему находить «своих» в большом городе.
Стихийная национализация как самоорганизация: случай ваисовцев
Очень показательным примером инстинктивного «нащупывания» подходящей комбинации местного и общего служит история «Ваисовского движения», за полвека эволюционировавшего от секты исламских мистиков до политического движения. В 1862 г. в Казани открыл свой молитвенный дом Багаутдин Ваисов, который объявил себя дервишем и учеником знаменитого шейха Джагфара аль-Кулакты, обучавшегося в Ташкенте, Самарканде и Бухаре. Таким образом, Ваисов выступал от имени авторитетного центра исламского богословия в древнем Мавераннахре, а конкретнее, от имени одного из суфийских братств (некоторым их аналогом являются монашеские ордена в католической церкви). Первоначально Ваисов распространял мистические и эсхатологические идеи, предрекая конец света в 1300 г. Хиджры (1882). Но постепенно, особенно после того, как миновал роковой 1882 г., его учение обретало все более явный социально-политический характер.
Вопреки претензии на принадлежность суфийской традиции, Ваисов занимался не столько мистическим осмыслением богословских вопросов, сколько критикой официального исламского духовенства. Радикальным требованием вернуться к истокам веры (игнорируя накопленную за столетия духовную традицию) он противопоставлял себя, по сути, и суфизму. Показывая своим последователям некие документы, подтверждающие его принадлежность к роду Пророка, Ваисов претендовал на создание своей особой, отдельной версии ислама. В переводе ведущих русских востоковедов, самоназвание общины ваисовцев звучало совершенно фантастически: «Ваисовский божий полк староверов-мусульман». Себя он именовал «сардаром» (полководцем) и «дистаночным начальником» — титулами, чуждыми суфийской (и вообще исламской) номенклатуре, — наряду с вообще выдуманными, типа «мёменихан».
Отвергая все официальные формы ислама, как искажения истинного первоначального учения, Ваисов не признавал и применимости социальной структуры Российской империи к своей общине. Формально его последователи считались крестьянами, мещанами или купцами: различаясь по социальному статусу между собой, они, в то же время, разделяли его с русскими, марийцами или евреями. Вместо этих категорий все ваисовцы причисляли себя к единственному сословию «потомственных присяжных ислама». Более того, вместо официального паспорта с середины 1880-х гг. членам общины выдавался «святой присяжный лист». В 1905–1909 гг. сын Багаутдина, Гайнан Ваисов, возглавивший движение после смерти отца и полосы гонений со стороны властей, содержал в Татарской слободе Казани канцелярию, в которой не только выписывал последователям движения собственные паспорта, но и собирал через «государственное казначейство» особые налоги: крупные суммы за выдачу документов и «принятие в подданство», а также подоходный налог в размере 2.5%. Он также завел собственную книгу записей гражданских состояний, отмечая в ней рождение, женитьбу и смерть членов группы. Это обстоятельство особенно примечательно, поскольку исторически метрические приходские книги являлись исключительным атрибутом христианской церкви. В XIX в. государство в европейских странах начинает брать на себя ведение метрических книг как форму прямого контроля населения. Но в России, экономя на расширении аппарата чиновников, ведение метрических книг в интересах государства поручили духовенству, в том числе мусульманскому. Для чего же было вводить собственные паспорта и метрические книги, не признавая официальное мусульманское духовенство и государственную систему контроля населения (включая сословный правовой режим), претендуя на возвращение к «истинным истокам» ислама?
Наконец, ваисовцы отказывались признавать себя татарами и настаивали на том, что они наследники древних булгар — «исконного» местного населения Волжско-Камского региона, принявшего ислам тысячелетие назад. Старым термином «татары» в русской культуре называли всех оседлых тюрок-мусульман на территории Российской империи (по крайней мере, до присоединения Туркестана во второй половине XIX в), выделяя крымских, казанских, астраханских, касимовских, сибирских и кавказских «татар». Отвергая наименование «татары», ваисовцы отрицали одновременно и право внешнего (русского и российского) контроля над самоопределением своего сообщества, и альтернативные варианты осмысления сообщества «своих» со стороны тюрко-мусульманской культурной и политической элиты края. Претензия на булгарское наследие и собственную версию ислама позволяла ваисовцам четко провести границу между средневолжским тюрко-мусульманским сообществом и остальными «татарами», в том числе и территориальную.
Таким образом, ваисовцы представляли последовательный — хотя и не опознанный в свое время — стихийный, «низовой» проект нации, да еще и со всеми атрибутами национальной государственности. Называя свой молитвенный дом «императорским» и адресуя обращения напрямую российскому императору, они подчеркивали свой статус коллективного политического субъекта. Не признавая российского сословного строя и большинства повинностей (включая воинскую), они соглашались уплачивать лишь поземельный налог, тем самым уточняя свой политический статус: верховная власть над территорией принадлежит императору, но он не имеет права вмешиваться в дела общины. Лидер общины являлся чем-то вроде самостоятельного князя под верховной властью «князя князей» — «полководец», «дистаночный начальник» (вероятно, имелся в виду «начальник дистанции пути», местный царь и бог на железной дороге на участке в 50-100 верст, подчинявшийся начальнику линии).
Это была очень «имперская» логика, типичная для монгольского, ордынского или московского режимов господства, но совершенно неприемлемая в современном унитарном (едином) государстве. В то же время, ваисовская «нация» была очень современной в том отношении, что основывалась на добровольном выборе, а не на неких фиксированных признаках (вроде языка, кровного родства или фольклорной культуры). Самоназвание группы «присяжные ислама» обозначало добровольную «присягу» как основу принадлежности к ней (аналогичную «референдуму» в формуле Эрнеста Ренана, упоминавшейся в прошлых разделах). Конкретнее, для членства достаточно было признать культ авторитарного лидера и общие идейные и организационные принципы общины. Поэтому почти любое местное мусульманское население могло бы примкнуть к такой общине, даже те, кого не считали «татарами» — и мишаре, которые воспринимались особым «племенем», и тептяри, имевшие статус сословия (как башкиры или казаки).
Представители татарской элиты, независимо от политических разногласий (и духовенство, и светские деятели), негативно относились к ваисовцам, требуя от имперских властей запретить это движение. В 1880–90-х гг. ваисовцев преследовали как антисистемную религиозную секту, Багаутдин Ваисов был признан сумасшедшим и заключен в казанскую психиатрическую больницу, где и умер. После 1905 г. с ваисовцами уже боролись как с незаконным «организованным сообществом», предъявляя уголовные и политические обвинения.
При этом политический национализм тюрко-мусульманской средневолжской элиты, ориентировавшийся на «передовые европейские образцы» и формально представленный в Государственной Думе, отличался от доморощенного ваисовского национального проекта своей концептуальной неразвитостью. И выпускник юридического факультета Казанского университета Сеид-Гирей Алкин (депутат первой Думы), и окончивший юридический факультет Сорбонны Садри Максуди (депутат второй и третьей Думы) могли формулировать программу либерального национализма только в категориях общемусульманского единства. Они были среди основателей либеральной политической партии Иттифак аль-Муслимин (Согласие мусульман) в 1905 г., ставившей своей целью объединение всех мусульман России; в Думе входили в Мусульманскую фракцию. С точки зрения правящего режима, они представляли «нерусский национализм», и действительно, партия Иттифак аль-Муслимин выступала за пропорциональное представительство всех «национальностей» в парламенте. Но их национализм был гораздо абстрактнее местного «булгаризма» ваисовцев.
Победивший в итоге в ХХ веке сценарий этнокультурной татарской нации объединял элементы и «народного» ваисовского, и «элитного» национализма. Разработанный интеллектуалами, он был одновременно и более демократичным, и более закрытым («эксклюзивным»). Отстаивая «объективную» природу нации, идеологи этого проекта вынуждены были прикладывать большие усилия для доказательства родства татарам мишарей или тептярей как «субэтносов» и на этом основании объявлять их частью единой татарской нации. Таким же образом волжские татары отделялись от «кавказских татар» (азербайджанцев) или «сартов» (узбеков), которых вынужденно объединял в одну нацию общемусульманский национализм. Зато, в отличие от ваисовского проекта, эта татарская нация не зависела от фигуры лидеров и являлась «автоматической», зачисляя в свои ряды всех, кто соответствовал формальным критериям, независимо от их желания (подобно «мусульманской» нации). Число ваисовцев исчисляется тысячами (от двух до пятнадцати), количество же «татар по национальности» составляло сотни тысяч человек.
Одержавший верх проект татарской нации опирался на существующие религиозные и государственные институты, а не боролся с ними. Вместо полулегендарного булгарского наследия (на которое, как было известно интеллектуалам, могли претендовать скорее христиане-чуваши) подчеркивалась преемственность татарской нации с Казанским ханством. Эта исторически более корректная генеалогия имела очевидные политические преимущества для национальной мифологии: в «слабой» версии она свидетельствовала о древности «татарской» государственности, в «сильной» же версии — через отождествление с наследием Золотой орды — позволяла выдвигать масштабные политические притязания в регионе и за его пределами. Наконец, вместо узкой идеологической программы возрождения «истинного ислама» у ваисовцев, «элитный» татарский национализм ориентировался на развитие татарского литературного языка и создание сложной современной культуры. В обмен на поддержку государственных институтов, этнокультурный проект татарской нации обещал укрепление их легитимности в глазах местного населения.
Важно подчеркнуть, что, при всех разногласиях, все эти национальные проекты являлись продуктами «зоны контакта» в современном массовом обществе. Элитные националисты были включены в актуальный контекст российской общественности и современной («европейской») культуры, но и Ваисовы вовсе не были узколобыми фанатиками-фундаменталистами. Багаутдин Ваисов демонстративно и последовательно формулировал свою программу на языке чужой среды. «Присяжные» духовные лица, «староверы»-мусульмане, «дистаночный начальник» и пр. ключевые понятия появлялись в русскоязычных документах, изготовленных по указанию Ваисова и утвержденных им. Его сын Гайнан имел довольно бурную биографию, демонстрируя широту общения как в частной, так и в публичной жизни. Помимо двух жен (в Казани и в Туркестане), которые в письмах мужу жаловались на то, что он их бросил и не дает денег на детей, Гайнан поддерживал интимные отношения с некой Марусей Брусничкиной, проживавшей в Коканде в номерах «Франция». В то же время, он переписывался с Львом Толстым и три дня гостил у него в Ясной Поляне.
Выработка современного татарского национального проекта являлась одним из результатов процесса самоорганизации российского общества, развернувшегося после 1905 г. В нем играли почти одинаково важную роль безвестный татарский крестьянин, перебравшийся из своей деревни в Казань и поселившийся у русского старообрядца, и депутат Государственной Думы, мурза Алкин, чей род был записан в третью часть дворянской родословной книги Казанской губернии. Немногочисленная татарская социальная и культурная элита «сама по себе» оперировала ограниченным набором идей, которые пыталась совместить: единство суннитской уммы, «европейский» политический либерализм, демократическая программа социальных преобразований общероссийской общественности. Ваисовцы не имели шанса на представительство в Государственной Думе, в их идеях современники (да и они сами) упорно не узнавали четкую национальную программу. Но расширение «зоны контакта», формирование потенциального спроса на новый тип татарского искусства и публицистики и появление нового татарского искусства и журнализма создали новую ситуацию, в которой отчетливее ощущалась историческая и культурная особость поволжских тюркоязычных мусульман.
Случай ваисовцев показывает, что создание сообщества горизонтальной солидарности («нации») является актом масштабного социального конструирования — но не в том смысле, что кучка мудрецов «изобретает нацию» и навязывает свои фантазии обществу. Распространить можно лишь те идеи, которые люди в состоянии и готовы принять — и без появления «критической массы» этих людей любые идеи остаются неоформленными кабинетными размышлениями. Более того, в массовом обществе наступает момент, когда даже малообразованные его члены начинают «изобретать» себя как часть некоей группы «своих». Национальные лидеры из числа элиты заинтересованы в опоре на государственные институты и получении политической власти в качестве представителей «нации», но рядовых членов общины может устраивать и формальное признание ее автономии. Главным вопросом становится то, способно ли наднациональное государство предложить некую форму автономии. Как мы видели, Багаутдин Ваисов прямо навязывал российским властям модель старой империи, но режим Александра III и Николая II не просто отверг это предложение, но даже не понял его. Видимо, серьезное отношение к «империи» в конце XIX в. воспринималось как сумасшествие.
Самоорганизация «отдельного народа» штундистов
Важно подчеркнуть, что история ваисовцев была не примечательным «казусом», следствием подчиненного положения ислама в России или специфики исламской культуры. Совершенно одновременно с ваисовским движением и точно по такому же сценарию разворачивались события в 2000 км к югу-западу от Казани, только задействовано в них было православное славянское (русскоязычное и украиноязычное) население — предполагаемая опора режима «русской национальной империи». Зародившись в причерноморских губерниях в начале 1860-х и распространившись на север, охватив и Киевскую губернию, движение штундистов воспринималось властями как антигосударственная секта, а лидер одной из наиболее радикальных групп, Кондратий Малеванный, в 1893 г. был признан душевнобольным и заключен в дом умалишенных в Киеве. Ключевое отличие между городским движением ваисовцев и преимущественно сельским феноменом штундистов только подчеркивает принципиальный структурный параллелизм между двумя явлениями как продуктами стихийной самоорганизации в «зоне контакта».
Stunde — по-немецки «час». После аннексии Крыма Екатерина II предприняла энергичные усилия для заселения степей Северного Причерноморья, прежде почти лишенных оседлого населения. На новые территории — в Новороссию — переселяли государственных крестьян, их открыли для еврейского (и любого остального) населения бывших территорий Речи Посполитой, интенсивно шла вербовка колонистов за границей. Из Османской империи перебирались «единоверцы» — сербы, болгары и «влахи» (позднее названные румынами), а из германских государств — общины радикальных евангелистов, особенно меннонитов: принципиальные пацифисты, они бежали от нарастающего милитаризма современного камералистского государства. Евангелисты собирались для обсуждения Священного Писания в определенные часы, и их называли «братья-штундисты». К 1867 г. в Новороссии и Бессарабии насчитывалось до 40 тыс. меннонитов.
Все это разноплеменное население проживало в сельскохозяйственных колониях или небольших городках, перемежаясь друг с другом и постоянно взаимодействуя. К середине XIX в. в Новороссии сформировалась масштабная «зона контакта», которая с развитием угольных шахт Донбасса, металлургических и судостроительных заводов на черноморском и азовском побережье, с прокладкой железных дорог и связанных с этим массовыми волнами миграции по интенсивности не уступала к началу ХХ в. любому метрополису. В этой зоне контакта произошла удивительная социальная трансформация: православные крестьяне не только начали перенимать радикальные формы протестантизма, называя себя «штундистами», но и объявляли себя «отдельным народом», отличным от украино- и русскоговорящих.
Основание в 1817 г. в Херсонской губернии колонии Рорбах немецкими пиетистами (переживающими веру как исполнение моральной миссии самосовершенствования) дало толчок «религиозному возрождению» среди немецких колонистов Новороссии. В это же самое время, как упоминалось в главе 8, Александр I обращается к идее «христианской нации» как новой опоре империи и поощряет деятельность Библейского общества в России. В 1818 г. вышел современный (Синодальный) перевод четырех Евангелий, который к 1822 г. разошелся колоссальным тиражом в 111 тыс. экземпляров. Свернутая Николаем I, эта работа была продолжена после его смерти, и в 1862 г. начала распространяться еще большими тиражами новая редакция русского перевода Нового Завета. В этом же году в Херсонской губернии впервые отмечают появление «секты» штундистов из числа украинских крестьян численностью в два десятка человек. К началу ХХ в. численность крестьян-штундистов выросла, по меньшей мере, тысячекратно, их общины распространились по всей Новороссии, в центральных украинских губерниях, а также в Бессарабии, на Кубани и в Астраханской губернии.
Непосредственно религиозная деятельность штундистов заключалась в общинных собраниях для обсуждения текста Нового Завета, который каждый изучал самостоятельно в свободное время. Распространение современного русского перевода Евангелия и начального (церковно-приходского) образования среди православных крестьян позволили пиетизму немецких колонистов начала XIX в. превратиться в массовое движение духовного возрождения среди разнокультурных местных крестьян.
Удивительным образом утопии «новой России» Екатерины II и «христианской нации» Александра I начали реализовываться спустя несколько десятилетий — в конце XIX в. Помимо религиозных идей, крестьяне Новороссии перенимали целый комплекс культурных и социальных представлений. Точнее, сначала заимствовали его у немецких колонистов, а к 1890-м гг. начали творчески переосмысливать и приспосабливать к своим обстоятельствам. В начале 1870-х гг. наблюдатели отмечали, что крестьяне поют традиционные лютеранские гимны в русском переводе, но в 1880-х их уже могли исполнять на украинском, а затем начала развиваться собственная, оригинальная традиция радикального пиетизма (вроде «секты» последователей Кондратия Малеванного), со своим обрядом и текстами. Во время принесения присяги новому императору Николаю II в 1894 г. штундисты потребовали отдельной от православных соседей церемонии, заявив дословно, что они являются «отдельным народом», чья жизнь основана на Священном Писании.
«Отдельный народ» штундистов принимал любого, кто разделял их убеждения, — подобно «потомственным присяжным ислама» в Казани. Помимо украино- и русскоязычных крестьян, среди них встречались представители всех групп колонистов — греки, румыны, болгары и даже евреи. Всех их отличало трудолюбие, воздержание от алкоголя, интерес к чтению книг и газет — но не только. Помимо религии и образа жизни, штундисты противопоставляли себя православным соседям в культуре и социальной идентификации. Согласно одному описанию 1889 г., их язык являлся странной смесью украинского, литературного русского, немецкого и польского. Они избегали любых фольклорных проявлений — народных песен, танцев, одежды и даже еды. Многие выбирали «немужицкое» занятие, осваивая ремесла. Те, кто продолжал заниматься сельским хозяйством, одевались в «городскую» одежду и визуально отличались от крестьян. Последователи Малеванного в Киевской губернии старались разговаривать литературным языком, избегая просторечных слов и оборотов, пили чай (считавшийся «некрестьянским» напитком в начале 1890-х) и потребляли «буржуазные» сладости — конфеты и шоколад. Они организованно закупали у еврейских торговцев городскую одежду.
Как и ваисовцы, штундисты открыто и вполне осознанно заявляли о себе как об отдельной нации, но лидеры элитного национализма предпочитали игнорировать эту заявку. И для русских, и для украинских националистов штундисты были экзальтированной сектой, ведомой психически больными лидерами, следствием «ненормального» положения в империи с развитием «правильного» национализма — русского или украинского, основанного не на личном выборе, а на «крови и почве». В этой же логике рассуждали и представители политической нации имперской общественности, когда пытались привлечь штундистов на свою сторону как «стихийных революционеров». Элитный национализм не принимал ни идею участия в нации как сознательного личного выбора (а не в силу прирожденной принадлежности к территории, культуре или классу), ни готовности к «имперскому» компромиссу с любыми другими сообществами при условии сохранения своей автономии.
Так же, как и в случае ваисовцев, опыт штундистов был заимствован в начале ХХ в. более поздней демократической версией украинского национализма, который отказался от сугубо «исторической» фиксации на казацком (или киевском) прошлом и фольклорной культуре. Новая идея «национального служения», забота о здоровье «национального тела» (осуждение курения и алкоголя), центральная роль чтения и регулярного обсуждения ключевых национальных текстов очень напоминали протестантский пиетизм. Уступив национализму политическую функцию, штундизм влился в общее баптистское движение, широко распространившееся в Российской империи после 1905 г.
Случай штундистов демонстрирует «неисповедимость путей» самоорганизации и ее колоссальный потенциал — и конструктивный, и разрушительный. Одновременно с движением штундистов та же самая «зона контакта», в том же самом регионе (Новороссия, Бессарабия, Волынская, Подольская и Киевские губернии), по тем же самым причинам породила иную реакцию на кризис общинного уклада жизни — еврейские погромы. Существуют разные объяснения первой волны еврейских погромов 1881–1882 гг., но если на хорошо известную карту погромов нанести расположение главных центров штунды, то обращает на себя внимание четкий контраст: вокруг центров штундистов погромов не отмечается, по крайней мере, на 50–100 км. При этом известны случаи, когда агрессивные толпы православных крестьян нападали на «сектантов» — избивали их и оскорбляли — вполне в духе еврейского погрома, демонстрируя иную логику национальной солидарности. Штундисты создавали добровольное сообщество «своих» через переизобретение себя, погромщики пытались вернуть смысл своей формальной принадлежности к единой группе механистически, просто через подавление всех «иных». Это тоже была реакция на резкое расширение «зоны контакта», но ориентированная совсем на другой тип социального воображения и взаимодействия.
История штундистов (и шире — баптистов) позволяет также лучше понять людей, скрывающихся за широкой сословной категорией «крестьяне». Как видно, и среди тех, кто перебирался в города, и тех, что оставался в деревне, было достаточно много людей, открытых новому опыту и способных самостоятельно вырабатывать новые формы осмысления реальности. Эта способность в полной мере проявилась после 1905 г., послужив стихийному преобразованию и структурированию массового общества.
Столыпинские реформы как продукт самоорганизации
Около 1908–1909 гг. стихийная низовая самоорганизация общества пересеклась с сознательной самоорганизацией общеимперской общественности и попытками правительства установить новый, более современный социально-экономический порядок в деревне. Отдельные и прежде разрозненные процессы стихийного упорядочения социального пространства наложились друг на друга и впервые начали действовать сообща, создавая и расширяя сферу массового общества. Наиболее заметным внешним проявлением этой глубинной трансформации стали события, связанные с масштабной аграрной реформой, которую настойчиво проводил премьер-министр Петр Столыпин. Даже тщательно подготовленная и бюрократически исполнявшаяся столыпинская реформа деревенского общества — главное направление политики режима по созданию социальной базы для «национальной империи» — эксплуатировала механизмы самоорганизации.
Правительство давно пыталось выработать программу реформирования сельскохозяйственной сферы, включавшей большинство населения страны. Масштабный голод, вызванный неурожаем 1891–1892 гг., был воспринят всеми образованными людьми, независимо от политических взглядов, как результат глубокой отсталости российской «деревни» (и организации производства продуктов, и правовых отношений, и культуры в самом широком смысле слова). В современном обществе (не в 1602 г.) плохие погодные условия могут приводить к падению прибыли земледельцев, но не к массовому голоду самих производителей «еды». Однако в чем может состоять радикальная реформа сельского хозяйства, чиновники не представляли. Правительство в камералистском и выросшем из него современном бюрократическом государстве может издавать законы, регулировать транспортные и таможенные тарифы, но как оно может изменить культуру сельскохозяйственных производителей?
В январе 1902 г. была создана представительная комиссия для выработки плана преобразований под председательством министра финансов Сергея Витте («Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности»). Разделяя фиксацию общественности на русской крестьянской общине (только исходя из других идеологических предпочтений), Витте считал ее причиной отсталости российского сельского хозяйства. Достаточно разрушить общину, чтобы крестьяне стали такими же предприимчивыми, как в Германии или Америке. Но заседавшие в комиссии высшие администраторы не решались вмешиваться в «традиционный институт» общины (как полагала передовая наука того времени) и обсуждали, главным образом, вопросы формального правового статуса крестьян и местного самоуправления.
В это время датчанин на российской службе Андрей Кофод (Carl Andreas Koefoed, 1855–1948) сделал удивительное открытие. Он служил оценщиком Дворянского земельного банка и летом 1901 г. отправился в рабочую командировку по беларуским деревням северо-востока Могилевской губернии. В поездке он случайно обнаружил деревню (Сомоново под Оршей), в которой крестьяне по своей собственной инициативе разделили общинную землю на индивидуальные хутора и «разъехались» с главной улицы. Оказалось, что они последовали примеру другой деревни (Загородная), половина населения которой решила выйти из общины на хутора. А первоначальный толчок еще двадцатью годами раньше дали переселенцы-латыши, купившие вскладчину землю по соседству и немедленно разделившие ее на хутора. Таким образом, «прирожденные» общинники самостоятельно открыли для себя преимущества индивидуального фермерства и частной собственности и начали стихийно распространять новый опыт. «Естественная» скорость распространения этого опыта была невысокой, но сам прецедент доказывал, что крестьяне готовы отказаться от общины. Кофод написал докладную записку, а в 1902 г. издал двухтомное сочинение «Крестьянские хутора на надельной земле». Вопреки ведомственным формальностям, оценщика Дворянского банка Кофода немедленно сделали главным экспертом МВД по подготовке радикальной реформы: ликвидации общинного землевладения и стимулирования выхода крестьян на «отруба» и «хутора».
Когда Петр Столыпин был назначен премьер-министром и взялся за проведение аграрной реформы, он воспользовался готовыми наработками «Особого совещания». Поскольку государственный аппарат лучше всего приспособлен к принятию административных мер, то на передний план вышел компонент реформы, курируемый Кофодом: «стимулирование» (иногда совершенно насильственными методами) крестьян к выходу из общины и консолидация земли в едином собственном участке. За десять лет проведения реформы в России четверть общинников свели все свои земельные участки в один или вовсе вышли из общины — речь идет о миллионах семей. А форматирующее влияние на всю эту бурную и масштабную работу оказало желание и готовность беларуских крестьян из нескольких деревень под Оршей последовать примеру чужаков-латышей (даже несмотря на личное неприязненное отношение к ним: латыши перекупили землю, на которую беларусы четыре года собирали деньги «всем миром»).
Второй основной компонент столыпинской реформы (помимо землеустройства бывших общинников и стимулирования переселения в Сибирь) — внедрение современных техник земледелия — также являлся продуктом самоорганизации, хотя и другого рода. То, что мелкие земледельцы (прежде всего, бывшие помещичьи крепостные и государственные крестьяне в пределах старых границ Московского царства) предпочитали совместно владеть землей, объяснялось, прежде всего, условиями государственной реформы 1861 г. Как отмечалось в главе 8, при освобождении крепостных за крестьянской общиной закрепили часть прав по контролю личности и имуществом крестьян, которые прежде принадлежали помещику. А до 1861 г. существовал единый нерасчленимый комплекс «поместья», которое с точки зрения помещика целиком являлось объектом частной собственности, а с точки зрения крестьян (существовавших вне правового режима современной частной собственности) — в значительной части принадлежало им по праву владения. Болезненный раздел поместья между помещиком и крестьянами по итогам реформы 1861 г. распространил юридический статус собственности и на крестьянские земли, но непосредственным коллективным собственником их признавалась община. Так что «приверженность общине» была свойственна, в первую очередь, помещикам и администраторам Московского царства и Российской империи, а не самим крестьянам. Но после 1861 г. у крестьян появился и свой стимул владеть угодьями сообща: только так они могли поддерживать знакомую им технологию трехпольного севооборота.
В Европе со времен Карла Великого поместья работали по замкнутому циклу производства, при условии, что в них имелась вода, лес, луг и пашня. Пашня делилась на три «поля»: одно засевали под зиму, второе весной, а третье держали «под паром», давая возможность восстановить плодородие. Каждый год назначение поля менялось. Для ускоренного восстановления плодородия применялся навоз, поэтому эта система, ориентированная на производство зерновых и требующая большого объема пахотных работ, обязательно включала в себя и животноводство. Для содержания скота нужны были луга, для обогрева в северном климате уходило много дров. Но если все основные ресурсы были в наличии, хозяйство могло работать на одном месте сколь угодно долго, не теряя производительности и не требуя перехода на новые земли из-за падения плодородия почвы. В слабозаселенных районах на востоке Европы трехполье распространилось гораздо позже, когда начал исчерпывался ресурс свободных земель для перемещения после ухудшения плодородия прежних участков. В Московском Царстве это происходило в XVI–XVII вв., одновременно с ограничением мобильности крестьян. Получая в оплату службы право распоряжаться определенным участком «государевой» земли с крестьянами, служивый дворянин не мог позволить крестьянам перебираться за пределы поместья (на другую, хотя также «государеву», землю). Поэтому приходилось добиваться сохранения производительности поместья в старых границах, организуя его обработку по технологии трехполья. Эта технология сохранилась и после раздела поместий между крестьянами и помещиками — другой крестьяне просто не знали.
К началу ХХ в. российские ученые-аграрники подсчитали, что идеальным масштабом применения трехпольной технологии является поместье в 400 га. Можно было сохранить эффективность производства и в меньшем по размеру хозяйстве, если распахать луг и пасти скот по пару и по скошенному полю. Но на самом щедром крестьянском наделе в 10 или даже 20 га уже невозможно было поддерживать правильный баланс кормовой базы и пашни в рамках трехпольного севооборота. Община позволяла воспроизводить структуру экономики поместья, а выделение на хутор закрывало для крестьянина доступ ко многим неделимым ресурсам, включая водопой. При этом трехполье в центральных губерниях было ориентировано на монокультуру ржи, в результате чего одно дождливое и холодное лето губило весь урожай и могло поставить целый регион на грань голода, а два неурожайных лета подряд делали голод неизбежным. Таким образом, с современной агротехнической точки зрения источником всех проблем — неурожаев, «малоземелья», принудительного коллективизма — оказывалась не община как таковая, а устаревшая трехпольная система севооборота. Если обучить крестьян одной из современных интенсивных многопольных схем с диверсификацией выращиваемых культур и стойловым содержанием скота, предоставить современные орудия труда и удобрения, то и надел в 3-4 га показался бы им огромным, а производительность труда и доходы возросли в несколько раз. Дело было за малым: каким образом добиться этого, где взять средства для инвестиций в интенсификацию производства?
В июне 1900 г., за год до того, как Кофод натолкнулся на самораспустившуюся крестьянскую общину, авторитетный московский экономист Александр Чупров (1842–1908) открыл для себя в Северной Италии универсальный механизм модернизации деревни через самоорганизацию. Тамошние специалисты по сельскому хозяйству основывали «странствующие кафедры» (Cattedre Ambulanti di Agricoltura) — консультационные бюро в составе двух-трех человек, перемещающиеся по округе. В год полагалось провести не менее 60 выступлений перед крестьянами, пропагандируя новые виды севооборота, кроме того, «кафедра» выпускала газетку и проводила практические консультации. Чтобы перейти на современный интенсивный севооборот, нужны были значительные средства. Крестьянам помогали объединяться в кооперативы для закупки инвентаря и семян по оптовым ценам, получения дешевого кредита и последующей реализации урожая на выгодных условиях. Завершив программу обучения — консультации — реорганизации, «кафедра» перемещалась на новое место. Это был итальянский вариант интеллигентского «хождения в народ»: экспертное знание немногих становилось практическим достоянием масс, которые сами начинали улучшать свою судьбу. Первая «странствующая кафедра» возникла в Ровиго в 1886 г., Чупров застал уже 30 кафедр, к 1910 г. их было 112 и еще 79 дополнительных филиалов, где служили 309 специалистов по сельскому хозяйству, мелкому кредиту и кооперативам.
Чупров немедленно рассказал о своем открытии на страницах главной газеты российской общественности «Русские ведомости», и началось обсуждение способа адаптации итальянского опыта к российским условиям. В российской деревне начала ХХ в. никакая интеллигентская «кафедра» свободно странствовать не могла, поэтому опробовали несколько уже существующих форматов. В конце концов, за основу решили взять модель земской участковой медицины, которая, в свою очередь, напоминала сеть полицейских участков в городах. Предполагалось, что земства должны разбить уезды на участки и в каждом завести «участкового агронома», действующего по программе итальянских «странствующих кафедр»: просвещение — организация — консультация. Учитывая, что в начале века многие губернские земства содержали в штате лишь одного-двух агрономов (и ни одного даже на уровне уезда), эта программа могла показаться утопической. Тем не менее, в 1906 г. в земствах состояли на службе уже первые 27 участковых агрономов. Подчеркивая вспомогательную роль земств в реализации общественнической инициативы, новую систему все чаще называли «общественной агрономией».
Этот продукт двойной самоорганизации (сначала итальянской, а потом и российской общественности) попытались присвоить архитекторы столыпинской реформы. Была развернута параллельная сеть правительственных агрономов по модели земских участковых, только с видоизмененной программой. В отличие от земских, призванных консультировать всех крестьян, правительственные обслуживали только выделяющихся из общины. Главная задача правительственных агрономов заключалась в агитации крестьян за выход на отруба и проведении землеустройства. Оклад правительственных агрономов по крайней мере на 30% превышал жалованье местных земских агрономов того же ранга. Казалось, правительство смогло поставить на службу своей политике наиболее передовой опыт социальной инженерии. Однако в ситуации неконтролируемой общественной самоорганизации после 1905 г. столыпинская политика привела к совершенно непредвиденным результатам.
Развертывание землеустроительных комиссий и правительственной агрономической сети на своей территории было воспринято земствами как покушение на их автономию. Самые консервативные земские управы, прежде с подозрением относившиеся к интеллигентам — сельскохозяйственным специалистам на их службе как потенциальным смутьянам, крайне ревниво отнеслись к появлению правительственных высокооплачиваемых агрономов. Развернулось институциональное соревнование за лидерство: земства начали открывать новые вакансии агрономов и повышать их оклады, правительство не отставало. Масло в огонь подливало ведомственное соперничество внутри самого Главного управления землеустройства и земледелия (ГУЗИЗ), проводившего напористую землеустроительную политику. Его департамент земледелия, ответственный за общее состояние сельского хозяйства в стране и не занимавшийся непосредственной реализацией реформы, предлагал земствам субсидии на развитие агрономических служб — при условии, что и земства выделяют такую же сумму. От предложения бюджетных средств никто не отказывался, отчего на сельскохозяйственных специалистов на земской службе пролился золотой дождь. За семь лет численность земских участковых агрономов выросла в 64 раза — до 1726 в 1913 г., их оклады увеличились почти вдвое. Одновременно, практически с нуля, были развернуты штаты уездных и губернских агрономических организаций, открывались показательные поля и экспериментальные станции. В начале 1914 г. на земской службе состояли почти 4.5 тыс. сельскохозяйственных специалистов, на правительственной — 2.4 тыс. Программу земской участковой агрономии осмыслили как новый формат деятельности общественности в эпоху политического «безвременья». Государственные и растущие как грибы частные сельскохозяйственные институты не успевали готовить специалистов для открывающихся вакансий. Правительство признало поражение в соревновании с мобилизованной общественностью и в 1914 г. начало передавать свою сеть землеустроительной агрономии под эгиду земств.
К этому времени общее количество дипломированных сельскохозяйственных специалистов, чьей задачей было пробуждение крестьянской инициативы, превышало 10 тыс. человек (считая ветеринаров, инструкторов по садоводству и кооперативам). Это было, вероятно, больше, чем численность всех интеллигентов, участвовавших в «хождениях в народ» за предыдущие сорок лет, вместе взятых. Более того, теперь «пропаганда» среди крестьян велась абсолютно легально, агрономы (особенно правительственные) являлись проводниками приоритетной государственной политики. Пользуясь этим положением, они распространяли среди крестьян идеи, которые не были революционными в узкополитическом смысле, но подрывали основу режима уже самой установкой на развитие у крестьян рационального мышления и инициативы. Изначально задумывавшаяся как административно-правовая мера (направленная на изменение правового статуса крестьян и ликвидацию общинного землевладения), столыпинская реформа запустила механизм масштабной социальной самоорганизации, результаты которой оказались полной неожиданностью для всех участников.
Самоорганизация общества как цепь непредвиденных последствий
Правительство не ожидало, что немедленную выгоду от начавшейся реформы получит земство — и политическую, и материальную. Столкнувшись с неразвитостью органов центральной власти в деревне, администраторам реформы пришлось постепенно все больше и больше полагаться на существующую земскую инфраструктуру: склады инвентаря и растущие агрономические кадры. Земство, утратившее было после открытия Государственной Думы прежнее значение представительства местных интересов во власти, обрело новую миссию. Теперь оно оказалось в авангарде работы по подъему экономической производительности земледельцев, а также их интеграции в нацию. Казавшуюся «неполитической» миссию с готовностью поддержали даже самые консервативные земские управы, получив в обмен дополнительный авторитет, правительственные ассигнования и непредвиденные сложности.
Земские лидеры не ожидали, что расширение агрономической помощи населению и увеличение штатов специалистов ограничит их власть. В конце XIX в. получила распространение доморощенная социологическая схема сельского образованного общества, разделявшая его на три «элемента». Первый элемент составляли правительственные чиновники. Второй элемент — выборные гласные земских управ из числа местных влиятельных землевладельцев. А третьим элементом считались земские врачи, учителя и немногочисленные сельскохозяйственные специалисты на земской службе. Этих интеллигентов полиция держала под подозрением как революционеров, земские боссы третировали их, пользуясь всевластием работодателей в глухом краю. И вдруг оказалось, что именно от этих наемных работников зависит и успех земства в конкуренции с правительственными структурами, и возможность получения субсидий. К тому же, резко увеличилась численность третьего элемента, составив уже в 1908 г. около 70 тыс. человек. После этого ежегодный прирост кадров среди сельскохозяйственных специалистов составлял около 50%, меньшими темпами росли ряды врачей и учителей.
Уездные и губернские агрономы, врачи и учителя самоорганизовывались в профессиональные корпорации. Они собирались на ежегодные совещания, разрабатывали стратегию развития на будущее и конкретные планы работы на ближайший год, под которые требовали ассигнований у земств. Они полностью перехватили инициативу у земских управ и на торжественных банкетах в 1914 г., посвященных полувековому юбилею земской реформы, открыто заявляли: «Земство — это мы». Значение возвышения третьего элемента в земской системе выходило за пределы внутрикорпоративной политики. По сути, речь шла об окончательном подчинении института земств общероссийской общественности, с которой идентифицировали себя земские специалисты. Опираясь на вырабатывавшиеся в рамках общественных дискуссий идеи и проекты, они формулировали повестку дня для земской деятельности и реализовали с помощью земств свое видение социально-экономического переустройства.
В рамках кампании «участковой агрономии» сельскохозяйственным специалистам удалось вступить в прямое взаимодействие с 1.5–2 млн. крестьян — беспрецедентный результат в истории российского образованного общества. Оборотной стороной этого успеха стала утрата общественностью монополии на формулирование проекта современной нации.
Представители «третьего элемента» не ожидали, что у них могут появиться принципиальные оппоненты не только из числа первых двух «элементов», но и из среды «народа», благу которого они посвятили себя. И до начала проведения столыпинской реформы существовала прослойка крестьян, воспринимавших сельское хозяйство не как унаследованный от предков образ жизни, а как специальную экономическую деятельность, измеряемую в цифрах и открытую рациональным манипуляциям. К примеру, порядка 20 тыс. крестьян входили в число «добровольных корреспондентов» земских статистических бюро. В их задачу входило заполнение несколько раз в год специальных вопросников из десятков пунктов: о прогнозах на урожай и реальной урожайности, ценах на землю, зерно, транспорт и другие индикаторы местных рынков. В награду «добровольные корреспонденты» получали подписку на сельскохозяйственную периодику и брошюры с практическими советами. Широкомасштабная реализация программы итальянских «странствующих кафедр» в формате участковой агрономии не только открыла этим людям новые возможности — от улучшения собственного хозяйства до организации кооперативов и устройства на работу помощниками агронома или консультантами-практиками. С начала 1910-х гг. можно говорить о феномене «четвертого элемента» в деревенском обществе: выходцах из «простого народа», которые откликнулись на просветительскую деятельность агрономов, но теперь выступали против патернализма «интеллигенции».
Массовое распространение потребительских и кредитных кооперативов в деревне означало появление прослойки в десятки тысяч кооперативных «менеджеров», опиравшихся на поддержку нескольких миллионов членов кооперативов. Колоссальная социальная и материальная база обеспечивала независимость «четвертого элемента» и весомость его претензий. На страницах новой низовой «кооперативной» прессы высказывалось пожелание самостоятельно определять стратегическое направление преобразований в деревне, оставляя городским специалистам лишь роль наемных консультантов. И действительно, в некоторых регионах (особенно не имевших земств) начиная с 1912 г. ассоциации крестьянских кооперативов стали нанимать на работу агрономов. Старый пафосный и не вполне искренний лозунг о том, что интеллигенция — слуга народа, неожиданно начал обретать буквальное материальное воплощение.
Таким образом, массовое общество пришло в деревню, а вместе с ним — и «зона контакта» с чужаками, и потребность в принадлежности к большому сообществу «своих» по личному выбору, а не по обстоятельствам рождения. Желание правительства или общественности навязать свою версию нации на практике приводило к непредвиденным результатам. Например, в Уфимской губернии языковой барьер между русскоязычными агрономами и башкирскими крестьянами вынудил земство выделить средства на издание брошюр и других материалов, дублирующих объяснения агрономов, на башкирском языке. Так земство опередило немногочисленную городскую башкирскую национальную элиту в культивировании рационального обсуждения общих социально-экономических интересов на родном (башкирском) языке — важнейший шаг на пути к выработке ощущения принадлежности к общей нации.
В украинских губерниях проблемы языкового барьера не существовало, но создаваемые в рамках программы общественной агрономии (так стали называть всех агрономов на земской службе) сельские кооперативы немедленно становились ячейками украинского движения. Дело было не в успехе пропаганды украинского национализма — все еще преимущественно элитного и малочисленного феномена — а в том, что кооперативы предоставляли формат добровольной и осмысленной совместной деятельности. Объединенные в ассоциации, кооперативы создавали сети солидарности, формируя ощущение принадлежности к нации, которая была столь же «крестьянской», сколь и «украинской». Украинскими были язык и культура большинства кооператоров, но непосредственным стимулом к объединению (которое облегчалось общностью языка и культуры) был общий экономический интерес. Всего десятью годами ранее (в 1898 г.) украинские просветители гордились тем, что в селах покупали в месяц по 60 экземпляров «Кобзаря» Тараса Шевченко — культурного символа украинскости. Но практически одновременно (в 1902 г.) брошюра «Разговоры о сельском хозяйстве» на украинском языке разошлась полумиллионным тиражом. Этот пример позволяет косвенным образом замерить степень интенсивности разных интересов среди селян. Кооперация (буквально — «взаимодействие») имела одновременно экономическое, национальное и политическое измерения, подпитывавшие друг друга.
Общеимперская русскоязычная общественность, разработавшая проект участковой (общественной) агрономии, столкнулась в результате его реализации не только с фактором самостоятельного «четвертого элемента», но и с его национальной дифференциацией. Это оказалось сюрпризом и для тех, кто претендовал на лидерство среди растущего «четвертого элемента». Когда московские активисты, увлеченные перспективой противопоставить «кооперативизм» капитализму и социализму (в качестве «третьего пути»), попытались привлечь к строительству кооперативной суперструктуры украинских коллег, они столкнулись с обвинениями в империализме. Это не была принципиальная элитная украинская оппозиция «русскому» — одновременно украинские кооперативы развивали тесное сотрудничество с партнерами в южных русских губерниях. Скорее, речь шла об отказе становиться строительным материалом для идеологической кооперативной «империи», цель которой заключалась в абстрактной борьбе с капитализмом, а не в обслуживании рядовых членов кооперативов. И все же, даже в кооперативном движении процесс самоорганизации приводил не только к умножению горизонтальных связей и широкой экспансии, но и к резкому внутреннему размежеванию.
Общеимперская общественность, «аполитичная политика» прогрессизма и начало глобализации массового общества
В начале 1910-х гг. цепная реакция социальной самоорганизации распространилась по всей Российской империи: в деревнях и городах, среди чернорабочих и профессоров складывались новые конфигурации групповой солидарности, а старые формальные общности теряли смысл или вовсе распадались. То, за что ваисовцев или штундистов всего два десятилетия назад признавали сумасшедшими, стало социальной нормой: люди прислушивались к своему «внутреннему голосу» и объединялись с близкими себе по духу или по целям.
Возникающие новые формы оказывались «в серой зоне» между общепризнанным и нелегальным. Для получения формального статуса требовалось официальное разрешение, которое было почти нереально получить: даже ведущая думская сила, партия кадетов, не была официально зарегистрирована. Административная машина мало изменилась после 1905 г. и главной помощью от нее в новом структурировании общества было невмешательство в инициативы, не затрагивавшие напрямую политическую сферу. После всех махинаций с законодательством и избирательным процессом публичная думская политика (особенно после смерти Столыпина) находилась в состоянии паралича. Единственным социальным институтом, способным координировать бурный процесс самоорганизации, оставалась общероссийская общественность. Она также переживала внутреннее расслоение по политическим и этнокультурным признакам, но продолжала сохранять общее интеллектуальное пространство благодаря самому процессу постоянного осмысления и обсуждения этого расслоения и перегруппировок.
Членами общественности могли быть русский и украинский националисты, а также социал-демократы и либералы, принадлежащие разным этноконфессиональным группам, или индифферентные к политике культурные и научные деятели — и разные гибридные сочетания этих отдельных характеристик. Таким образом, российская общественность выступала в роли «нации наций», когда каждый ее сознательный член являлся участником еще одного или даже нескольких локальных национальных проектов. По сути, общественность выступала в роли последнего подлинно «имперского» института на территории Северной Евразии, способного объединить локальные интересы в неком общем пространстве взаимодействия.
Массовое разочарование в радикальном революционаризме и Государственной Думе, проявившееся к 1908 г., привело к масштабной идейной переориентации общественности. Разные ее слои и фракции проявляли эту переориентацию по-разному (через эпидемию самоубийств и обращение к религии, через сексуальную революцию и увлечение чистым искусством, через предпринимательство и науку), но общим для большинства было отторжение политики и фиксация на индивидуальности. Это был, конечно, радикальный разрыв с народнической культурой XIX в., признававшей смысл существования личности лишь в служении общему «народному телу». Но причисление себя к общественности как «имперской нации» все равно предполагало, что человек каким-то образом увязывает свой аполитизм и стремление к творческой самореализации с «общим благом». Идеальным воплощением этих, казалось бы, несовместимых запросов стала идеология «прогрессизма»: представление о том, что общественный прогресс достигается посредством улучшения конкретных обстоятельств каждого члена общества — не путем глобальных революционных переворотов, а через самоорганизацию на рациональных началах. Прогрессистская логика предполагала идентификацию проблемы, выработку конкретных технологических мер ее решения и мобилизацию общества на выполнение проекта, без всякой надежды на поддержку со стороны государства.
Стиль мышления прогрессизма стал доминирующей идеологией реформизма в обществах современной («западной») культуры в начале ХХ в., по-настоящему трансатлантическим феноменом. Он и вырабатывался в постоянном диалоге интеллектуалов и практиков-реформаторов из разных стран, через взаимные заимствования и совместные инициативы. Местные наименования реформистских движений отличались («прогрессизм» — американский термин), локальные интеллектуальные традиции накладывали на них свой отпечаток: академический марксизм в Германии, синдикализм во Франции, чартизм в Великобритании, народническая «теория малых дел» в России. Это не мешало прогрессистам разных стран разделять общий тип социального воображения. Объединяли их и общность структурной ситуации противостояния либеральному (т.е. несоциальному), коррумпированному или авторитарному государству. Кризис старых демократических институтов (коррупция чиновников, неэффективность парламентов в решении острых вопросов современности) в США и в Европе (особенно во Франции) породили разочарование в политике и веру в то, что социальные проблемы общество должно решать само, помимо государства, через систему широких кампаний в поддержку отдельной, четко определенной цели: борьба с пьянством; моральное возрождение через очищение церкви; решение кризиса урбанизации путем муниципальных реформ (проведение водопровода, канализации, создание дешевого жилья для рабочих, развитие проекта города-сада) и т.п.
До середины 1910-х годов общественным идеалом в Северной Америке и Западной Европе оставалась «аполитичная политика», и российская общественность с готовностью приняла новую идеологию реформизма через самоорганизацию общества и включилась в прогрессистскую культуру на равных. Прогрессизм оказался рамкой, объединявшей общество поверх партийных расхождений и даже снимавшей традиционную оппозицию между «властью» и «обществом». В России в III Государственной Думе была создана фракция прогрессистов, увеличившая свои ряды вдвое в IV Думе (до 11% депутатов), в 1912 г. была основана Прогрессистская партия. Впрочем, политическая форма представляла лишь верхушку айсберга феномена прогрессизма в Российской империи. В частности, проект «общественной агрономии» являлся классическим примером прогрессистского реформизма на российской почве. Он был сформулирован под влиянием опыта итальянской прогрессистской инициативы, творчески переосмыслен в местных условиях и опирался на массовую мобилизацию общественности, без которой неоткуда было бы взяться тысячам добровольцев, готовых получить агрономическое образование и отправиться распространять новое знание в деревню. Конкретная технологическая задача (смена системы севооборота) вписывалась в прогрессистскую программу морального обновления и, шире, в общемодернистский проект создания нового человека.
Как всегда емко эту идею выразил в декабре 1909 г. Петр Струве: «Вопрос об экономическом возрождении России есть прежде всего вопрос о создании нового экономического человека». Конкретно применительно к общественнической модернизации деревни задачу формирования «нового человека» при помощи частных, «технологических» реформ сформулировал прогрессист Александр Чаянов в 1911 г.: «Путем воздействия на ум и волю хозяйственных людей пробудить в их среде самодеятельность и помощь, направить эту самодеятельность наиболее рационально. Словом — заменить в головах местного населения старые представления новыми». Традиционный оппозиционный настрой общественности к государству в рамках прогрессизма был переосмыслен, скорее, в сторону индифферентности. Как писал в том же 1911 г. другой идеолог участковой агрономии,
В существе ведь дела, ни одна законодательная форма сама по себе не определяет направления того или иного культурного процесса. Ему жизнь дают те творческие силы, которые вливают в него известное социальное и культурное содержание. А оно может быть различно в зависимости от того, какие моменты и задачи избраны этими силами…
Исход противостояния земской «общественной агрономии» с организаторами столыпинской реформы, казалось, наглядно подтверждал правоту прогрессистов: рационально организованная «самодеятельность» активных участников социального процесса оказалась способной переопределить значение любых внешних форм, диктуемых государством. Правда, российские прогрессисты имели дело лишь с государством, не проводившим последовательной враждебной политики и достаточно слабым. Косность полиции и проверка политической благонадежности со стороны охранного отделения являлись главными помехами на пути прогрессистского реформизма, в целом малозначительными. Зато правительственный Департамент земледелия явно сочувственно относился к общественному реформистскому движению, а постоянное привлечение на государственную службу специалистов, разделявших прогрессистское мировоззрение, привело к фактическому сращиванию Департамента и даже в целом ГУЗИЗ с реформистской общественностью.
Если бы государство проводило политику, подобную «подмораживанию» Александра III, никакая «самодеятельность» не сумела бы изменить направление «культурного процесса». Но после социального взрыва 1905 г. идея реакционного сдерживания массового общества оказалась скомпрометирована, а любые современные проекты рационального упорядочивания общества все равно создавались лишь в рамках прогрессистской культуры. Реформы Столыпина легализовали саму идею реформизма в деревне, а после его смерти, когда правительство отказалось от всяких активных преобразований, климат для прогрессистского реформизма стал еще более благоприятным. Не желая поддерживать никакую форму реальной самоорганизации, Николай II и его приближенные не решались и бороться с ней. В результате, к началу 1910-х гг. общественность окончательно перехватила у политического режима лидерство в поддержании современности российского общества.
Не рассчитывая больше на изменение политических «правил игры», прогрессисты добивались фактического перерождения институтов, невзирая на существующие юридические ограничения. Например, у реформаторов не было надежды на изменение в обозримом будущем дискриминационного избирательного законодательства в городские думы. Рассчитывать на приход к власти политической партии, сочувствующей их целям (например, кадетов) не приходилось. Но если видение «лучшего будущего» разбить на ряд конкретных «показателей», сформулировать «технологию» достижения каждого и заручиться массовой поддержкой горожан, то какая разница, какие политические убеждения у городских гласных, на рассмотрение которых будут представлены популярные проекты частных улучшений? Маловероятно, что и самый верноподданный монархист будет возражать против необходимости строительства водопровода и канализации как необходимых мер оздоровления городской жизни. Представители наиболее консервативных предпринимательских кругов понимали полезность развития трамвайной сети и электрического освещения улиц. Можно было даже выстроить коалицию заинтересованных группировок в городской думе и среди фабрикантов и начать реализовывать проект дешевого качественного жилья для рабочих. Именно этим занимались называвшие себя «прогрессивными» объединения гласных Московской и Санкт-Петербургской городских дум, а идейным центром нового «урбанизма» выступал основанный в 1909 г. журнал «Городское дело». И если первые номера журнала были посвящены почти исключительно зарубежным реалиям и пересказу основных прогрессистских проектов трансформации городов (прежде всего, «города-сада» Эбинезера Говарда), то в начале 1910-х журнал уже самостоятельно формулировал повестку реформ в российских условиях.
Благодаря своему принципиальному интернационализму, прогрессизм стал основой «первой глобализации» современного массового общества в начале ХХ в. Глобальная культура книжников или аристократов былых эпох касалась очень узкого круга людей. Распространение грамотности в XIX в. позволило образованным членам одной нации узнавать про нравы и порядки за границей. Но только культура прогрессизма, не зацикленного на политических структурах (а значит, и национальных границах), исходила из принципиальной «надграничности» человеческого опыта и необходимости циркуляции идей. Такое глобальное понимание феномена «современности», не сводимого больше к буквальной «европейскости», позволяло российской общественности окончательно преодолеть оппозицию славянофильства и западничества и беспроблемно перенимать итальянский или немецкий опыт.
Интернационализация культуры современности приобрела массовый характер. Не имея возможности напрямую влиять на систему школьного образования и программу подготовки учителей, активисты, объединившиеся под эгидой Императорского русского технического общества, разработали программу дешевых заграничных экскурсий для школьных учителей. Используя пожертвования, работу волонтеров и скидки для туристических групп, они разработали несколько вариантов продолжительных (4-8 недель) путешествий, которые были по карману даже сельским учителям. Можно было выбирать из нескольких маршрутов в Западную Европу или на Ближний Восток (через Стамбул в Египет и Палестину). Например, один вариант «западного» направления включал две недели в Лондоне, 10 дней в Париже, неделю в Берлине. Независимо от маршрута, поездка включала в себя обязательное посещение местных школ, муниципалитетов и парламентов (на заседание парламента экскурсантов водили и в Стамбуле). Кроме того, программа включала главные музеи и галереи, а те, кто выбирал южный маршрут, делали это еще и в паломнических целях.
Судя по тщательно собираемым отзывам экскурсантов, такая насыщенная и продолжительная поездка вызывала двойственную реакцию, особенно на самом популярном «итальянском» направлении. С одной стороны, особое внимание учителя уделяли устройству современных учреждений; вызывали их восхищение и богатые музеи. С другой, даже провинциальные учителя с удивлением отмечали непритязательность (бедность, грязь) итальянской жизни. Происходило «расколдовывание» и освоение Европы: место прежнего идеализированного образа высшей цивилизации занимало узнавание обычных и далеко не всегда идеальных жизненных обстоятельств. Но одновременно и «европейские» институты — будь то парламент или городской совет — начинали восприниматься обыденно, как часть нормы.
За пять лет, в 1909–1913 гг., на таких экскурсиях побывали почти 4.5 тыс. школьных учителей, две трети которых преподавали в сельских и городских начальных школах. Посещение заседания парламента Османской империи вряд ли повышало их симпатии к пантюркизму (и, возможно, даже к парламентаризму). Тем более не менялась их программа преподавания. Но глубокое изменение личного опыта и социального воображения учителя в результате зарубежной поездки неизбежно накладывало отпечаток на обучение школьников.
Прогрессистская имперская общественность на распутье
Так процесс самоорганизации массового общества проделал полный цикл и к началу 1910-х гг. перешел на качественно иной уровень. Мигранты из деревень в города второй половины XIX в. могли проявить свою потребность в новом сообществе единомышленников, главным образом, лишь в религиозной форме («сект» ваисовцев или штундистов). Но и те, кто не рисковал уклоняться так далеко от нормативной религиозности, демонстрировали способность находить общий язык с чужаками и поддерживать неустойчивое равновесие ширящейся «зоны контакта». Взрывоподобное распространение массового общества едва не смело все государственные институты Российской империи в 1905 г., когда политическая нация общеимперской общественности примкнула к стихийному «восстанию масс» и выступила в роли его координатора. Объявление конституционного режима 17 октября 1905 г. раскололо общественность, большинство отказалось от антисистемной борьбы и поддержало создание Государственной Думы как органа представительства нации. Однако уже к 1909 г. основным вектором деятельности общественности вновь становится прямое взаимодействие с массовым обществом и формулирование его интересов и нужд, без посредничества политических институтов. «Конституционный переворот» 3 июня 1907 г. и разоблачение главы БО партии эсеров Азефа как агента полиции летом 1908 г. окончательно скомпрометировали саму идею политической борьбы. На передний план вышли проекты прогрессистской «точечной» социальной инженерии. Миллионы людей впервые оказались вовлечены в процесс самостоятельной рациональной трансформации своего ближайшего социального окружения. Теперь самоорганизация из совершенно стихийного процесса становилась более целенаправленным, поскольку наиболее активную роль в ней играли люди, в чьих головах заменились «старые представления новыми».
И вот уже в 1914 г. начальные школы заканчивали дети, для которых вся сознательная жизнь прошла после 1905 г.: при Государственной Думе и участковых агрономах, при кооперативных лавках и рабочих клубах («народных домах»), трезвенническом движении и образовательных кинопоказах. Учителя сотен тысяч школьников лично видели пирамиды и Колизей, с галерки наблюдали заседание Рейхстага и осматривали кооперативные квартиры рабочих в Лондоне. Когда эти бывшие школьники вступили бы в самостоятельную жизнь году в 1917, они ориентировались бы в новом социальном мире гораздо сознательнее своих родителей и представляли бы гораздо четче потенциальные возможности его дальнейшего изменения. Их участие в самоорганизации массового общества стало бы еще более продуктивным и креативным.
Однако самоорганизация — шаткая почва для любых прогнозов. В начале 1910-х гг. российское массовое общество представляло собой динамичную многосоставную систему в состоянии неустойчивого равновесия. Общеимперская нация российской общественности являлась единственной рамкой, позволявшей удерживать эту изменчивую мозаику как единое пространство — по крайней мере, генерируя представления, позволяющие помыслить ее как единую социальную среду. Личные и групповые отношения фиксировались, главным образом, достижением консенсуса в «общественном мнении» или через представление об «обычной практике», без фиксации при помощи правовых механизмов, административных норм или политических гарантий парламентского большинства. С точки зрения государственных институтов не существовало Партии народной свободы (кадетов), евреи имели право жительства лишь в черте оседлости, руководители ассоциации кооперативов с многотысячным членством являлись обычными крестьянами или мещанами, а совместное проживание татарина и русской не могло считаться законным браком. В этом отношении положение российской прогрессистской общественности существенно отличалось от ситуации во многих европейских странах или в США, где прогрессистские движения компенсировали отсутствие государственной социальной политики, но не противостояли государственным институтам в принципе.
С одной стороны, идейное отмежевание от правящего режима играло на руку общественности. Внутреннее расслоение и растущее напряжение (например, между украинскими центрами местной инициативы и московскими центрами, претендующими на координирующую роль) смягчалось наличием общего оппонента в лице правительства, олицетворяющего имперский централизм и русификаторское угнетение. Идейное противостояние с имперским режимом поддерживало иллюзию внутренней однородности общественности и тормозило осмысление проблемы ее собственной «естественной» русоцентричности.
С другой стороны, все достижения прогрессистского реформизма всецело зависели от способности мобилизовать массовый энтузиазм сторонников той или иной кампании. Временные неудачи, психологическая усталость, переключение внимания на другие инициативы грозили остановить или вовсе свести на нет любой проект, который нельзя было превратить просто в ежедневную рутину. Эту проблему прекрасно иллюстрирует пример «общественной агрономии», самого успешного реформистского проекта начала ХХ века в России. На пике его развития в 1913 г. идеологи кампании начали бить тревогу, публикуя статьи о наступившем «агрономическом кризисе». Все статистические показатели свидетельствовали о рекордных достижениях по всем направлениям: опережающий рост вакансий на все более выгодных условиях для сельскохозяйственных специалистов, охват крестьян образовательной деятельностью, успешное внедрение элементов интенсивного земледелия. Но для авторов публикаций об «агрономическом кризисе» главным критерием служил накал общественного энтузиазма вокруг их движения, а он явно спадал после 5-6 лет непрерывной мобилизации. К счастью для них, «общественная агрономия» уже стала центральным направлением деятельности земств, и пока земства могли собирать налоги и выплачивать жалованье многочисленному «третьему элементу», никакое падение массового энтузиазма не могло повредить делу. А вот, к примеру, движение за трезвость всецело зависело от добровольной поддержки общественности.
В этом и заключается значение абстрактного понятия «политических институтов» — кажущихся независимыми от конкретных людей механизмов, поддерживающих выполнение определенного задания «автоматически». Государственный орган местного самоуправления (земство) спасло проект «общественной агрономии», но многие другие важные инициативы общественности не могли рассчитывать на институциональную поддержку. Сделав важное открытие — «ни одна законодательная форма сама по себе не определяет направления того или иного культурного процесса», — лидеры российской общественности поспешили списать со счетов важность институтов. Не получая особой поддержки от государственных органов (за исключением реформистских инициатив в деревне), они не видели и особого вреда даже от министерства внутренних дел. Как выяснилось в скором времени, главной проблемой оказалось не вмешательство государственных органов в дела общественности, а то, что общественность не имела никаких механизмов воздействия на государство.
Эта проблема — отсутствие координации между общественным реформизмом и государственными органами — была характерной чертой прогрессизма как международного феномена. Только в демократических режимах игнорирование государства общественными активистами являлось скорее следствием принципиального выбора, а не вынужденной мерой. Поэтому, когда стало ясно, что успех наиболее масштабных и долговременных преобразований требует систематической поддержки, не ограниченной двумя-тремя годами общественного энтузиазма по поводу новой кампании, реформисты новыми глазами взглянули на возможности государственных институтов. В начале 1914 г. американский прогрессист и член британского Фабианского общества («мозгового центра» местного прогрессистского движения) Уильям Уоллинг выпустил книгу «Прогрессизм — и после», в которой предрек переход к «государственному социализму» как логичное продолжение реформизма «общественной самодеятельности». Речь шла о принятии государством на себя ответственности за социальную политику и проведение социальной инженерии для достижения желаемых результатов — всего того, чем прогрессисты занимались «на общественных началах». Уоллинг придерживался левых политических взглядов, но сама логика развития прогрессизма как международного движения по рационализации стихии массового общества и снятию наиболее острых его конфликтов вела в этом же направлении.
Находившееся в состоянии неустойчивого равновесия российское общество, стихийно вырабатывающее проект «прогрессистской империи», стояло перед теми же проблемами, что и остальные передовые страны. Его будущее зависело от того, удастся ли включить в этот проект государство, и на каких условиях. Проблема взаимоотношений старого государства и самоорганизующегося массового общества в новом глобальном мире породила в ХХ веке кризис современности мирового масштаба.
Часть 3. Война глобализации и имперская революция
Находившееся в состоянии неустойчивого равновесия российское общество, стихийно вырабатывающее проект «прогрессистской империи», стояло перед теми же проблемами, что и остальные передовые страны. Его будущее зависело от того, удастся ли включить в этот проект государство и на каких условиях. Проблема взаимоотношений старого государства и самоорганизующегося массового общества в новом глобальном мире породила в ХХ веке кризис современности мирового масштаба.
10.11. Глобализация современности и национализирующиеся империи
Международный прогрессизм решал проблему современного массового общества, которое являлось глобальным феноменом: мигранты из деревни приезжали в города и перемещались между ними, переезжали из страны в страну, расширяя зону контакта (а значит, и конфликта). Это было многостороннее движение: значительная часть переселенцев в Сибирь возвращалась обратно, рожденные в городах образованные люди тысячами отправлялись в деревню в качестве агрономов и инструкторов по кооперации, до 10% крестьян Черниговской губернии уезжали на временную работу через океан, в Пенсильванию и Нью-Йорк, чтобы потом вернуться домой. Глобальная циркуляция людей и идей сопровождалась циркуляцией капитала. Инвестиции и займы, торговые преференции и запретительные тарифы государств выстраивали новые отношения зависимости и влияния при помощи универсальной и «невидимой» субстанции денег. Иностранные компании открывали рудники, заводы и торговые сети на чужой земле, но всеобщая зона контакта, в которой все являлись «чужаками», лишала смысла само понятие «чужой» — а значит, размывала и всякое четкое представление о понятии «свой».
Стихии глобализации все расширяющегося и усложняющегося массового общества противостояли национальные государства, сформированные в своем нынешнем виде в середине XIX в. Компактные в смысле численности чиновников и относительно дешевые для населения по своей налоговой нагрузке, они не проводили никакой «социальной политики» (лишь самые передовые финансировали начальное школьное образование и осторожно ограничивали условия работы женщин и детей). В 1913 г. большинство государств в среднем изымали и перераспределяли лишь 13% валового национального продукта своих стран — всего на два процента больше, чем в 1870 г. (и в три с половиной раза меньше, чем в конце ХХ в.). Главной статьей бюджетных расходов была армия: к началу ХХ века траты на оборону составляли 27% бюджета Франции, 39% Великобритании, 43% Германии, 55% Японии. В 1913 г. на содержание армии и флота в России уходило 27% бюджета. Для сравнения, на долю МВД с его многочисленными функциями помимо полицейских (от ветеринарного контроля до содержания почты и телеграфа, от сбора статистики до контроля «иностранных вероисповеданий») приходилось всего 6%. Армия была главным и почти единственным инструментом государства в проведении последовательной политики. Поэтому любая государственная политика принимала форму военного давления, независимо от наличия или отсутствия воинственных планов.
Сам принцип национального государства противостоял стихии глобализации как идеал суверенитета однородной в культурном и правовом отношении «нации» на четко очерченной территории. Нерушимость границ государства должна была гарантировать нерушимость границ национального «тела», и наоборот. В реальности политические режимы разных стран лишь более или менее приближались к этому идеалу, который господствовал в социальном воображении людей эпохи. Ближе всего к нему была Французская республика, на территории которой этнические чистки «инородного» населения завершились к XVIII в., а столетие интенсивного «национального строительства» после революции 1789 г. распространило единый культурный стандарт и правовой порядок почти по всей стране. Правящий класс и образованная элита континентальных империй Северной Евразии (Германской, Габсбургской, Российской, Османской) также ориентировались на модель французской Третьей республики, но вынуждены были искать компромиссы с наследием своей имперскости.
Германия
Германская империя возникла в результате объединения 27 немецких государств в 1871 г., по итогам победоносной войны с Францией (одним из последствий победы стала аннексия объединенной Германией пограничных провинций Эльзас и Лотарингия, см. карту). Новое государство с самого начала создавалось как «национальное», но Германская империя являлась «империей» не только по названию. По условиям объединения, бывшие самостоятельные германские государства сохранили широкую по меркам XIX века автономию (включая содержание собственных армий крупнейшими из них). Хотя лидером объединения и сильнейшим из союзных государств была Пруссия, к началу ХХ в. ее политическое и культурное влияние в империи существенно ослабло. Закрепленный конституцией федерализм вступал в противоречие с притязаниями прусской политической элиты на гегемонию и с желанием части немецких националистов (включая императора Вильгельма II) добиться унификации страны.
Другая линия напряжения была вызвана особенностями прусской избирательной системы, сформированной накануне скачка урбанизации конца XIX в. К началу XX в. сельские избиратели, а особенно аристократы — земельные магнаты, пользовались непропорционально высоким влиянием в парламенте, не говоря уже о неформальных каналах лоббирования. Они использовали свое влияние в Пруссии (а потому и в империи в целом) для пресечения всех попыток либерализации внешней торговли. Тем самым, глобализация переводилась в плоскость конфликта: активная экономическая экспансия Германии поощрялась, но симметричное проникновение «чужих» товаров и работников блокировалось. Наконец, в империи существовало довольно значительное (8%) «не-немецкое» меньшинство (прежде всего, поляков), а сами немцы, помимо региональных различий, были разделены по религиозному принципу: почти каждый третий был католиком.
Германское общество воспринимало общемировые процессы глобализации через призму внутренних разноуровневых конфликтов. В Германии массовой опорой общественных реформаторов-прогрессистов служила социал-демократическая партия, выступавшая под лозунгами «реформизма». На выборах в Рейхстаг 1912 г. СДПГ завоевала треть голосов, став крупнейшей политической силой в империи. Усиление влияния реформистских сил в условиях специфической германской имперской ситуации сулило не просто проведение нового рабочего законодательства. На карту был поставлен вопрос баланса между федерализмом и унификацией страны, а также открытости глобализации, либерализации положения меньшинств, утраты влияния земельной аристократии. Понятные и четкие идеи авторитаризма, национализма и империализма вместе образовывали единый комплекс мировоззрения и практической политики, которому противостояла коалиция довольно аморфных, постоянно меняющихся вслед за изменчивой реальностью идей прогрессисткого реформизма, интернационализма и демократии.
Австро-Венгрия
Габсбургская империя решительно перешла на рельсы нациестроительства в 1867 г., после поражения в войне с Пруссией, от исхода которой зависел сценарий объединения германских государств: имперская конфедерация вокруг Австрии или немецкое национальное государство вокруг Пруссии как ядра. Победа Пруссии оставляла Австрии один путь: строить свое национальное государство из разнокультурного населения империи — как «империю наций». В результате конституционного компромисса 1867 г. страна была разделена на две части: Австрийскую империю и Венгерское королевство. Их объединяла фигура правителя (который выступал одновременно в качестве австрийского императора и венгерского короля), верховное командование армией и ведение внешней политики, а также валюта. В остальном это были самостоятельные страны, не существовало единого гражданства и даже бланка паспорта. Каждые десять лет перезаключался союзный договор, частью которого являлось таможенное соглашение и перераспределение пропорции бюджетных расходов. У каждой части были свои парламенты и правительство, законодательство и налоговая система.
Последовательная реализация проекта «империи наций» вела к тому, что все этнокультурные группы в «дуалистической монархии» Австро-Венгрии могли претендовать на политическое признание. Изначальный «компромисс» создал две территориальных нации — австрийскую и венгерскую, но уже на этом этапе внутри Венгерского королевства было выделено автономное Королевство Хорватии и Славонии, в котором государственным языком являлся хорватский (см. карту). В австрийской части лишь 37% жителей считали немецкий язык родным, в венгерской части у 54% родным был венгерский. Австрийская конституция гарантировала право всех граждан использовать свой родной язык в школе, на рабочем месте и в местных государственных учреждениях. Она требовала, чтобы на территориях со смешанным населением «государственные и учебные учреждения должны быть так организованы, чтобы, не принуждая к изучению второго местного языка, каждый народ получал достаточные возможности для получения образования на своем языке». Венгерская конституция тоже признавала права «меньшинств», но не коллективные, а индивидуальные — человека, а не «народности». Начиная с 1867 г. австрийские власти постепенно расширяли права местных этнокультурных групп, а венгерские преследовали курс национальной ассимиляции. С 1907 г. даже в частных школах Венгерского королевства ученики должны были демонстрировать свободное владение венгерским языком после 4 класса, что вынуждало отводить национальному образованию на румынском, словацком или русинском языке вспомогательную роль.
Впрочем, логика территориальной нации приводила к конфликту и внутри Австрийской империи. Имперское правительство было готово признать права основных этноконфессиональных групп на территориях, где они составляли большинство (по крайней мере, среди политической элиты): чехов в Богемии, поляков в Галиции, итальянцев в Тироле, хорватов в Далмации. Но когда австрийский немецкий национализм требовал таких же прав для немцев, это вызывало острое противостояние с чехами не только в Судетах, но и в Богемии. Поляки в Галиции заняли место «государственной нации» (Staatsvolk) и не признавали прав украинской общины. «Национализация» социального воображения привела к тому, что любые политические и социальные противоречия переводились на язык национального противостояния. «Венгры» означали угрозу целостности страны и эффективности правительства, «славяне» — «третью силу», враждебную как немецкому, так и венгерскому национализму и способную стать союзником центрального правительства.
«Евреи» выступали в качестве универсальной метафоры «внутреннего врага» в здоровом «национальном теле». Важно подчеркнуть, что в данном случае роль исторических традиций религиозной или расовой нетерпимости к евреям была минимальной, речь шла именно о современной символической этнизации политики. Среднеобеспеченные горожане и землевладельцы, пользующиеся избирательными правами в австрийской куриальной системе, боролись за влияние с имперской аристократической элитой при помощи немецкого национализма, обвиняя аристократов в предательстве австрийских интересов ради компромисса с многочисленными меньшинствами. Основным политическим языком этой борьбы со старыми элитами, во главе которой стояла партия христианских социалистов (самая влиятельная политическая сила в Австрии начала ХХ в.), стал ярый антисемитизм, потому что иначе для нападок на аристократов и крупных капиталистов пришлось бы использовать революционный язык социалистов — неприемлемый для мелких собственников. Еще больше евреи подходили на роль символов транснациональной глобализации, которую националисты воспринимали как главную угрозу — антинациональную и антипатриотичную силу.
В массовой пропаганде архаичный космополитизм аристократии сливался с современным интернационализмом глобализации. Как показал российский политический кризис 1911 г. по поводу введения земств в «западных губерниях», реальным противником современной массовой политики национального государства являлась имперская гибридность с ее многомерностью, многоуровневостью и неоднозначностью социальных границ. И в России, и в Австро-Венгрии евреи использовались как понятный простонародным сторонникам националистов символ сложной социологической идеи, которую даже идеологи национализма не могли для себя отчетливо сформулировать.
Резкий рост массового общества в Австро-Венгрии в начале ХХ в. и глобализация привели систему «империи наций» в тупик, к весне 1914 г. была фактически парализована работа австрийского парламента. Каждое националистическое движение мечтало добиться для себя территориального политического суверенитета по примеру Венгрии и возможности подавлять меньшинства на «своей» территории, поэтому в принципе поддерживало конституцию 1867 г. Однако «этнически однородных» территорий было немного и в 1860-х гг., а резкий рост городов и миграции населения подрывал надежду на достижимость национальной гомогенности.
Прогрессистские реформаторы пытались выработать новую концепцию национального устройства страны.
В 1899 г. австрийская социал-демократическая партия приняла специальную программу по национальному вопросу, в которой продвигала утопическую идею равенства всех национальностей и право политического самоуправления на «своей» территории (с обязательной защитой меньшинств). Однако после 1910 г. социал-демократы — левое крыло австрийского прогрессизма — отказались от идеи нации в формате территориальной политической организации этноконфессиональной группы. В духе прогрессистского конструктивизма было предложено разделить политический, культурный и правовой аспект принадлежности к «нации». Введение всеобщего избирательного права должно было создать единую имперскую политическую нацию равноправных граждан. Этнокультурное же единство в современном глобальном массовом обществе могло реализовываться как сетевое сообщество «своих», к которому можно было присоединяться из любого уголка. Более того, как писал один из австрийских теоретиков, «каждому совершеннолетнему гражданину должно быть предоставлено право самому определить, к какой национальности он хочет принадлежать». Характерно, что после смены подхода к «национальному вопросу» на австрийских парламентских выборах 1911 г. социал-демократы впервые одержали верх, опередив христианских социалистов — партию, которая боролась против чужаков в городах и за «национальную чистоту» на «своей земле».
Политической противоположностью социал-демократов являлся официальный наследник престола эрцгерцог Франц Фердинанд (1863–1914), который, однако, придерживался близкой программы реформирования империи. Он открыто заявлял об ошибочности национально-территориального размежевания 1867 г. Его раздражал национализм венгров, провоцирующий рост недовольства балканских славянских народов как внутри Австро-Венгрии, так и за ее пределами. Франц Фердинанд не скрывал, что после восшествия на престол он намеревается восстановить централизованное государственное управление при широкой автономии всех этноконфессиональных групп. На практике это означало бы предоставление румынам в Трансильвании, украинцам в Галиции или словакам таких же прав, что и венграм или немецкоязычным австрийцам — при передаче основных государственных полномочий центральной власти. Сломить сопротивление венгерских правящих кругов он намеревался путем введения всеобщего избирательного права, неизбежно подрывающего существовавшее господствующее положение венгерской элиты, но при этом демократизирующего политическую систему в целом.
Таким образом, в австро-венгерской имперской ситуации идея демократизации избирательной системы и практического уравнения в правах всех этноконфессиональных групп причудливым образом переплеталась с перспективами политической централизации. Принятие массового общества и глобализации означало отказ от проекта территориальной нации (к чему не были готовы многие националисты, не только венгерские или австрийские, но и чешские или польские). Фиксация же на территориальности нации вела к столкновению с соседними национальными государствами в тех случаях, когда этноконфессиональная группа проживала по обе стороны государственной границы (например, румыны Трансильвании под властью Венгерского королевства).
Ирония структурной ситуации заключалась в том, что деятельность националистов одновременно вела к ухудшению отношений с соседями и блокировала увеличение финансирования собственной армии. Повышение уровня налогообложения (необходимое для роста военных расходов) означало, что не имеющие прежде права голосовать рабочие впервые попадали в категорию голосующих налогоплательщиков. Тем самым гарантировалось усиление позиций социал-демократов и планов «детерриториализации» наций в империи, а потому налоговая реформа блокировалась в австрийском парламенте в 1914 г. консервативными националистами. Прямая связь внешнеполитического курса и внутренней политики прослеживалась и у оппонентов националистов. И левый реформизм социал-демократов, и правый реформизм Франца Фердинанда ориентировались на снятие напряженности в отношениях с соседними странами, при этом укрепляя эффективность государства.
Османская империя
Эпоха глобализации — открытости внешним влияниям вне контроля правительства — началась для Османской империи гораздо раньше, чем для других европейских держав, и последствия ее оказались самыми катастрофичными. Начиная с XVIII в. бывшая великая пороховая империя служила для образованных элит Европы объектом проекций собственных страхов, фантазий и нереализованных замыслов. Важной частью формирования культуры современности («европейскости») являлось формулирование концепции «отсталости», наглядным примером которой служила «Турция». Османская империя оказалась открытой глобальной культуре современности, не имея возможности противопоставить ей никакой другой универсально применимой системы идей (даже ислам объединял только часть подданных империи) и не принимая участия в ней (в отличие от России).
В середине XVIII в. от султана Османской империи — халифа всех мусульман — требовали соблюдения прав христиан, в то время как на самопровозглашенной родине Просвещения, во Франции, даже христианские реформаты-гугеноты оставались вне закона. Реализация идеала национального государства, распространившегося после эпохи наполеоновских войн, осуществлялась за счет Османской империи: благодаря давлению европейских стран, сначала в 1817 г. Сербия обрела самоуправление при формальном подчинении империи, а в 1829 г. Греция стала первым государством, добившимся полной независимости от османов. Параллельные же попытки добиться национальной независимости от европейских империй неизменно подавлялись «Священным союзом». Во второй половине XIX в. принципы свободы торговли применялись более последовательно к Османской империи, чем к европейским странам, которые сформулировали их. Колониализм как новый критерий европейской «великой державы» реализовывался также, в первую очередь, за счет Османской империи, у которой враги отбирали территории в ходе войн, а союзники — в качестве компенсации за поддержку.
В начале ХХ в. (1906 г.) население Османской империи составляло около 21 млн. чел. — чуть больше, чем в десяти губерниях бывшего Царства Польского Российской империи, в полтора раза меньше, чем в Италии. При этом оно было рассредоточено на огромной территории почти в 2 млн. км2 и отличалось разнообразием во всех мыслимых отношениях (мусульмане составляли три четверти граждан). Несмотря на проведение реформ, имперское государство было не в состоянии контролировать огромную территорию и упорядочивать население (см. карту).
Самой современной частью османского государства являлся офицерский корпус, выполнявший также, благодаря однородности полученного образования и опыта социализации, функцию ядра национализма в разных его версиях. В 1908 г. местный вариант прогрессистских реформаторов — секретная организация «Единение и прогресс» — при поддержке военных осуществила восстание. Под давлением восставших в империи был введен конституционный режим, проведены всеобщие выборы в двухпалатный парламент, а султан сохранил лишь номинальную власть. Но современная политическая система буксовала в эти годы даже в тщательно продуманной Габсбургской «империи наций», а в Османской империи она сталкивалась с обществом, организованным на совершенно иных, донациональных принципах.
Главное преимущество Османской «пороховой империи» — предоставление возможности завоеванному населению сохранять общинную автономию в обмен на лояльность султану — оказалось величайшей проблемой уже в начале XIX в. Политическая система, экономика и реальная социальная структура империи строились на старых принципах: управление при помощи делегирования части полномочий лидерам регионов и общин, этноконфессиональное разделение труда и экономической специализации, судебная и религиозная автономия миллетов. За столетия османского владычества в восточном и южном Средиземноморье население империи перемешивалось, разные этноконфессиональные группы расселялись на новые места как колонисты и торговцы, служащие гарнизонов и вынужденные переселенцы. Вся империя представляла собой огромную зону контакта, и соседство с чужаком являлось скорее нормой, чем исключением. В этой ситуации распространение нациецентричного социального воображения как однозначного идеала будущего — «европейского», демократического, суверенного (антиколониального) — имело катастрофические последствия. Не имея никаких политических форм для выражения этого идеала, в сложно переплетенном государстве и обществе единственным инструментом национализма становилась «политика тела». Воображаемое «национальное тело» на «исторической территории» формировалось при помощи примитивного «биологического оружия» этнических чисток.
Идея современного национализма получила распространение сначала в европейских владениях Османской империи — прежде всего, на Балканах. Процесс насильственной национализации европейских владений империи привел к беспрецедентным по масштабам человеческим потерям. По существующим неполным подсчетам, за 150 лет после 1770 г. около 5 млн. мусульман и 2 млн. христиан из числа поданных Османской империи стали вынужденными переселенцами. Не считая погибших солдат, число жертв этнических чисток среди мирного населения также исчислялось миллионами. На протяжении XIX в. насильственная «национализация» проводилась на оспариваемых территориях против антиимперских повстанцев, а на успешно отделившихся землях — против «мусульман».
С середины 1890-х гг. массовые этнические чистки начинают использоваться уже против подданных внутренних районов империи, вне контекста войны. Забота о «национализации» самой власти в империи привела к конфликту с прежней городской и региональной элитой — греческой и, в особенности, армянской. Жертвами целенаправленного уничтожения армян в Османской империи в 1890-х и второй половине 1910-х гг. стали, по меньшей мере, 1.5 миллиона человек. Любой национализм потенциально предполагает геноцид «чужаков», но современное «правомерное» государство и политическая культура «европейских» империй препятствовали развязыванию массовых чисток населения в Европе XIX в. В Османской империи и образующихся на ее обломках независимых государствах практически не существовало преград на пути воплощения националистических фантазий: имперские навыки общежития были скомпрометированы как отсталые и «неевропейские», современного государства как (в идеале) безличной правовой машины не существовало.
В обретших независимость Греции, Болгарии и Сербии, как и в самой Османской империи, политическим идеалом образованного класса стала этноконфессиональная нация, а главным политическим институтом — армия. Границы этноконфессиональной нации должна была определять «историческая территория», которая реконструировалась на основании самых разных принципов — границ бывших османских провинций (вилайетов) и политических образований доосманского периода (средневекового или даже античного), а также новейших демографических и этнографических исследований. Современная статистика и апелляция к истории разных периодов в разных сочетаниях позволяли обосновывать практически любые конфигурации границ, поэтому решающее слово оставалось за государством (армией) и самой «нацией» в лице «вооруженного народа» — разного рода нерегулярных милиций и банд.
Глобализация начала ХХ в. и распространение массового общества в странах, все еще находящихся в сфере влияния Османской империи, означали массовую мобилизацию новых наций на вооруженную борьбу всех против всех. В 1912–1913 гг. разразились две «балканские войны». В первой из них Болгария, Сербия, Черногория и Греция напали на Османскую империю с целью увеличить свои «национальные» территории — просто потому, что могли себе это позволить. Во второй, в 1913 г., Болгария напала на недавних союзников — Сербию и Грецию, а затем Болгарии объявили войну Румыния и Османская империя. Как и прежде, балканские войны сопровождались массовыми этническими чистками населения, поскольку «исторические территории» являлись «национальными» только на страницах газет и научных трактатов. Приходилось изменять реальность в соответствии с воображаемой картиной мира силами государства, то есть армии. Греческие войска уничтожили 161 болгарскую деревню, порядка 100 тыс. болгар стали беженцами. Вслед за отступающей османской армией бежали около 400 тыс. мусульман.
Идеологически и политически цели балканских войн не отличались от тех, что оправдывались передовой европейской публикой XIX в. (свержение османского ига, национальное освобождение, объединение исторических земель). И хотя в 1913 г. европейские великие державы с беспокойством следили за «балканизацией» международных отношений, не существовало никаких глобальных политических механизмов для корректировки влияния глобальных идей. Ни одна из влиятельных стран не могла открыто вмешаться в конфликт без того, чтобы ее не обвинили в попытке усилиться за счет других. Еще важнее было то, что на самом глобальном «рынке идей» монополия принадлежала нациецентричному социальному воображению, а новые проекты гибридных наций (наподобие разрабатываемого австрийскими социал-демократами) только начинали обсуждаться в сравнительно узких кругах обществоведов и политиков.
Пришедшая к власти в Османской империи в 1908 г. националистическая элита ориентировалась на идеал Германии, а в еще большей степени — Японии, монокультурной «азиатской» страны, которая сумела сплотиться в нацию и нанести поражение могущественной Российской империи. После серии политических кризисов и военных переворотов, в атмосфере националистической мобилизации Балканских войн, в январе 1913 г. в Стамбуле установился однопартийный режим Партии единения и прогресса. Ее программа, а точнее, идеологическая ориентация большинства лидеров, претерпела радикальное изменение за пять лет. К началу 1914 г. «единение» понималось лидерами партии уже в смысле консолидации турецкой нации — преимущественно крестьянской, малообразованной, рассеянной по обширной территории. Ей предстояло стать господствующей группой в Османской империи (Staatsvolk), заменив традиционные городские элиты (армянские и греческие) как в социальном, так и демографическом смысле. В сентябре 1913 г., по итогам второй балканской войны, была достигнута договоренность с Болгарией о создании межправительственной комиссии по проведению «правильного» обмена населением между двумя странами, с урегулированием вопросов оставляемой собственности. Переговоры о создании такой же комиссии начались в мае 1914 г. с Грецией. Впрочем, еще до этого, в начале 1914 г., была проведена операция по «туркизации» западных прибрежных регионов Анатолии, в результате которой порядка 200 тыс. греков бежали из страны. Логика режима вела к окончательной зачистке Анатолии от «инородного» населения — прежде всего, греков и армян, и главным препятствием на пути этих планов являлось глобальное общественное мнение и политическое давление.
10.12. Мировая война как национальное сопротивление глобализации массового общества
1914: Глобализация внутренних конфликтов
В 1914 г. не существовало ни одной обычной «объективной» предпосылки для начала большой европейской войны — непримиримых внешнеполитических противоречий, экономических разногласий, религиозных конфликтов. Периодические локальные кризисы в отношениях между «великими державами» разрешались компромиссом, более или менее удовлетворяющим все стороны — именно потому, что война рассматривалась как крайне нежелательный вариант. В сложных глобализованных экономиках война допускалась только против значительно более слабого противника, когда потенциальная выгода заведомо перевешивала риск человеческих и материальных потерь. Если прежде усиленное развитие армии в стране свидетельствовало о подготовке к войне, то теперь все государства одновременно совершенствовали свой арсенал, породив феномен «гонки вооружений». Технологическое совершенство оружия свидетельствовало о «современности» государства и, хотя грозило увеличением количества жертв в случае войны, вряд ли напрямую повышало вероятность ее развязывания, ведь и вероятный противник обладал сопоставимыми по разрушительности средствами. Скорее, гонка вооружений отражала желание государств заявить свои претензии на роль в новом глобальном мире единственным доступным государству начала ХХ в. способом — демонстрацией возможностей своих вооруженных сил.
Зато к лету 1914 г. все без исключения «великие державы» переживали глубокий внутренний кризис, преодоление которого требовало радикальной смены курса дальнейшего развития страны. По сути, речь шла о необходимости принять реальность глобального массового общества и приспособить к этой реальности политическую систему, экономику и социальное воображение. Ставшие уже привычными и удобными для исполнения государственной машиной «простые» решения — территориальный этнонационализм, экономический протекционизм и ограниченное избирательное право — нужно было менять на некие совершенно новые комплексные подходы, учитывающие сетевой и дискретный (прерывистый) характер современных мобильных наций, а также транснациональность производства и потребления продуктов. Во многих случаях выбор был столь радикальным, что грозил началом гражданской войны. Прежние политические элиты рисковали потерять столько, что для многих, впервые, риски международного военного конфликта оказывались меньшим злом, позволяющим разрубить гордиев узел внутренних проблем к своей выгоде.
Даже наиболее «современная» европейская страна — Великобритания, несмотря на свой беспримерный опыт глобализации (приобретенный в процессе поддержания равновесия в огромной империи), переживала острейший политический кризис. Спустя два десятилетия его назвали «странной смертью либеральной Англии» — по сути, «старой доброй Англии». В центре кризиса находилось то же противостояние между прогрессистским реформизмом и территориальным национализмом (казалось бы, относящимися к несоизмеримым сферам), что и в Германской, Габсбургской или Российской империях.
Типичные прогрессистские инициативы — суфражистское движение (за равные избирательные права для женщин) и профсоюзная борьба — вынудили правительство либеральной партии к уступкам. Внесенный в 1909 г. в парламент «народный бюджет» представлял собой попытку проведения масштабной социальной политики, которая натолкнулась на сопротивление палаты лордов. Последовал конституционный кризис, острота которого не была снята даже принятием специального закона 1911 г., лишающего палату лордов права вето. Консервативная часть верхней палаты проявила свое несогласие с правительственным курсом «асимметрично» — через бескомпромиссную поддержку ирландских юнионистов, противившихся предоставлению Ирландии самоуправления. После десятилетий внутренней полемики по поводу желательности достижения автономии от Лондона, в 1914 г. Ирландия оказалась на пороге открытой гражданской войны. Король Георг V проявил новаторскую инициативу и собрал специальную конференцию всех политических сил в Букингемском дворце 21 июля 1914 г., но после четырех дней обсуждений никакого компромисса достичь не удалось. Нельзя утверждать, что консерваторы, юнионисты или ирландские националисты желали вовлечения Великобритании в большую войну, но для каждой из этих разных группировок лозунг «война все спишет» открывал новые возможности. Заморозить провозглашение ирландского самоуправления или добиться полной независимости от Великобритании было много проще, когда война отвлекала все внимание правительства и населения.
Режим Третьей республики во Франции служил образцом национального государства, а главным направлением его внешней политики на протяжении десятилетий была подготовка реванша над Германией. Возвращение Эльзаса и Лотарингии, потерянных по итогам поражения во франко-прусской войне 1870–71 гг., превратилось в один из основополагающих лозунгов национального режима. И все же именно в начале 1910-х гг. во Франции усиливаются антивоенные настроения как часть нового социального воображения групповой солидарности.
Дело не в миролюбии прогрессистов, а в том, что в их логике война просто не воспринималась как эффективный инструмент достижения целей. В центре политической борьбы этого периода во Франции — как и везде — была попытка прогрессистских реформаторов навязать государству социальную политику, против чего возражали как традиционные либералы, так и консерваторы. Всеобщие выборы 10 мая 1914 г. резко изменили расстановку политических сил во Франции: левые партии получили почти 80% мест в парламенте, представительство правых партий сократилось до одной четверти от прежнего состава. Один из лидеров ведущей радикальной партии Жозеф Кайо (1863–1944) и лидер социалистов Жан Жорес (1859–1914) объединили усилия для выработки реформистской платформы, частью которой являлась борьба за разрядку в отношениях с Германией. В контексте французского национал-республиканизма именно так проявлялся пересмотр социального воображения территориального национализма. Не случайно, что одновременно Жорес выражал поддержку развитию местных языков (провансальского, баскского, бретонского) — вопреки принципиальной монокультурности французского республиканского национализма.
Нельзя утверждать, что консерваторы и традиционные республиканские националисты готовы были начать войну с Германией любой ценой. Но они рутинно использовали обвинения в национальном предательстве и связях с германским правительством в борьбе с политическими оппонентами, в первую очередь с Кайо и Жоресом. Кайо подвергся массированной травле в прессе, Жорес был убит 31 июля 1914 г. членом националистической Лиги молодых друзей Эльзаса и Лотарингии, студентом-археологом Раулем Вилленом. Расправа с внутренними политическими оппонентами оправдывалась логикой войны с Германией, которая в реальности еще не началась. Война — потенциальная или реальная — позволяла заморозить рабочее движение и сцементировать монокультурный французский национализм, откладывая социальные реформы на неопределенное время.
Как мы видели, та же логика действовала в Германской империи, где война позволяла прусской элите в правительстве кайзера Вильгельма II восстановить господствующую роль Пруссии, сломить федерализм и нейтрализовать реформистское социал-демократическое движение. В Габсбургской империи политика сторонников гомогенной территориальной этноконфессиональной нации (как в Австрии, так и в Венгрии) могла одержать верх над оппонентами только в условиях военной мобилизации и консолидации общества. Когда 28 июня 1914 г. сербскими террористами в Сараево был убит наследник престола Франц Фердинанд, очень многие и в Будапеште, и в Вене могли вздохнуть с облегчением: ни о каком пересмотре территориально-национального принципа устройства дуалистической монархии теперь не могло идти речи. А Османская империя не могла дождаться большой европейской войны, чтобы осуществить окончательное решение национального вопроса: «зачистить» центр империи от «инородцев», чтобы превратить его в основу турецкой территориальной этноконфессиональной нации.
После убийства наследника престола Австро-Венгрии прошло почти четыре недели, прежде чем империя предъявила ультиматум Сербскому королевству, которое обвинили в подготовке покушения, тем самым сделав первый шаг к войне. Затем свой шаг сделала Россия, потом Австро-Венгрия, Германия, Австро-Венгрия, вновь Россия, Германия, Франция, Великобритания. На обдумывание каждого шага отводилось один-два дня, и каждый раз принималось наиболее радикальное решение из возможных. Этот кризис мог разрешиться мирно, как и многие предыдущие — и несколько недель казалось, что так и произойдет. Германский император Вильгельм II вообще находился в плавании на своей яхте в течение трех недель, предшествовавших объявлению ультиматума Сербии. Но в июле 1914 г. всем ведущим европейским государствам показалось предпочтительнее воспользоваться поводом к войне. Точнее, влиятельные силы в каждой стране смогли склонить шаткий баланс в сторону войны, в которой союз «центральных держав» (Германии и Австро-Венгрии) и Османской империи противостоял союзу Франции, России и Великобритании.
Первая глобальная война
Началась первая мировая война (1914–1918), в ходе которой погибло 10 млн. военнослужащих и свыше 20 млн. получили увечья, пострадали миллионы гражданских лиц (7 млн. погибших) и на десятилетия оказался отброшен назад процесс глобализации массового общества. Еще до начала боевых действий возможную войну в разных странах называли «мировой», хотя точнее было бы назвать ее «глобальной». При всей важности операций в Северной Африке или на море, основной театр военных действий находился в Европе. Подлинно глобальное значение войне придавали не сражения крейсеров у берегов Южной Америки или участие колониальных войск в боях за Францию, и даже не масштаб человеческих и материальных жертв, а ее значение для универсальной культуры современности. Война стала и следствием глобализации, и попыткой защититься от нее, любой ценой восстановив деление общества на внутренне однородные этноконфессиональные нации, отторгающие всевозможных «чужаков».
Само начало войны явилось лучшим доказательством глобальности современного мира, когда одновременно разные страны, с разным политическим устройством и социально-экономической ситуацией, продемонстрировали удивительный параллелизм структурного кризиса. Главными и непосредственными разжигателями войны стали местные военные лидеры — по инерции XIX в., представлявшие наиболее консервативные аристократические круги, вдвойне враждебные массовому обществу и глобализации. Но и они руководствовались в большей степени идеологическими, чем военными соображениями, которые как раз должны были бы умерить их пыл.
К началу 1910-х гг. армейские стратеги всех европейских держав пришли к выводу, что развитие техники не позволяет рассчитывать на успех масштабных наступательных операций, и сосредоточились на планах обороны страны от вероятной агрессии соседей (а не подготовки собственной). Даже в Германии, чья репутация главного агрессора во многом связана с ее большей эффективностью по сравнению с другими, подготовленные после 1912 г. планы ведения войны предусматривали лишь оборонительные действия. Приняв решение начать войну вопреки всякой, в том числе собственной — военной — логике, германское руководство вынуждено было импровизировать и использовать план наступательной войны, разработанный предыдущим руководством Генерального штаба в 1906 г. и давно отвергнутый как нереалистичный.
Когда люди демонстративно поступают против логики, это значит, что они руководствуются некими «высшими» соображениями. Война была начата военными, готовившимися к обороне, и политиками, не имевшими представления о желательных конечных целях войны. Общественная дискуссия с выработкой требований к противнику развернулась в воюющих странах только через несколько недель после начала боевых действий. Зато сторонники войны с самого начала гарантированно достигали одной принципиальной цели. Вместо того чтобы приспосабливаться к реалиям массового общества, они подчинили его себе в своей стране: одели в солдатские шинели и ограничили законами военного времени. Первая мировая война стала войной массовых обществ — массовых наступлений и отступлений, массовых военных преступлений и массовых жертв. Как выяснилось, массовое общество невозможно было победить, но можно было проиграть войну, не сумев эффективно использовать его потенциал или потеряв контроль над ним.
С военной точки зрения первая мировая война представляла собой почти статичную машину по перемалыванию своих и чужих человеческих и материальных ресурсов. После первоначального прорыва германских войск на северо-востоке Франции, фронт стабилизировался на четыре года. Наступления, периодически предпринимаемые каждой из сторон, сдвигали линию фронта в ту или другую сторону на 5-50 км после многонедельных боев, стоивших обеим сторонам сотни тысяч жертв. Линия фронта была более подвижной на рубежах Российской империи. На западе в августе 1914 г. российская армия продвинулась на несколько сот километров вглубь Австро-Венгрии, заняв Восточную Галицию и Буковину. Год спустя, в результате «великого отступления», российская армия оставила и завоеванные территории, и польские губернии Российской империи. На Кавказском фронте в 1914 г. войска Османской империи заняли российскую Батумскую область, а в 1915 г. российская армия вернула контроль над границей и вторглась на территорию Османской империи на 100-150 км. В масштабах Северной Евразии все это были незначительные расстояния. Даже потеря польских губерний с их развитой промышленностью нанесла в первую очередь сильный психологический удар по российскому обществу, поскольку с военной точки зрения «выравнивание фронта» помогло стабилизировать оборону. По большому счету, даже такие колебания линии фронта сами по себе не имели решающего стратегического значения для исхода войны.
Зато чем дольше шла война, тем яснее становилось всем ее участникам, что ключ к спасению страны находится в собственном тылу (что лишний раз указывало на истинный характер врага, против которого велась война). Применение новых эффектных видов оружия — отравляющих газов (1915), танков (1916), нового поколения самолетов (всего за годы войны было построено около 220 тыс. аэропланов) — не могло переломить положения на фронте. Зато различия в подходах стран к организации «домашнего фронта» имели куда более весомые последствия.
Все воюющие стороны столкнулись с необходимостью мобилизации экономики и общества в самом прямом смысле слова. Великобритания сумела добиться этого ценой минимального принуждения. Даже система обязательного воинского призыва была введена лишь в январе 1916 г. — до этого потребности армии покрывались добровольцами и контингентом колоний. Самоцензура издателей газет играла большую роль, чем военная цензура в ограничении распространения информации. Профсоюзы добровольно отказались от выдвижения новых требований к работодателям. С принятием Закона о вооружениях 1915 г. правительство получило право реквизировать собственность (здания, средства транспорта) для военных нужд. Но главным фактором экономической мобилизации стало создание военно-промышленного комплекса как сложной организации по координации усилий и разделению труда, когда частный бизнес встраивался в государственную систему военных заказов. В 1914 г. Управление военных контрактов в правительстве имело 20 служащих, а в 1918 г. его административный штат вырос до 65 тыс. человек, координируя работу 3.5 миллионов рабочих оборонных предприятий.
Во Франции ситуация была сложнее — в конце концов, боевые действия велись на ее территории, в нескольких десятках километров от столицы. В целом страна сохранила демократический характер правления, хотя цензура действовала агрессивнее, чем в Великобритании, а политические разногласия приводили к преследованию оппонентов. Жозеф Кайо был арестован в 1917 г. за измену — призывы к мирным переговорам с противником. Введенный благодаря его усилиям как министра финансов в 1916 г. подоходный налог, вместе с остальными налогами, покрывал лишь пятую часть военных расходов. Поэтому правительство вынуждено было прибегнуть к займам и печатанию денег, что неизбежно вызывало рост инфляции: к августу 1917 г. цены превышали довоенные на 80%. Пришлось вводить пайковое ограничение продовольствия (1917) и установить максимальные цены на продукты (1918), но перебоев снабжения и голода страна не знала.
Германия пошла по совершенно иному пути. К 1916 г. в стране была установлена фактическая диктатура военного командования. Экономика была не просто подчинена нуждам войны, но фактически превращена в трудовую армию: рабочие в возрасте от 17 до 60 лет объявлялись мобилизованными, подчинялись воинской дисциплине, не могли покидать свое место работы. Предприятия, не занятые напрямую военными поставками, могли закрываться правительством, их рабочие отправлялись на фронт. Вводилось жесткое нормирование продовольствия. «Военный социализм» (Kriegssozializmus) стал новой доминирующей идеологией в обществе, шагом в направлении подлинного «национального социализма». Сращивание промышленности и государства рассматривалось не в качестве временной вынужденной меры, а как более совершенная форма корпоративной экономики. Невзирая на эти меры, уже зимой 1916–1917 г. начался голод, смертность гражданского населения выросла почти на полмиллиона человек по сравнению с мирным временем. Предметы первой необходимости (включая мыло) и продовольствие стали дефицитом, сельскохозяйственное производство резко сократилось. Военные добились беспрецедентного уровня производства для нужд армии (не превзойденного более в ХХ в. Германией) ценой полного порабощения общества и экономики.
Российская империя проводила в тылу политику, напоминающую одновременно и германский, и британский сценарий. Как и в Германии, высшее военное руководство подталкивало страну к войне, одновременно понимая малоперспективность противостояния Германии. Среди высокопоставленных военных были даже такие (например, генерал Алексей Куропатки), кто накануне войны доказывал бессмысленность захвата Константинополя и проливов из Черного в Средиземное море — главной политической цели российской стороны, объединявшей национал-империалистов и современных русских националистов. Однако в результате реформ, последовавших по итогам поражения в русско-японской войне 1904–1905 гг., изменилась сама идеология армии. Это изменение проявилось в заявлениях высшего командования, в процедуре отбора призывников, в осмыслении статистики населения предполагаемых театров боевых действий. На место концепции армии как модели империи (отражающей ее человеческое разнообразие и находящей ему лучшее применение) пришло восприятие армии как главной силы русской имперской нации, противостоящей внутренним и внешним национальным врагам.
Как и для вполне миролюбивого Николая II, для российской военщины отказ от поддержки далекой Сербии в июле 1914 г. означал крах проекта славянского национализма как основы и оправдания русского имперского национализма. Национал-империализм, отказывающий нации в праве на собственную субъектность (самоопределение и самоуправление) и воспринимающий ее лишь как «единое тело», возможен только в рамках расового и расистского социального воображения. «Славянское единство» было важно, прежде всего, во внутренней политике как аргумент, позволяющий ограничивать демократический потенциал национализма, подменяя идею практического гражданского равенства иллюзорной расовой солидарностью. Расистский национализм обозначил предел, до которого старый «до-глобальный» национальный проект был способен освоить реальность массового общества. В нем проявлялось социальное воображение нации как самоизолированного непроницаемыми территориальными и культурными границами и признающего полноправными членами лишь «свою» этноконфесиональную группу. Этот национализм и стал главной движущей силой в развязывании войны против глобализации. Именно расистский национализм являлся господствующей идеологией военной диктатуры, установившейся во время войны в Османской и Германской империях и отчасти преуспевшей в Российской империи.
10.13. Сценарии военной мобилизации Российской империи
Проект военной диктатуры
После начала войны российская армия начала претворять в жизнь свой социальный идеал, получив неограниченную власть над мирным населением на огромной территории — как оккупированной, так и собственной тыловой. Европейская часть империи была разделена на «театр военных действий» и «внутренние области». Власть гражданской администрации (даже Совета министров) не распространялась на прифронтовую зону, где всеми сферами жизни бесконтрольно распоряжалось военное правительство — Ставка Верховного главнокомандующего, великого князя Николая Николаевича, дяди императора Николая II. Сам институт «ставки» был введен лишь накануне, новым «Положением о полевом управлении войск в военное время» 1914 г. — никакого отдельного «военного правительства» со своими управлениями-«министерствами» в Российской империи прежде не существовало. Первоначальные пять управлений штаба впоследствии разрослись до 15 управлений и трех канцелярий. К концу 1914 г. один лишь Юго-Западный Фронт контролировал тыловую зону глубиной 800 км и шириной около 500 км. Фронтовое управление располагалось в Киеве, фактически подчинив себе все украинские губернии.
К театру военных действий оказались отнесены все «окраинные» земли, а «внутренние» области приблизительно совпадали с территорией Московского царства середины XVII в. «Окраинные» балтийские, украинские и кавказские губернии давно были интегрированы в состав Российской империи, но «империя» являлась пустым звуком для национал-империалистов вроде Николая II, великого князя Николая Николаевича (1856–1929), начальника Генерального штаба в 1914 г. Николая Янушкевича (1868–1918), его заместителя генерала Юрия Данилова (1866–1937) и многих других военных, приобщившихся к современным социальным теориям в ходе обучения в академии Генерального штаба в конце 1890-х — начале 1900-х гг. Старые сословные категории и современные правовые нормы воспринимались ими как абстрактные фикции, а реальной и подлинно научной основой статистики и политики населения считались «этнографические нации». Объявив задачу защиты тыла войск от «подозрительных элементов», армия перешла к широкомасштабной этнической чистке «окраин», добиваясь (в зависимости от местных демографических условий) их русификации, расовой «славянской» чистоты или, хотя бы, доминирования «русской власти».
С самого начала объектом чисток стали немцы — подданные Российской империи. Только с расовой точки зрения можно было объединить в единую категорию земледельцев-колонистов, переселившихся в Россию в начале XIX в., и городских жителей Риги или Варшавы, чьи предки жили на этой территории почти тысячу лет, задолго до появления не только Германской империи, но и немецких государств, из которых она сформировалась. Система чисток создавалась спонтанно, одновременно в виде импровизационных инициатив местного командования корпусами и даже дивизиями и разработки единой идеологии и стратегии высшими чинами Штаба Верховного Главнокомандующего. В начале сентября 1914 г. военные потребовали от губернатора Сувалкской губернии (половина населения — литовцы, четверть — поляки) выселить «немецких колонистов» с территории, непосредственно занятой армейскими частями. Но вскоре (30 ноября) было принято решение об очищении всей территории губернии от немцев — фермеров и горожан, включая государственных служащих (34 тыс. человек). В декабре появились приказы о высылке из всех «польских» губерний немецких фермеров-мужчин во внутренние районы России, затем о высылке немецких колонистов из-под Одессы и украинских губерний. Штундисты-пацифисты не могли представлять никакой практической угрозы российской армии, но их инаковость, осмысливавшаяся в 1890-х гг. как «ненормальность», теперь воспринималась как прямая враждебность.
Глобальная убежденность военных в необходимости этнических чисток не подкреплялась заранее разработанным планом и даже общими принципами: высылать ли только мужчин или семьи целиком, делать ли исключение для семей призванных на войну солдат и офицеров. Не была отработана логистика высылки, от выделения транспорта до вопросов оплаты дороги. Поэтому реальные масштабы депортаций отличались от планов и не до конца известны. Согласно сохранившейся статистике по Волынской губернии, из нее к середине 1916 г. выслали почти 116 тыс. немецких колонистов. Отрывочные сведения по другим губерниям позволяют говорить, по крайней мере, о 20 тыс. немцев-колонистов, высланных к концу 1915 г. из Бессарабской губернии, столько же из Подольской, 10 тыс. из Киевской (отстоявшей от линии фронта на сотни километров) и т.п. Те, кто оставался на месте, подвергались риску произвольной расправы — по недоразумению, в истерии шпиономании или в результате доноса недоброжелателей. Сам начальник Генерального штаба Янушкевич распространял слухи про немецких колонистов, световыми сигналами по ночам передававших расположение российских войск неприятелю, и приказывал вешать пойманных на месте, без суда.
Не менее враждебным и нежелательным элементом с точки зрения армейского командования были евреи, однако систематические меры против них начали приниматься только в конце января 1915 г. Первая зачистка территории вокруг Варшавы от евреев привела к наплыву в город порядка 80 тыс. депортированных. Новый толчок антиеврейской политике придало «великое отступление» российской армии, начавшееся весной 1915 г. В апреле-мае из Курляндской губернии были депортированы свыше 26 тыс. евреев (98%). За две недели мая свыше 150 тыс. евреев депортировали из Ковенской губернии. Войска отступали на широком фронте под ударами противника, железные дороги не справлялись с подвозом снаряжения и эвакуацией раненых, но командование считало более важной задачу этнической чистки собственной территории от сотен тысяч немецких и еврейских подданных России.
Массовые депортации евреев были приостановлены из-за того, что поток высылаемых евреев устремился во внутренние области страны, фактически сломив ограничения черты оседлости и угрожая расовой чистоте «русских» губерний. В начале мая 1915 г. было принято решение оставлять евреев на месте, но в качестве официальной политики ввели институт заложников. От каждой еврейской общины брали в заложники пять-шесть наиболее уважаемых членов, включая раввинов. Населению было объявлено, что в случае враждебного поведения (что бы ни подразумевалось под этим), заложники будут повешены. Сами заложники давали подписку в том, что они предупреждены об этой перспективе. Известно, что впервые систематически стали брать евреев в заложники после вторжения российской армии в Галицию осенью 1914 г., однако тогда речь шла примерно о 400 заложниках. В конце мая 1915 г. в полосе контроля лишь двух армий удерживалось почти 5 тыс. еврейских заложников, а их общая численность по всему фронту, проходящему по территориям с высокой долей еврейского населения, должна была насчитывать десятки тысяч человек. В случае отступления заложники высылались под конвоем в тюрьмы внутренних губерний. Вскоре эта практика распространилась по всей подконтрольной армии территории. Летом 1915 гг. евреев начали брать в заложники даже в совершенно мирных Полтавской и Екатеринославской губерниях.
Логичным следующим шагом стал бы прямой геноцид еврейского населения, коль скоро депортировать евреев, в отличие от немцев-колонистов, вглубь страны военные больше не хотели. По сути, этот шаг и был сделан военным режимом великого князя Николая Николаевича и генерала Янушкевича. Летом 1915 г. в Галиции в течение нескольких недель евреев вынуждали переходить через линию фронта, в расположение австро-венгерской армии. А затем, когда началось масштабное бегство российской армии из польских губерний и Галиции, был издан приказ о проведении тактики выжженной земли. Уничтожалась собственность крестьян, а сами они угонялись в тыл, в первую очередь — мужчины призывного возраста. Таким образом военные спасали от врага русское «национальное тело» (русинских, украинских, белорусских крестьян) и старались не отдать в руки противнику материальные и людские ресурсы. Только евреям было приказано оставаться на месте и дожидаться врага. Фактически, они официально объявлялись «врагами народа». В атмосфере деморализации, когда крестьяне теряли посевы и скот, когда сжигались их дома, а военные отступали, начались массовые еврейские погромы и грабежи имущества, в которых принимали участие и местные жители, и армия (в первую очередь, казаки). Официальный безоружный враг, сохраняющий свое имущество на фоне разорения соседей, был обречен стать жертвой поощряемой властями агрессии.
Судьба крестьян, угоняемых вглубь России после того, как уничтожался их урожай, сжигались дома и инвентарь, отбирался скот, была не лучше. С июля 1915 г. по январь 1916 г. во внутренние губернии добрались более 3 млн. беженцев с «западных окраин», которых точнее было бы причислить к депортированным. Хотя для российской военщины они были «своими», а не «чужаками» (подобно немцам или евреям), их положение мало чем отличалось от положения «подозрительных элементов». Еще полмиллиона беженцев скопились на Кавказе — в первую очередь, армяне, спасавшиеся от геноцида в Османской империи. Впрочем, и здесь порядка 10 тыс. человек составляли аджарцы, депортированные из Батумского округа по подозрению в пособничестве османской армии во время краткой оккупации осенью 1914 г.
Российские войска занимались этническими чистками на завоеванных территориях Османской империи и в Персии, часть которой находилась под контролем Великобритании и России для обеспечения транспортного сообщения. Этому способствовало назначение в августе 1915 г. наместником на Кавказе великого князя Николая Николаевича, который взял с собой и генерала Янушкевича. Однако масштабы и характер чисток в Закавказье пока малоизучены, существуют лишь разрозненные свидетельства очевидцев. На оккупированной территории было создано генерал-губернаторство Западной Армении (см. карту), администрация которого разрабатывала планы массовых депортаций для сегрегации населения, создания изолированных зон компактного проживания армян, курдов и турок. На практике больший эффект имели спонтанные этнические чистки, направленные против курдов и мусульман, проводившиеся армянскими добровольческими формированиями в составе российской армии и казаками.
Массовыми военными преступлениями против мирного населения отметились и германская, и австро-венгерская армия. Однако их действия были вызваны, в первую очередь, антипартизанскими мерами. Так, осенью 1914 г., в ходе вторжения в Бельгию, германские войска целенаправленно убили свыше 6 тыс. гражданских лиц как «диверсантов» и их пособников, а общее число жертв среди мирного населения Бельгии за время войны достигло 24 тыс. человек. Однако лишь военная диктатура Османской империи занималась масштабным геноцидом собственных граждан (прежде всего, армян), и только военная диктатура Ставки российского Верховного главнокомандующего была всерьез озабочена социальной инженерией — превращением украинцев и русинов в «истинно русских».
Девять месяцев оккупации Восточной Галиции были отмечены последовательными усилиями новой администрации по проведению массовой русификации, которая не имела аналогов в истории самой Российской империи. В середине сентября 1914 г. в регионе с пятимиллионным населением (на две трети украинским и русинским) были закрыты все школы. Местные учителя были отправлены на курсы русского языка, им также преподавали основы русской литературы и истории. Униатской церкви, к которой принадлежало большинство населения, объявили войну. Митрополит Андрей (Роман) Шептицкий был заключен в суздальский монастырь, сотни униатских священников подверглись депортации, а на их место в униатские приходы прислали православных священников из России. Их задачей было добиться перехода прихожан в православие. Массовые аресты представителей украинской культурной и политической элиты сопровождались закрытием всех украинских книжных лавок и запретом «зарубежных» книг на украинском — то есть всех, изданных в Галиции. Даже на пике русификаторских кампаний в Западном крае после польских восстаний 1830 и 1863 гг. не допускались столь радикальные меры и репрессии, поскольку они нарушали государственные законы и подрывали сословный строй империи. Однако русские национал-империалисты, действующие под эгидой армейской диктатуры, не были скованы этими формальностями. Итогом российского присутствия в Галиции стала полная компрометация существовавших в регионе сильных русофильских настроений и ожесточение всех категорий населения — и тех, кого считали «своими», и тех, к кому относились как к врагам.
Наряду с весьма скромными военными достижениями по итогам первых двух лет войны, деятельность армейской диктатуры в тылу привела к полной дестабилизации общества. Около 5 миллионов депортированных и добровольных беженцев создали колоссальные проблемы гражданской администрации. Из производителей продуктов они превратились в потребителей бюджетных субсидий. Еврейская черта оседлости фактически была отменена, но связанные с нею законы сохраняли силу. На этом фоне 15 июня 1916 г. начальник штаба Верховного главнокомандующего (которым в августе 1915 г. стал сам Николай II) генерал Михаил Алексеев (1857–1918) направил императору докладную записку, в которой предложил ввести пост «верховного министра государственной обороны». Этому сверхминистру должны были подчиняться все остальные министры и все государственные и общественные учреждения тыла. По сути, речь шла об установлении военной диктатуры по германскому образцу в масштабах всей страны, с перспективой перевода общества на рельсы «военного социализма». Николай II не поддержал этот проект. Во-первых, он не допускал усиления чьей-то власти за свой счет, а во-вторых, военные доказали катастрофичность своих административных способностей.
Реализация довоенных проектов национальной солидарности
Параллельно с «германским» сценарием принудительной тыловой мобилизации, в России реализовался и франко-британский вариант добровольной самомобилизации и самоорганизации нации. Точнее, можно говорить о мобилизации нескольких национальных идеологий: общеимперского и монархического патриотизма, русского «славянского» национализма, гражданской солидарности. Разные свидетельства сходятся в том, что объявление о вступлении России в войну 2 августа (20 июля) 1914 г. было встречено с энтузиазмом разными слоями имперского общества, в том числе весьма трезвомыслящими людьми. Почти немедленно пресса окрестила войну «Второй Отечественной», были попытки даже писать о ней как о «Великой отечественной» войне, но этот вариант, видимо, по-русски звучал слишком уж пафосно (в отличие от его английского аналога, The Great War). Война началась с вторжения российской армии на территорию соседних стран (Германии и Австро-Венгрии), что не слишком соответствовало пропагандируемому образу «оборонительной войны» и мало напоминало начало кампании 1812 года. Тем не менее, очевидно, что главную роль в формировании восприятия войны сыграла «юбилеемания» предшествующих лет, в особенности пышные торжества, приуроченные к столетию войны 1812 г. и трехсотлетию династии Романовых. Изобретенное прошлое, окончательно отчужденное от исторических реалий, было «узнано» в новой, не имевшей прецедентов войне.
В рамках этого архаичного сценария «отечественной войны» считалось естественным сплотиться вокруг монарха и ожидать победы правого дела. Забастовки рабочих почти полностью сошли на нет. Государственную Думу созвали на единственное заседание 8 августа (26 июля) 1914 г. Депутаты проголосовали за выделение средств на войну и были распущены по домам. Затем их собрали на два дня в начале 1915 г. и сразу после утверждения бюджета распустили. Особого возмущения и протестов такое демонстративное игнорирование парламента не вызвало даже у депутатов: согласно «юбилейной» картине мира, Александр I изгнал Великую армию Наполеона из пределов страны при помощи Провидения и преданности народа, никакие депутаты парламента ему не помогали.
За два года (до января 1916 г.) премьерства семидесятипятилетнего бюрократа старой формации Ивана Горемыкина Дума провела меньше ста заседаний, чем в полной мере воспользовалось правительство, приняв 384 закона в обход парламента. Характерно, что за те почти два с половиной года, что во главе Совета министров стоял предшественник Горемыкина, Владимир Коковцев, правительство ни разу не воспользовалось статьей 87 Основных законов Российской империи, разрешавшей принятие новых законов без обсуждения и одобрения Думой. После политического кризиса 1911 г. этот вариант законотворчества считался скандально скомпрометированным, однако начало войны предоставило консерваторам возможность безнаказанно игнорировать парламент.
Впрочем, некоторые сокровенные мечты с началом войны удалось реализовать и русским националистам, и прогрессистам. Оккупация Галиции и Буковины в сентябре 1914 г. предоставила первым возможность провести самый радикальный и масштабный эксперимент по насаждению этноконфессиональной русскости в российской истории (о чем упоминалось выше). Прогрессисты же добились в России того, к чему долгие годы безуспешно стремились в других странах: введенный на период мобилизации запрет продажи крепких напитков уже через месяц был продлен до конца войны. Сначала речь шла о воспрещении розничной продажи (вне ресторанов) алкоголя крепче 16 градусов (пива — крепче 3,7 градусов). Но спустя полтора месяца правительство разрешило ликвидировать любую продажу спиртного по ходатайству местных земских собраний и городских дум.
Эти меры стали результатом десятилетней антиалкогольной кампании, реальным двигателем которой были российские прогрессисты. Для них (как и для их американских коллег) движение за трезвость являлось частью широкой программы морального совершенствования общества. Борьба с пьянством стала важным лозунгом уже в III Думе, где ее возглавил самарский городской голова, член фракции октябристов Михаил Челышов (1866–1915). В апреле 1908 г. почти половина депутатов Думы (192 человека) внесли законопроект о полном закрытии питейных заведений в сельской местности. Зимой 1909–1910 гг. в Петербурге прошел масштабный Первый всероссийский съезд по борьбе с пьянством. В течение недели 543 участника — врачи, юристы, активисты и публицисты социал-демократической ориентации — обсуждали вред алкоголизма и вырабатывали «научно обоснованные» меры борьбы с ним. В январе 1911 г. в Петербурге был учрежден Всероссийский трудовой союз христиан-трезвенников под председательством президента Академии Наук, великого князя Константина Константиновича. Само название организации отражало триединый характер современного реформизма, в котором социально-экономический, морально-нравственный и бытовой аспекты неразрывно переплетались (что объясняет демонстративно «протестантское» звучание названия организации, несмотря на почти исключительно православный состав членов Союза). Затем к трезвенническому движению подключились кооперативы, для которых запрет алкоголя был еще и важным инструментом конкуренции с частными лавками. К 1914 г. введение сухого закона уже серьезно обсуждалось в правительственных кругах под давлением широкой коалиции разных течений прогрессистского движения. Чрезвычайная ситуация войны лишь облегчила введение чрезвычайных мер.
Спустя полгода после открытия боевых действий общественная ситуация в России изменилась. Начатая без всякой прагматичной цели, война постепенно формировала новую реальность с собственной логикой, не прощающую абстрактных фантазий. Идеализированная имперская архаика и национал-империализм стали первыми жертвами войны как «момента истины». Отправленная в августе 1914 г. почти в полном составе на фронт гвардия понесла тяжелейшие потери, причем первое же большое сражение при Мазурских озерах в Восточной Пруссии мало напоминало блистательную битву под Кульмом ровно 101 год назад (во всяком случае, как ее описывали на юбилейных торжествах в 1913 г.). Вместо героической рубки в массовых кавалерийских сшибках, кирасиры и гусары совершали бесконечные переходы, их перемалывала бьющая с закрытых позиций германская артиллерия. В контактный бой вступали, в основном, дозорные разъезды, и героическая гибель в этих схватках, напоминающих былые времена, зачастую проходила без свидетелей. Гибель на войне массового общества оказалась анонимной и предельно механизированной.
О том, насколько контрпродуктивной с точки зрения стратегических интересов России оказалась масштабная кампания по русификации оккупированных Буковины и Галиции, уже говорилось выше. Но и претворение в жизнь прогрессистского идеала «трезвой нации» имело самые роковые последствия. В «малоденежной» экономике России, чья финансовая система была жестко привязана к наличному золотому запасу, главным источником пополнения бюджета были косвенные налоги, а денежная масса в расчете на жителя была почти в пять раз меньше показателей Германии и США и в девять раз — Франции (см. Главу 8). При этом государственная монополия на водку вместе со сборами с продаж прочего алкоголя обеспечивала треть бюджетных поступлений. Ключевую роль этой статье доходов придавала даже не сама сумма (превысившая к 1914 г. миллиард рублей), а функция главного «насоса», перекачивающего свободную наличность в экономике, в которой алкоголь являлся основным массовым «товаром народного потребления».
Введение сухого закона — на фоне резкого роста военных расходов и сокращения на 17–18% поступлений от железных дорог и таможен — резко дестабилизировало финансы страны. Уже бюджет 1914 г. был сведен с огромным дефицитом. Весь объем наличных в стране был меньше оставшихся непокрытыми расходов. Но и имеющаяся денежная масса оседала на руках населения, предпочитающего откладывать сбережения на черный день. Результатом остановки алкогольного «насоса» стало ускорение маховика инфляции: государство вынуждено было занимать за границей и печатать еще больше денег, чем требовалось «математически», а население, особенно в деревнях, готово было переплачивать за товары, имеющие долговременную ценность.
За 1915 г. цены в России выросли в среднем на треть, за 1916 г. цены удвоились, что было особенно тяжелым ударом для всех категорий государственных служащих. Их жалование регулировалось штатными расписаниями, утверждавшимися императором и Государственной Думой (как правило, еще в прошлом веке), в то время как зарплата в частном секторе и на производстве, включая рабочих (особенно оборонных предприятий) росла пропорционально дороговизне. Так, жалованье университетских преподавателей, которое считалось недостаточным и до войны, было повышено лишь летом 1916 г. — на 50%, хотя цены к этому времени выросли в два с половиной раза, а к концу 1916 г. — в четыре раза по сравнению с довоенным уровнем. Служба государству обрекала на реальную нужду — особенно гражданских чиновников и семьи призванных на фронт нижних чинов. Введение сухого закона, подтолкнувшее рост инфляции, оказалось чрезвычайно несвоевременной и разрушительной мерой.
Проект самоорганизованной общественности
Весной 1915 г. война как «момент истины» массового общества показала губительность фантазий отдельных бескомпромиссных «национальных» утопий в Российской империи, которые, собственно, и привели к войне. Великое отступление стало результатом целого комплекса факторов: невысокой стратегической культуры российского армейского руководства, низкой мотивированности войск, неэффективной системы снабжения. Фактически, наглядно была продемонстрирована неспособность режима Николая II обеспечить военные усилия в одиночку, игнорируя парламент, и неспособность прогрессистской общественности добиться своих целей, игнорируя реформу государственных институтов. Перед лицом угрозы поражения в войне лидеры разных национальных проектов — монархически-имперского, националистического, прогрессистского — продемонстрировали готовность и способность к компромиссу. Причем платформой для компромисса стали форматы самоорганизации, предложенные прогрессистской общественностью.
Конкретной причиной краха фронта весной 1915 г. был объявлен «снарядный голод»: по свидетельствам военных и журналистов, российские батареи экономили на каждом залпе, в то время как германская и австро-венгерская артиллерия крупных и средних калибров утюжила российские окопы, не переставая. Нехватка снарядов была следствием многократного превышения реальной потребности военного времени по сравнению с довоенными нормативами и имеющимися запасами, но также и целого комплекса системных проблем: дезорганизации железнодорожного снабжения, недостаточной производительности военных заводов, дефицита взрывчатых веществ и неразвитости технологий их производства (прежде всего, тротила). Для решения этих проблем требовался перевод всей экономики страны на военные рельсы и вовлечение всего населения в работу на победу — то есть мобилизация массового общества, которой власти изо всех сил пытались избежать до войны.
В конце мая 1915 г., на фоне отступления российской армии от занятой в марте с таким трудом крепости Перемышль (Пшемысль), в Петрограде открылся 9-й съезд представителей промышленности и торговли. На нем была сформулирована экономическая и политическая программа социально-экономической мобилизации: установление взаимодействия, с одной стороны, промышленников с земствами, с другой — с военными и правительством в рамках нового координирующего органа, военно-промышленных комитетов (ВПК). Спустя два месяца (25 июля) состоялся первый съезд ВПК, фактически учредивший новую структуру во главе с центральным комитетом, которому уже через полгода подчинялись более 220 местных ВПК. Их функцией было содействие в планомерном распределении правительственных заказов среди частных предприятий (особенно небольших), обеспечение контроля производства и ценообразования. С 1916 г. в состав комитетов (прежде всего, Центрального и Петроградского) входили рабочие, и ВПК взяли на себя функцию посредника при решении трудовых конфликтов. На первом же съезде ВПК было высказано требование учредить «правительство доверия» — фактически, сформированное Государственной Думой, на чем настаивали ее депутаты с 1906 г.
За две недели до открытия первого съезда ВПК, 10 июля 1915 г., был создан Главный по снабжению армии комитет Всероссийских земского и городского союзов — Земгор, который взял на себя военную мобилизацию общества во всех сферах. Заявленной задачей Земгора было вовлечение в работу на оборону кустарной промышленности (не охваченной ВПК), но эта земская суперструктура занималась также заготовкой продовольствия, организацией госпиталей и уходом за ранеными, пошивом формы, образовательными программами. Всероссийский союз земств и Всероссийский союз городов, которые слились в Земгор в июле 1915 г., сами были созданы менее чем годом ранее, вскоре после начала войны. Прежде, на протяжении всей полувековой истории земств, правительство категорически противилось созданию общеземской организации, однако выяснившаяся с первых дней войны полная неготовность справиться с колоссальным потоком раненых не оставляла выбора.
Объединения земств и городских управ были разрешены через несколько недель после начала войны как союзы «помощи больным и раненым воинам» и при условии отказа от всякой политики. Действительно, земский и городской союзы немедленно организовали систему медицинской помощи: уже к концу 1914 г. она включала 155 тысяч коек в госпиталях и 40 санитарных поездов для доставки раненых с фронта. Однако прогрессистская «аполитичная политика» проявляла себя не в идеологических лозунгах, а в практических шагах по реформированию социальной сферы. Вскоре земский и городской союзы взяли на себя дополнительные функции, уточняющую часть своего формального наименования («помощи больным и раненым воинам») перестали упоминать, а с созданием Земгора и окончательно превратились в параллельную государственную структуру. Главному комитету Земгора подчинялись специализированные отделы и разветвленный аппарат на местах, доходящий до уровня уезда.
19 июля (1 августа) 1915 г. — в момент между созданием Земгора и образованием ВПК — открылась четвертая сессия IV Государственной Думы, первая «регулярная» с начала войны. Настрой депутатов, прибывших на сессию, представлял резкий контраст с атмосферой деморализации и демобилизации довоенных заседаний. Вместо фракционной изоляции и политической поляризации, депутаты демонстрировали готовность к взаимодействию, сплотившись вокруг требования предоставить парламенту ведущую роль в военной мобилизации страны. Было выдвинуто требование формирования правительства «доверия» — то есть, фактически, утвержденного Государственной Думой. В результате двухнедельных переговоров, к 24 августа был сформирован межфракционный Прогрессивный блок, в который вступили 236 депутатов (53% от списочного состава, почти 60% от присутствовавших). Кадеты и прогрессисты составили менее половины блока, большинство принадлежало октябристам и националистам, чье сотрудничество с «левыми» представлялось прежде невероятным. Война продемонстрировала фундаментальное единство «общественности» как последней общеимперской структуры, способной поддерживать пространство солидарности и компромисса, несмотря на острые политические разногласия.
Характерно, что общей платформой для консолидации политической нации общественности стала именно прогрессистская программа — наиболее современная, транснациональная и позволяющая сглаживать конфликты разных партийных доктрин. Война, развязанная с целью подчинения массового общества правящему режиму и противодействия тенденциям глобализации, оказалась «моментом истины», проявившим границы структурного противостояния. Для победы над противником, выбранным буквально произвольно (вопреки рациональным аргументам), все равно пришлось пойти на расширение глобальной взаимозависимости — как экономической, так и политической, — да еще и с наиболее демократическими странами, с прогрессистскими правящими режимами: Францией, Великобританией и США. Все равно пришлось допустить консолидацию прогрессистской общественности, да еще подпитывать созданные ею структуры бюджетными вливаниями на многие сотни миллионов рублей. Все равно Государственная Дума, после всех «бесстыжих» манипуляций с избирательным законодательством и процедурой выборов, вернулась к изначальному требованию первого состава 1906 г.: предоставление ей права формирования правительства.
10.14. Ставка на авторитаризм и начало демонтажа имперского государства и общества
Война как момент истины: выбор пути
Важно подчеркнуть, что ничего «объективно предрешенного» в этом развитии событий не было. Земгор и ВПК не были даже особенно эффективны в переводе экономики на военные рельсы, сумев выполнить лишь 30–50% от оплаченных правительством заказов. В конце концов, сотрудники земской суперструктуры являлись выборными депутатами местного самоуправления или представителями «третьего элемента» без особых организационных навыков и культуры государственной службы, а промышленники успешно использовали ВПК для лоббирования собственных коммерческих интересов. Можно было вообще не созывать Думу и не разрешать деятельность Земгора, который не имел официального юридического статуса с точки зрения государства — но тогда оставалось лишь срочно выйти из войны, заодно обрубив все связи с союзниками. Потому что первая мировая война, которую сразу охарактеризовали как «тотальную войну», была столкновением массовых обществ по поводу будущего массового общества и глобализации. Исход войны решался в тылу, а не на фронте, и зависел он от способности к мобилизации массового общества и удержанию его единства. Поддержание солидарности и взаимного доверия и обеспечивалось созданными «общественными» структурами самоорганизации.
Императорский режим, представленный на местах губернаторами, полицией и воинскими начальниками, был неспособен не только обеспечить эвакуацию, медицинское обслуживание и реабилитацию раненых, но и убедить население пойти на жертвы во имя победы. Раненые — это не просто досадное, хотя и неизбежное, следствие ведения боевых действий (с точки зрения генералов). Это наглядное воплощение жертв, понесенных населением страны, и от того, какова судьба призванного на войну и получившего на ней ранение члена семьи или соседа, зависит отношение общества к власти, ведущей войну. С радостью передав земствам «второстепенную», негероическую и хлопотную заботу о раненых, государство передало им и высшую легитимность в глазах граждан. Казенные заводы были эффективнее частных фабрик и кустарей в производстве снарядов, чиновники оборонного ведомства были лучшими администраторами и организаторами, чем добровольные члены ВПК, но их было ничтожно мало на огромную страну, они не имели личных контактов на местах, не могли решать трудовые конфликты с рабочими.
Если бы режим Николая II мог обойтись без Земгора, ВПК и Государственной Думы — он бы не преминул воспользоваться возможностью установить монополию государства во внутренней политике (как, очевидно, и планировалось изначально). В конце концов, ничего уникально российского в «снарядном голоде» начала 1915 г. не было, все страны недооценивали масштабы потребностей грядущей тотальной войны. В Великобритании «снарядный кризис» разразился в начале мая 1915 г., лишь немногим позднее, чем в России, и там его решили вовсе не за счет общественной инициативы. Напротив, как уже упоминалось выше, в Великобритании пошли на фактическую национализацию предприятий, работающих на оборону, по Закону о вооружениях от 15 августа 1915 г. и превращение правительственного Управления военных контрактов в суперструктуру с 65 тыс. сотрудников.
Другое дело, что за государственной интервенцией в экономику в Британии также стояла самомобилизация общества — только, в отличие от России, это общество было глубоко интегрировано в институты управления. Установлению государственного контроля над экономикой предшествовал политический кризис, который привел к формированию парламентом коалиционного правительства и созданию специального министерства вооружений. Несмотря на существенные ограничения избирательного законодательства, парламент Великобритании служил достаточно представительным органом политической нации, в то же время фактически являясь высшим органом государственной власти. Британская прогрессистская «общественность» пользовалась институтами парламентской политики и таким образом становилась частью государственных военных усилий.
Российское государство также приобретало все больше прогрессистских кадров, особенно на технических должностях среднего уровня. Но «конституция» его была такова, что исполнительная власть, подчинявшаяся Николаю II, была изолирована от парламента. Если Государственная Дума и представляла кого-то, это была политическая нация имперской общественности, но представлена она была крайне опосредованно и искаженно после всех манипуляций избирательной системы. Поэтому собственная прогрессистская самоорганизация общественности находила более прямое и адекватное выражение в Земгоре, ВПК и даже в неформальных политических клубах масонских лож, чем в Думе, а тем более в органах исполнительной власти.
Пытаясь перехватить инициативу у общественности, 17 августа 1915 г. император своим указом создал Особое совещание по обороне государства, за которым последовало еще несколько специализированных совещаний (по топливу, транспорту и продовольствию). Функционально особые совещания дублировали ВПК, только подчинялись профильным министрам правительства. И все равно, то, что обеспечивало особым совещаниям авторитет в мобилизации военных усилий страны, оказывалось «неправительственным»: в их состав входили представители Думы и Государственного Совета, ВПК и Земгора. Только их участие позволяло представителям министерств действовать буквально в «общенациональных масштабах». Никакого специализированного аппарата в 65 тыс. сотрудников правительство создать не могло, и даже те специалисты, которых удавалось привлечь на службу, идентифицировали себя с политической нацией общественности и ориентировались на Думу и Земгор.
В результате, вполне современная мобилизация массового общества на войну в России существовала лишь в пространстве компромисса трех самостоятельных сил: политической нации общественности, парламента и государственных институтов. Сообща они достигали результата, вполне сопоставимого с британским или французским, и общий вектор этого компромисса был аналогичным. Закономерным следующим шагом было бы признание роли парламента как высшего органа власти, назначающего «правительство доверия» и придающего самоорганизации общественности рамки упорядоченной государственной деятельности. Этого мнения придерживались не только высшие государственные сановники, но и генералитет и даже члены императорской семьи, которые спустя год, в ноябре 1916 г., начали требовать от Николая II назначения правительства Думой уже в ультимативной форме.
В ситуации, когда огромная часть территории страны находилась под неограниченной властью армии, а в тылу все большим влиянием пользовался Земгор, единственным шансом государственной власти сохранить контроль над ситуацией было установление «правительства национального доверия», объединяющего и координирующего отдельные оборонные инициативы. Иначе государственные институты оказывались лишним передаточным звеном, коль скоро военные прекрасно находили общий язык с промышленниками и общественниками в рамках ВПК, Земгора и даже правительственных «особых совещаний».
Однако Николая II и политические группировки, ориентировавшиеся на него как на внесистемного вождя, эта перспектива совершенно не устраивала. Вместо того, чтобы передать реформированному государству контроль за военными усилиями страны, Николай II попытался вернуть себе личный контроль над мобилизованным массовым обществом империи. 23 августа (5 сентября) 1915 г., после того, как стабилизировался фронт в Галиции и (как казалось) в Литве, Николай II уволил с поста Верховного главнокомандующего вел. кн. Николая Николаевича и занял это место сам.
Политическая подоплека и последствия этого шага были понятны всем: он означал ставку на военную диктатуру, отказ от взаимодействия с общественностью и политической реформы, а значит, неизбежную потерю общественной поддержки и легитимности. Мать Николая II, вдовствующая императрица Мария Федоровна, записала в дневнике:
Он начал сам говорить, что возьмет на себя командование вместо Николаши, я так ужаснулась, что у меня чуть не случился удар, и сказала ему, что это было бы большой ошибкой, умоляла не делать этого особенно сейчас, когда все плохо для нас… Он совсем не понимает, какую опасность и несчастье это может принести нам и всей стране. … Непостижимо, как можно быть таким властолюбивым... Безумие — изолировать себя и отправлять прочь действительно преданных людей.
Министры правительства, казалось бы, более всех заинтересованные в сохранении благорасположения назначавшего их императора, не ограничившись устными выступлениями, обратились к Николаю II с коллективным письмом, пытаясь отговорить его от принятия верховного командования. Шокированный этим солидарным протестом, Николай II вызвал их для объяснений. По свидетельству участника разговора, десять министров, подписавших письмо, «указывали с разных точек зрения на необходимость держаться в контакте с общественностью… о необходимости не разрывать со страной…» Все было напрасно. 3 (16) сентября Государственная Дума была досрочно распущена на каникулы, 26 сентября были уволены двое из министров-подписантов, в течение нескольких месяцев за ними последовали остальные.
На очередной судьбоносной исторической развилке Николай II вновь выбрал нестандартный «третий путь» консервативной утопии. Хотя он не очень подходил на роль диктатора, но установление военной диктатуры и мобилизация экономики по программе «военного социализма» (германский сценарий) являлись реальной альтернативой национальной мобилизации вокруг «правительства доверия» (франко-британский сценарий). Оба эти сценария предполагали подчинение военных усилий государственному аппарату, только расходились в принципах его устройства и управления. Николай II отбросил оба эти сценария, проявив характерное для него недоверие к государству и непонимание его устройства. Вместо этого он сделал ставку на слабое правительство, которое он предпочитал сталкивать с общественностью, действующей на полулегальных основаниях. После досрочного перерыва работы в сентябре 1915 г. Государственная Дума провела только одну полноценную серию из 60 заседаний в первой половине 1916 г., а осенью проработала лишь полтора месяца в атмосфере слухов о ее предстоящем роспуске. Таким образом, никто не мог умалить власть императора, формально подчинившего себе армию: ни правительство с его «министерской чехардой» (термин националиста Владимира Пуришкевича), ни находящаяся под угрозой роспуска Дума, ни Земгор, юридический статус которого мало отличался от общества любителей пения. Единственной проблемой было то, что блистательная победа Николая II над внутренними оппонентами лишила российское общество шанса дожить до конца войны без глубоких внутренних потрясений.
Формирование структурного кризиса
Дело было вовсе не в абстрактных политических притязаниях разных группировок, а в катастрофическом нарастании совершенно «материальных» проблем. По отдельности ни правительство, ни Дума, ни имперская общественность не могли обеспечить устойчивую мобилизацию военных усилий. Так, едва был ликвидирован «снарядный голод» осенью 1915 г. в результате энергичных совместных мер военного министерства, промышленников и общественников, как замаячила угроза транспортного коллапса. На фоне все возрастающей потребности в объемах железнодорожных перевозок, за 1916 г. количество годных паровозов и товарных вагонов сократилось на 20%, пассажирских вагонов — на 25%. Убыль подвижного состава можно было компенсировать закупками за границей и более рациональной организацией движения, но на деле происходила лишь его дезорганизация. Движение регулировалось десятками управлений отдельных железных дорог, казенных и частных. После начала войны ввели систему «литерных» эшелонов, ранжированных в зависимости от приоритетности груза. Каждый отправитель был заинтересован в получении приоритетного статуса для своего груза, но каждое из многочисленных местных управлений железных дорог само принимало решение о порядке прохождения составов по своим путям. Результатом этой транспортной самоорганизации стал нарастающий паралич перевозок, особенно на дальние расстояния, когда каждая местная железная дорога переопределяла очередность прохождения составов.
Единственным решением этой проблемы было бы установление централизованного контроля министерства путей сообщения над перевозками, оставляющего за региональными управлениями сугубо техническую роль обеспечения движения. В условиях войны самоорганизация была продуктивной в смысле мотивации разных общественных сил к взаимному компромиссу, но никак не на уровне технического выполнения сложных операций. Только государство могло обеспечить четкую координацию перевозок в масштабах империи, создав единый штаб и подчинив ему систему контроля на местах. Необходимость такого шага обсуждалась еще летом 1915 г., но он не вписывался в политическую конструкцию, созданную Николаем II. За 1916 г. он трижды поменял председателя правительства, уволил 13 министров, 17 заместителей министров, 25 чиновников в ранге начальника департамента министерства. В таком состоянии правительство было не способно к сколько-нибудь твердой и последовательной организационной деятельности. Появление даже сугубо транспортного «диктатора», сосредоточившего всю полноту власти в отрасли, очевидно, казалось Николаю II слишком большой политической угрозой.
Вслед за транспортным и во многом связанным с ним топливным кризисом наступил продовольственный кризис. И вновь речь шла не столько о физическом отсутствии ресурсов: ничего подобного голоду в Германии или хотя бы необходимости потреблять эрзац-продукты (кроме алкоголя) в России не знали. Главной проблемой вновь стал провал координации усилий. Как и в случае с железными дорогами, «естественные» механизмы мирного времени начали давать сбой. С одной стороны, каждый военный год площадь посевов сокращалась на 5% к предыдущему, еще сильнее падала урожайность в силу снижения качества обработки земли. Вместо производства продуктов, свыше 10 миллионов призванных на войну крестьян сами стали потребителями армейских пайков, к ним присоединились несколько миллионов трудоспособных вынужденных переселенцев. Правда, сокращение вывоза продовольствия за границу вполне компенсировало потери производства «математически», но в условиях нарастающего транспортного кризиса это означало, что расширился круг регионов, не способных обеспечить себя собственным сельскохозяйственным производством (прежде всего, в центральной полосе России и в промышленных районах). Еще существеннее был удар, нанесенный по традиционным рыночным механизмам снабжения раскручивавшейся инфляцией. Введение сухого закона и выплата пособий семьям призванных на фронт привели к тому, что в деревне — по сравнению с довоенным временем — скопилось довольно много наличности, достаточной для того, чтобы не торопиться с продажей урожая по любой цене. Тем более что на протяжении предшествующего десятилетия «общественные агрономы» учили крестьян не спешить продавать урожай задешево на корню и ждать периода высоких цен по весне, прибегая к помощи кооперативов. Поэтому не было ничего удивительного в том, что осенью 1916 г. основные продукты (прежде всего, зерно и картофель) можно было закупать лишь по ценам, воспринимавшимся горожанами и властями как «спекулятивные».
Между десятками миллионов крестьянских хозяйств и правительственными элеваторами стояла цепочка частных торговых посредников, существенно увеличивающих итоговую цену. Стоимость посредничества сильно варьировалась по разным категориям продуктов и по регионам, никакого систематического изучения этого вопроса не проводилось. Однако известно, что в яичной торговле, к примеру, до войны разница между закупочной ценой и продажной (даже оптом) достигала почти 100%. Можно было минимизировать издержки на посредничество и стимулировать крестьян продавать часть урожая, включив сельские кооперативы в государственную продовольственную систему. Кооператив зависит от своих членов, но и они зависят от него, а бурно развивавшиеся в это время иерархические кооперативные структуры (союзы местных кооперативных объединений) были заинтересованы в политическом представительстве и в облегчении доступа к иностранным рынкам. Если бы Дума назначала правительство, а лидеры кооперативных объединений пользовались политической поддержкой депутатов, можно было бы договориться о компромиссной системе «добровольно-принудительного» снабжения продовольствием.
Существовал и альтернативный путь, привлекавший многих правительственных экспертов, идеализировавших германский опыт военной мобилизации экономики. Это был путь ликвидации частной торговли и изъятия необходимых продовольственных товаров по фиксированным ценам. В реальности, в Германии этот сценарий привел к падению производства зерновых почти наполовину от довоенного уровня, а распределение продуктов по карточкам было неэффективным и неоперативным и покрывало лишь 50–75% реально потребляемого горожанами. Но социал-демократы и прогрессисты на службе российского правительства были зачарованы самой перспективой установления «военного социализма», имея лишь самую общую информацию об организации снабжения в Германии. Там еще в начале 1915 г. была объявлена монополия государства на урожай всех зерновых, которыми распоряжалась Имперская зерновая корпорация: хозяйства могли оставлять себе лишь семенной фонд и до 100 кг зерна, за сокрытие зерна грозило полугодовое тюремное заключение. Частная торговля зерновыми запрещалась. Мельницы обязаны были перемалывать передаваемое им зерно, и мука также считалась собственностью имперской корпорации и доставлялась только военным и муниципалитетам. Этим занимался Имперский распределительный центр по фиксированным местным ценам, с июня 1915 г. хлеб можно было получать только по карточкам.
Столь продуманная распределительная система привела к сотням тысяч голодных смертей в Германии менее чем через год после введения, но в России не существовало даже институциональных предпосылок для подобных социалистических фантазий. В огромной стране отсутствовал разветвленный административный аппарат для введения хлебной монополии, не существовало хоть сколько-нибудь обоснованных подсчетов местных запасов зерна и его «справедливой» цены. Сначала, в конце 1915 г., правительство ввело твердые закупочные цены на продукты, которые во многих местностях оказались в 2-3 раза ниже рыночных. Затем, параллельно с местными представителями министерства земледелия, ответственными за закупки продовольствия («уполномоченными»), к апрелю 1916 г. формируется сеть местных уполномоченных Особого совещания по продовольствию. Возглавляемые ими «комитеты» и «комиссии» имели право принудительной реквизиции запасов и запрета вывоза продуктов за пределы подведомственной территории. Наконец, в начале декабря 1916 г. министерство земледелия опубликовало постановление «О разверстке зерновых хлебов и фуража, приобретаемых для потребностей, связанных с обороной». План по принудительному сбору зерна (продразверстке) распределялся между местными продовольственными комитетами, и составлен он был скорее механически, распространяясь и на те регионы, которые сами страдали от нехватки продовольствия. Из тыловых гарнизонов и запасных частей формировались продбатальоны, которые должны были пресекать несанкционированный вывоз хлеба за пределы уезда или губернии и проводить принудительные реквизиции. Теперь продовольственная катастрофа стала неизбежной.
Германская система продовольственной диктатуры была малоэффективной, но, во всяком случае, работающей. Существовал единый государственный центр, отвечающий за реквизицию продовольствия по единым правилам в масштабах всей страны. У крестьян пропал всякий стимул поддерживать производство на прежнем уровне, но имеющиеся ресурсы большей частью доходили до потребителей в городах и на фронте. В России реализацию продовольственной диктатуры возложили на местные органы власти. Однако если на уровне губернии еще существовал аппарат правительственных чиновников (во главе с губернатором), то уже на уровне уездов сбором продовольствия занимались почти исключительно земства, а на уровне волостей — вообще местные кооперативы. Выборное местное самоуправление и добровольные экономические объединения производителей начали работать в логике, прямо противоположной смыслу их существования, принуждая своих клиентов действовать вопреки собственным интересам.
Как и в случае с железными дорогами, передача принятия оперативных решений на места, где все зависело от самоорганизации исполнителей, неизбежно означало торжество локальных приоритетов над общегосударственными. Областные и районные продовольственные комитеты препятствовали вывозу хлеба со своей территории (и не только «спекулянтами») до тех пор, пока не будут обеспечены местные потребности. В условиях неэффективности заготовок зерна это означало практически постоянный саботаж требований центра. Введение твердых цен ниже рыночного уровня нанесло удар по частной торговле, а периодический их пересмотр в сторону повышения стимулировал создание запасов в ожидании более благоприятных условий в будущем: по сути, заготовка продовольствия превратилась в биржевую игру на повышение.
Самый же разрушительный удар был нанесен по социальным институтам в деревне. Земства и кооперативы оказались в роли оккупационных властей, принудительно изымающих у крестьян хлеб на невыгодных условиях под угрозой применения силы продовольственными батальонами. Непосредственными исполнителями продовольственной политики стали «общественные агрономы», которые в предшествующее десятилетие потратили столько усилий для завоевания признания и авторитета у крестьян, объявив своей целью служение их интересам, и которые клеймили специалистов землеустроительных комиссий как чиновников, навязывающих крестьянам непопулярную политику правительства. Интеграция деревни в массовое общество опиралась на институт земств и самоорганизацию в формате кооперативов, и теперь эти институты были скомпрометированы, доказав, что они не выражают интересы крестьян, а эксплуатируют их.
Крестьяне оказались предоставлены сами себе, проявляя все большую враждебность по отношению к любым попыткам связать их с внешним миром, особенно после коллапса свободного рынка. Регионы пытались отгородиться от соседей кордонами, препятствуя перераспределению все уменьшающихся товарных запасов. Местные железные дороги стремились протолкнуть в первую очередь составы собственного формирования за счет задержки транзитных эшелонов. Николай II был озабочен защитой собственной самодержавной власти, которую, вслед за левыми публицистами, он истолковывал в смысле авторитаризма правления (а не как воплощение государственного суверенитета). Государственная Дума боролась за контроль над правительством. В ситуации, когда каждый оказался «сам за себя», имперский режим был обречен. Наступление развязки становилось лишь вопросом времени.
10.15. Февраль 1917 г.: взрыв имперской ситуации
Война всегда служит атомизации общества, делая особенно жизненным принцип «умри ты сегодня, а я завтра», — оттого столь активна пропаганда национального единства и самопожертвования, призванная заглушить обострение эгоистических инстинктов перед лицом угрозы смерти. Действительно, социальная кооперация повышает и личные шансы на выживание, но обеспечить ее могут лишь общественные институты, а не сознательное меньшинство жертвующих собой ради общего блага. Российская империя была ввергнута своим правящим режимом в войну в момент достижения неустойчивого равновесия между центробежными национализирующими тенденциями и формированием новых панимперских структур солидарности (включая перешедшие под фактический контроль «третьего элемента» земства и кооперативы). Разрушив эти слабые институты, подорвав доверие к «смычке города и деревни» как основе глобального массового общества, Николай II и чиновники и политики, ответственные за выбор продовольственной стратегии и организацию транспорта, сделали невозможной широкую кооперацию и мобилизацию общества. По сути, речь шла о банкротстве Российской империи как политической формы координации местных интересов ради «общего блага».
Распад «общего дела»
Наиболее наглядным внешним проявлением краха структур солидарности стали распространяющиеся слухи об «измене» руководства страны, стремящегося заключить мир с врагом. Повод для этих обвинений кажется вдвойне бессмысленным, если воспринимать их буквально: испуганные и измученные войной люди и сами мечтают о мире, а заключение невыгодного мира для правительства, начавшего войну, равносильно политическому самоубийству. Другое дело, что именно так на языке военного времени выражается идея предательства общих интересов: суть предательства заключалась в отказе от сотрудничества «со своими», а не в переходе на сторону противника. Именно в этом смысле нужно воспринимать резонансную речь лидера Прогрессивного блока и кадетской партии Павла Милюкова, которую он произнес в Думе 1 (14) ноября 1916 г. Обрушившись на отказ режима Николая II от консолидации сил хотя бы на уровне высших органов власти (в виде «правительство доверия»), Милюков намекал на ведение сепаратных переговоров с Германией, вопрошая: «что это: глупость или измена?» Оба варианта дискредитировали власть, но еще хуже было то, что риторический вопрос Милюкова отражал действительно массовые общественные настроения, зафиксированные в донесениях политической полиции, письмах и дневниках того времени. Не вероятный ответ, а сама актуальность постановки вопроса являлась куда более безнадежным диагнозом состояния российского общества. Дело было не столько в опасениях, что власти заключат соглашение с врагом (от имени всей страны), а в ощущении личного предательства каждого со стороны государства, со стороны общества. В понимании, что теперь каждый сам за себя.
Хронология событий начала 1917 г. показывает, что падение режима Николая II (получившее название Февральской революции) было результатом именно системного коллапса. Самые разные политические группировки готовились к смене власти по более или менее радикальному сценарию — от учреждения «правительства народного доверия» до насильственного смещения Николая II. Думские деятели, военные, промышленники и даже члены императорского дома вынашивали планы переворота, но все они продемонстрировали пассивность, когда разразился кризис. В ситуации выбора все они сначала пытались уклониться от любых радикальных решений, и лишь развитие событий вынуждало их делать шаг, с которого, в принципе, заговорщикам полагалось начинать.
С 20 февраля (5 марта) 1917 г. в Петрограде фиксируются все нарастающие спонтанные протесты против нехватки хлеба, подогреваемые слухами о предстоящем введении карточек на хлеб. Перебои с хлебом были вызваны временным совпадением нескольких технических обстоятельств (включая сбой в железнодорожном сообщении) и ничего катастрофического для горожан сами по себе не представляли — разумеется, если воспринимать их как часть трудностей военного времени. Толпы осаждали пекарни и требовали «Хлеба!», но Николай II со спокойным сердцем отправился из Петрограда на фронт 22 февраля: в большом городе всегда что-то происходит.
23 февраля (8 марта) хлебные бунты объединяются с митингами по поводу «дня работницы», которые на третьем году войны неизбежно обрели антивоенный характер. У многих «работниц» мужья были на фронте и не имелось времени для стояния в очередях за хлебом. Два с половиной года войны женщины терпели растущую дороговизну и разлуку ради общей цели, но, если каждый теперь был сам за себя, они потребовали удовлетворения самых насущных своих нужд. Сложившимся форматом политических выступлений были забастовки и демонстрации, поэтому в этот день забастовали десятки тысяч человек, колонны демонстрантов с транспарантами «Хлеба!» и «Долой войну!» из рабочих районов направились к центру города. Полиция применила силу для блокирования и разгона демонстраций.
24 февраля (9 марта) забастовка охватила две сотни предприятий. Расширению забастовок способствовали массовые увольнения на Путиловском заводе (до 30 тыс. человек). 18 февраля рабочие одного из цехов потребовали увеличения зарплаты на 50%. Годом ранее путиловские рабочие организовали массовую забастовку, потребовав еще большую прибавку — в 70%, но тогда эта акция была скоординирована в масштабах огромного завода. В этот раз приведение зарплаты в соответствие с растущими ценами потребовали лишь в одном цехе — раз каждый сам за себя. Лишь когда в цехе прошли массовые увольнения, забастовали другие цеха, а после локаута рабочих в них забастовал весь завод. Это важное обстоятельство: судя по всему, люди были готовы проявлять солидарность, но масштабы ее распространения (на тех, кто признавался «своими») значительно сократились.
Затем к протестующим рабочим присоединились студенты. Отдельным колоннам демонстрантов удавалось прорваться на Васильевский остров, в центр города. Для их блокирования власти отправили солдат гвардейских запасных полков — тех, кто проходил военную подготовку после мобилизации и ожидал отправки на фронт в строевые части.
25 февраля (10 марта) происходит дальнейшая эскалация: число забастовщиков доходит до 300 тысяч, войска блокируют мосты через Неву, но демонстранты с антивоенными, а теперь еще и с антиправительственными лозунгами прорываются в центр города по льду. В нескольких случаях войска и полиция открывали огонь по толпе, но впервые отмечены и случаи неповиновения войск приказам. Координацией рабочих протестов традиционно занимались социалистические партии, и ночью полиция арестовала более полутора сотен активистов разной партийной принадлежности — вероятно, практически всех сколько-нибудь значимых (благодаря широкой сети агентуры полиция имела полную информацию о членах радикальных групп).
Этого числа все равно было бы недостаточно для организации разразившейся всеобщей забастовки с сотнями тысяч участников, так что аресты никак не отразились на масштабах стихийно нарастающих протестов. Видимо, людей заставляло выходить на улицу не конкретное обстоятельство — нехватка хлеба, пропаганда агитатора, затянувшаяся война и даже не подозрения в измене высшего руководства как таковые. Об этом свидетельствует поведение толпы, столь отличавшееся от обычных массовых беспорядков. На этом этапе почти не отмечены были погромы магазинов (в отличие от типичного городского бунта), никто не занимался строительством баррикад (по сценарию революционного восстания). Массы людей стремились в центр города, в символическое пространство «власти» и «общественного внимания», что со стороны воспринимается как требование признать частью этого пространства тех, кто оказался предоставлен самим себе, вне ощущения реальной сопричастности «общенациональному» делу.
26 февраля (11 марта) войска стреляли по толпе уже на Невском проспекте, счет убитых и раненых шел на десятки человек. Реакцией на масштабное насилие со стороны войск становится появление первых баррикад на окраинах: отвергнутые властью люди обращаются к революционному сценарию протеста. В ответ на масштабные беспорядки в столице объявляется указ Николая II о роспуске Государственной Думы (тем самым окончательно отрезая всякую возможность установления диалога возмущенных граждан с органами власти). Указ был заготовлен еще двумя неделями раньше, «про запас», что показывает куда большую предусмотрительность Николая II, чем его недоброжелателей: ни одна из оппозиционных группировок к этому времени никак себя не обнаружила. Наиболее радикальным шагом думской оппозиции можно считать телеграмму, которую отправил императору незадолго до приятия решения о роспуске Думы ее председатель, лидер партии октябристов Михаил Родзянко:
Положение серьезное. В столице — анархия. Правительство парализовано. Транспорт продовольствия и топлива пришел в полное расстройство. Растет общественное недовольство. На улицах происходит беспорядочная стрельба. Части войск стреляют друг в друга. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство. Медлить нельзя….
Главной неожиданностью в этот день стал выход из повиновения целой роты запасного батальона гвардейского Павловского полка. Строевая рота российской армии по штату состояла из 226 человек, но количество военнослужащих запасной роты в пять раз превышало эту цифру. Во столько же раз была превышена норма размещения солдат в казармах Петрограда: на базе гарнизона проходило формирование строевых частей для весеннего наступления. Всего в городе было сосредоточено порядка 160 тысяч военнослужащих, запертых в крайней скученности в казармах, большую часть времени предоставленных сами себе. Если каждый — сам за себя, какой смысл отправляться на фронт, когда столько других людей остаются в безопасном тылу? Ради чего стрелять в безоружных сограждан? Восставшую роту (больше похожую на полк) разоружили, но не смогли отправить под арест: в городе не нашлось тюремных помещений такой вместимости.
27 февраля (12 марта) происходит полный крах института власти в Петрограде: формально все чиновники остаются на своих местах, но им отказываются повиноваться. Наиболее наглядно и драматически это состояние общества проявилось в армейских структурах. С раннего утра одна за другой начали бунтовать воинские части: солдаты захватывали оружие, убивали немногочисленных офицеров, пытавшихся водворить порядок. Вырвавшись из тесных казарм, вооруженные солдаты (вероятно, порядка 8-10% от общего количества расквартированных в городе) присоединялись к демонстрантам на улицах. Анархия начала распространяться за пределы города, солдаты и матросы убивали своих офицеров уже десятками: и не потому, что реагировали на несправедливость или в ответ на угрозу наказания (как в случае с восстанием на броненосце «Потемкин» в 1905 г.), а просто выражая языком физического насилия свое неприятие существующей социальной организации.
Восставшие освобождали арестантов тюрем (как членов социалистических партий, так и уголовников), подожгли здание окружного суда, разгромили охранное отделение. Начались массовые грабежи и мародерство: и потому, что на свободе оказались не менее 4 тыс. уголовников, и потому, что покинувшим казармы солдатам нечего было есть, и потому, что, когда начинаются погромы, масса самых обыкновенных людей спешит воспользоваться подвернувшейся возможностью. Никакого альтернативного видения ситуации толпа не имела, солдаты даже не разбегались по домам. Происходило ровным счетом то, что можно прочесть в поведении десятков, если не сотен, тысяч людей: отказ признавать власть, которая не признает граждан, а теперь еще и показала свою слабость. Массовое общество вышло из-под контроля политической системы, которая мобилизовала его на войну, но утратила доверие граждан, а значит — легитимность.
Претенденты на революционную власть
Неизвестно, чем бы закончилось стихийное отторжение населением структур имперской государственности, если бы выпущенные толпой из тюрьмы члены социалистических партий не призвали массы направиться к Таврическому дворцу — месту заседаний Государственной Думы, и поддержать ее депутатов. В этот момент восстание приобрело характер революции — в смысле ориентации на определенное видение будущего. Сами думцы в это время не решались даже собраться в зале заседаний из опасения нарушить указ о роспуске Думы, однако наплыв возбужденных демонстрантов и войск после двух часов дня побудил депутатов к действию. Был сформирован «Комитет членов Государственной думы для водворения порядка в столице и для сношения с лицами и учреждениями». Это невероятное (и максимально юридически невинное) название немедленно сократили до «Временного комитета членов Государственной Думы», что не прояснило его функции: претендует ли новый комитет на исполнительную власть, а если да, на каких основаниях? Почти в это же время началось заседание Совета министров, на котором фактически было принято решение о самороспуске и рекомендации Николаю II назначить новое «ответственное министерство».
Параллельно с Временным комитетом членов Государственной Думы в том же здании Таврического дворца был учрежден Временный исполнительный комитет Совета рабочих депутатов. Идея создать координационный центр протестного движения по образцу 1905 г. (в свою очередь, использовавшего структуру зубатовских «полицейских» профсоюзов) прозвучала еще 25 февраля. Несколько десятков членов Петроградского союза потребительских обществ (кооперативов) «Петросоюз» собрались в здании организации для обсуждения насущных вопросов: продовольствия, увольнений, политических протестов. Именно в этом контексте — собрания активистов «четвертого элемента» — и возникла идея созвать Совет рабочих депутатов как инструмент самоорганизации.
В прогрессистской культуре самоорганизации «совет» рассматривался в качестве представительного органа, действующего в перерывах между общими собраниями самих членов структур горизонтальной солидарности. Так, с 1906 г. ежегодно собирались вполне респектабельные съезды «представителей промышленности и торговли», а в промежутках действовал Совет съездов. В 1913 г. была предпринята попытка учредить Совет кооперативных съездов как высший координационный центр «четвертого элемента» (см. предыдущую главу). Логично было создать и Совет рабочих депутатов, занимающийся самоорганизацией заводских рабочих. Учитывая недоверчивое отношение «четвертого элемента» к претензиям интеллигенции на лидерство и прогрессистскую ориентацию на «неполитическую политику», Совет рабочих депутатов не рассматривался в качестве филиала социал-демократической партии. Несмотря на тесное взаимодействие рабочих кооперативов с социалистами, они руководствовались диаметрально противоположной логикой: партийные активисты искали массовую поддержку для воплощения своих идей, а рабочий «четвертый элемент» стремился к защите интересов членов кооперативов.
Временный исполнительный комитет Совета рабочих депутатов был утвержден в здании Государственной Думы как дружественный орган, представляющий интересы основной массы протестующих. Председателем исполнительного комитета Совета стал депутат IV Думы меньшевик Николай Чхеидзе, его заместителями — депутаты Думы трудовик Александр Керенский и меньшевик Николай Скобелев. С оглядкой на Совет, Временный комитет членов Государственной Думы поспешил заявить о принятии на себя власти, хотя правительством себя не объявил и представлял собой лишь группу депутатов официально распущенного до апреля парламента.
В результате, к концу понедельника 27 февраля в Петрограде фактически не было официального правительства, зато действовали два «временных комитета», каждый претендующий на «народное представительство». Их «временный» статус явно указывал на то, что пока не существовало определенных планов на будущее.
28 февраля (13 марта) политический кризис начал распространяться далеко за пределы столицы. Рано утром в тысяче километрах от Петрограда в его направлении двинулись эшелоны с войсками, снятыми с фронта для подавления революции. В собственном поезде из Могилева в Царское Село направился и Николай II. Днем депутат Думы, член фракции прогрессистов инженер Александр Бубликов (1875–1941) в качестве комиссара Временного комитета Государственной думы арестовал министра путей сообщения и получил доступ к сети железнодорожного телеграфа. В 13:50 он разослал по всей стране телеграмму:
По всей сети. Всем начальствующим. Военная. По поручению Комитета Государственной Думы сего числа занял Министерство путей сообщения и объявляю следующий приказ председателя Государственной Думы: «Железнодорожники! Старая власть, создавшая разруху во всех областях государственной жизни, оказалась бессильной. Комитет Государственной Думы взял в свои руки создание новой власти. Обращаюсь к вам от имени Отечества — от вас теперь зависит спасение Родины. Движение поездов должно поддерживаться непрерывно с удвоенной энергией. Страна ждет от вас больше, чем исполнение долга, — ждет подвига… Слабость и недостаточность техники на русской сети должна быть покрыта вашей беззаветной энергией, любовью к Родине и сознанием своей роли транспорта (sic!) для войны и благоустройства тыла».
Учитывая, что Бубликов был профессиональным и даже потомственным инженером путей сообщения, телеграмма выглядела вдвойне бессмысленной, набором фальшивых лозунгов. Однако из нее можно было узнать, что «старая власть» (включая императора?) сменилась и страной руководит Государственная Дума, возглавляемая ее председателем Родзянко. Эта информация также не соответствовала действительности, но имела вполне реальные последствия — деморализацию правительственных структур. Упорно препятствуя интеграции усилий исполнительной власти, земства и общественных инициатив, режим Николая II, не желая того, обеспечил максимально безболезненный крах имперского государства. За редким исключением, социальная организация в провинции лежала на плечах городских дум, земств, отделений Земгора, кооперативов — и чем дальше от губернских центров, тем больше. Культивируя безосновательное, но популярное представление о том, что земства — не «государство», режим добился того, что выполнявшие функции государства на местах учреждения с легкостью дистанцировались от павшего правительства и продолжили свою работу.
Раскол сверху
И только в войсках коллапс государства проявился самым драматичным и кровавым образом — массовыми расправами над офицерами. Именно тыловые гарнизоны стали главными движущими силами политической нестабильности в первые недели революции. Если для большинства населения лозунг «каждый сам за себя» означал, в первую очередь, требование компенсации доходов на фоне инфляции и восстановление снабжения продовольствием и топливом, то для находившихся по соседству солдат тыловых гарнизонов ключевым был именно политический вопрос: неотправление на фронт. Это требование могла выполнить только принципиально новая власть. 1 (14) марта 1917 г. под давлением солдат Петроградский совет переименовали в совет «рабочих и солдатских депутатов», а вскоре между советом и правительством, сформированным Временным комитетом думы, было заключено соглашение, по которому участвовавшие в революции войска запрещалось отправлять из города.
Было бы упрощением сводить мотивацию солдат к дезертирству: они не разбегались из частей по домам и, проявляя тот же синдром «ограниченной солидарности», что и протестующие рабочие, добивались улучшения положения не только лично для себя (хотя и не для всей страны). Более того, одновременно с солдатами петроградского гарнизона сходную реакцию в эти же самые дни проявили их высшие военные начальники — командующие фронтами и сам начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал Михаил Алексеев. Они также изменили своей присяге ради неких частных интересов — хотя и диаметрально противоположных тем, что двигали солдатами тыловых частей.
Направлявшиеся к Петрограду военные эшелоны большей частью не смогли пробиться к городу, императорский поезд в 200 км от столицы вынужден был развернуться и отправиться в Псков. Помешало им не столько противодействие железнодорожников, к которому призывал самозваный комиссар путей сообщения Бубликов, сколько обычная неразбериха на транспорте и угроза со стороны восставших воинских гарнизонов по пути следования. В ситуации, когда продвижение лояльных императору войск не поспевало за развитием событий в Петрограде, военное командование начало оказывать давление на Николая II с целью как можно скорее стабилизировать политическую обстановку в тылу. 1 марта генерал Алексеев по телеграфу настаивал на необходимости назначения «правительства народного доверия» в качестве компромисса с Думой (которая, как он полагал, установила власть в Петрограде), а встретивший императора в Пскове командующий Северным фронтом Николай Рузский (1854–1918) лично пытался убедить в этом Николая II.
Однако утром 2 марта стало известно, что в Петрограде уже появилось «правительство доверия»: в результате переговоров с Советом, лидерами Прогрессивного блока и кадетской партии Временный комитет Государственной думы сформировал Временное правительство под председательством главы Земгора князя Георгия Львова (1861–1925). Тогда генерал Алексеев, находившийся в контакте с руководством Думы, запросил мнение командующих фронтами о более радикальном шаге: отречении Николая II от престола в пользу своего двенадцатилетнего сына Алексея. Все командующие высказались за необходимость отречения. Всего тремя днями ранее сама мысль об этом показалась бы недопустимой, но теперь высший генералитет полагал, что их интересы — продолжение войны — требуют смещения верховного главнокомандующего и монарха, которому они присягали. (Необходимо подчеркнуть, что воинская присяга приносилась ими не государству, «родине» или Российской империи, а исключительно лично императору, который в тексте присяги назывался по имени).
Около 10 вечера 2 марта за манифестом об отречении Николая II в Псков приехали представители Временного комитета Государственной думы: лидер октябристов Александр Гучков (1862–1936) и лидер националистов Василий Шульгин (1878–1976). К этому времени император принял решение об отречении и за сына, передав трон своему брату Михаилу. Уже спустя сутки, оценив сложившуюся ситуацию, великий князь Михаил Александрович подписал «акт непринятия престола» до принципиального решения о форме правления в России будущим Учредительным собранием. На этом Российская империя перестала быть монархией. Однако не меньшее значение, чем отречение Николая II, имело то обстоятельство, что за манифестом о его отречении приехали не социалисты и даже не кадеты, а конституционные монархисты и русские националисты. И если Гучков был либералом и умеренным прогрессистом, то Шульгин был видным деятелем черносотенного Союза русского народа, а позднее Союза Михаила Архангела, ориентировавшихся на вождистский культ императора. Однако оба они пришли к выводу, что интересы русской этноконфессиональной нации разошлись с интересами «русского царя» Николая Романова.
Таким образом, всего за несколько дней Российская империя перестала существовать как единое политическое пространство. Это произошло почти «само собой», без всякого планомерного вмешательства злоумышленников, внутренних или внешних. За прошедшее столетие не появилось никаких свидетельств существования разветвленного германского подполья, ответственного за вывод на улицы сотен тысяч забастовщиков, или плана высшего военного руководства отстранить от власти верховного главнокомандующего во время войны, а тем более сколько-нибудь заметной организационной деятельности революционеров. Череда февральских событий представляет одновременно очень простую и кажущуюся невероятной в своей простоте картину: основные групповые «субъекты» многомерного имперского пространства — рабочие, женщины, солдаты, политики, генералы, чиновники, интеллигенты, железнодорожники, крестьяне, император — просто решили каждый пойти «своей дорогой», начав поступать так, как было проще каждому, без оглядки на других.
Даже Николай II, отрекаясь от престола (тем более, отрекаясь за сына) сделал выбор, повинуясь не букве закона или государственного долга, а — по мнению всех знавших его людей — следуя желанию восстановить внутреннюю гармонию (предпочитая капитулировать, чем изменить своим авторитарным наклонностям). По свидетельству мемуариста, генерал-майор Дмитрий Дубенский (1857–1923), находившийся в свите Николая II в качестве официального историографа, услышав об отречении императора, «все как-то задумчиво и недоумевающе повторял: ‘как же это так, вдруг отречься… не спросить войска, народ… и даже не попытаться поехать к гвардии… Тут в Пскове говорят за всю страну, а может она и не захочет…’» Все участники февральских событий действовали в своих интересах от имени всего «народа», просто каждый при этом имел в виду разные «нации». Революция произошла оттого, что окончательно исчезла сама идея координации по-разному представляемых сообществ солидарности (наций), которую прежде институционально воплощала Российская империя.
Поэтому не вполне точно даже говорить о том, что лидеры разных «национальных проектов» решили пойти своим путем — на самом деле, почти никто и не «сдвинулся с места», изменив традиционному ходу вещей. Просто ничего «автоматического» не было в способности империи (в смысле политики режима, идейного пространства, культуры неформальных местных договоренностей) удерживать неустойчивое равновесие, поддерживая систему координации различий в структурной имперской ситуации. Это неустойчивое равновесие и рухнуло, как только окончательно сошли на нет сознательные и активные попытки находить компромисс — добровольно или под принуждением. Все продолжали действовать «по инерции», но в сложносоставной открытой системе имперской ситуации «инерция» и означала нарушение равновесия. Крестьяне продолжали собирать зерно и рационально стремиться к получению максимальной выгоды от его продажи. Железнодорожники выходили на работу, рационально старались в первую очередь обслужить местные составы и даже не саботировали продвижение эшелонов с карательной экспедицией в восставший Петроград — но и не прикладывали специальных усилий, чтобы облегчить это продвижение. Генералы хотели продолжать отправлять в мясорубку бессмысленных наступлений миллионы призывников, для чего им нужен был порядок в тылу любой ценой. Николай II хотел править как московский царь, желательно, без всякой Думы, и ему проще было отойти от дел вовсе, чем пожертвовать своими политическими инстинктами и личными склонностями ради страны, находившейся в состоянии затяжной и все более непопулярной войны.
10.16. Великая имперская революция
Имперские нации
Даже лидеры этноконфессиональных наций, которых имперский режим постоянно подозревал в сепаратизме, не спешили воспользоваться безвластием для выхода из состава Российской империи.
Так, после отречения Николая II исчезла юридическая основа для вхождения Великого княжества Финляндского в состав Российской империи — личная уния с российским императором, который выступал в роли великого князя финляндского. По финляндским основным законам главой страны должен был являться монарх, и в случае пресечения одной династии парламент должен был избрать на трон представителя новой. Автономия великого княжества, руководствовавшегося собственными законами, а также конфликты с Петербургом по поводу толкования пределов этой автономии, объяснялись именно тем, что российское владычество сводилось к признанию верховным правителем края российского императора — наследника Александра I. Падение династии Гольштейн-Готторп-Романовых и самого института монархии в России означало, что финляндский парламент был свободен искать нового верховного правителя страны, вне Российской империи. Тем не менее, на протяжении многих месяцев после Февральской революции парламент Финляндии не предпринимал никаких радикальных шагов в сторону отделения от Российской империи, ограничиваясь подтверждением привилегий, предоставленных великому княжеству Александром I. И лишь после череды правительственных кризисов в Петрограде, после двух неудачных попыток переворота, предпринятых левыми радикалами и военными, после того, как 25 октября (7 ноября) 1917 г. на фоне общей политической апатии Временное правительство было свергнуто в результате путча, парламент Финляндии взял курс на отделение от России.
Точнее, и тут инициатива принадлежала не «сепаратистам», а новому петроградскому правительству Совета народных комиссаров (Совнаркому), сформированному радикальными социалистами — большевиками и левыми эсерами. 2 (15) ноября Совнарком принял «Декларацию прав народов России», которая призывала «решительно и бесповоротно» раскрепощать «все живое и жизнеспособное», в том числе и отдельные народы, за которыми признавалось право «на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельного государства». В тот же день финляндский парламент объявил себя исполняющим обязанности верховного суверена в княжестве, заполнив вакуум, существовавший почти восемь месяцев после отречения Николая II. Поле этого 4 (17) декабря новое финляндское правительство внесло в парламент проект новой конституции, провозглашающей Финляндию республикой, а субъектом высшего суверенитета — не монарха, а парламент. 6 декабря финляндский парламент одобрил эти принципы с весьма небольшим перевесом голосов (53% за), и Финляндия официально объявила себя независимой страной. Это произошло не просто много позже февральской революции, но и после того, как был ликвидирован установившийся в результате нее политический режим.
То же самое можно сказать о развитии ситуации на украинских землях. Когда в Киев пришли сведения об отречении Николая II и формировании Комитетом членов Государственной думы Временного правительства, Общество украинских прогрессистов организовало 4 (17) марта 1917 г. собрание политических активистов в своем клубе «Родина». Лидеры прогрессистов попытались взять на себя роль координаторов национального движения, но возобладала идея коалиционного органа — Центральной Рады (совета). Спустя три дня состоялись выборы руководства Рады — президиума, его председателем заочно избрали прогрессиста, историка Михайло Грушевского (1866–1934).
В марте Центральная Рада призвала население поддержать Временное правительство в Петрограде. Спустя месяц, 6 (19) апреля, открылся представительный Всеукраинский национальный конгресс. Собравшиеся 900 делегатов выбрали 150 членов Рады и новый президиум. Его председателем вновь избрали Грушевского (к этому времени примкнувшего к украинским социалистам-революционерам). Заместителями Грушевского стали историк литературы, прогрессист Сергий Ефремов (1876–1939) и писатель, социал-демократ Володымыр Винниченко (1880–1951). Всеукраинский конгресс принял резолюцию, в которой целью объявлялась национально-территориальная автономия в составе России, но практическое решение этого вопроса оставлялось за будущим Учредительным собранием.
Спустя еще месяц, в мае, Винниченко отправился в Петроград на переговоры с Временным правительством о признании Центральной Рады высшим органом власти в украинских губерниях и подтверждении автономного статуса Украины. Временное правительство крайне негативно отреагировало на инициативы Рады, признав ее саму нелегитимной. 3 июня петроградское правительство единогласно отвергло идею признания автономии Украины, даже в принципе. В ответ 10 (23) июня Рада издала свой первый «универсал» к украинскому народу, которым объявлялась автономия Украины, но «не отделяясь от всей России». Создавалось украинское правительство — Генеральный секретариат, для поддержания которого вводились дополнительные налоги: существующие налоги должны были по-прежнему перечисляться в бюджет Российской империи.
Петроградское Временное правительство вынуждено было принять основные требования лидеров украинского национального движения, в том числе возможность предоставления Украине автономии в будущем. По этому поводу 3 (16) июля Рада опубликовала второй универсал — на украинском, русском, польском и идише. В нем украинский Генеральный секретариат признавался «органом Временного правительства» (прежде местным представительством Петрограда парадоксальным образом считалась Киевская городская дума) и напоминалось, что Центральная Рада всегда была за то, «чтобы не отделять Украину от России». Не прошло и двух недель, как достигнутая гармония была вновь нарушена: каждая из сторон пыталась истолковать соглашение в свою пользу. Однако реальных шагов к независимости Рада не предпринимала. 23 июля (5 августа) на подконтрольных ей территориях прошли выборы в местные городские думы: из почти 1000 новых гласных ни один не являлся представителем националистических сил. 870 гласных были избраны от общеимперских партий, 128 являлись федералистами. Это означало, что городская образованная элита — необходимый кадровый ресурс любого государственного проекта — не желала и слышать о сепаратизме.
Тогда Центральная Рада выступила с инициативой созыва «Съезда народов России», призванного вывести украинские власти из изоляции в борьбе за автономию. Съезд открылся в Киеве 21 сентября 1917 г. и продолжался неделю, на него прибыли 92 делегата, представлявшие больше дюжины национальных движений, в том числе поляков и балтийских народов, находившихся в этот момент под германской оккупацией. Присутствовавшие польские и литовские делегаты заявили о планах полной государственной независимости, но остальные согласились с необходимостью трансформировать Российскую империю в федерацию, с предоставлением русскому языку статуса общегосударственного. Михайло Грушевский так сформулировал украинский подход к федерализму:
Украина не идет через федерацию к самостоятельности, потому что государственная независимость лежит не перед нами, а за нами. Мы уже в прошлом объединились с Россией как независимое государство и от своих прав никогда не отрекались. …
Съезд избрал из своего состава Совет народов (под председательством Грушевского), в него вошли по четыре представителя от каждого «народа», представленного на съезде. Предполагалось, что Совет народов станет координатором процесса федерализации, а Временному правительству рекомендовалось сформировать «Совет национальностей» для взаимодействия с местными национальными движениями. Совет народов был распущен после падения российского Временного правительства в конце октября 1917 г.
После октябрьского переворота в Петрограде и формирования правительства Совнаркома, через пять дней после принятия им «Декларации прав народов России», Центральная Рада выпустила третий Универсал, которым официально провозглашалась Украинская народная республика (УНР). Но и в этом документе речь шла о том, что УНР находилась в федеративных отношениях с Россией (которая была объявлена республикой постановлением Временного правительства еще 1 (14) сентября 1917 г.). Документ начинался с объяснения мотивов формального объявления украинской республики кризисом в Петрограде: «Центрального правительства нет, в государстве распространяется безвластие, разлад и разруха», поэтому УНР провозглашалась «во имя спасения всей России». Спустя несколько дней, 12 (25) ноября в УНР прошли выборы во Всероссийское Учредительное собрание, на котором кандидаты от большевистской партии, захватившей власть в Петрограде, набрали лишь около 10% голосов.
И только после того, как 6 (19) января 1918 г. большевистский Совнарком разогнал собравшееся в Петрограде Всероссийское учредительное собрание — единственный политический орган, представлявший всю бывшую Российскую империю, — через месяц после официального объявления войны советского режима против УНР Центральная Рада провозгласила четвертый универсал. 9 (22) января 1918 г. УНР была объявлена полностью независимым государством — спустя более чем 10 месяцев после февральской революции.
Похожая динамика прослеживается и в случаях других национальных и территориальных проектов.
После Февральской революции было ликвидировано Кавказское наместничество, возглавляемое великим князем Николаем Николаевичем (бывшим главнокомандующим российской армии). Вместо наместничества 9 (22) марта 1917 г. Временное правительство учредило Особый закавказский комитет (Озаком) с теми же функциями, в который вошли пятеро депутатов Государственной Думы от разных партий. Инициатива смены администрации региона исходила из Петрограда, и в условиях войны с Османской империей ни о каком отделении от Российской империи речь не шла.
После октябрьского путча в Петрограде и ареста членов Временного правительства в Тифлисе (Тбилиси) 11 (24) ноября 1917 г. собралось совещание для выработки плана действий всех местных общественно-политических группировок и властных структур: Озакома, рабочих советов, командования Кавказского фронта, грузинских, армянских и азербайджанских партий и даже консулов Великобритании и Франции. Первым постановлением петроградского Совнаркома был «Декрет о мире», требующий немедленного прекращения боевых действий, что, в частности, открывало дорогу турецкой армии на Южном Кавказе. Это стало одной из причин, по которой совещание отказалось признать законность нового петроградского режима и приняло решение о создании независимого правительства «Закавказья» — то есть, фактически, бывшего имперского Кавказского наместничества. Через четыре дня было сформировано коалиционное правительство Закавказского комиссариата, в которое вошли представители всех основных национальных партий региона. После разгона Учредительного собрания в Петрограде 6 января 1918 г., 12 (25) января, Закавказский комиссариат постановил созвать Закавказский сейм — собственный парламент из числа избранных от региона делегатов на Всероссийское учредительное собрание и представителей национальных партий. Только 9 (22) апреля 1918 г., cломив сопротивление армянских делегатов, Закавказский сейм принял решение о создании независимого государства — Закавказской демократической федеративной республики. При этом само название независимого государства отражало перспективу имперского российского пространственного воображения: Южный Кавказ является «Закавказьем» только для наблюдателя с севера.
Несколько месяцев потребовалось и для того, чтобы мобилизовать «мусульманское» (тюрко-татарское) национальное движение после Февральской революции. 1 (14) мая 1917 г. в Москве открылся масштабный Всероссийский съезд мусульман. В течение 10 дней почти 800 делегатов обсуждали проблему политической организации своего сообщества солидарности — преобладающего большинства мусульман-суннитов Российской империи (правда, съезд претендовал на преодоление раскола уммы и представительство также и шиитов). Большинство представителей периферийных регионов — Туркестана, Южного Кавказа, Крыма, а также степных районов выступали за территориальную автономию в составе России как федеративного государства. Влиятельная делегация поволжских татар и представители Северного Кавказа отстаивали принцип культурной автономии. В итоге было принято соломоново решение: в целом мусульмане отстаивают принцип территориальной автономии (позволяющей принимать специальные местные законы), но там, где не удается добиться численного преобладания на определенной территории, должна существовать культурная автономия (обеспечивающая доступ к собственной системе образования, книгоизданию и т.п.).
Вполне ожидаемо компромисс продержался недолго, поскольку «мусульманская нация» предлагала слишком архаичный и обширный принцип солидарности. Развитие разных территориальных, политических и племенных проектов внутри исламского движения привело к тому, что уже в конце июля 1917 г. практически одновременно прошли несколько съездов: в Коканде состоялся Съезд трудящихся мусульман Ферганской области, в Оренбурге — Первый всебашкирский съезд и Первый всекиргизский (т.е. казахский) съезды, а в Казани сразу три съезда: Первый всероссийский съезд мусульманского духовенства, Первый всероссийский мусульманский военный съезд и Второй всероссийский мусульманский съезд.
На второй мусульманский съезд в Казани собралось в четыре раза меньше делегатов, чем на первый в Москве, и большинство представляло татарский национальный проект: одновременно и распыленный по обширной территории, и претендующий на лидерство в общемусульманском движении. Поэтому съезд провозгласил создание культурной автономии «мусульман Внутренней России и Сибири» и создал его правительство Милли Идарэ («национальное управление») из трех министерств: просвещения, финансов и религии. Было объявлено о подготовке парламента культурно-национальной автономии — Милли Меджлиса («национального совета»). Милли Меджлис открылся в Уфе 20 ноября (3 декабря) 1917 г., уже после большевистского переворота, от которого собравшиеся депутаты постарались дистанцироваться. На протяжении полутора месяцев существования Меджлиса культурной автономии «мусульман» в его работе на первый план постепенно выходили проекты именно территориальной автономии — не в последнюю очередь, из стремления отгородиться от режима Совнаркома хотя бы в составе федеративной России.
Потеря обратной связи
Таким образом, февральская революция лишь зафиксировала новую реальность и расчистила пути ее дальнейшего развития — окончательного дробления общеимперского социального пространства на многочисленные сообщества локальной солидарности. Почти все они изначально ориентировались на достижение своих целей в рамках Российской империи, поскольку развивали проекты прежнего десятилетия. Кроме того, численность активистов даже таких масштабных инициатив, как украинское или мусульманское движение, исчислялось сотнями человек, которым приходилось учитывать довольно пассивный настрой своей «социальной базы». Поэтому точнее всего будет охарактеризовать февральскую революцию как «имперскую революцию»: она смела режим, который доказал свою неспособность координировать многоуровневую имперскую ситуацию в условиях мобилизации современного массового общества. Несмотря на крах рамок единой имперской структуры и отсутствие общего компромиссного национального проекта, частные сообщества солидарности демонстрировали удивительную инерцию своей приверженностью к сохранению общего политического пространства. Стремление к изоляции, а затем и к сепаратизму развивалось постепенно и лишь в ответ на действия центральной власти, а не наоборот.
Собственно, эффект революции и возник от исчезновения имперского «центра», главным врагом которого оказался он сам, а не восстание «окраин». Именно коллапс режима Николая II, променявшего миссию общеимперского координатора на роль одной из «партий» со своими частными интересами, стимулировал ускоренное развитие проектов локальной самоорганизации — национальной, классовой, политической. Но и формирование Временного правительства не способствовало интеграции общества.
Причиной краха старого имперского режима стало взаимное отчуждение государственной машины исполнительной власти, Государственной думы как института политического представительства и инициатив самоорганизующегося массового общества. Только их объединение в рамках прогрессистского проекта «правительства народного доверия» могло обеспечить необходимое сочетание централизованной координации военных усилий и массовой поддержки общества. В ситуации, сложившейся после отречения Николая II, этот сценарий можно было реализовать лишь путем скорейшего созыва Учредительного собрания, которое одно могло бы гарантировать легитимность нового правительства в масштабах всей страны. Судя по планам подготовки и реально состоявшимся выборам в Учредительное собрание в 1917 г., для организации избирательного процесса требовалось около трех месяцев и еще две недели должны были пройти между голосованием и началом работы собрания после подсчета голосов. Это значит, что выборы могли бы состояться уже в начале июня 1917 г., а открытие Учредительного собрания — в конце июня. За это время Временное правительство пережило один — апрельский — кризис, в результате которого его состав расширился за счет включения шести представителей социалистических партий. Центральная Рада выпустила первый универсал, состоялся Первый всероссийский мусульманский съезд в Москве, новый сенат (правительство) Великого княжества Финляндского разработало законопроект «О передаче решения некоторых дел сенату и генерал-губернатору», по которому не только внешнеполитические связи, но и созыв и роспуск местного парламента признавался прерогативой имперского правительства. Можно лишь гадать, смогло ли бы созванное в июне Учредительное собрание найти формулу урегулирования всего разнообразия противоречий в масштабах Российской империи, однако реальная политическая ситуация сама по себе еще не являлась принципиальным препятствием для соглашения.
Компромиссным вариантом в условиях войны, не позволявшей растягивать на месяцы политическую реформу, был бы немедленный созыв Государственной Думы и формирование депутатами «правительства доверия» в течение нескольких дней или недель. Парадоксальным образом, правительство Временного комитета членов Государственной думы оказалось куда более враждебным к российскому парламенту, чем Николай II, чей указ о роспуске Думы предполагал возобновление ее работы «не позднее апреля». Сначала Временное правительство обещало созвать депутатов дум всех созывов 27 апреля на однодневное заседание, отмечающее одиннадцатую годовщину открытия Первой Думы. В итоге же, в мае–июле 1917 г. состоялось лишь восемь заседаний «частного совещания» узкого круга членов Четвертой государственной думы. Что бы ни стояло за решением фактически упразднить Думу — доктринерство (представление, что после революции стране необходим новый парламент) или прагматические соображения (опасения, что в полном составе, со значительным присутствием «правых» и консерваторов, Дума сформирует совсем иное правительство) — Временное правительство обрекло себя на провал. Оно не представляло никого и ничто, кроме «старой власти» — будучи произвольно отобранной группой депутатов дореволюционного парламента, избранного в результате многочисленных манипуляций с избирательным законодательством. Только принципиальная политическая пассивность (или, точнее, инерция) большинства граждан России в 1917 г. объясняет всеобщее признание авторитета Временного правительства.
Вынужденно разрушив костяк имперских правительственных институтов как «контрреволюционных» (отменив власть губернаторов, распустив полицию, потеряв контроль над армией) и фактически упразднив парламент, Временное правительство сделало структурно неразрешимым кризис, который вызвал падение режима Николая II. Из трех главных институтов, на которые опиралось единство имперского общества, революцию пережили лишь инициативы общественной самоорганизации. По сути, Временное правительство и было режимом победившей политической нации имперской «общественности», но вне посредничества Учредительного собрания или, хотя бы, Думы не существовало физической возможности координировать единство этой нации, помогать оперативно вырабатывать компромиссные решения возникающих перед страной проблем, реализовывать политический потенциал общественности как «нации». В результате, мобилизованная общественность начала стремительно расходиться по более конкретным частным «национальным» проектам (политическим, этническим, культурным), и лишь привычка воспринимать себя в общем российском имперском пространстве объясняет, почему Россия продолжала оставаться «естественной» рамкой для большинства из этих локальных инициатив.
Одним из таких частных общественных проектов был Петроградский совет, который изначально возник как орган самоорганизации и координации протестующих рабочих с целью поддержать Временное правительство. В течение считанных дней произошла стремительная радикализация Совета и переход в оппозицию к правительству. Этот резкий разворот в значительной мере объяснялся структурной ситуацией отсутствия всякой обратной связи и политического представительства после февральской революции. Подобно Комитету членов Государственной Думы, Совет также был сформирован вне формальных процедур массового волеизъявления, явочным порядком. Но, во всяком случае, в него вошли люди с «улицы», и такое примитивное представительство давало гораздо больший авторитет (а значит, и готовность подчиняться ему), чем у келейно назначенного Временного правительства. Согласившись стать органом не только рабочих, но и солдатских депутатов, Совет упрочил свою претензию на представительство участников восстания и получил в свое распоряжение главную движущую силу февральского переворота — деморализованную солдатскую массу тыловых частей.
Теоретически, в Петроградский совет вошли по одному представителю от каждой тысячи рабочих и от роты солдат, но никакой формальной организации процесса делегирования и способа проверить его не существовало. Еще важнее то, что отсутствовал сам критерий «представительства»: речь шла о делегировании конкретных индивидуумов, даже не членов партий с определенной программой. Невозможно было заранее спрогнозировать, какие решения будет поддерживать конкретный делегат — тем более, в динамичной, постоянно меняющейся обстановке. Представление о том, что рабочий «представляет» других рабочих, могло существовать лишь в глубоко книжном, идеологическом и «социологическом» восприятии общества, признающим абстракцию «пролетариата» (или «буржуазии», или «русских», или «москвичей») реальным внутренне однородным коллективом. Поэтому претензия советов на власть была практически столь же абстрактной и формальной, как и у Временного правительства — проекта другой группировки общественности. Однако если Временное правительство подчеркивало законность наследования властных полномочий от «старого режима» (тем самым дополнительно компрометируя себя), то Петроградский совет указывал на свою легитимность в качестве нового революционного органа — исключительно благодаря своему социальному составу. Если большинство Совета составляли конкретные рабочие и солдаты, ожидалось, что Совет отражает интересы этих социальных слоев в целом.
Столь фантастическая логика, в сочетании с отсутствием реального представительства избирателей (кроме «социологического»), загнала советы в ловушку. Самые маргинальные политические силы могли рассчитывать на поддержку советов, если формально соответствовали критериям «социальной базы», представителями которой безосновательно объявляли себя советы. Они не могли позволить себе игнорировать «голос народа» — но не существовало способа оценить весомость раздающихся «голосов». Играя роль единственного выразителя «народных интересов», Совет навязывал всему населению программу, которую самому Совету могли навязать самые маргинальные группировки или вовсе несколько активных деятелей в его руководстве.
Это стало понятно в первые же дни существования «советской власти». Утром 2 (15) марта 1917 г. в газете «Известия Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов» (основанной двумя днями раньше в захваченной типографии газеты «Копейка») вышел от имени всего Совета «Приказ № 1». Этот документ подчинял Совету войска гарнизона, отменял единоначалие в армии, вводя во всех подразделениях выборные комитеты «от нижних чинов», которым и подчинялись отныне как солдаты, так и офицеры. Как выяснилось, даже большинство руководства Петросовета — его исполнительный комитет — было не в курсе этого «приказа», который не был физически подписан его членами. Существует предположение, что опубликованный документ вообще не имел отношения к тексту, который разрабатывала одна из комиссий совета под давлением солдат (и к пожеланиям самих солдат), а был целиком написан редактором газеты, активистом большевистской партии Владимиром Бонч-Бруевичем (1873–1955). Тем не менее, несмотря на свое отрицательное отношение к тексту «приказа», руководство Петросовета не отказалось от него и продолжало защищать его от критики: иначе оно выглядело бы предателем интересов «солдатской массы».
10.17. Великая имперская контрреволюция
Распад структур солидарности и неизбежность гражданской войны
Даже если бы в советы действительно проходили представительные выборы, сама претензия одного из многих проектов самоорганизации общества на руководящую роль в стране являлась структурной предпосылкой гражданской войны. Один «частный интерес» всегда противоречит другому, тем более что одни и те же люди в разных социальных ипостасях могут иметь прямо противоположные интересы. Так, призванный из псковской губернии солдат вполне ожидаемо желал вернуться домой и не воевать — и солдатский совет естественно поддерживал отмену воинской дисциплины. Но в иной своей ипостаси — псковского крестьянина — тот же человек, вероятно, не желал оккупации деревни германскими войсками и готов был сражаться. Наконец, воюя на фронте, он мог осознать, что его жизнь напрямую зависит от поведения других, и если угроза военно-полевого суда может помешать соседней роте бежать с позиций, побросав оружие, то военно-полевой суд не стоит отменять. Структурная имперская ситуация многомерности социальных ролей никак не отменялась с падением монархии. Координацией этих разных ипостасей с разными интересами одного и того же человека (а тем более, разных групп интересов) мог заниматься парламент, включающий представителей разных партийных платформ и программ. Но никакого надпартийного и надклассового координационного органа так и не появилось, а блюдущие свои «ведомственные» интересы советы рабочих депутатов имели непримиримые разногласия с советами крестьянских депутатов, не говоря уже о проектах самоорганизации других социальных групп.
Катастрофический дефицит обратной связи петроградских властей (и Временного правительства, и Совета) с обществом проявился в радикализации политической обстановки «сверху». В ситуации, когда степень общественной поддержки измерялась лишь массовостью демонстраций и лозунгами митингов, петроградские власти пытались угадать, чего бы хотели их «избиратели», которые, на самом деле, никого и не избирали. Поэтому они вбрасывали лозунги, которые сами считали популярными у «масс».
Характерным примером может служить обещание радикальной земельной реформы. В отличие от ситуации 1905 г., когда в центральных регионах империи, после двух неурожайных лет, под финансовым гнетом выкупных платежей (наследия реформы 1861 г.), в условиях неправильно организованного трехпольного севооборота крестьяне видели выход в расширении своих земельных наделов, никакого «земельного голода» в 1917 г. в деревне не ощущалось. Не то чтобы кто-то возражал против дополнительной дармовой собственности, но сама социально-экономическая логика изменилась настолько, что решение насущных проблем перестало связываться с расширением землепользования. В результате столыпинской реформы крестьянство получило возможность существенно увеличить наделы путем покупки и аренды, проект «общественной агрономии» открыл возможности интенсификации хозяйства на имеющейся земле, массовый призыв трудоспособных мужчин в армию оставил хозяйства без работников, накачка деревни деньгами при одновременном расстройстве рынка лишала стимулов производить излишки продуктов. Крестьянские хозяйства год от года сокращали площади посевов на имеющейся у них земле — но идеологизированные лидеры социалистических партий полагали, что крестьян интересует не справедливый баланс цен на зерно и городские товары, а помещичья земля.
Вместо того чтобы предоставить крестьянам голос по самому широкому кругу вопросов (не ограниченному искусственно «сословными» интересами) через демократические выборы парламента, лидеры советов, а с мая 1917 г. и Временное правительство продвигали идею радикального обобществления земли. Поначалу «революционизация» деревни шла с трудом. В марте, после ликвидации прежней администрации, включая полицию, повсеместно прошла замена волостных правлений новыми «исполнительными комитетами». Неприязнь к крупным землевладельцам выражалась, главным образом, в изъятии у них крестьянами огнестрельного оружия: городские легенды о пулеметах, из которых якобы городовые расстреливали демонстрантов с чердаков, захватили воображение и деревенских жителей. В апреле прошли первые крестьянские съезды, организованные городскими советами. Отобранные ораторы из числа советских функционеров не могли и не хотели обсуждать практические вопросы, вроде статуса арендованных земель, но горячо призывали к конфискации поместий (главным образом, уже находившихся в аренде у крестьян). Следуя ритуалу революционного митинга, крестьян пытались заставить исполнять революционные песни, которых они не знали и вместо них с чувством пели «Христос воскресе из мертвых» (Пасха пришлась в 1917 г. на 2 (15) апреля). Наконец, в мае (после назначения лидера эсеров Виктора Чернова министром земледелия) начали приходить сведения о нарастании беспорядков в деревне — но не тех, которые ожидали городские активисты по опыту 1905 г. Крестьяне собирались на сходы и принимали решения об изгнании участковых агрономов, учителей и участковых врачей — все для того, чтобы не платить земские налоги. Причем происходило это не в «медвежьих углах», а в таких губерниях, как Харьковская, известная своим прогрессистским земством, финансировавшим амбициозные программы развития деревни. Исключение составил лишь Лебединский уезд губернии, в котором агрономы не участвовали в реквизициях крестьянского зерна в рамках начатой в конце 1916 г. политики «продразверстки», которую продолжило Временное правительство.
И только осенью 1917 г. начались погромы чужой собственности: помещиков, «столыпинских крестьян», вышедших из общины на хутора, земских опытных станций — без разбора. Происходило это за несколько месяцев до открытия Учредительного собрания, на котором, как было заранее обещано Временным правительством и советскими лидерами, должна была быть принята радикальная земельная реформа, перераспределявшая весь земельный фонд в интересах «трудовых крестьянских хозяйств». Так что правительственная пропаганда революционного переворота в деревне не имела прямого отношения к настроениям крестьян ни весной, ни осенью 1917 г., а уж тем более не была спровоцирована ими. На протяжении 1917 г. c деревней происходило то же, что с этнонациональными проектами и политическими движениями: постепенное сужение сферы локальной солидарности при одновременно нарастающем отторжении «чужаков». Развивавшееся по принципу «каждый сам за себя» бывшее имперское общество, лишенное всяких механизмов координации и посредничества, рано или поздно должно было прийти к состоянию межгрупповых конфликтов. Удивительно, что потребовалось более полугода, прежде чем стихийное размежевание перешло в стадию непримиримого противостояния, а место единого имперского общества, действующего в локковской логике, заняло гоббсовское состояние войны «всех против всех».
Сначала «все» означали «всех своих» в рамках пространства локальной солидарности: всех рабочих, или социалистов, или мусульман. Но формальное «социологическое» единство не гарантировало идентичной реакции членов сообщества на изменяющиеся обстоятельства. Поэтому с каждым месяцем усиливалось внутреннее размежевание внутри групп солидарности по конкретным вопросам и конфликты с альтернативными проектами. После февральской революции оппонентов неизменно объявляли «контрреволюционными», в том же смысле, как называли бы «антигосударственными» при авторитарном режиме: если в обществе отсутствуют институты достижения компромисса, любая оппозиция воспринимается как угроза заведенному порядку. На практике даже военные заговорщики действовали как одна из локальных инициатив общественной самоорганизации, сообщество солидарности «своих». В колоссальной имперской армии военного времени не оказалось готовых собственно армейских структур, способных вмешаться во внутреннюю политику. Лишь после большевистского путча, к январю 1918 г., начал складываться костяк сообщества профессиональных военных, не согласных с режимом Совнаркома. Поодиночке и мелкими группами в несколько тысяч человек (не более 2-3% от общего числа офицеров) добирались в Новочеркасск (центр Донской области), где формировалась Добровольческая армия — типичный образец общественнической самоорганизации.
К этому времени открытая гражданская война между разными сообществами локальной солидарности в ограниченных масштабах шла уже несколько месяцев. Еще в конце августа 1917 г. впервые был объявлен «врагом народа» политический оппонент — Верховный главнокомандующий армией генерал Лавр Корнилов (1870–1918), которого Временное правительство привлекло для ликвидации Петроградского совета, но в последний момент, испугавшись усиления роли армии, объявило путчистом. Уже в начале декабря 1917 г. подчинявшиеся Совнаркому вооруженные отряды были направлены против УНР. Но только после разгона столь запоздало созванного Учредительного собрания 6 января 1918 г. масштабная гражданская война на территории бывшей Российской империи стала неизбежной. Надвигающаяся контрреволюция означала распад веры в общее будущее общества, а не в конкретные консервативные сценарии возможного общего будущего.
Гражданская война как самоорганизация постимперского общества
Возможно, если бы Российская империя действительно распалась на самостоятельные «национальные государства», накал противостояния в масштабах каждого из них оказался на несколько порядков меньше, а вероятность достижения компромисса — выше. Однако, за несколькими исключениями, лишь подтверждающими правило (например, Финляндия), все «национальные» проекты носили элитный характер, не могли опереться на сколько-нибудь четкие территориальные границы и, в логике имперской ситуации, частично пересекались друг с другом. Украинский или «мусульманский» национализм сталкивался с альтернативным принципом рабочей (советской) солидарности, деревенского «сепаратизма» или политической партийной ориентации.
Большинство этнонациональных движений в 1917 г., как и революционные программы, представляли собой вариации проекта «современного» общественного устройства, которые общероссийская общественность разрабатывала как альтернативную современность (по отношению к имперскому режиму). При этом фундамент данной альтернативной версии современности был заложен еще в эпоху домассового общества — в середине XIX в. Тогда казалось естественным, что самое сложное общество можно реорганизовать на справедливых началах через самоорганизацию, по принципу «федерации свободных и совершенно самостоятельных общин» (формула российских анархистов) — подобно тому, как вера в «невидимую руку рынка» обещала урегулирование экономических противоречий. Каждая «община» (территориальная или национальная) должна была посылать своих представителей для обсуждения и решения более глобальных проблем на каждый следующий уровень, и так выстраивалось бы гармоничное большое постимперское общество. С одной стороны, этот тип социального воображения прекрасно согласовался с современной идеологией прогрессистского реформизма. С другой, он полностью игнорировал роль государства в смысле постоянных формальных институтов в деле организации сложного общества хотя бы в качестве вспомогательного или запасного средства. Вера во всемогущество самоорганизации для разрешения социальных конфликтов требовала лишь одного: достижения полного единодушия внутри каждой самоорганизующейся общины. Тогда «окончательное» и неизменное мнение всех «крестьян» можно было бы согласовать с таким же солидарным мнением всех «рабочих», мнение «мусульман» — с мнением «украинцев».
В реальности же после февраля 1917 г. все более очевидным становилось отсутствие каких бы то ни было гомогенных «общин» с едиными одномерными интересами. Линии раскола по разным принципам солидарности проходили через деревню, через заводской цех, через съезд национальных активистов. В отсутствие общих, признаваемых всеми законными внешних рамок (принципов общежития или государственных институтов), дальнейшая самоорганизация приводила к расширению линий размежевания и к сужению сообществ локальной солидарности. Мобилизованное мировой войной и революцией массовое общество вступило в тотальную гражданскую войну, когда сравнительно незначительное количество решительных активистов с каждой стороны (до второй половины 1918 г. — тысячи, но не более нескольких десятков тысяч у самых массовых движений) приступили к разрешению многочисленных локальных и глобальных противоречий с помощью оружия. Численность вооруженных участников противостояния и его масштаб постоянно увеличивались — по мере того, как все больше людей оказывались затронутыми не столько самими социальными конфликтами, сколько боевыми действиями по их поводу. У войны быстро появляется собственная логика, мало связанная с непосредственными причинами ее развязывания.
Угроза сползания в гражданскую войну стала очевидной уже летом 1917 г. В ожидании запоздалых выборов в Учредительное собрание, режим Временного правительства инстинктивно пытался компенсировать отсутствие механизмов координации фрагментов распадающегося имперского общества: в августе 1917 г. прошло Московское государственное совещание, обсуждавшее преодоление политического кризиса. Оно было призвано смоделировать имперское общество и выработать на основе этой модели некие спасительные решения. Среди двух с половиной тысяч участников совещания 20% составляли депутаты Государственной думы, 13% — кооператоры, 9% представляли советы, 7% — профсоюзы, по 6% — городские думы и финансово-промышленные круги, около 5% — земства. Кроме того, отдельные квоты были зарезервированы за земствами, национальными активистами, духовенством, «интеллигенцией». Несмотря на столь разнообразный состав совещания, было неясно, кого именно и на каком основании оно представляет и какой вес могут иметь его постановления. Спустя месяц, в конце сентября, в Петрограде было созвано Демократическое совещание. Если Московское совещание должно было выражать настроения всего российского общества (пусть и на основании совершенно фантастически выкроенной «карты» основных групп), то почти 1600 участников Петроградского совещания представляли, в основном, партии и общественные организации, непосредственно претендующие на власть. И вновь граждане недавно провозглашенной Российской республики не имели никакого отношения к определению состава этого форума. Неясным оставалось и распределение количества делегатов между разными группами: почему делегаты от советов составляли 29%, а от национальных организаций — меньше 4%? Самозванное, по сути, Демократическое совещание организовало из своего состава Временный совет Российской республики («Предпарламент»), демократическая форма которого маскировала отсутствие какой-то связи с реальным волеизъявлением граждан.
Неуклонное снижение авторитета Временного правительства, которое не утверждал никакой парламент (как полагалось «правительству народного доверия»), и бессилие Предпарламента, который никто не выбирал, подрывали доверие к демократическим государственным институтам. Сведя демократию к ритуалу принятия решений, февральский режим оказался бессильным перед процессами самоорганизации. Демократия как принцип формирования государственных институтов могла бы помочь направить самоорганизацию в русло новой государственной конструкции — общей и «ничьей» в отдельности, — предоставив каждому гражданину голос, тем самым сделав сам акт волеизъявления «системообразующим». Поддержка социалистов или монархистов выражалась бы тогда в участии в общих государственных институтах, авторитет которых создавался самим фактом личной вовлеченности граждан. Вместо этого, считая себя лишь рупором самоорганизующейся «общественности», Временное правительство пыталось самостоятельно определять «медиану» настроений в обществе — неизбежно запоздало и неадекватно, оставляя недовольным каждого. Самоорганизация разных групп интересов всецело протекала вне слабых государственных структур, и нарастающая холодная гражданская война в любой момент могла перейти в «горячую» фазу, стоило только одной из таких групп узурпировать до поры «беспочвенную» и потому ничтожную государственную власть.
Произошедший через три недели после начала заседаний Предпарламента большевистский переворот стал лишь одним из эпизодов разгоравшейся гражданской войны. 21 октября (3 ноября) начал работу Военно-революционный комитет Петроградского совета (ВРК), его реальным руководителем являлся председатель Петросовета большевик Лев Троцкий (1879–1940). Созданный для защиты Петрограда от наступления германской армии с одобрения Временного правительства, ВРК сосредоточился на организации переворота. Во все воинские части и на все стратегические объекты города были направлены комиссары, без согласия которых не исполнялся никакой приказ. В действиях ВРК было столько же злого умысла, сколько следования логике ситуации: авторитет правительства основывался на угасающей привычке подчинения «ничейному» государству, а влияние ВРК зависело от низовой инициативы: хоть для кого-то ВРК был «своим».
Таким образом, без каких-либо крупных манифестаций или вооруженных столкновений, уже 25 октября практически весь Петроград оказался во власти ВРК (фактически — руководства большевистской партии). В ночь на 26 октября 1917 г. сравнительно немногочисленные отряды, подчинявшиеся ВРК, заняли Зимний дворец и арестовали членов Временного правительства. Свершившийся переворот оказался едва заметным на фоне событий осени 1917 г., что вынудило позднее создать миф о героическом штурме Зимнего — иначе было очень трудно объяснить роль этой едва ли не технической операции по смене правительства. Многие современники так и отнеслись к этим событиям — как к малопримечательному эпизоду распада центральной власти в стране. Однако, как оказалось позднее, октябрьский переворот действительно сыграл решающую историческую роль — вероятно, именно потому, что отбросил любые попытки добиться компромисса в обществе и наладить обратную связь власти с различными группами интересов. Новый режим провозгласил лозунг «диктатуры пролетариата», который был не просто социологической абстракцией, но практическим рецептом установления господства, принципиально порывавшим с курсом Временного правительства.
Если Временное правительство пыталось действовать как власть большинства (стремясь к удержанию единства российского общества, пусть и негодными средствами), то новый большевистский режим отбросил эту задачу, поставив перед собой простую цель: возглавить и организовать сплоченное и хорошо вооруженное меньшинство. Вопреки распространенному (тогда и сегодня) мифу о революции как единодушном массовом порыве, «восстание масс» и в 1905, и в 1917 г. представляло собой разнонаправленные инициативы, в которых принимали участие лишь несколько процентов населения. Более того, со второй половины 1917 г. современники отмечали нарастающую политическую апатию людей, отчаявшихся увидеть отражение именно их интересов в политической сфере. «Революцией» эти события делала, прежде всего, радикальная трансформация социального воображения, когда прежний порядок начинал восприниматься как несправедливый и нерациональный, а значит — нелегитимный. Широкая дискредитация режима Николая II, как и разочарование населения во Временном правительстве, стали главной причиной их падения — что вовсе не требовало от граждан единодушия по любым остальным вопросам и даже реальной политической мобилизации.
Для устойчивой широкой политической мобилизации требуются организационные формы (например, реальный парламент) или, хотя бы, разделяемый большинством конкретный план действий. Без этого каждый остается сам за себя и «меньшинством» по отношению к самой маргинальной, но сплоченной, группировке. 25 октября 1917 г. лидеры большевистского переворота в Петрограде смогли опереться на несколько десятков тысяч солдат петроградского гарнизона, опасавшихся отправки на германский фронт — а Временное правительство, формально располагавшее всеми вооруженными силами республики, не смогло противопоставить путчистам и нескольких тысяч мотивированных защитников. Объявление программы диктатуры пролетариата помогло большевикам подчинить себе потенциал нескольких разрозненных, но активных очагов самоорганизации: солдат, не желающих воевать на фронте; бедняков, надеющихся на улучшение своего положения; национальных активистов, отчаявшихся реализовать свои планы. Им был обещан план бескомпромиссной реализации их устремлений, неуязвимый для критики в своей утопичности (одновременно беспрецедентный и неконкретный). В то же время, противники большевиков, претендуя на объединение «большинства», не могли предложить никакого «общего знаменателя» окончательно распавшемуся российскому обществу — расколотому на частные проекты локальной солидарности, все более пассивному в своей массе, лишенному мотивации и ясного видения цели. После распада политической нации общеимперской «общественности» на враждующие движения было уже невозможно рассчитывать на спонтанную самоорганизацию в сложные социальные формы на основе политического компромисса в масштабах всей страны.
Еще опаснее провала «общего дела» были последствия утраты «общего языка». Стремительная сегрегация общества на полуизолированные группы, со своей системой ценностей и целями каждая, привела к тому, что прямое физическое насилие оказалось единственным оставшимся универсальным, понятным каждому «языком» аргументации и взаимодействия. То, что воспринималось как эксцесс в начале 1917 г., стало рутиной к концу года. Все возникающие спонтанно после 1917 г. новые очаги власти прибегали к насилию как главному аргументу в свою поддержку. Сама легитимность властей всех уровней основывалась на способности доказать большую силу и готовность к насилию, чем у оппонентов. Поэтому политика террора стала непременным залогом успеха в самоорганизации новых рудиментных политических форм, и наиболее эффективно ее применили большевики, открыто объявив 5 сентября 1918 г. составной частью своей программы «Красный террор». Целью публичных казней — хотя бы с публикацией имен жертв в газетах, если не удавалось провести убийства на главной площади — было не уничтожение врагов, а демонстрация самой готовности к массовому насилию. В идеале, жертвами террора вообще должны оказываться случайные люди, наказываемые за деяния, заведомо ими не совершенные: смысл террора в демонстрации неограниченной способности к насилию, а немотивированное насилие эффектнее всего доказывает такую способность.
Систематический террор требует создания специального карательного аппарата, который часто принимают за элемент государства. Это распространенное и очень существенное заблуждение: на самом деле, управление обществом через террор возможно лишь в ситуации спонтанной самоорганизации, не подчиняющейся институциональной власти и постоянным правилам (законам). Указанное различие имеет самое практическое значение, никак не сводящееся к абстрактным теоретизированиям: столь характерная особенность, как политика массового террора, позволяет не просто «поставить диагноз», но и понять логику и «устройство» общества, объяснить и даже предсказать его поведение в разных условиях. В частности, проведение политики террора всегда свидетельствует об отсутствии государства как особого института и как самой идеи — той, что распространилась в Северной Евразии благодаря камералистской революции Петра I. Идеализированное представление о государстве как обезличенной машине, работающей по четким правилам законов благодаря чиновникам, лишенным в своей служебной деятельности всякого личного интереса (материальной корысти, эмоциональной реакции, идейных предпочтений), позволяет управлять обществом в «автоматическом» режиме постоянного и всеобщего контроля. Этот повседневный контроль осуществляется не столько угрозой насилия со стороны полиции и судов, а уж тем более не периодическими показательными казнями, сколько интеграцией населения в политическую нацию, разделяющую общее социальное воображение. Именно общая сфера воображения помогает отделить должное поведение от правонарушения, формирует представление о ценностях. Функционирующее государство не совместимо с демонстративным террором, который, кроме всего прочего, является непродуктивной растратой человеческих ресурсов. Счет жертв лишь красного террора в 1918–1922 гг. — наиболее масштабного из террористических кампаний этой эпохи — идет на сотни тысяч человек.
Опора на террор как регулярную практику управления указывает на отсутствие современного государства, а также нации как заочной солидарности «своих», готовых осмысленно и добровольно подчиняться идеалу «общего блага». В этой ситуации атомизированного населения «политическая экономия» и рациональность власти выглядит совсем иначе, чем в современном государстве. Каждый самопровозглашенный локальный командный центр все равно не имеет никакой естественной опоры на «подданных». И Совнарком в Петрограде, и крестьянский атаман в нечерноземной губернии имеют почти одинаковые права на власть в глазах местного населения — нулевые. Но если демонстративно уничтожать часть «ничейного» населения, то можно заставить другую часть подчиняться из страха, что выглядит явным приобретением. Более того, если очертить категорию разрешенных к уничтожению врагов по некоему социальному признаку — например, евреев, или казаков, или буржуазию — то впервые появляется возможность сплотить вокруг себя сторонников уже на основании столь же «социологического» принципа заочной групповой солидарности. Это еще не модерная нация, сплоченная активной вовлеченностью в общую публичную сферу обсуждения злободневных проблем, но уже и не просто сборище людей, насильственно мобилизованных под угрозой смерти.
Подобный механизм социальной мобилизации уже использовался русскими националистами-протофашистами вроде Крушевана в начале ХХ в., но тогда черносотенный проект воспринимался как маргинальный и тупиковый. После 1917 г. стратегия сплочения через негативную идентификацию — как сообщества всех, кто не принадлежит к париям, признанным законными жертвами, — стала основным механизмом мобилизации массового общества на территории бывшей Российской империи. Террор выступал в качестве негативного фактора самоорганизации, заставляя людей активно принимать ту или другую сторону и тем самым структурируя аморфное общество. К немногим идейным сторонникам режима примыкали куда более многочисленные массы обывателей, стремившихся избежать участи жертвы, столкнувшись с угрозой безжалостного насилия.
Впрочем, с самого начала советский режим опирался и на позитивную самоорганизацию тех, кто занимал маргинальное положение до революции и не увидел существенного прогресса после февраля 1917 г. Революционность большевиков проявлялась не в радикализме как таковом, а в последовательном проведении определенной «политики будущего», в которой находилось место многим локальным группам интересов. То, что источником влияния режима была стихийная самоорганизация (примитивно корректируемая им при помощи террора), а не государственные институты (ограниченные определенной политической системой), позволяло оперативно подстраиваться под меняющиеся обстоятельства. Например, в начале марта 1919 г. главной опасностью для советского режима с центром в Москве (РСФСР) стало успешное наступление войск Верховного правителя Российского государства (господствовавшего за Уралом) адмирала Александра Колчака (1874–1920). После занятия Перми войска Колчака успешно продвигались к Волге — к Казани и Симбирску («полет к Волге»). Несмотря на то, что общая численность Красной армии достигала полутора миллионов человек, большевистское правительство сочло настолько важным переход на свою сторону 6.5 тысяч мотивированных бойцов Башкирского корпуса из состава армии Колчака, что вступило в переговоры с башкирскими национальными лидерами. Не предполагая иного будущего, кроме восстановления государственности «единой и неделимой России», адмирал Колчак не допускал создания национальных автономий. Большевики в момент прихода к власти также не планировали формирования национальных территориальных образований — ни в теории, ни в качестве временной тактической меры. Но, решив использовать потенциал самоорганизации конкретного сообщества солидарности — сравнительно компактного башкирского национального движения, они подписали 20 марта 1919 г. документ о создании Автономной башкирской советской республики в составе РСФСР. Непосредственным результатом этого решения стали переход основной части Башкирского корпуса на сторону Красной армии и восстание башкирских районов против армии Колчака, сыгравшие огромную роль в срыве ее так удачно начавшегося наступления. Неожиданным, но не менее значительным последствием признания башкирского проекта самоорганизации стало переформатирование самого советского режима. Спустя год на аналогичных основаниях в РСФСР возникла Татарская автономная республика, а затем проект объединения национальных территориальных автономий под советской властью полностью вытеснил прежний идеал вненациональной классовой (пролетарской) всемирной республики. Самоорганизация по определению предполагает обратную связь и, эксплуатируя потенциал локальных проектов самоорганизации, советский режим и сам менялся под их влиянием.
Таким образом, координируемая большевиками самоорганизация отдельных незначительных меньшинств постепенно наращивала свою социальную базу, разрастаясь как снежный ком. Диктатура большевистской партии и масштабный террор не отменяли принципиально коалиционного характера советского режима: его жизнеспособность зависела от включения в свою орбиту и «приручения» любых спонтанных проявлений локальной солидарности (кроме напрямую враждебных, которые пытались уничтожать). Поэтому главные усилия большевиков были направлены на недопущение возникновения альтернативных центров социальной интеграции (наподобие старой общественности): стратегически большевистский режим основывался на поддержании раздробленности общества, связанного лишь структурой партийной сети. Советская формула 1930 г. допускала существование человеческих различий лишь как «социалистических по содержанию и национальных по форме». В этом заключалось принципиальное расхождение с проектом Российской империи, наиболее последовательно воплощавшимся Екатериной II: интегрировать существующее многомерное разнообразие («по содержанию») в рамках универсальных по форме институтов.
Так или иначе, подход большевиков доказал свою эффективность: в 1922 г. большая часть территории бывшей Российской империи вновь оказалась под контролем единого политического режима. Результатом самоорганизации в ходе многолетней тотальной гражданской войны стало формирование нового политического феномена, получившего название Союза советских социалистических республик (СССР).
При этом, пространственное совпадение с Российской империей и прямое заимствование элементов прежней экономики и культуры не отменяют принципиальной новизны СССР как продукта масштабной самоорганизации. «Империя» является реальностью лишь в смысле особого представления об упорядочивании разнообразия. С точки зрения исследователя — стороннего наблюдателя, можно весьма продуктивно описывать многомерный контекст несистематизированных различий как «имперскую ситуацию». А с точки зрения человека, воспринимающего ее «изнутри», существуют конкретные государственные институты, экономические отношения, культура. То, что в СССР можно обнаружить элементы структурной имперской ситуации (по-разному проявлявшиеся в разные периоды), не делает СССР «преемником» Российской империи — ведь та же структурная ситуация обнаруживается и в других обществах по всему миру. Конкретные же институты и подходы к управлению человеческим разнообразием изменились столь радикально, что советское общество лишь фрагментарно можно описывать в тех же категориях, что и позднюю Российскую империю.
Исторический разрыв второй половины 1910-х гг. оказался слишком принципиальным — возможно, гораздо глубже нового разрыва начала 1990-х гг. Но и само общество СССР прошло, по крайней мере, еще через одну масштабную «перезагрузку» самоорганизации в 1940-х гг., что накладывает дополнительные ограничения на возможность простых обобщений исторической динамики региона в ХХ веке. Слишком глубоки различия между обществом 1930-х и 1960-х гг., одинаково «советским» с формальной точки зрения. Все же с высоты сегодняшнего дня можно достаточно уверенно утверждать, что полтора тысячелетия процессов самоорганизации внутренне структурировали территории Северной Евразии и, в конце концов, интегрировали их в глобальный мировой контекст. Распад СССР в 1991 г. показал, что отдельные региональные сообщества не нуждаются больше в посреднике для полноценного взаимодействия с «большим миром».
Интересно, что попытки глобализации массового общества региона (а не только политических элит) в рамках единой политической организации — Российской империи или СССР — дважды провалились в ХХ веке. Она оказалась неспособной примирить структурную имперскую ситуацию многоуровневого человеческого разнообразия с вызовами глобального прогрессивизма и мировой войны в 1910-х гг. и глобального потребительского общества и холодной войны в 1980-х гг. Точнее, с этой задачей не справилась интеллектуальная элита формальной метрополии, не сумевшая сформулировать эффективную постимперскую программу поддержания разнообразия в современном глобализированном мире.
Однако было бы пагубным заблуждением считать эту задачу несущественной или более простой в постсоветских «национальных» государствах, которые отличает лишь меньший масштаб. Структурная имперская ситуация многомерного разнообразия требует адекватного политического выражения независимо от формального наименования общества. Когда постимперские национальные государства в 1930-е гг. игнорировали проблему, не решенную имперской «общественностью», они неизбежно формировали фашистские геноцидальные режимы подавления разнообразия. Нет оснований надеяться на то, что постсоветские национальные государства смогут с легкостью избежать этой угрозы без сознательных усилий всего общества. Им необходимо найти собственную формулу примирения массового общества, разнообразия и глобализации.
УДК 94 (100)
ББК 63.3(0)
Н72
«Ab Imperio» издается с 2000 г. ()
Редактор курса Илья Герасимов
Авторы: Илья Герасимов, Марина Могильнер, Сергей Глебов
При участии Александра Семенова
Корректор: Мария Новак
Н72
Исторический курс «Новая имперская история Северной Евразии» подготовлен коллективом исследователей, с 2000 г. разрабатывающих современную версию наднациональной истории в рамках проекта новой имперской истории журнала Ab Imperio. Авторы предлагают новый язык изучения и осмысления пространства, общества и институтов, которые существовали в пределах нынешней Северной Евразии и еще в относительно недавнем прошлом входили в состав СССР. Они отталкиваются не от предыстории некоего современного государства или народа (которые в традиционной логике воспринимаются вечными и неизменными «игроками» исторического процесса), а от современных аналитических вопросов, суть которых можно свести к проблеме упорядочения человеческого разнообразия и управления им. Причем главным механизмом этих поисков выступают процессы самоорганизации, когда новые идеи, практики и институты создаются на новом месте заново или творчески адаптируются в результате заимствования. Можно сказать, что это история людей, самостоятельно ищущих ответы на универсальные проблемы в уникальных обстоятельствах (как уникальны обстоятельства любой человеческой жизни).
ISBN 978-5-519-51102-5
ISBN 978-5-519-51104-9
Новая имперская история Северной Евразии. Часть 2: Балансирование имперской ситуации: XVIII — ХХ вв. / Под ред. И. Герасимова. — Казань: «Ab Imperio», 2017. — 630 c. (Библиотека журнала «Ab Imperio»).
ISBN 978-5-519-51102-5 (комплект)
ISBN 978-5-519-51104-9 (часть 2)
© Ab Imperio, 2017
© Авторы, 2017
Новая имперская история Северной Евразии
часть 2
Балансирование имперской ситуации: XVIII — ХХ вв.
Под редакцией Ильи Герасимова
Авторы: Илья Герасимов, Марина Могильнер, Сергей Глебов
При участии Александра Семенова
Корректор: Мария Новак
Подготовка указателя: Зухра Касимова
Оригинал-макет подготовлен редакцией журнала «Ab Imperio»
email: office@abimperio.net
Подписано в печать 5.06.2017
Формат А5
Гарнитура Times New Roman
Объем 36,382 усл. печ. л.
В серии «Библиотека журнала Ab Imperio» вышли книги:
Новая имперская история постсоветского пространства: Сборник статей. Казань: ННУ ЦИНИ, 2004.
Мифы и заблуждения в изучении империи и национализма. Москва: Новое издательство, 2010.
Изобретение империи: языки и практики. Москва: Новое издательство, 2011.
Империя и нация в зеркале исторической памяти. Москва: Новое издательство, 2011.
Конфессия, империя, нация: религия и проблема разнообразия в истории постсоветского пространства. Москва: Новое издательство, 2012.
Регион в истории империи: исторические эссе о Сибири. Москва: Новое издательство, 2013.
Скачать книги можно на сайте журнала: .
ISBN 978-5-519-51102-5 (комплект)
ISBN 978-5-519-51104-9 (часть 2)
Published by Ab Imperio, Inc.
В оформлении обложки использована композиция «Нежное напряжение» (Zarte Spannung) Василия Кандинского, 1923 г. Оригинал: бумага, акварель и чернила, 35,5 × 25 см. Мадрид, Музей Тиссена-Борнемисы.


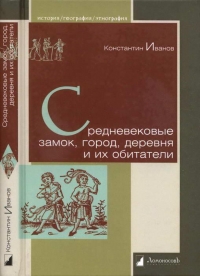

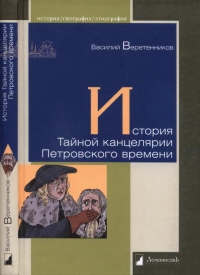
Комментарии к книге «Новая имперская история Северной Евразии. Часть II», Илья Владимирович Герасимов
Всего 0 комментариев