Торкильд Якобсен Сокровища тьмы История месопотамской религии
© Yale University Press, 1976
© С.Л.Сухарев, перевод, 1995
© И.М.Дьяконов, предисловие, 1995
© Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1995
ПРЕДИСЛОВИЕ
«Сокровища тьмы» Торкильда Ясобсена — книга о мышлении, эмоциях и вере древних шумеров и аккадцев — народов, говоривших на двух совершенно не родственных друг другу языках, но создавших общую древнемесопотамскую цивилизацию, сыгравшую огромную роль в мировой истории; имели они и общую письменность — клинопись. Клинописные тексты, выдавленные на глиняных табличках, не стираются; они почти неистребимы; они могут быть изъедены почвенными солями, могут расколоться, падая из хранилищ верхнего жилья при разрушении дома, но все же в гораздо меньшей степени подвержены уничтожению, чем то, что в последующие столетия и тысячелетия было писано на папирусе, пергамене или бумаге. Поэтому о древнемесопотамской цивилизации мы знаем много — подчас куда больше, чем о собственном далеком прошлом.
Цивилизация эта сошла в небытие, в полное забвение уже две тысячи лет назад. И тем не менее открытие ее в наше время вызывает у многих читателей большой интерес. Почему? Мне кажется, потому что шумеры и аккадцы были люди, и узнать о людях совсем иной, чем наша, цивилизации интересно: а такие же они были, как мы? Или другая цивилизация — это другие люди по своим характерам и самой природе? Каковы были их мышление, эмоции, вера — в какой мере они сравнимы с нашими и что в них поучительного для нашего времени? Сейчас, когда мышление, эмоции и вера все более занимают наше общество наряду с, казалось бы, более насущными социальными и экономическими проблемами, древние решения эмоциональных вопросов особенно интересны.
Торкильд Якобсен, датско-американский ученый, которого автор настоящего предисловия почитает за честь отнести к своим личным друзьям, — едва ли не самый крупный в мире специалист по шумерскому языку (одному из самых замысловатых языков мира) и по шумерской литературе. А эта литература — не только своеобразная, но часто и очень несовершенно понимаемая нами из-за трудностей, которые создают для нас язык и особенно письменность шумеров, не менее замысловатая, чем их язык; и даже из-за трудностей беглого почерка, которым написано большинство шумерских литературных памятников.
Мне кажется, что автор очень глубоко понял и раскрыл многие стоявшие перед ним проблемы. Нужно полностью согласиться и с тем, что он считает шумерское литературно-религиозное мышление метафорическим, иносказательным, и с его делением истории шумеро-аккадской (древнемесопотамской — нам привычнее сказать вавилонской) на типологические периоды. Несколько ниже я скажу, как эту классификацию можно уточнить с чисто исторической точки зрения.
В одном существенном моменте редактор — и, я думаю, большинство русскоязычных читателей — не может и не должен согласиться с Т. Якобсеном. По мнению его, религия вообще и религия шумеров в частности представляет собой коллективную реакцию на то, что он — вслед за немецким философом-теологом Рудольфом Отто — называет нуминозным началом. Словарь так объясняет понятие «нуминозный»: «духовный, указывающий на присутствие божества, внушающий трепет». Сам Т. Якобсен называет нуминозность «таинством ужасающим и завораживающим» (mystуrium tremendum et fascinosum). Для Якобсена, как человека верующего, нуминозное — нечто извечное, всегда существующее, вечное. Нуминозное — это непознаваемое.
Однако, если мы оторвемся от древнемесопотамской цивилизации и обратимся ко всей истории человеческой мысли, то мы обнаружим, что многое, бывшее нуминозным для шумеров — например механизм зачатия, явление грозы, смена времен года,— в наше время познано и тем самым перестало быть нуминозным: объем нуминозного непрерывно сокращается. Конечно, и для нашей философии предела познанию нет, нет принципиально; познание есть процесс бесконечный, и непознанное будет существовать всегда. Непознанное, а не непознаваемое. Поэтому всюду, где Т. Якобсен пишет «нуминозное», я предпочел бы написать «непознанное».
С этим связано и еще одно важное обстоятельство. Есть коренное различие между верой и ритуалом в первобытности и ранней древности и тем, что мы привыкли называть «религией» — имея в виду учения о божестве и мироустройстве, возникавшие в эпохи поздней древности и средневековья и основанные, во-первых, на признанной определенным сообществом догме и, во-вторых на нормативной этике. Это такие религии, как христианство, ислам и буддизм. Вера и ритуал древних не были связаны с этическими нормами (что, конечно, не значит, что у древних не было этики) и не опирались на догму, но лишь на миф. При этом одна вера не исключала любую другую. Мифы, как и ритуалы, конечно, присутствуют и в знакомых нам религиях, но мне здесь важно подчеркнуть не то, что связывает их с первобытностью и ранней древностью, а то, что в них существовало, но первобытности и ранней древности было чуждо.
Зато мифы и ритуалы ранней древности имели особую, важнейшую функцию, значительно ослабленную в «новых» религиях: они являлись формой Познани я: и даже более — для того времени единственной формой познания мира[1] Конечно, уже в древности накапливался фактический материал, легший затем в основание науки; а позже — но все еще и в пределах древности — Аристотель, Зенон и другие греческие философы положили основы научной (так называемой «формальной») логики, без которой сейчас вообще невозможна плодотворная работа мысли; но даже Аристотель писал для немногих, и прежние приемы познания через метафоры сохраняли силу для всего остального человечества.
Почему было возможно и необходимо метафорическое познание, а в пределах ранней древности — только метафорическое познание? Потому что человечество еще не выработало абстрактных понятий, без которых невозможно научное обобщение. Таких слов, как «красота», «божественность», «собственность», в шумерском языке нет. Вместо «красивый» говорили «хороший», «божественность» называлась nam-dingir (или: nam dingir) «судьба (или „рок") бога», вместо «собственность» — «то, что рука захватила». А чего не было в языке, того не было и в сознании[2]. И поэтому познавать непознанное можно было только описательно — или по сходству, или по смежности, или по созвучию — метонимически и метафорически.
Метафорическое познание заменяло собой и научное (познание объекта, каков он есть), и художественное (познание нашего отношения к объекту, передача нашей эмоции). Божество было метафорой либо физического явления, либо социально-психологического побуждения. Искусство было неотделимо от веры и ритуала, и напрасно Т. Якобсен считает некоторые произведения шумерской письменности «чисто развлекательными». И танец, и песня, и изображение были только ритуальными. А ритуал — в действии, так же, как и миф — в слове, служили метафорическому познанию мира и выражению отношения между человеком и его мировой средой.
Теперь несколько слов о предлагаемой Т. Якобсеном периодизации древнемесопотамской религии, т.е. типов мифов и ритуалов в условиях ранней древности в древней Месопотамии IV — II тысячелетий до н.э. (I тысячелетие до н.э. — последнее для древнемесопотамской цивилизации — рассматривается им лишь бегло).
1. Боги как внутренняя энергия всего живого (или представлявшегося живым для древних): боги как даятели. — Исторически этот этап соответствует первобытности и самой ранней древности; боги здесь не столько деятели, сколько движущие силы, причинностные начала. Здесь и заложен метафорический характер познания мира в силу неразвитости способностей человека к абстрактному обобщению. Заметим, что Т. Якобсен иллюстрирует этот период мифом о Думузи и Инанне-Иштар, хотя соответствующие тексты относятся к более позднему периоду. Это, однако, оправдано тем, что метафорическое объяснение явлений мира существовало на протяжении всей древности и частично перешло и в позднейшие этико-догматические религии.
2. Боги как правители: вселенная — государство. В Месопотамии это — конец III — начало II тысячелетия до н.э. Происходит идеологизация мифов и ритуалов, идеологическое оправдание образующихся в это время больших и при этом деспотических государств, выходящих далеко за пределы традиционных первичных общин.
3. Боги как родители, опекающие индивидуального верующего (личные боги). — Эта тенденция соответствует распаду органических общин в пределах государства в этот и последующий периоды; происходит, как выражается Т. Якобсен, «брутализация» правительственных культов, и в то же время ставится вопрос о несправедливости созданного божеством или божествами бытия («Невинный страдалец» и «Теодицея» в Вавилонии, «Иов» в Палестине). К сожалению, этому важному направлению древней мысли I тысячелетия, имеющему прямую связь с отношениями человека и божества, автор уделяет лишь две страницы в разделе «Метафоры второго тысячелетия» и ссылается на библейскую Книгу Иова как на окончательное решение вопроса о божественной справедливости и несправедливости; читателя это может не удовлетворить. Вывод Книги Иова заключается в том, что Бог заявляет страдальцу (у которого Он «для эксперимента» убил всех детей), что устройство мироздания «не его дело».
Дальше в древнем мире идет все возрастающий скептицизм в отношении существующего общественного строя и создание «религий спасения», обещающих людям благо хотя бы в будущем мире — но это лежит уже за пределами книги Якобсена.
Следует особо остановиться на концепции «личного бога», которой придерживались и придерживаются многие ассириологи и которую развивает в своей книге Торкильд Якобсен. Эта концепция наталкивается на трудности. Как решали сами древние люди, какой именно бог пантеона являлся личным богом новорожденного месопотамца? Каждое древнемесопотамское личное имя собственное представляло собой развернутое предложение, как правило, упоминавшее имя какого-либо бога: например, Ур-Нанше — «почитатель Нанше»; Син-иддинам — «Сив (Суэн) даровал мне (ребенка)»; Куг-Нингаль — «святая Нингаль» и т.п. Скорее всего, именно божество, упомянутое в имени ребенка, и было его личным богом. Во всяком случае, когда рождался следующий ребенок, ему могли дать имя совсем другого божества (хотя случалось, что имя одного и того же божества повторялось в именах одной семьи в течение нескольких поколений подряд — но тогда обычно это было имя главного городского бога-покровителя или другого особо популярного божества). Но если считать, что бог, упомянутый в имени ребенка, и есть его личный бог, то как объяснить надписи на печатях типа «Ур-Ниназу (букв, „почитатель бога Ниназу"), раб бога Нанны»? Есть мнение, и оно кажется нам основательным, что «раб такого-то бога» было почетным званием и к личному божеству оно не имеет отношения.
Далее. Передавался ли личный бог отца детям? Если судить по именам собственным, то этого чаще всего не происходило. Когда личный бог упоминался в частном письме или в царской надписи, он, как общее правило, никак не называется по имени. Гудеа, правитель Лагаша, называющий своим богом именно Нингишзиду, — исключение. И оно, возможно, объясняется тем, что Гудеа, как предполагал еще А. Фалькенштейн, был ребенком от священного брака жрицы и жреца, игравшего роль бога — в данном случае Нингишзиды. Таким образом, Нингишзида был не только личным богом Гудеа, но и его «прямым» родителем. К тому же имя Гудеа — «призванный» — имени божества не содержит.
По мнению Т. Якобсена, не только Ур-Намму, основатель Третьей династии Ура, имел своими личными богами Гильгамеша и его родителей — Лугальбанду и Нинсун, но и его сын Шульги. Это — явное недоразумение: Ур-Намму считал Гильгамеша предком— своим и своей династии; богом в собственном смысле героя Гильгамеша счесть было бы вообще неправильно. Сам Ур-Намму был назван в честь богини Намму, а трое из его потомков — в честь бога Луны Суэна/Сина.
Мне кажется, что близкую аналогию концепции месопотамского личного бога можно найти в православии. Каждый православный младенец нарекался в честь какого-либо определенного святого, и день празднования этого святого был для ребенка «днем его ангела». В православии отношение человека к «своему» святому — его постоянному покровителю — очень сходно с отношениями между древним месопотамцем и его личным богом. Поэтому надо полагать, что в Месопотамии личный бог человека был связан с его именем[3]. Если это так, то вся концепция значения личного бога в древнемесопатамской религии, как ее строит Т. Якобсен, нуждается в пересмотре.
В примечаниях отмечено также мое несогласие с некоторыми другими конкретными толкованиями месопотамских божеств и мифов, предлагаемыми Т. Якобсеном.
Поделившись с читателями этими сомнениями, возражениями и поправками, осмелюсь все же рекомендовать им труд Т. Якобсена как произведение высококвалифицированного специалиста в области, казалось бы, и далекой от нас, но близкой в ее общечеловеческой проблематике.
И. М. Дьяконов
Катрине
1. ДРЕВНЕМЕСОПОТАМСКАЯ РЕЛИГИЯ: ТЕРМИНЫ
«Люди наносят себе неизмеримый урон, когда отказываются жить во всех временах и пренебрегают красотами всех царств», — утверждает Трэхерн. В самом деле, дух дерзновенного приключения необходимо должен сопутствовать тому, кто отважится отправиться в странствие по временам и царствам столь отдаленным, как древняя Месопотамия.
Некоторые меры предосторожности, однако, могут оказаться не совсем излишними, поэтому вернее всего начать разговор с попытки прояснить значение используемых нами терминов и показать, какие именно стороны затрагиваемых понятий наиболее существенны по отношению к предмету нашего исследования.
«РЕЛИГИЯ» КАК ОТВЕТНАЯ РЕАКЦИЯ
«Нуминозное»[4]
Основой всякой религии (это положение справедливо и по отношению к религии древней Месопотамии) является, на наш взгляд, совершенно особый опыт противостояния силе, находящейся за пределами нашего мира. Рудольф Отто, давший подобному опыту определение «нуминозность», рассматривает его как переживание некоей mysterium tremendum et fascinosum[5], как противостояние «Всецело Иному» — тому, что лежит вне границ обычного опыта и не поддается описанию с помощью обыденных категорий. Это «Всецело Иное» обладает различными градациями устрашения, внушая как всеобъемлющий демонический ужас и благоговейно-почтительный трепет, так и безоговорочное поклонение возвышенно-величественному; вместе с тем оно и неудержимо влечет к себе, обладая неотразимо-притягательной властью и требуя безусловного подчинения.
Позитивный отклик человека на описанный опыт в сфере мышления (миф и теология) и в сфере практического действия (культ и ритуал) и есть то, что составляет религию.
Поскольку «нуминозное» не принадлежит нашему миру, оно никоим образом не может быть «описано» (в подлинном смысле этого слова), ибо все доступные нам дескриптивные термины опираются на житейский, мирской опыт и потому являются недостаточными. В лучшем случае, как указывает Отто, представляется возможным вызывать у человека соответствующую психологическую реакцию посредством аналогий, полагаясь на свойственную повседневному опыту способность порождать ассоциации, хотя бы в чем-то сходные с ответной реакцией на «нуминозное» или же наталкивающие на подобную реакцию — иначе говоря, посредством аналогий, которые могут служить в качестве идеограмм (знаков) или метафор (символов), замещающих «нуминозное».
Религиозная метафора
Такие метафоры, являясь единственным способом передачи опыта, связанного с восприятием «нуминозного», занимают центральное место в религиозном учении и мышлении. Именно они связуют между собой прямой и опосредованный опыт, они соединяют основателей религии и религиозных вождей с их последователями; они же скрепляют верующих узами взаимного понимания; наконец, только посредством этих метафор религиозное содержание и его формы могут передаваться из поколения в поколение. В этих метафорах, следовательно, подытоживается и кристаллизуется общий опыт восприятия «нуминозного», накопленный всеми посвященными — теми, кто принадлежит какой-либо отдельно взятой культуре или культурной эпохе, и совокупный итог данного процесса выявляет все самое характерное и в каждом случае специфически присущее той или иной ответной реакции на «нуминозное» с наибольшей очевидностью. Несомненно, что именно в выборе ключевой метафоры — гораздо яснее, нежели в чем-либо другом, — всякая культура или культурная эпоха со всей неизбежностью демонстрирует то, что полагает самым существенным в опыте восприятия «нуминозного», стремясь уловить и передать векам подспудно скрытое в самой основе то изначальное значение, на котором такая метафора зиждется и которое исчерпывающе определяет собой характер реакции на эту метафору и характер религии в целом.
Таким образом, при изучении различных религий особенно важно уделять внимание ключевым метафорам; соответственно наше исследование сосредоточится прежде всего на основных религиозных метафорах древней Месопотамии. Мы ставим перед собой задачу понять каждую из рассматриваемых метафор в отдельности, дать ей оценку и проследить ее эволюцию от эпохи к эпохе по мере возникновения и присоединения новых метафор к уже существующим. При рассмотрении различных метафор существенно, однако, не упускать из виду их двойственную природу: с одной стороны, такая метафора указывает на явления потусторонние, обретающиеся за ее собственными рамками; с другой стороны, религиозная метафора весьма многим обязана миру здешнему, реальному, так как в немалой степени обусловлена факторами общественного и культурного порядка. Чрезмерная переоценка того или иного аспекта метафоры может привести к превратному ее истолкованию.
Суггестивность
Легко, например, преувеличить репрезентативность той или иной по видимости широко распространенной и доминирующей в определенной среде метафоры. При попытке ее истолкования необходимо, конечно, с наибольшей полнотой выявить ее потенциальные способности вызывать ассоциации с «нуминозным». Однако такую оптимальную суггестивность, очевидно, нельзя принимать за неизменное свойство метафоры, постоянно присущее ей в древние времена. Тогда, как и ныне, способность людей к ответной реакции была разной в зависимости и от эпохи, и от субъективных качеств личности; моменты наибольшей восприимчивости к религии чередовались с периодами, когда душа замыкалась в кругу мирских или даже нечестивых помыслов. Тогда, как и ныне, люди заметно отличались друг от друга и чуткостью к религии, и ее пониманием. К тому же культурные установки со временем не могли не меняться — и то, что одному поколению казалось свежим и впечатляющим, другому представлялось уже избитым и устаревшим. Всю эту пестроту ответных реакций необходимо принимать во внимание — точно так же, как в истории литературы подразумевается, что от невежд и педантов всех эпох неминуемо ускользает множество духовных ценностей, которые пытается выявить исследователь. Историк литературы имеет дело— исключительно или по преимуществу — с наивысшими литературными достижениями эпохи; соответственно задача, стоящая перед историком религии, должна заключаться в том, чтобы на собственном материале засвидетельствовать значительность достижений религии и выявить сполна всю присущую им глубину. И точно так же, как историк литературы руководствуется соображениями литературной ценности, так и историк религии должен руководствоваться соображениями ценности религиозной. Среди материалов, находящихся в распоряжении ученого, он обязан выделить те, что наиболее неоспоримо демонстрируют высокую степень осознания «нуминозного» и по самой сути своей являются достижением специфически религиозным.
Буквальность
Легко не только переоценить суггестивные возможности религиозной метафоры и приписать ей способность гораздо более широкого воспроизведения той или иной эпохи и культуры, но и преувеличить ее связь с человеческой природой, забывая о подлинном назначении религиозной метафоры, каковое заключается именно в том, чтобы выводить за собственные пределы — за пределы мира, в котором она возникла. Отчасти такая тенденция вызывается необходимостью истолковать буквальное значение метафоры, ее характер и роль в действительной жизни, а также вскрыть тяготеющие к ней ценностные структуры, прежде чем удастся уяснить ее действенность в качестве метафоры для «нуминозного». Однако подобное внимание к буквальному значению метафоры и ее связям с человеческими устремлениями и ценностями может создать впечатление, что все в метафоре понято и истолковано до конца, что ничего иного в ней не содержится.
По сути, дело обстоит именно так — но только на уровне буквальности. Основная же цель религиозной метафоры состоит в том, чтобы совершить скачок, оторваться от этого уровня: нельзя понять метафору по-настоящему, не воспринимая ее как средство вызывать ассоциации с «нуминозным».
Следовательно, требуется определенная степень открытости и религиозной чуткости, дабы подобный скачок и подобное восприятие метафоры как религиозной стали возможными. Подобно тому как способность к литературному суждению дает постижение подлинных литературных ценностей, и способность к религиозному суждению должна помогать определению подлинной ценности религиозных свидетельств, призванных вызывать ассоциации с «нуминозным». Религиозное суждение должно способствовать выявлению аутентичности материала, а также определять уровень понимания суггестивности данной метафоры. Ибо метафоры значительно различаются и по способу выражения, и по характеру своей направленности. Их человеческая, зачастую слишком человеческая природа побуждает сводить их содержание к тому узкому аспекту «нуминозного», который отвечает людским нуждам и тревогам — заботам о материальном благополучии, о безопасности, о свободе от вины. Однако это обстоятельство нимало не лишает их потенциальной возможности выступать проводниками подлинно религиозного ответного чувства, что явствует хотя бы из таких молитвенных обращений, как «Хлеб наш насущный даждь нам днесь», «Избави нас от лукавого» или «Остави нам долги наши». По существу, признание человеком своей полнейшей зависимости от нездешней, потусторонней силы — это наиболее важный аспект его ответной реакции на «нуминозное» — вполне могло обрести подлинно религиозное выражение в этих формах как трансцендентальная надежда и вера. Таким образом, еще раз следует подчеркнуть, что открытость потенциальных возможностей метафоры может быть ее существенной чертой.
«МЕСОПОТАМСКАЯ»
Имманентность
Переходя от анализа термина «религия» в его основном значении к уточнению определения «месопотамская» и задаваясь при этом вопросом, что именно в древнемесопотамской религии представляется специфически ей присущим, нельзя не отметить характерной для этой религии особой тенденции в восприятии «нуминозного». «Нуминозное» — по крайней мере в одном специфическом аспекте — воспринимается здесь не как нечто полностью трансцендентное, а в гораздо большей степени как имманентное. В древней Месопотамии, по-видимому, власть «нуминозного» рассматривалась как проявление внутрисущего духа — как сила, пребывающая в средоточии того, что вызвало ее к существованию, процветанию и благоденствию.
Обратимся для контраста к миру Ветхого Завета, который представляет «нуминозное» как трансцендентное, и рассмотрим восприятие Моисеем неопалимой купины, как об этом рассказывается в книге Исход (3:1-6):
Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хориву. И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я! И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога.
Из приведенного рассказа ясно, что Господь — нечто абсолютно отдельное от куста, из которого Он пожелал говорить с Моисеем. Богу случилось, если можно так выразиться, временно пребывать там, однако сам Он всецело трансцендентен — и с кустом у Него нет никакой другой связи, помимо чисто ситуационной и эфемерной.
Житель древней Месопотамии воспринял бы данную встречу с божеством совершенно иначе. Он точно так же увидел и услышал бы присутствие неземной силы, однако сила эта, по его мнению, не просто находилась бы внутри куста: в его понимании, она принадлежала бы самому кусту, находилась бы в средоточии его существа и являлась бы той жизненной силой, которая вызвала куст к жизни, процветанию и благоденствию. «Нуминозное» воспринималось бы как имманентное, внутрисущее.
Имя и внешняя форма
Благодаря специфическому способу восприятия «нуминозного» имя и внешняя форма, которыми наделялась данная нуминозная сила, в древней Месопотамии часто были просто именем и образом того явления, в котором эта сила, как казалось, обнаруживала свое присутствие.
Если сила, вещавшая Моисею в пустыне, отделяется от пылающего куста и отождествляется с богом праотцев Моисея, то нуминозная сила, которая обращается с речью к месопотамскому Энкиду в «Эпосе о Гильгамеше»[6], вовсе не отделяет себя от своего местонахождения и поэтому не нуждается в формальном представлении. В тексте говорится прямо: «Бог солнца услышал слово из его уст; издалека, из средины небес, воззвал он к нему». Нуминозная сила изображается здесь имманентно присущей видимому солнцу: она есть то, что наделяет его жизнью, побуждает к действию; это бог, который одушевляет солнце.
«Эпос о Гильгамеше» написан на аккадском языке, в котором и Солнце, и присущая ему нуминозная сила обозначаются одним и тем же словом šamšum[7]. Аналогично в шумерском языке соответствующее слово utu обозначает как доступное взгляду дневное светило, так и скрытую в нем незримую силу — бога солнца. Шумерское слово an обозначает «небо» — видимый голубой купол над головой, который ночью темнеет, и тогда его усыпают звезды, совершающие свой обычный путь. Но это слово является также именем нуминозной силы, присущей небу, — силы, вызвавшей и побуждающей его к бытию — именем бога неба. Слово nanna имеет значение «луна», но одновременно это имя бога луны; аеzinu — богиня зерна — есть и зерно, которое земледелец бросает в борозду, и зеленый побег, «стоящий в поле, подобно прекрасной юной девушке».
Образ, которым наделяется нуминозное явление, может, конечно, в определенной мере приспосабливаться к скрытому в этом явлении содержанию. Он может сводиться к одной-единственной характерной детали; например, когда Инанна (нуминозная сила, оберегающая кладовые) изображается в виде обыкновенного воротного столба — эмблемы кладовой, а не в виде самой кладовой как целого строения. Иногда воображение вкладывает в создаваемый образ новое значение и наделяет его дополнительными свойствами помимо тех, что доступны непосредственному наблюдению: так, изображение нуминозной силы грозы — Имдугуд — постепенно превратилось из темной грозовой тучи в громадного черного орла, парящего на распростертых крыльях, но так как мощные раскаты грома мыслились исходящими не иначе как из львиной пасти, то птицу наделили со временем головой льва.
Сходное превращение претерпел бог Нингишзида («владыка чистого дерева»), представлявший нуминозную силу, которая помогает деревьям извлекать из земли соки для роста. Основным его образом были ствол и корни дерева, однако позднее переплетенные корни — воплощение живой сверхъестественной власти — отделяются от ствола и становятся обвивающими его живыми змеями.
Подчас воображение не останавливается на единственном толковании, но обыгрывает исходный многозначный образ в целой серии вариаций, каждая из которых выражает нуминозную основу своим особенным способом. В качестве примера можно процитировать отрывок из гимна богу луны Нанне[8], прославляющего божество в качестве источника и хранителя плодородия и изобилия во всей вселенной. Гимн сам по себе принадлежит довольно позднему времени, однако в нем отразились отношения весьма раннего периода. Основной образ бога — молодой месяц — порождает целый ряд различных суггестивных образов: все они так или иначе выражают способность луны прибывать, способствовать урожаю и умножать плодородие. Прежде чем рассмотреть каждый из этих образов в отдельности, приведем интересующий нас отрывок:
Отец Нанна, владыка, увенчанный яркой короной, повелитель богов; отец Нанна, всемогущий в пышном величье, повелитель богов; отец Нанна, ступающий (мерным) шагом в облачении дивном, повелитель богов; свирепый бык молодой, круторогий, совершенных статей, с бородой лазуритовой, исполненный красоты; плод из собственной завязи, налитый зрелостью, прекрасный на вид, чьей красотой нельзя пресытиться; чрево, что жизнь дарует всему; ты водворился в священной обители; милосердный добрый отец, держащий в деснице жизнь всей земли; Владыка! — твой божественный промысел (беспределен) как дальнее небо, как просторное море; благоговенье внушает (взорам).Итак, золотые рога прибывающей луны сначала представляются взгляду верующего рогами двурогой короны (эмблемы власти), и далее ассоциативный ход мысли ведет к образу правителя, «владыки» (en), харизматического вождя, магическим способом обеспечивающего своим подданным плодородие и изобилие.
Этот образ поддерживается двумя следующими строками, рисующими величественное движение луны по небосклону:
Отец Нанна, владыка, увенчанный яркой короной, повелитель богов; отец Нанна, всемогущий в пышном величье, повелитель богов; отец Нанна, ступающий (мерным) шагом в облачении дивном, повелитель богов.Затем картина меняется: рога короны становятся рогами быка и вызывают в воображении молодого быка, воплощение силы оплодотворения, создания новой жизни и умножения стада:
...свирепый бык молодой, круторогий, совершенных статей, с бородой лазуритовой, исполненный красоты.Новый образ, подчеркивающий, что луна прибывает, перерастает в другой — образ зреющего плода, воплощение силы созревающего в садах урожая:
плод из собственной завязи, налитый зрелостью, прекрасный на вид, чьей красотой нельзя пресытиться...Образ зреющего плода сменяется новым: прибывающая луна уподобляется полнеющему телу беременной женщины. Бог луны становится чревом в тягости, дающим жизнь, — некоей силой, доступной и близкой людям, частью их общины, желающей обитать среди них, иметь свой дом, свой храм для поклонения:
...чрево, что жизнь дарует всему; ты водворился в священной обители...Затем поэт вновь обращается к человеческому облику, сначала воспевая бога как доброго отца, пекущегося о жизни своего семейства; позднее вновь появляется «владыка», фигурировавший в первой строке, повелитель всего сущего, ответственность которого за благоденствие человека столь велика, что внушает самое глубокое благоговение:
...милосердный добрый отец, держащий в деснице жизнь всей земли; Владыка! — твой божественный промысел (беспределен) как дальнее небо, как просторное море; благоговенье внушает (взорам).Обусловленные ситуативно, лишенные человеческих черт образы, рассмотренные здесь, изначальны, т. е. принадлежат раннему периоду и (как, например, в Гимне богу луны) сохраняются довольно долго. Они сложились, по-видимому, в Протописьменный период или даже ранее — т. е. на протяжении IV тысячелетия до н. э. Но уже тогда антропоморфный облик был альтернативной или даже конкурирующей возможностью, а с началом III тысячелетия — от Раннединастического периода и далее — антропоморфные черты почти полностью преобладают, оставляя прежним формам несколько двусмысленную роль божественных «эмблем».
Эта победа антропоморфных форм над неантропоморфными давалось медленно и с трудом. До самого конца старые формы сохраняли примечательную жизнеспособность, словно бы таясь под человеческим обликом, готовые прорваться сквозь него, дабы обнаружить подлинную сущность божественной власти и божественной воли: лучи пронзают человеческое тело бога солнца изнутри; колосья прорастают через плечи богини зерна, а головы змей растут из плеч Нингишзиды; когда Гудеа видит во сне бога Нингирсу, то он все еще обладает крыльями, присущими его старой форме — птице грома Имдугуд. Нингирсу сохраняет эти крылья и в ассирийских изображениях, вырезанных уже в I тысячелетии до н. э.
Стоит также заметить, что в критические моменты общественной жизни, когда было необходимо присутствие богов, прибегали именно к их старым формам — «эмблемам»: они следовали вместе с армией и вели ее к победе, а также выставлялись как залог нерушимости, свидетели и гаранты при принесении клятвы.
Интранзитивность
Склонность рассматривать нуминозную силу как имманентную побуждала жителей древней Месопотамии именовать ее и наделять образом в терминах самого явления, что определяло и вместе с тем ограничивало их представления о функционировании этой силы.
Нуминозная сила представлялась воплощенной в какой-то определенной ситуации или относилась к какому-то определенному явлению, ни в коей мере не простираясь за его пределы. Божество, не предъявляя никаких требований, оставалось бездейственным: оно просто появлялось, существовало и переставало существовать вместе с характеризующим его явлением. В дальнейшем мы будем обозначать это свойство имманентности — т.е. нахождения внутри и связанности рамками явления — термином «интранзитивность». Это свойство присуще всем старшим фигурам и рангам месопотамского пантеона и находится в резком контрасте с младшими, «транзитивными» богами-правителями: последние, хотя также могут составлять внутреннюю силу какого-либо специфического явления, обладают интересами, проявляют волю и активность за его пределами.
Можно проиллюстрировать «интранзитивный» характер старших божественных персонажей на примере Думузи — олицетворением плодородия и весеннего обновления. Во всем, что нам известно о Думузи из гимнов, плачей, мифов и обрядов, нет не одного примера, где бог действует, приказывает или требует: он либо существует, либо нет. Думузи появляется с наступлением весны, выступает женихом в культовом ритуале священного брака, погибает, сраженный силами подземного мира; его оплакивают мать и юная вдова, которые отпраляются на его поиски, но всякий поступок и всякое требование со стороны самого бога совершенно исключены.
Другой пример — Нидаба, богиня трав, злаков и тростника. Она воплощает самую сущность этих растений и их назначение; находится там, где есть они, и отсутствует там, где их нет: вне связи с этими растениями богиня не проявляет никакой активности и не обнаруживает никакой воли.
Приведем отрывок из гимна, обращенного к этой богине[9], достаточно полно ее характеризующий:
Нидаба — ты, что (вновь) строишь заброшенные жилища, (вновь) учреждаешь покинутые [святилища — ?], (вновь) воздвигаешь рухнувшие (изображенья) богов, умелая домохозяйка Ана, госпожа, чье приближенье вызывает созиданье. Нидаба, ради тебя (люди) умащают головы, и омывают руки; тебя почитают как должно. Госпожа, это ты прилагаешь руку к искусно сделанным (писчим) табличкам в стране, твой совет обращен к тем, кто (орудует) палочкой тростниковой. Это ты наполняешь сердце Энлиля счастьем, госпожа, это ты —пропитанье для Экура (храма его), это ты — питье для (храма) Эанны, это ты — радость Экура, храма Энлиля; (что до) великих богов, ты — дыхание жизни их прародителя. О госпожа, ты прочно утверждена Энлилем, Нидаба, ты пиво ячменное — это более, нежели хлеб; Нидаба, ты — прочнейшее из оснований царственности. Нидаба, там, где ты не хранишься в грудах, не селятся люди, не строятся города, не воздвигнут дворец; нет царя, облеченного властью, омовение рук пред богами (до принесения жертвы) не совершается так, как должно. Нидаба, там, где тебя нет поблизости, загонов нет для скота, не строят овчарен и не тешит сердца пастух тростниковой флейтой.Как явствует из этих строк, Нидаба обретается в тростнике — материале, необходимом для переустройства городских жилищ. Нидаба находится и в изготовленной из тростника палочке, содействуя процессу писания; она же — и в зерне, наполняющем закрома храмов, и в хлебе — для поддержания жизни богов. Изобилием и достатком она обеспечивает прочность царствования. Возведение городов и дворцов, устойчивость правления, приношения богам, сооружение загонов для скота и даже нехитрое развлечение пастуха, наигрывающего на тростниковой дудочке, — все это зависит от присутствия богини, ее воли и власти вызывать злак и тростник к жизни, способствовать их росту и полному созреванию.
Возьмем для сравнения пример, иллюстрирующий позднейший «транзитивный» аспект месопотамского божества — строки из Гимна богу Энлилю[10], также делающие упор на конкретном вкладе бога в человеческую жизнь. Здесь, однако, вклад этот обусловлен не просто самим фактом существования бога, как это было с Нидабой, а является следствием его владычества и правления:
Энлиль, искусным устройством замыслов хитроумных, их действие тайное — нитей клубок, который нельзя распутать; нить сплетена с нитью, не уследить их глазом — ты превосходишь всех, занят божественным промыслом. Ты — советчик свой собственный, помощник и управитель. кто (еще) способен постигнуть твои деянья? Ты владыка-Ан и повелитель-Энлиль (вместе), судья и решающий судьбы (как) земли, так и неба, никто не отвергнет великих твоих повелений, они почитаемы, как веления Ана.Энлиль представлен здесь мудрым правителем вселенной. Его сын Нинурта в пространном эпическом сказании, повествующем о его деяниях, «Lugal-e ud me-lám-bi nirgál», отправляется на войну в лодке, одерживает верх в битве, а затем устраивает суд над побежденными врагами; в сфере же человеческой под другим своим именем — Нингирсу — он принимает участие в заключении договора по установлению границы между своим городом Нгирсу и соседним городом Уммой; согласованный рубеж он затем считает необходимым защищать с оружием в руках от посягательств Уммы.
Множественность и выбор
Специфически присущая месопотамской религии прочная связь с внешними обстоятельствами и признаками проявления нуминозной силы не только придавала «нуминозному» интранзитивный характер, но и обусловливала его дифференциацию. «Нуминозное», будучи внутрисущим духом и движущей силой множества предметов и явлений, всякий раз выступало в новом обличье. Вследствие этого в месопотамской религии не могли не возобладать плюралистические воззрения, политеизм, множественность богов и аспектов божественного.
Многообразие проявлений «нуминозного» вызывало необходимость различать, оценивать и выбирать — и здесь житель древней Месопотамии находился в большой зависимости от внешней ситуации. Добро или зло волеизъявляет тайная сила, движущая нуминозным явлением? Что это за сила: стремиться к ней или же стараться ее избегнуть? В нуминозном опыте равно наличествуют благоговейный ужас и неотразимая притягательность, однако на более примитивных уровнях страх преобладает.
Слово ilu (бог) в аккадском языке легко ассоциируется с понятием парализующего страха: например, Гильгамеш в «Эпосе о Гильгамеше», пробудившись, обращается к своему другу Энкиду:
Друг мой, ты не звал меня — почему же я пробудился? Ко мне не притронулся ты — почему же я вздрогнул? Не прошел мимо бог — что же скован я оцепененьем?[11]Только осознание ситуации в общем смысле способно прояснить, что именно предвещает внезапное чувство цепенящего ужаса в присутствии «Всецело Иного» и какой линии поведения следует придерживаться.
Месопотамская идея личного бога, о которой будет подробнее говориться ниже, коренится, на наш взгляд, в том ощущении присутствия сверхъественной силы, какое нередко сопровождает «чудесную» удачу. К силе, с которой пришлось столкнуться однажды, вновь искали прибегнуть те, кого она облагодетельствовала и к кому была вправе впоследствии предъявить требования особого послушания и преклонения.
Однако не только большая удача может переживаться как нечто необыкновенное и сверхъестественное. Во всякой внезапной беде — нагрянувшей неожиданно болезни или причиненном вдруг страдании — также можно усмотреть вмешательство сверхъестественного начала. Подобные негативные проявления «нуминозного» воспринимались как происки «злой силы» — бога или демона, которого следует опасаться и избегать, обороняясь от него при помощи заклинаний и прочих магических средств. Здесь не предполагалось никакого повиновения и не требовалось никакого культа: названное злое начало занимало свое место среди бесчисленных других разрушительных нуминозных сил — демонов, злых богов и духов, враждебных человеку:
Вид их мрачен, их тень темна, в их телах нет света; крадутся они всегда тайно, не ходят прямо, с когтей их капает горькая желчь, их следы (наполнены) злобным ядом[12].В этих демонах нет ничего общего с человеком — ничего, к чему можно было бы взывать; они представляют собой только нечто внушающее страх, недосягаемое, всецело иное:
Они ни мужского, ни женского пола, они — ветры, веющие вечно всюду, нет у них жен, не рождают они детей, не ведают, как оказывать милость, не внемлют молитвам и заклинаниям[13].Как можно судить по различным именам этих демонов, они представляют собой образы нуминозной силы, действующей при неожиданной болезни, возникшей боли или в других опасных для человека положениях. Иногда они изображаются как ветры и бури, иногда — как призраки, не находящие успокоения в подземном мире; иногда же носят названия каких-то определенных болезней. Это — сверхъестественные силы, вызывающие к жизни всевозможные беды:
Содроганья и холод (смерти), рассеивающие суть вещей; семя бога небес, излитое в злого духа, смертные приговоры, любимые детища бога бури, рожденные от царицы подземного мира, сброшенные с небес, извергнутые из земли отщепенцы — это создания ада, все-все. Ввысь подъемлют они рев, вниз устремляют писк; они — горький яд богов, они — ураганы, сорвавшиеся с небес, они — филины, разносящие уханьем (дурные предвестия) по городу, семя, излитое богом небес; порождены они землей. Высокие крыши, широкие крыши накрывают они волной потопа, от дома к дому они пробираются, двери — от них не защита, замки для них — не препона; сквозь двери они проползают как змеи, сквозь щели дверные врываются порывом ветра. От объятий мужних отвращают они жену, с колен мужа отзывают они ребенка, юношу разлучают с домом его родни; они — бесчувственность, оцепенение, ступающие за людьми по пятам[14].Место обитания
До сих пор мы рассматривали ответную реакцию жителя древней Месопотамии на «нуминозное» в области мышления с целью показать, каким именно образом установка на имманентность определяла наименование, форму и направленность проявлений «нуминозного». Пытаясь дать более полную оценку ситуации, где присутствует «нуминозное», мы сталкиваемся, однако, с наличием реакции и в области практического действия. Против силы, которая считается злой, надлежало обороняться и всячески ограждаться; по отношению к силе, которая кажется доброй, должно было сохранять пиетет и стараться заручиться ее постоянным покровительством. В этом случае в древней Месопотамии также были убеждены, что нуминозная сила имманентна, строго ограничена пределами явления, в средоточии которого она обретается и существование которого вызывает. Заставить явление возникнуть непременно означало заставить возникнуть и его нуминозную силу и волю; а создание наружных форм — места ее пребывания — магическим образом вызывало и присутствие нуминозной силы внутри этих форм.
Наиболее существенные из подобных попыток заручиться присутствием нуминозной силы, обеспечить ей место обитания — это культовая драма, создание соответствующих изображений божеств, религиозная литература и строительство храмов. Рассмотрим все эти формы подробнее именно в такой последовательности.
Смысл и назначение древнемесопотамских культовых действ впервые были прояснены Паллиат, который в своем исследовании о празднике Акиту в Вавилоне[15] сопоставил их с другими драматическими представлениями подобного рода: в данном обряде человек от лица главы и предводителя сообщества воплощает в себе бога, причем воплощает самым буквальным образом — следуя его повелению, повторяя внешний облик, он сам становится богом; форма наполняется соответствующим ей содержанием, и в качестве бога он совершает действия, осуществляя божественную волю со всеми вытекающими из нее благотворными для всего сообщества результатами.
Три наиболее важных культовых действа, которые нам известны, — это «священный брак», сообщавший силы плодородия божественному представителю общественных закромов, ежегодное оплакивание смерти и ухода силы плодородия при наступлении периода засухи и военное действо, в котором вновь и вновь воспроизводилось изначальное сражение с силами хаоса и победа над ними. К трем названным действам можно прибавить большое число ритуалов, связанных со странствиями, в которых одно божество посещает другое божество, обретающееся в другом месте, с целью ритуального очищения, дарования или отнятия каких-либо способностей и благ.
Точно так же как культовое действо имело целью вызвать близость бога посредством ритуальной его репрезентации, и изготовление изображений богов было направлено на то, чтобы на длительное время обеспечить божественное присутствие. До нас дошли культовые изображения, относящиеся к различным эпохам — начиная с Урукского периода вплоть до последних столетий древнемесопотамской цивилизации. В наиболее ранних из этих изображений боги лишены антропоморфных черт; позднее антропоморфные образы становятся преобладающими, и прежние изображения, лишенные их, рассматриваются всего лишь как простые «эмблемы» (атрибуты), хотя, как мы уже упоминали, именно такие изображения сопутствовали походам армий и гарантировали нерушимость клятв.
Помимо изображений на круглых скульптурах (собственно культовых изображений) существовали, по-видимому, особенно в древние времена, религиозно-магические рельефные изображения, а также настенная роспись.
Эти изображения, имевшие своим предметом важнейшие культовые обряды, служили, вероятнее всего, подобно культовым изображениям, цели длительного сохранения культового обряда, вместе с тем обеспечивая присутствие божества и связанного с ним благословения. В качестве примера подобных, изображений можно назвать знаменитую Урукскую вазу с рельефом, изображающим обряд священного брака. Существовали, кроме того, и различные цилиндрические печати с аналогичными культовыми мотивами. По замечанию Франкфорта, мотивы, запечатленные на цилиндрических печатях, — это монументальные мотивы, плохо подходящие для печатей небольшого размера. Возможно, что они представляют собой копии с настенных изображений, ныне утраченных.
Поэзия была еще одним средством упрочения связи с божественными силами, поскольку словесные изображения также могли создавать соответственную реальность. Это ясно из заклинаний, часто использовавших форму приказания, дабы побудить злые силы удалиться. Иногда, впрочем, достаточной оказывалась простая констатация. Страдающий от болезни мог заявить, что он есть небо и земля — и, посредством провозглашения такой идентичности проникнувшись чистотой неба и земли, сделаться неуязвимым для зла. Импотент мог назвать себя козлом или каким-либо другим животным, наделенным могучей сексуальностью, и таким образом исполниться мужской силы. Вещества, используемые при магических обрядах (такие, как вода или соль), освящались. Перечислением их чистых начал и сакральных воздействий присущая им божественная сила возводилась, так сказать, на высший уровень магической эффективности.
Убеждение в творческом могуществе слова лежит в основе всей месопотамской религиозной литературы. Влияние этой идеи наиболее явственно ощущалось в ранний период и выражалось по-разному, поскольку слово использовалось как в ритуалах, так и с развлекательной или дидактической целью. Древнейшая религиозная литература делится в основном на восхваления (zag-mi' = tanitturm) и плачи, причем для каждой разновидности полагался свой собственный особый исполнитель: «певец» (nar = narum) для восхвалений и «элегист», или «жрец-плакальщик» (gаlа = kalûm)[16], для плачей.
Литература восхвалений включала в себя гимны богам, храмам и обожествленным властителям, а также мифы, эпические сказания и споры и предназначалась для побуждения к активности божественной силы — либо уже присутствующей на месте, либо находящейся в непосредственной близости. Литература плачей, напротив, была обращена к силам утраченным, далеким или вовсе недосягаемым — к умершему юному богу плодородия в подземном мире, к разрушенному храму, к почившему царю или простому смертному. В плачах живость воспоминания и острота чувства оборачивались активным магическим воссозданием, попыткой возвратить исчезнувшего бога или не существующий более храм посредством восстановления дорогого образа силой воображения. Постепенно, однако, под влиянием социоморфизма, аспект магического принуждения ослабевал, заменяясь в классические периоды простой мольбой. В своем новом аспекте литература восхвалений первоначально имела целью умилостивить благословением вышестоящие силы и тем самым настроить их благожелательно по отношению к людским просьбам. Плачи были рассчитаны на то, чтобы растрогать и поколебать сердце бога скорее напоминанием о безвозвратной утрате счастливого прошлого, нежели его магическим воссозданием.
Наконец, попытки приблизиться и сохранять божественное присутствие приняли форму возведения храмов. На шумерском и аккадском языках слово «храм» значит и просто «дом» (е-bîtum). Слово это предполагает не только наличие у божественного владельца эмоциональной привязанности к своему обиталищу, которая существует между человеком и его жилищем, но и, сверх того, наличие сущностной аналогии, близкой скорее тождественному воплощению, нежели простому соположению в пространстве. В определенном смысле храм — не менее, чем ритуальное действо и культовое изображение, — являлся воплощением образа той силы, вместилищем которой, как предполагалось, он служит.
Подобно людскому жилищу, храм был тем местом, где можно было застать хозяина. Присутствие храма среди жилищ человеческого сообщества было зримым доказательством близкого наличия и доступности бога — того, что он, как это выражено в Гимне к богу луны, «среди (живых существ), в ком есть дыхание жизни, водворился в священной обители».
Подобно людскому жилищу, храм нуждался в обслуживающем персонале, занятом благоустройством и ведением хозяйства. Круг ежедневных обязанностей был таким же, как и в других больших домах: жрецы исполняли обязанности домашних слуг, подавая богу еду, меняя его одежды, убирая комнаты, готовя ему постель. Вне города лежали земли, принадлежащие богу:
они обрабатывались другими работниками, также служителями бога.
Таким образом, бог — поскольку храм являлся его домом — был не просто доступным и близким, но непосредственно вовлеченным также в дела и заботы сообщества, заинтересованным в его благосостоянии, которому и должен был способствовать.
Однако в отличие от людского жилища храм был священен. Древнемесопотамский храм отличался торжественной монументальностью, воплощая в себе tremendum «нуминозного». Он обладал «внушающей трепет аурой» (n í) и «вызывающим благоговейный страх ореолом» (me - l à m). Храм Нуску в Ниппуре был «храмом, окруженным внушающей глубокий трепет аурой и гневным ореолом»[17]. В Ниппуре находился также и храм Энлиля: «Экур, голубой дом, твой (Энлиля) великий престол, наделенный внушающим трепет величием; лучи твоей славы достигают небес, тень его ложится на все земли»[18]. Усиливая tremendum «нуминозного», храм всячески подчеркивал также и его fascinosum и mysterium. Храм был «увенчан красотой»[19], но находился вне других видов секулярной активности; это «тайный дом»[20], святая святых, укромное обиталище бога, окутанное мраком; «темная обитель» (i t i m a - kişşum), «не знающая дневного света»[21], чьи ритуальные сосуды «не должен видеть ни один глаз»[22].
Общесакральному характеру храма соответствовало специфическое согласование сущности с населяющей его силой, что наделяло каждый храм особыми, только ему присущими чертами. Такая индивидуализация проявлялась в закреплении определенной природы, функции или настроенности обитающей внутри силы. Храм бога, имевшего облик быка, рассматривался как его «стойло»[23]. Храм É - babbar («дом восходящего солнца») бога Нингирсу почитался как место, где Нингирсу восходит подобно солнцу и вершит свой суд[24]. Храм Нингирсу É- h u ˇ s («ужасающий дом») есть то место, где бог обретается, когда он разгневан[25]. Иногда трудно сказать, принадлежит ли данная функция в большей степени храму или же самому богу. Когда Нарам-Син разрушил храм Экур в Ниппуре, это возымело немедленные последствия для всей страны; раз храм склонил выю к земле, подобно сраженному юному воину, то такая же участь постигла и все другие земли; раз зерно было сжато в «воротах храма, где это запрещается», вся страна лишилась зерна; как только мотыги ударили в Ворота Мира, мир во всех землях обратился во вражду[26].
Идентификация может быть и полной, и тогда храм, как мы уже указывали, становится скорее неким воплощением бога, чем местом его обитания. Так, например, храм бога Нингирсу в городе Нгирсу известен под названием É-ninnu («дом Нинну»). Нинну (возможно, «Владыка Вселенной») — не что иное, как другое имя бога[27]. Тождественность храма богу далее обстоятельно разрабатывается в полном названии храма: É -Ninnu- dIm dugud mušen bar6 -bar6 («Энинну, сверкающая птица грома») или dIm-dugud mušen -an-ŝar-ra-sig4 -gi4 -gi4 («птица грома, грохочущая на горизонте»), где храм идентифицируется с изначальным обличьем бога, лишенным человеческих черт,— птицей грома Имдугуд[28].
При такой тождественности бога и храма неудивительно, что правитель Гудеа, перед тем как приступить к перестройке его, пришел к заключению о необходимости получить освященное авторитетом бога откровение, чтобы узнать, какова «настоящая вещь» в формовке кирпичей, а по получении такого откровения велел запечатлеть на кирпичах изображение божественной птицы грома.
Можно привести целый ряд других примеров тождественности храма и бога, выраженной в самих названиях храмов: É-kur ( «дом-гора» — kur) — храм бога Энлиля, называемого также kur gal («большая гора»); É-babbar — «дом восходящего солнца» (babbar) — храм бога солнца Уту, называемого также Babbar («восходящее солнце»); Ë-giŝ-nus-gál («дом, источающий свет» — iš-nu 5 ) — храм бога луны; É-an-na «дом финиковых гроздей» (anna), богини (N)inanna(k) — «Госпожи финиковых гроздей» (anna)[29]; É-mes-lam — «дом цветущего дерева mēsu» (mes-lam) бога Нергала, известного также как Meslamtaèa «тот, кто выходит из цветущего дерева m esu» (mes-lam), и т. д.
«ДРЕВНЯЯ»
Термин «древняя» поднимает вопрос о временном диапазоне: в абсолютном смысле имеются в виду тысячелетия, отделяющие нас от описываемой здесь эпохи, в относительном смысле — это длительные промежутки времени между различными периодами, к которым относятся те или иные рассматриваемые нами явления.
Древнее для нас
Говоря о том абсолютном временном расстоянии, которое отделяет нашу эпоху от падения древнемесопотамской цивилизации незадолго до начала нашей эры, следует прежде всего отметить, что это не просто хронологический промежуток, но полный разрыв. Нет ни одной живой культурной традиции, которая соединяла бы нынешнюю эпоху с предметом нашего исследования, перекидывая мост от древности к современности[30]. Мы вынуждены полагаться едва ли не исключительно на обнаруженные раскопками археологические данные и сохранившиеся надписи, а также на предпринятые на этой основе современные попытки их истолкования. Имеющиеся данные, к сожалению, далеки от полноты, случайны и слишком разрозненны, чтобы служить надежной опорой для целостного изучения культуры, свидетельствами которой они являются; языки, на которых создавались уцелевшие памятники письменности, изучены еще недостаточно и не до конца расшифрованы. Более того, понятия, выраженные на древних языках, а также отношения, существовавшие между этими понятиями, нередко не только несовместимы с нашими сегодняшними традициями и представлениями, но порою в корне отличны от них, так что исследователя постоянно подстерегает опасность неверной трактовки или даже совершенного непонимания.
Но при всех серьезных трудностях нет оснований для того, чтобы отчаиваться и прекращать попытки углубить наше понимание. В противном случае должны были бы отступить еще предыдущие поколения ученых, занимавшихся главным образом разысканиями и дешифровкой данных, так как на их долю выпали неизмеримо большие трудности, причем им-то ожидать помощи было неоткуда. По существу, само осознание наличия сложностей зачастую во многом содействует их преодолению — хотя бы тем, что заставляет искать новые подходы, обращаться к нетривиальным методам мышления, отказываться от привычных оценок. Мы можем увидеть соблазн слишком легких обобщений, можем усомниться в верности общепринятого перевода и обратиться к поискам более адекватной передачи значений слова. В предыдущих разделах мы обращались к материалу, внутренняя связность и значение которого проистекают из неожиданного — и для нас непривычного — воззрения на форму и содержание как необычайно тесное, неразрывное единство, где одно со всей неизбежностью предполагает другое. Мы могли убедиться в этом на примере того, как характерный внутренний образ, присущий нуминозной силе, прорывался через человеческий облик или же запечатлевался в храме; точно так же употребления или представления нуминозной силы в культовом обряде актером-исполнителем считались вызванными действительным ее присутствием. Разгадка заключается в том, что древние вовсе не стремились к дифференциации различных сторон опыта, тогда как мы испытываем в этом настоятельную потребность. Для древних явления суть то, чем они кажутся, и соответственно вызывают непосредственную, не подвергаемую анализу, захватывающую все существо ответную реакцию. Уяснив это, мы можем обнаружить наличие сходных, не допускающих анализа реакций и в самих себе. Предположим, кто-то попытался разорвать у нас на глазах фотографию любимого нами человека. Мы вряд ли сможем удержаться от гнева и негодования, вызванного не столько самим поступком (что, в самом деле, значит кусок простого картона?), сколько неясным, но предельно возмущенным чувством того, что посягательство на портрет есть в каком-то смысле и посягательство на того, кто на нем изображен. Сходным образом при сильном эмоциональном волнении такое ощущение внутреннего единства специфического содержания и специфической формы могло формировать мышление древних. Если человек, охваченный религиозным порывом, хотя бы на мгновение способен был отождествить в своем восприятии храм с космической птицей грома, рокочущей на горизонте, то он, вполне вероятно, считал подобное чувство гораздо более глубоким прозрением, более истинным познанием, нежели повседневный опыт, говоривший, что храм — всего лишь постройка, пусть и священная.
В конечном счете нашим проводником должна быть внутренняя связь фактов. Истинные значения хорошо укладываются в контекст, а контексты легко подтверждают друг друга. Ложные значения не согласуются друг с другом, блокируют путь и заводят в тупик. Только при условии внимательного отношения к подобным затруднениям, отказавшись от насилия и проявив готовность к поискам других возможностей, можно в итоге понять и как бы воссоздать мир древних. Ибо мир древних был, как и любая культура, автономной системой прихотливо переплетенных смыслов, где каждая частица зависела ото всех прочих частиц, причем значимость ее определялась в конечном итоге только общим контекстом значения системы, которой она принадлежала. Осознание этого сходно в некотором роде со вступлением в мир поэзии, и здесь вполне применимы остроумные и точные слова Э. М. Форстера: «До прочтения „Старого моряка" нам известно, что полярные моря не населены духами и что человек, подстреливший альбатроса, вовсе не преступник, а охотник; если же он сделает из альбатроса чучело, то станет еще и натуралистом. Это известно всем, однако стоит только вновь взяться за „Старого моряка", как общепринятое знание исчезает, уступая место непривычному, особому знанию. Мы вступаем в мир, который управляется своими собственными законами, живет своей собственной внутренней жизнью, обладает внутренней нерасторжимой цельностью и особым, новым уровнем смысла»[31].
Древнее для них
Памятуя о временной дистанции между нами и предметом нашего исследования, нельзя забывать также и о достаточно продолжительных промежутках времени, нередко разделяющих различные группы или стороны изучаемых явлений. Занимающий нас материал, принадлежащий к культурному континууму протяженностью свыше четырех тысячелетий, непрерывно меняется и развивается от периода к периоду, нередко весьма сложными и причудливыми путями. Более старые элементы исчезают и вытесняются новыми, а иногда сохраняются и сосуществуют с ними; подчас приобретают совершенно иное значение или истолковываются по-новому, приспосабливаясь к новой системе значений. Возьмем для иллюстрации пример из нашей, западной, культурной традиции: рассказ об Адаме и Еве сохранился неизменным со времен Ветхого Завета, однако безыскусная фольклорная сказка Книги Бытия, новые толкования которой давали и апостол Павел, и блаженный Августин, и Мильтон (не говоря уж о современных теологах), приобрела богатейший теологический и этнографический подтекст, связанный с самой сущностью человеческой природы и весьма несхожий с тем значением, какое первоначально вкладывалось в этот сюжет бесхитростным культурным окружением ранних эпох.
Соприкасаясь с древнемесопотамским наследием, необходимо помнить, что прежние культурные элементы сохраняются длительное время и могут подвергаться неоднократному перетолковыванию: мы встречаем немало религиозных документов, мифов, эпических сказаний, плачей, которые в многочисленных копиях передавались, практически сохраняя первозданный вид, на протяжении чуть ли не полутора тысячелетий, — и нередко трудно сказать с уверенностью, действительно ли данный документ относится к предполагаемому нами периоду или же к более раннему времени.
Представить цельную картину на основе материалов, в которых переплелись обозначения и толкования многих периодов, очень сложно без реконструкции — хотя бы в самых общих чертах — процесса их развития и без учета временной перспективы.
Для выработки такой перспективы и определения достаточно широких рамок этого процесса мы использовали комбинированный типологический и исторический подход. Мы различаем три основные религиозные метафоры, с помощью которых боги воспринимаются и изображаются:
1. Боги как élan vital[32] — как духовная сущность явлений, внутрисущая воля и сила, выделяющая их существование и процветание в характерных для этих явлений формах и способах. Явления — по преимуществу природные явления первостепенной экономической важности.
2. Боги как правители.
3. Боги как родители, заботящиеся об индивидуальном почитателе и его поведении подобно тому, как поступают родители со своими детьми.
Из этих трех различных способов восприятия и изображения богов первый представляется наиболее архаичным и самобытным, поскольку никогда полностью не исчезает. Характерная привязанность к некоему явлению — то, что мы назвали «интранзитивностью», — основной аспект всех месопотамских богов. То, что этот способ восприятия божественного наиболее древен, подтверждается и самыми ранними свидетельствами: в источниках, сохранившихся от протописьменного периода[33] и ранее, боги еще изображаются по преимуществу лишенными человеческих черт. Изображения богов тесно связывают их с тем специфическим явлением, внутреннюю силу которого они составляют (облик птицы с головой льва у Нингирсу/Нинурты — бога грохочущей громом тучи; столб ворот — эмблема Инанны как нумена кладовой); или же они держат в руках эмблему явления, силу которого составляют: так, Думузи, бог плодородия и урожая, изображается держащим ячменный колос.
Вторая метафора — метафора правителя — относится, по-видимому, к более позднему времени. Она менее распространена и везде, где встречается, тесно связана с общественными и политическими формами относительно развитого свойства. Наиболее раннее свидетельство этой метафоры восходит к концу Протописьменного периода, так называемому периоду Джемдет Наср, и началу Раннединастического периода[34] когда начали появляться имена богов, включающие элемент en — «владыка»[35]: En-lil («владыка ветра») и En-ki(ak) («владыка почвы»). Достаточно разработанная политическая мифология, ассоциирующаяся с этой метафорой, общий совет богов в Ниппуре, видимо, отражает историко-политические условия, сложившиеся никак не прежде Раннединастического периода. Сам Ниппур становится важным центром назадолго до начала первого этапа Раннединастического периода — и, следовательно, связанная с ним политическая мифология с наибольшей вероятностью может быть отнесена к переходному периоду между первым и вторым этапами Раннединастического периода.
Третья метафора — метафора родителя — занимает центральное место в покаянных псалмах: жанр этот слабо засвидетельствован до Старовавилонского периода[36]; впоследствии он получает все большее распространение.
Руководствуясь этой общей схемой, можно выделить три главных аспекта, или фазы, древнемесопотамской религии: каждая фаза охватывает приблизительно одно тысячелетие и характерна для него; каждая фаза отражает главные устремления и тревоги своего времени. Исходя из нашей схемы, будем рассматривать их в такой последовательности:
1. Ранняя фаза, показательная для IV тысячелетия до н. э., когда наиболее распространено было поклонение силам естественных и прочих явлений, существенных для экономического выживания. Типичная фигура — умирающий бог, нуминозная сила плодородия и изобилия.
2. Позднейшая фаза, показательная приблизительно для III тысячелетия, привносит концепцию властителя и надежду на защиту от врагов. Типичные фигуры для этой фазы — великие боги-правители Ниппурского совета.
3. Наконец, фаза, показательная для II тысячелетия до н. э. Важность индивидуального благополучия все более возрастает — вплоть до того, что начинает соперничать с благополучием сообщества и его безопасностью. Типичная фигура — личный бог.
Во второй половине второго тысячелетия и в начале I тысячелетия Месопотамия погружается во мрак. Прежняя структура, в рамках которой истолковывалось действие космических сил, сохранялась, эволюционируя[37], однако, от представления о согласованной взаимосвязи воли разных божеств к идее о причудливых капризах одинокого деспота. Главные боги стали национальными богами, отождествленными с узконациональными политическими устремлениями. Идея божественности соответственно брутализовалась и варваризовалась, не возникло никаких новых представлений, упорядочивающих хаос, которые могли бы противостоять получившим широкое распространение настроениям смутной обеспокоенности. Магия и колдовство виделись повсюду: демоны и злые духи непрестанно угрожали жизни. Мы коснемся этого периода в эпилоге лишь для контраста — после того как представим последние грандиозные концепции упорядоченного космоса: это — «Энума элиш» и несколько более ранний «Эпос о Гильгамеше» с его прочувствованным толкованием проблемы жизни и смерти.
2. МЕТАФОРЫ ЧЕТВЕРТОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ. БОГИ КАК ДАЯТЕЛИ: УМИРАЮЩИЕ БОГИ ПЛОДОРОДИЯ
КУЛЬТ ДУМУЗИ КАК ХАРАКТЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ
Целям нашего описания древнейшей формы месопотамской религии наилучшим образом послужили бы данные и свидетельства, относящиеся исключительно к IV тысячелетию до н. э. Такое ограничение, однако, невозможно. Дело даже не столько в том, что дошедшие до нас свидетельства той эпохи очень скудны (сохранилось несколько фундаментов храмов, по которым восстанавливается их планировка, ряд изображений божеств и культовых обрядов на печатях и рельефах), пестры и отрывочны, поскольку относятся к различным местностям и неполно характеризуют страну в целом; суть в том, что им недостает главного, наиболее важного и существенного свойства — самоочевидности.
Современные той эпохе свидетельства могут быть поняты и истолкованы в свете религиозного опыта, к сожалению, только на основе известных нам позднейших данных. В лучшем случае они могут прояснить происхождение ранних истоков позднейших традиционных форм. Для того, чтобы составить общее представление о том, какие божества почитались по всей стране, и попытаться вообразить себе более или менее детально внешний облик ритуального поклонения, мы должны обратиться к гораздо более полно документированным позднейшим свидетельствам и постараться выявить в них наиболее архаические изначальные элементы. Наши основные критерии и комбинированный историко-типологический подход мы описали в предыдущей главе. К счастью, мы можем опираться с достаточной степенью уверенности на культ главных божеств в древнейших городах Месопотамии, поскольку учреждение храмов и самого ритуального поклонения как такового имело место, по-видимому, одновременно с образованием поселений: так, например, история храма Энки в Эреду может быть прослежена через ряд последовательных перестроек вплоть до самого его возникновения.
Различные городские боги, в которых верили жители ранних поселений, олицетворяли силы, управлявшие основными хозяйственными отраслями, характерными для региона, в котором располагались эти города. Так, на юге выделяется группа городских богов, тесно связанных с жизнью в болотистой местности и первоначальными примитивными занятиями — рыбной ловлей и охотой: Энки, бог пресной воды и растительной и животной жизни в Эреду на западе, а на Востоке — Нанше, богиня рыбы; Думузи-Абзу, нуминозная сила зарождения новой жизни в водной пучине, а также другие боги в Нине и Кинирше. В нижнем течении Евфрата божества земледельцев-садоводов соседствуют с божествами скотоводов. Здесь находятся города Нингишзиды («Владыки доброго дерева»), Ниназу («Владыки, знающего воды) и Даму («ребенка»), нуминозной силы сока, бродящего весной в деревьях и кустарниках. Но к ним относятся также бог-бык Нингублага, городской бог Киабрига; бог в образе быка и бог луны Нанна в Уре; в Куллабе — Нинсун, «Владычица диких буйволиц», со своим мужем Лугальбандой. Далее к северу центральную равнину Эден полукругом обступили поселения овцеводов (Урук, Бад-тибира, Умма и Забалам) с их главными божествами — пастухом Думузи и его невестой Инанной. К северу и востоку находятся города земледельцев — Шурулшак и Эреш с богинями зерна — Нинлиль, Ниншебаргуну и Нидабой; Ниппур с Энлилем — богом ветров и богом мотыги, и его сыном Нинуртой, богом грозы и плуга. Под местным именем Нингирсу Нинурту почитали также в городе Нгирсу, расположенном на юго-востоке.
Понятно, что нуминозный опыт в ситуациях, сопряженных с основополагающими для поддержания жизни видами деятельности, не мог не приобретать особого значения и должен был требовать особой набожности. Таким образом, ранняя форма месопотамской религии сводилась к поклонению силам плодородия и урожая — природным силам, обеспечивающим человеческое выживание.
Для того чтобы мысленно нарисовать в воображении, что мог представлять собой подобный культ плодородия, мы должны обратиться, как уже говорилось, к материалам, содержащим наиболее характерные мифы и ритуалы, безусловно восходящие к ранним периодам. Наиболее показательны из них те, где говорится о культе умирающего бога Думузи. Свидетельством высшего расцвета этого культа является Урукская ваза, датируемая концом IV тысячелетия до и. э. На ней изображено центральное событие ритуала священного брака. Рельефы вазы представляют невесту — Инанну, которая встречает своего жениха Думузи у ворот, чтобы впустить его в дом в сопровождении слуг, несущих свадебные дары — бесконечное изобилие всевозможных съестных припасов. Кроме этого свидетельства можно указать на архаический «интранзитивный» характер концепции бога в культе Думузи. Бог выступает здесь как нуминозная сила, немногим отличная от élan vital новой жизни в природе, жизни растительной и животной, олицетворяя волю и власть, вызывающие эту жизнь. Наконец, культ Думузи хорошо отражен в шумерской литературе — и, таким образом, на основе сохранившихся свидетельств культа можно составить на редкость полную и завершенную картину. Стремясь к большей ясности, мы представили все эти материалы так, как если бы они образовывали единое и связное целое, начиная со сватовства и брака юного бога и кончая его ранней смертью и поисками его скорбящими в подземном мире. В действительности столь полная схема не реализована ни в одном культе: выделяются, скорее, отдельные аспекты фигуры бога.
Каждый из этих аспектов подчеркивает определенное проявление нуминозной силы в каком-то отдельном основном виде хозяйственной деятельности; каждый соотносится с каким-то характерным сегментом ритуальных событий. В одной из таких ипостасей Думузи, под именем Думузи-Амаушумгальанна, выступает нуминозной силой финиковой пальмы, производящей новый урожай. Имя «Амаушумгальанна» значит «единый великий источник финиковых гроздей» (a m a-ušum. gal-ana(ak)) и относится к так называемому сердцу пальмы — громадной почке, набухающей ежегодно. Это — наиболее светлая и благая изо всех форм бога. В культе празднуется только священный брак бога, но не его утрата (т. е. смерть) — предположительно потому, что финики хорошо переносят длительное хранение. Поклонение богу среди овечьих пастухов и скотоводов более разработано. У пастухов он известен под именем Думузи-пастух и считается сыном Дуттур, персонифицированной овцы, тогда как среди пастухов крупного скота он — сын Нинсун, «Владычицы диких буйволиц». Культ включает в себя как радостное воспевание союза бога с Инанной (первоначально бывшей, как представляется, богиней священных закромов)[38], так и горестное оплакивание бога, когда он умирает в пору сухой летней жары, которая выжигает пастбища, и получение приплода ягнят и телят, как и доение молока, прекращается. Ряд текстов заставляют предположить существование еще одной формы бога, которую можно было бы назвать «Думузи Зерна», — формы, которой наделяется бог, рассматриваемый как нуминозная сила ячменя, а в особенности сваренного из него пива, и которой явно поклонялись земледельцы. Наконец, существует культ, в котором богу поклонялись под именем «Даму» — «ребенок». Эта ипостась, первоначально, по-видимому, независимая от культа Думузи, все еще сохраняет целый ряд характерных для нее отличительных черт. Даму, воплощающий силу начинающих движение растительных соков, изначально локализовался, очевидно, в среде земледельцев-садоводов нижнего Евфрата. Бог представал не юношей брачного возраста, но маленьким ребенком: если фигуры вокруг других изображений Думузи — его невеста, мать и сестра, то в культе Даму присутствуют только последние две. Ритуал поиска умершего бога, влекущего мать и сестру Думузи к теням подземного мира, также характерен для этого культа.
СВАТОВСТВО
Обращаясь вначале к текстам, повествующим об ухаживании Думузи и его сватовстве к юной Инанне, мы должны сразу заметить, что все они — чисто литературного происхождения, не связаны ни с какими ритуалами и, как представляется, служат исключительно целям развлечения. Это имеющие не слишком серьезный характер широко распространенные песенки, какие могли напевать женщины, чтобы скоротать время за прядением и ткачеством; возможно, эти песни могли сопровождать и танец[39].
Первую песню, сохранившуюся лишь частично, можно было бы назвать «Сообщение сестры»: в ней сестра Думузи — Гештинанна обращается к брату с волнующей новостью. Она только что побывала у юной Инанны (здесь и далее ее зовут Баба), которая призналась ей, как девушка девушке, что охвачена страстью к Думузи и теперь страдает от мук неразделенной любви. Гештинанна, со свойственным подростку ощущением драматического, соответственным образом рассказывает обо всем брату[40]:
Когда шла я мимо, когда шла я мимо, когда проходила я мимо дома, моя (дорогая) Инанна меня увидала. О брат (мой), что она мне сказала, о что еще мне она сказала? О (мой) брат, о любви, о любовных чарах, о сладчайшем на свете моя (дорогая) обожаемая Инанна открылась мне! В то время как я занята была делом, (тебя) она встретила, мой любимый, привязалась к тебе, восхищеньем прониклась (с) первого (взгляда). О брат (мой), она привела меня в дом, уложила меня в (медовую мягкую) постель; рядом со мной прилегла дорогая, близко к сердцу, говорили мы с ней поочередно: то я, то она, и она, о прекрасный мой брат, со стонами мне поведала душу, а я поведала ей (разные вещи), словно (тяжело) больной; неудержимая дрожь — от самой земли — сильная дрожь охватила ее. О мой брат, ударяя по бедрам[41], (в тоске) моя дорогая проводит дни.Думузи незамедлительно улавливает намек, но, не желая слишком явно обнаруживать свои чувства, делает вид, что ему необходимо идти во дворец:
Отпусти меня, о сестра! Отпусти меня! Прошу, моя дорогая сестра, отпусти меня, отпусти меня во дворец!Гештинанну не так-то легко провести: она догадывается, куда он стремится, и, шутливо подражая напыщенно-суровому отцовскому тону, отвечает:
Для взоров моих отцовских ты (по правде) еще малый ребенок; там же, Баба может познать в тебе мужчину, я отпущу тебя к ней!И Думузи уходит.
В другой песне[42], которая может быть названа «Уловки женщин», предполагается, как мы считаем, что Думузи и Инанна встретились и влюбились друг в друга накануне вечером. Весь описываемый в песне день любовники провели в разлуке — Думузи, по всей вероятности, за работой, Инанна же коротала томительно долгие часы за играми и плясками, с нетерпением ожидая вечера, когда Думузи освободится, и надеясь его тогда увидеть. Они встречаются, когда Инанна возвращается домой:
Мне, девице, коротавшей время праздно со вчерашнего дня, мне, Инанне, коротавшей время праздно со вчерашнего дня, коротавшей время в плясках, пенье песен весь день напролет, повстречался мне он! Повстречался мне он! Господин, равный Ану, повстречался мне. Господин вложил мою руку в свою, Ушумгальанна обнял меня за плечи. Куда (ты ведешь меня)? Дикий бык, отпусти меня, я спешу домой! Равный Энлилю, пусти меня, я спешу домой! Что мне выдумать в оправданье для матери? Что мне выдумать для Нингаль?Думузи в порыве страсти не в состоянии думать ни о чем, кроме любви, и полагает согласие Инанны само собой разумеющимся. Инанна же, имея виды на брак, сопротивляется. Она дает понять, что готова пойти с ним, однако у нее есть мать: как же Инанна может уйти и остаться с ним в столь поздний час? Думузи, в неведении о ее тайных помыслах, принимает отговорку за чистую монету, чем и обнаруживает свою крайнюю молодость и наивность. Он изображает из себя опытного наставника, поучая Инанну, какие именно небылицы лучше всего выдумывать девушкам, желающим оправдать свою позднюю отлучку из дома (Инанна, надо думать, вряд ли сумела удержаться от улыбки):
Научу я тебя, научу я тебя, научу я тебя, Инанна, выдумкам женским: «Подруга моя со мной прогуливалась на площади, под звуки флейты и тамбурина танцевала она со мной, наши песни печальные были сладостны — она мне их напевала; наши песни веселые были сладостны — время летело!» С этой выдумкой ты предстань перед матерью; А мы — О, если бы мы могли тешиться в лунном свете! Позволь разостлать для тебя чистейшее, сладостное царское ложе, позволь проводить с тобой время в радости и усладе.Каким образом Инанна отклоняет это предложение и побуждает суженого просить ее руки — к сожалению, остается неизвестным из-за имеющейся небольшой лакуны. Но то, что она преуспела в этом, ясно видно из последующего текста, где говорится, что теперь Думузи сопровождает Инанну домой к матери с намерением сделать предложение. Инанна уже называет свою мать «нашей»: она очень взволнована и едва удерживается, чтобы не побежать. Единственное, о чем она беспокоится, — достаточно ли хорош дом для такого случая; ей хотелось бы отправить впереди себя гонца, чтобы предупредить мать:
Он решил подойти к воротам нашей матери, Я готова бежать, (полна) ликования! Он решил подойти к воротам Нингаль, Я готова бежать, (полна) ликования! О, если бы кто-то передал моей матери — И она разбрызгала кедровое благовоние по полу! О, если бы кто-то передал Нингаль, моей матери — И она разбрызгала кедровое благовоние по полу! Ее жилище благоухает сладостно, Все ее слова полны радости.Инанна уверена, что ее выбор одобрят и что мать будет счастлива принять Думузи как своего зятя. Он родом из знатной семьи, богат, сам хороший добытчик, и она испытывает удовольствие в предвкушении того, какими будут приветствия Думузи со стороны матери, которая восславит его как зятя бога луны Суэна (и своего собственного), радуясь тому, что он вполне достоин стать мужем дочери:
Господин мой, воистину ты достоин чистых объятий, Амаушумгальанна, зять Суэна. Владыка Думузи, воистину ты достоин чистых объятий, Амаушумгальанна, зять Суэна! Господин мой, богатства твои сладостны, травы твои в степи благоуханны все до единой; Амаушумгальанна, богатства твои сладостны, травы твои в степи благоуханны все до единой!Инанна любит, как это будет видно, скорее умом, нежели безоглядным чувством. Ее радость от обретения надежного положения в жизни с хорошим добытчиком не менее велика, нежели наслаждение красотой юноши. И Думузи — воплощение плодородия и урожая — выступает деятелем par excellence[43].
Если в этой песне Инанна избирает себе мужа сама, то в других песнях она больше связана условностями и, согласно обычаю, предоставляет выбор своему старшему брату — богу солнца Уту. Вопрос, насколько правилен этот выбор, вызывает некоторое беспокойство как у брата, так и у сестры: их взаимная тревога составляет тему третьей песни — «Свадебные простыни Инанны»[44]. Из самого начала песни явствует, что Уту уже сделал бесповоротные приготовления для выдачи Инанны замуж за Думузи и ему остается только сообщить ей об этом. Намереваясь подвести ее к новости осторожно и дипломатично, Уту поначалу высказывает предположение, что может понадобиться новое полотно, умалчивая, однако, о том, что оно предназначено для брачного ложа Инанны и ее нового дома:
Брат решил сказать своей младшей сестре, бог солнца Уту решил сказать своей младшей сестре: «Юная госпожа, лен полон прелести, Инанна, лен полон прелести, (как) ячмень в борозде прелестен и вожделенен. Сестра, кусок полотна — большой или малый — прекрасен, дай связать мне в узел и отдать тебе, госпожа, позволь принести тебе лен! Инанна, позволь принести тебе лен!»Окольный способ уведомить о предстоящем событии, разумеется, ни на миг не вводит Инанну в заблуждение — скорее наоборот, заставляет насторожиться. Она понимает, что жених для нее уже выбран — но вот кто он? Тот самый — или кто-то другой? Она страшится ответа и пытается отдалить разгадку, отговариваясь своей молодостью, хрупкостью, утонченностью и незнакомством с низменными домашними заботами:
Брат, когда ты принесешь мне лен, кто намочит (?) его для меня, кто намочит, кто намочит волокна его для меня?Однако Уту нельзя обескуражить, он твердо намерен снабдить сестру полотном:
Сестра, лен уже намоченный позволь принести тебе, Инанна, уже намоченный позволь принести тебе.Но Инанна еще раз отклоняет дар:
Брат, когда ты принесешь его мне уже намоченный, кто спрядет для меня, кто спрядет для меня, кто спрядет волокна его для меня?Уту вновь готов оказать всяческую помощь: он доставит уже готовую пряжу, и вновь Инанна делает вид, что не хочет иметь ничего общего с предлагаемым ей занятием, спрашивая, кто же тогда скрутит для нее двойную нить? В таком духе разговор и продолжается: кто окрасит скрученную вдвое нить? Кто будет ткать полотно? кто отбелит готовую ткань[45]? Все же наконец, когда Уту с устрашающей услужливостью предлагает доставить льняные простыни уже отбеленными, Инанна совершенно теряется — и, не в силах измыслить дальнейших уверток и отговорок, прямо спрашивает: «Кто он?»
«Брат, когда ты принесешь его мне уже отбеленным, кто возляжет со мной на него? Кто возляжет со мной на него?» «С тобою возляжет, с тобою возляжет, с тобою возляжет жених, возляжет с тобою Амаушумгальанна, возляжет с тобою равный Энлилю, с тобою возляжет потомок благородного чрева, с тобою возляжет зачатый на возвышении тронном!»Наконец напряжение снято, и неизвестность счастливо разрешена. Уту сделал правильный выбор:
Справедливо! Он — муж мне по сердцу, он — муж мне по сердцу, Муж, какого подсказало мне сердце! Работающий мотыгой, громоздящий горы зерна, приносящий зерно в амбары, земледелец с сотнями груд зерна, пастух, чьи овцы грузны от шерсти.Как и в предыдущей песне, «Он», избранник Инанны, прежде всего хороший добытчик — воплощение плодородия и достатка. Род его занятий уже неважен: в предыдущей песне Думузи — пастух, владеющий в степи богатыми пастбищами, здесь он выступает одновременно и пастухом, и земледельцем. Образ самой Инанны сложнее: богатая, знатная, довольно избалованная, она слишком высоко ценит себя, чтобы опуститься до обыденной домашней работы, и занята целыми днями лишь играми и танцами, готова полюбить — но лишь того, кто сможет обеспечить ее всем, чего захочется.
От рассмотренных текстов — всего один короткий шаг к текстам, описывающим свадьбу Думузи и Инанны; но если все тексты, посвященные ухаживанию, — это общераспространенные песни, то свадебные тексты включают в себя как произведения, которые должны считаться скорее беллетристическими, так и произведения, имеющие ритуальный характер, тесно связанные с общинным поклонением богу[46].
БРАК
Удобнее всего начать с близкого жанру новеллы рассказа из Ниппура[47], который очень хорошо освещает шумерские свадебные церемонии в целом. Рассказ — назовем его «Свадьба Думузи» — открывается перечислением четырех спутников Инанны на свадьбе, а именно жениха и трех его дружек. Эти четверо — пастух, земледелец, птицелов и рыбак. Во главе их — Думузи, будущий жених. По окончании приготовлений к свадьбе Инанна направляет к ним посланцев с просьбой почтить ее приношением даров. Пастух является со свежими сливками и молоком, земледелец приносит свежеобмолоченное зерно, охотник — отборную дичь, а рыбак предлагает сазанов, которыми в это время года, весной, изобилуют речные воды.
По прибытии в дом родителей Инанны Думузи просит Инанну открыть ему дверь, однако Инанна отнюдь не спешит: у нее еще слишком много дел. Сначала, как примерная дочь, она идет к матери, чтобы спросить совета, как ей следует вести себя по отношению к новой родне, и узнает, что должна повиноваться свекру, как если бы он был ей родным отцом, а свекрови — как если бы та была ее родной матерью.
Думузи, стоя на улице, продолжает взывать к Инанне, однако она все еще слишком занята. Мать велела ей вымыться, и девушка окатывает себя водой и тщательно моется с мылом[48], затем надевает свои лучшие одежды, берет ожерелье-талисман, поправляет на шее бусы из лазурита, сжимает в руке цилиндрическую печать — и вот, наконец, теперь она готова принять Думузи:
Юная госпожа замерла в ожидании. Думузи распахнул дверь. И как лунный луч она вышла к нему навстречу из дома; он взглянул на нее с восторгом, обнял ее и поцеловал.Имеющиеся здесь лакуны делают неясным то, что произошло дальше. Предположительно речь идет о совершении брачного обряда, о свадебном пиршестве и пребывании молодоженов в течение нескольких дней в доме родителей Инанны. Текст возобновляется (в третьей табличке) рассказом о возвращении супругов в родительский дом Думузи. На пути они делают остановку у храма личного бога Думузи, и Инанну просят лечь спать перед лицом бога (возможно, в надежде на провидческий сон), однако текст сохранился плохо, и смысл не вполне ясен.
После еще одной лакуны в табличке четвертой описывается испуг, который вызвали у Инанны все эти новые и непривычные для нее события: неужели в чужом доме ей предстоят какие-то обязанности, неужели ей придется работать? Думузи изо всех сил старается успокоить ее и приободрить: среди домочадцев ее окружат почетом, и она не будет ни ткать, ни прясть, ни утруждать себя какими-то еще домашними делами. Она останется, как и прежде, хорошо знакомой нам обеспеченной молодой женщиной, изысканной, не знающей забот и лишений:
Пастух обнял юную госпожу: «Я не в рабство увел тебя! Твой стол будет великолепен, великолепен будет стол, за великолепным столом я сижу. Твой стол будет великолепен, великолепен будет стол, за великолепным столом ты будешь сидеть. Моя мать сидит за обедом у чана с пивом, брат Дуттур не сидит за столом, сестра моя Гештинанна не сидит за ним, (но) ты омоешь руки за великолепным столом[49]! О невеста моя, холст ты не будешь ткать для меня! О Инанна, нить ты не будешь сучить для меня! [О невеста моя,] шерсть ты не будешь прясть для меня! [О Инанна,] основу ты не будешь плести для меня!»Так, согласно этой безобидно-юмористической повести, Инанна явно одерживает верх, и начинается их короткая совместная жизнь.
Совершенно иными по стилю и тональности предстают свадебные тексты, обладающие специфически ритуальной подоплекой или окружением. В качестве примера приведем текст, происходящий, по-видимому, из Урука и повествующий о том, как в этом городе праздновался брак Думузи-Амаушумгальанны с Инанной. В нем, по мере развертывания событий, описываются различные культовые действия — с точки зрения расположившегося в непосредственной близости наблюдателя. Для удобства назовем этот текст «Урукским»[50]. Предположительно данное произведение, подробно изображающее культовые действия в песнях, вызывало у почитателей на краю толпы ощущение большей причастности к событию и помогало им следить за происходящим.
Вначале рассказчик — после двух неясных строк — сообщает, что сборщик фиников должен ради Инанны взобраться на пальму[51], и выражает надежду, что он принесет для нее оттуда свежие финики. Сборщик фиников так и поступает, сложив гроздья в груду, которую комментатор называет «таящей драгоценности грудой». Название оказывается как нельзя более подходящим, так как сборщик фиников и Инанна начинают собирать с верхушки этой груды лазурит:
Сборщик фиников должен взобраться (?) на пальму, сборщик фиников должен взобраться (?) на пальму для священной Инанны. Да возьмет он свежих фиников для нее! Да возьмет свежих фиников для нее — темных, созревающих рано; да возьмет он свежих фиников для Инанны — кроме того, свежих, созревающих рано. Он решил отнести их, он решил отнести их, решил отнести их к таящей драгоценности груде; он решил отнести их; О девственная Инанна, он решил отнести их к таящей драгоценности груде. С верхушки груды собирает он лазурит, с верхушки груды собирает он лазурит для Инанны. Он находит «бусы для чресел», возлагает их на ее чресла! Инанна находит «головные бусы», возлагает их себе на голову! Она находит необработанные чистые куски лазурита, возлагает их себе вокруг шеи! Она находит узкую золотую тесьму (?), возлагает ее на волосы!..Собранные драгоценности и украшения по очереди подробно перечисляются и описываются рассказчиком. Взятые вместе, они составляют полный убор царицы: в придачу к уже названным, сюда добавляются две пары серег (одни из золота, другие — бронзовые в виде полумесяца), украшения для глаз, носа, пупка, фляжка на пояс, алебастровые украшения для бедер, украшения, прикрывающие лобок, и, в довершение всего, сандалии для ног. Очевидно, что все эти различные культовые действия в совокупности изображают собой церемониальное облачение Инанны перед тем, как она должна открыть двери своему жениху. Мы уже знаем об одевании Инанны после омовения — перед тем, как она отворяет двери Думузи в рассказе «Свадьба Думузи». Несколько озадачивают дополнительные подробности, приводимые «Урукским текстом» (в частности, причудливое происхождение убранства Инанны, целиком «найденного» на загадочной «таящей драгоценности груде»): истолкование их мы на время откладываем.
Церемония облачения Инанны предшествует открыванию ею двери — главному событию шумерской свадьбы, которое означало действительное заключение брака. Непосредственно за ним следовал свадебный пир. Встреча жениха с невестой описана так:
Господин встретил ее с (драгоценностями) из лазурита, собранными на груде! Думузи встретил Инанну, украшенную лазуритом, собранным на груде! Пастух Ана, служитель Энлиля встретил ее! В Эанне пастух Ана, Думузи, встретил ее, у (отделанной) лазуритом двери, что стоит в Гипаре[52], господин встретил ее! возле узкой двери, стоящей в амбаре Эанны, Думузи встретил ее! Его, кого она отведет обратно к верхушке груды; его, кого Инанна отведет обратно к верхушке груды; (его) может она, с ласками и напевами, ввести (?) в (?) ее (глиняное) покрытие. Девушка посреди радостных возгласов отослала кого-то к отцу! Инанна, двигаясь словно в танце (от радости), отослала кого-то к отцу, (говоря): «О, пусть они вбегут в мой дом, (в) мой дом для меня! О, пусть они вбегут в мой дом,(в) мой дом, для меня — госпожи; О, пусть они вбегут в мой дом, Гипар, для меня! (И) когда они постелят мою чистую постель для него, О, пусть они разбросают по ней мою сияющую лазуритом высушенную солому для меня. О, пусть тогда муж, что мне по сердцу, подойдет ко мне; о, пусть тогда мой Амаушумгальанна подойдет ко мне. О, пусть они вложат его руку в мою; о, пусть они приблизят его сердце к моему. Сладостно не только спать с ним рука об руку, сладостней всего также счастье соединения сердца с сердцем.Встреча у двери означает приятие свершившегося. Гонцов посылают с приказаниями убирать дом, готовить брачное ложе и вести жениха к невесте. Открытие двери — иначе говоря, совершение брака — тут же влечет за собой подготовку свадебного пиршества.
Последовательность событий свадебной драмы становится, таким образом, понятной, однако многое в тексте остается темным и трудно объяснимым. Что такое, к примеру, «таящая драгоценности груда»? И почему Думузи-Амаушумгальанна должен быть снова отведен к ней? Почему украшения для Инанны берутся из этой груды? Для понимания всего этого необходимо уяснить сущность нуминозных сил — и тогда оказывается, что невеста, Инанна (ранее — Нинанна(к)), — «Госпожа финиковых гроздей»[53] представляет собой нумен общинного хранилища фиников — той самой «кладовой Эанны», которую в тексте она открывает для Думузи. Ее эмблема, иначе говоря, доантропоморфическая форма, подтверждает это, являясь, как показал Андре, воротным столбом с обернутой вокруг циновкой вместо входной двери — отличительным знаком кладовой[54].
Соответственно и жених — Амаушумгальанна — представляет собой содержимое кладовой. Как указывает его имя, значащее «единственный великий источник финиковых гроздей»[55], это — персонификация нуминозной силы, скрытой в громадной почке, которую раз в год выбрасывает финиковая пальма. Из него развиваются все новые листья, цветки и плоды. Таким образом, Думузи-Амаушумгальанна — это персонификация нуминозной силы, стоящей за ежегодным цветением и плодоношением финиковой пальмы; в сущности, это нуминозная сила, скрытая и в урожае фиников.
То, что две эти силы вступили в союз, означает, что божество кладовой завладело нуминозной силой плодородия и достатка, сделав ее достоянием и вечным хранителем всей общины. Амаушумгальанна надежно сберегается в кладовой, община счастлива обилием еды и питья, радуясь освобождению от тревог, страха перед голодом и лишениями. Инанна точно выражает общее чувство: не любовью и восторгами страсти ознаменована их первая брачная ночь; богиня охвачена чувством совершенного счастья, вызванного уверенностью в спокойном и обеспеченном будущем:
Сладостно не только спать с ним рука об руку, сладостней всего также счастье соединения сердца с сердцем.Представление об Инанне как нумене хранилища для фиников и Думузи-Амаушумгальанне как нуминозной силе — самой сущности урожая фиников — создает основу для лучшего понимания подразумеваемого «Урукским текстом» ритуала. Вполне логично, что груда свежих фиников может послужить убранством для Инанны, поскольку новый урожай становится гордостью и украшением пустовавших до того закромов. В тексте, однако, родство между урожаем и кладовой перегружено антропоморфической образностью. Гроздья фиников, предназначенные для украшения полок кладовой, в ритуальном восприятии становятся традиционными женскими украшениями и драгоценностями, достойными быть убором невесты, и груда свежих плодов, из которой они взяты, тесно соотносится с некоей сокровищницей. Бе подлинное происхождение, однако, вновь напоминает о себе, когда несколько позднее мы узнаем, что Думузи-Амаушумгальанна должен быть отведен к этой груде, спрятанной под глиняным покрытием, тотчас после того, как он вступает в дом Инанны — «кладовую Эанны».
Другой свадебный текст, довольно близкий по настроению к «Урукскому тексту», составляет часть пространного гимна, обращенного к Инанне, который для удобства мы будем называть «Текстом Иддин-Дагана»[56], поскольку этот царь выступает в нем ритуальным воплощением Думузи. К сожалению, даже при том, что текст представляется достаточно специфическим, нельзя установить точное место совершения обряда, однако наиболее вероятным кажется царский дворец в Исине. Излагая ход ритуала, текст подхватывает нить повествования как раз там, где оканчивается «Урукский текст», — а именно на описании приготовления брачного ложа, после того как Думузи (в образе царя) допущен в дом Инанной, называемой здесь ее эпитетом Нинэгаль («Царица дворца»). Отрывок начинается так:
Во дворце — доме, что правит народом и (обуздывает) ярмом все (чужие) земли, в доме, (называемом) «Речное испытание», (там) черноголовый народ, народ во всей совокупности, основал тронное возвышение для Нинэгаль. Царь, будучи богом, пребудет с нею на нем. Дабы она пеклась о жизни по всей земле, дабы в тот день, когда она вскинет голову и взглянет ласково (на жениха), когда они отправятся вместе на ложе, обряды свершались образцово, свершались они в новогодье, в день обряда воздвигали ложе для госпожи. Траву альфа[57] очистив кедровым благовонием, возложили они ее на постель госпожи,' накрыли постель для нее покрывалом, покрывалом восторга, чтобы сделать ложе удобным.Затем, когда все необходимое сделано, Инанна готовит себя к брачной ночи:
Госпожа омывает водой священные чресла, для чресел царя омывает она их водою, для чресел Иддин-Дагана омывает она их водою. Священная Инанна натирает (ся) мылом, орошает пол кедровым благовонием.Затем Амаушумгальанна входит в опочивальню:
Вскинув голову, царь подходит к священным чреслам, идет, вскинув голову, к чреслам Инанны, Амаушумгальанна идет с ней к ложу, вознося хвалу женщине за ее священные чресла: «О моя единственная со священными чреслами! О священная моя Инанна!» После того как он н а ложе священные чресла возвеселил царице; после того как он на ложе священные чресла возвеселил Инанне, она в ответ утешает его сердце там, на ложе: «Воистину буду я продлевать дни (жизни) Иддин-Дагана».После этого обещания любимому повествование о божественной паре прерывается. Рассказ возобновляется на следующее утро, когда жених входит в свой дворец с тем, чтобы распорядиться об устройстве свадебного пиршества, и нежно обнимает молодую жену за плечи. Божественная пара занимает места на царском возвышении, перед ними накрывают роскошный стол, музыканты и певец оглашают зал радостной песней, и царь дает знак к началу пиршества:
Царь потянулся за едой и питьем, Амаушумгальанна потянулся за едой и питьем; празднично во дворце, радостен царь, народ проводит день среди изобилья; Амаушумгальанна в радости прибыл, да пребудет он долго на чистом троне!Особенно примечательна в этом тексте четкая формулировка цели, которую преследует ритуал священного брака. Брачное ложе готовится для празднования священного брака между урожаем и закромами — в надежде, что невеста, впервые взглянув вблизи на жениха, будет настолько покорена им, что свадебный обряд брачного ложа свершится благополучно[58]. Успех этого союза означает, что Инанна, нумен закромов, сможет «заботиться о жизни во всех землях».
Акцент на свободе от лишений, которую обеспечивает священный брак, прочности гарантий, которые обещает богатый урожай, сделан в описании изобилия свадебного пиршества:
Изобилье, довольство, избыток доставлены прямо к нему; стол, полный яств, накрыт перед ним.Еще одной примечательной чертой данного текста, — не менее важной, чем четко сформулированная цель ритуала, — является та недвусмысленность, с которой божественный жених предстает в образе земного царя (в нашем случае Иддин-Дагана, царя из династии Исина), предполагая их полное тождество. «Царь, будучи богом», — говорится в тексте, и далее:
Вскинув голову, царь подходит к священным чреслам, идет, вскинув голову, к чреслам Инанны, Амаушумгальанна идет с ней к ложу.И сама Инанна, обращаясь к своему божественному супругу, называет его именем смертного:
«Воистину буду я продлевать дни (жизни) Иддин-Дагана».Иддин-Даган и Думузи-Амаушумгальанна составляют единое целое.
Как земной царь мог отождествляться с богом плодородия и достатка, так и царица (или, возможно, главная жрица), по всей вероятности, могла в ритуале отождествляться с Инанной, воплощая в себе нумен кладовой. Эта способность смертных воплощать богов и представлять нуминозные силы чрезвычайно существенна, поскольку предполагает, что люди могут действовать подобно высшим силам и замещать их; в ритуале священного брака содержание то же, что в любви и брачных узах: иметь и вечно обладать силой, которая обеспечивает и поддерживает жизнь — Думузи.
Следует упомянуть еще одну любопытную и, очевидно, достаточно новую особенность «Текста Иддин-Дагана»: представление об источнике искомой благодати явно связывается уже не с Думузи, а с Инанной. Эту переориентацию можно связать с растущим политическим и религиозным значением Инанны в исторические времена, когда важность ее культа в значительной мере оттесняла культ Думузи; однако возможно также, что царь, его воплощавший, все более ощущался представителем человеческой общности par excellence — скорее просителем, нежели даятелем избытка и довольства.
Весьма близок к «Тексту Иддин-Дагана» по общему тону и еще более явному вниманию к Инанне как источнику плодородия и достатка еще один свадебный текст, который можно назвать «Благословение жениха»[59]. Начинается он (к сожалению, первая строка повреждена) восторженным описанием красоты храма Эзиды, в котором должен совершиться священный брак:
... (храма) Э-темен-ни-гуру, хорошее управление Храмом Эреду, чистота Храма Суэна, и (твердо) врытые (защитные) воротные столбы Эанны, были воистину (все) даны как дары в руки дома. Мой (дорогой) Эзида («добрый дом») плывет как облако (высоко на террасе).Далее повествователь обращается к приготовлениям для брачной ночи и подготовке сопровождения невесты верным служителем, который сообщает Инанне:
Чистое (свадебное) ложе, точное подобие лазурита, которое Гибил (бог огня) очищал для тебя в Иригаль (храме), служитель, который умеет ухаживать за царицей, для тебя наполнил травой альфа; в доме, убранном для тебя нарезанным тростником, он ставит тебе сосуд для омовенья!Все, таким образом, готово; приближается время отправляться в спальню:
День (настал) урочный, день (настал) названный; день, когда (невеста) у видит (жениха) на (брачной) постели; день, когда царь пробудит (желание в) женщине. О, даруйте жизнь царю! Да (владеет) царь всеми пастушьими посохами!Напоминание повествователя, похоже, возымело желаемый эффект. Невеста — Инанна — выражает желание отправиться на ложе:
Велит отвести себя! Велит отвести себя! Велит отвести на ложе! Велит отвести на ложе, радостное для сердца! Велит отвести на ложе! Велит отвести на ложе для услаждения чресел, велит отвести на ложе! Велит отвести себя на царственное ложе! Велит отвести на ложе! Велит отвести себя на ложе царицы! Велит отвести на ложе!Как старательная жена, какой она намеревается стать, Инанна делает последние приготовления постели сама:
Устраивая его, устраивая его, устраивая ложе, устраивая ложе, радостное для сердца, устраивая ложе, устраивая ложе для услаждения чресел, устраивая ложе, устраивая царственное ложе, устраивая царственное ложе, устраивая ложе, устраивая ложе царицы, устраивая ложе, расстилает простыню для царя, расстилает простыню для него, расстилает простыню для возлюбленного, расстилает простыню для него; на ложе, убранное ею, зовет царя; на ложе, убранное ею, она зовет возлюбленного.Исполняя повеление, служанка Инанны Ниншубур, ожидавшая слов госпожи, отправляется за царственным женихом (тот великолепен в своем парике) и проводит его к невесте. Тут она, из лучших побуждений, разражается, по обыкновению преданных слуг, настоящим потоком нескончаемых добрых пожеланий, выпаливая единым духом длинную стандартную формулу, первоначально принадлежавшую, видимо, культу Даму:
Ниншубур, добрая служанка Эанны, не смыкает глаз за отрадными хлопотами — она подводит его, в парике, к чреслам Инанны: «Да проведет господин, избранник твоего сердца, да проведет царь, твой жених возлюбленный, долгие дни в твоем сладостном, чистом чреве! Даруй ему радостное царствование! Даруй ему царский трон, укрепи его основание; даруй ему скипетр, исправляющий (зло) в стране, даруй все пастушьи посохи; даруй ему хорошую корону — убор, который делает голову избранной. С рассвета до заката, от юга до севера, от Верхнего Моря до Нижнего Моря, от (мест, где растет) дерево „хулуппу"[60], до (мест, где растет) кедр, В Шумере и Аккаде, даруй ему все пастушьи посохи, и пусть он пастырствует над черноголовым народом. Пусть он, как земледелец, возделывает поля, пусть, как у доброго пастыря, плодится его стадо, пусть будут лозы под его началом, пусть будет ячмень под его началом, пусть будет поток сазанов[61] в реке под его началом, пусть будет пестрый ячмень в полях под его началом, пусть рыбы и птицы шумят в болотах под его началом. Пусть старый и молодой тростник растет в камышах под его началом, пусть кустарник растет в пустыне под его началом, пусть олени в лесах множатся под его началом, пусть (хорошо) орошенные сады приносят мед и вино под его началом, пусть кресс-салат и латук растут на огородах под его началом, да продлится долгая жизнь во дворце под его началом. Пусть высокий прилив поднимется (?) в Тигре и Евфрате под его началом, пусть растет трава на их берегах пусть овощи заполнят общинные земли, пусть священная владычица (злаков), Нидаба, громоздит там горы зерна! О госпожа, царица земли и неба, царица небес и всей земли, да здравствует он в твоих объятьях!»После этой долгой речи следует стереотипная формула, констатирующая союз божественной четы:
Царь идет, вскинув голову, к священным чреслам, идет, вскинув голову, к чреслам Инанны; царь, идущий со вскинутой головой, идущий со вскинутой головой к госпоже ........................................................................ возлагает руки вокруг священной... —и здесь текст обрывается.
Как мы уже отмечали, любопытной особенностью этой версии является необычный обмен ролями между Инанной и Думузи-Амаушумгальанной, заслуживает также внимания и обилие ожидаемых благодеяний. Размах даров — от урожая земледельцев и дохода пастухов до улова рыбаков и добычи охотников и птицеловов, от живности лесов и болот до виноградных лоз и садовых плодов. Налицо явный контраст с первым рассмотренным нами культовым текстом — «Урукским». Там бог Думузи-Амаушумгальанна (в соответствии со своим именем) являлся нуминозной силой плодородия только финиковой пальмы и подразумевался единственный ритуал — ритуал, связанный с урожаем фиников. Можно заключить, что подобная сосредоточенность на каком-то одном из главных хозяйственных занятий была первоначально характерной особенностью культа, однако, по мере того как город вовлекал в свою орбиту различные промыслы (Урук, к примеру, объединил несколько поселений производителей фиников, пастухов крупного и мелкого скота[62]), сфера культа расширилась настолько, что бог стал олицетворять силу плодородия и достатка вообще. О таком расширении сферы божественной компетенции можно судить уже по изображению на Урукской вазе (конец IV тысячелетия), где свадебные приношения бога включают не только финики, но и колосья зерна, и обильных руном овец. В том свадебном тексте, где Думузи выступает как пастух, это расширение искусно передано тем, что земледелец, рыбак и птицелов действуют как сопровождающие его лица на свадьбе и приносят соответствующие дары в дополнение к подношениям пастуха. В других текстах — например, в «Брачных простынях Инанны» — Думузи фигурирует, несколько странным образом, в хвалебном слове Инанны и как пастух, и как земледелец.
Довольно примечательно, что это расширение сферы божественной компетенции (быстро происходящее с осознанием того, что все силы плодородия составляют одну божественную фигуру — Думузи) не настолько воздействует на те материалы, которыми мы располагаем, чтобы совсем вытеснить или же затемнить первоначально вполне отчетливую хозяйственную подоплеку. Оно выражается скорее в непоследовательных, чисто внешних добавлениях к уже сложившимся формам или же как приращение со стороны, по мере того как ритуалы утрачивают свое первоначальное значение и приобретают неопределенно-обобщенный характер.
То, насколько сильно какая-либо известная хозяйственная подоплека могла определять значение ритуала, можно проиллюстрировать напоследок еще одним ритуальным свадебным текстом[63] (назовем его «Свадебным текстом Доилыцика», поскольку в нем представлен обряд священного брака в форме, которую он получил в среде скотоводов). В основных аспектах он отличается от рассмотренных нами выше свадебных текстов, которые в целом можно было классифицировать как тексты об Амаушумгальанне или об урожае фиников.
В «Свадебном тексте Доилыцика» имя Амаушумгальанны не встречается: бог здесь называется своими пастушескими именами, Думузи или «Дикий Бык Думузи». «Дикий Бык» — это шумерская метафора «пастуха» — первоначально, возможно, «волопаса»[64]. Начальные строки, к сожалению, сильно повреждены, но дальше текст сохранился лучше, и из него ясно, что мы следуем за Инанной, когда она направляется в брачную опочивальню в сопровождении прислужниц и подруг, которые обмениваются с ней эротическими шутками и не слишком утонченного свойства двусмысленностями, обусловленными ситуативно. Попытка реконструкции текста дает приблизительно следующий результат:
(Инанна): «Слова из уст моих все чисты, я правлю страной как должно!» (Подруги): «Сладостно, как, уста твои, все твое тело, оно подобает державной владычице, воистину подобает державной царице!» (Инанна): «Подчиняя себе мятежные народы, заботясь об умножении люда, я правлю страной как должно!»Вначале, как видно, Инанна явно упивается своей властью, богатством, царственными обязанностями. Она подробно говорит о своих драгоценностях и своем роскошном дворце, но вскоре задается вопросом, кто будет орошать ее поле под названием «Холмы». Подруги с готовностью отвечают ей: «Думузи, жених, спешит угодить ей с орошением, он будет орошать „Холмы"». Упоминание о Думузи заставляет Инанну обратиться в воображении к тому дню, когда она приняла решение стать в будущем его супругой; она объясняет причины, побудившие ее сделать этот выбор; рассказывает о радостном согласии родителей и о том, как она теперь, совершив омовение, облачилась для встречи с женихом в свои лучшие одежды:
(Инанна): «Я желала, чтобы народ размножался, выбрала Думузи (личным) богом страны. Ибо Думузи — любимец Энлиля, я прославила его имя, дала ему почет. Моей матери всегда он был по сердцу, мой отец превозносил его хвалами, я омылась для него, терла (себя) мылом для него, и когда служанка принесла сосуд с водою для омовения, то расстелила мое одеянье как бы сложенным вдвойне, и я (надела) сложенное вдвойне платье для него — пышное одеянье царицы!»Конец первой таблички и начало второй также сильно повреждены, но в сохранившейся части Инанна настолько упоена своим женским очарованием, что стремится превознести его в песне. Она призывает певицу и девушку-«элегиста» из своей свиты и велит им вплести хвалу ее прелестям в песню, которую пели бы все:
(Инанна): Сердце мое размышляло о том, что я собираюсь сказать вам, и то, что скажу я, обдумав, должны вы поведать — я, Инанна в величественном, сложенном вдвойне одеянье, — песельница соткет из моего рассказа напев, певец воспоет его в песне, и жених мой возрадуется предо мной, и пастырь, Думузи, возрадуется предо мной; у кого есть уста — вложит слова в его уста, кто услышит песню — младшего петь обучит. Когда напев взмоет ввысь (полным хором), он будет (подобен) Ниппуру[65], (в) праздник; когда напев опустится, он мягко...Элегист соглашается:
Юная госпожа воспевала свое тело, и песельница соткала из ее слов песню; Инанна воспевала тело, воспевала свое тело в песне.В песне Инанна, гордясь своим юным, едва созревшим телом, восхваляет свой лонный треугольник с еще редкой порослью волос, сравнивая его сначала с металлической шкатулкой, украшенной проволочками, торчащими словно чеки тележного колеса; затем — с церемониальной баркой, называемой «Небесной Баркой» (девические волосы на лобке она уподобляет швартовым канатам, удерживающим барку), и образ перерастает в образ космической барки в форме серпа молодого месяца. Затем этот треугольник становится девственным участком в степи, еще не возделанным; затем снова сжатым полем, на которое выпущены для откармливания утки — черные волосы усыпают его точками, подобно черным уткам на светлой выгоревшей почве; затем — это поле на возвышенности, холмистая земля, огражденная плотинами, хорошо увлажненная для вспашки (Инанна только что совершала омовение); наконец — это влажная низина, готовая для пахоты. Поскольку женщина, хотя она и может владеть полем, не может его сама возделать и должна искать помощи у пахаря, песня оканчивается вопросом — кто им будет?
Моя шкатулка скреплена гвоздями, (как) чеками прибита к большой повозке, моя «Небесная Барка» (в форме полумесяца) так (хорошо) закреплена канатом; полна очарования, как новая луна; мой невозделанный участок, оставленный под паром в степи; мое поле, усеянное утками; моя холмистая земля, так (хорошо) орошенная, мои поля, накопленные плотинами, (хорошо) увлажненные. Поскольку я девушка, то кто будет моим землепашцем? У меня (хорошо) орошенные низины; поскольку я госпожа, кто запряжет (волов) для их вспашки?И элегистка отвечает:
Юная госпожа, пусть царь вспашет их для тебя! Пусть царь, Думузи, вспашет их для тебя!Ответ, очевидно, совершенно точен:
Муж моего сердца! Пахарь — вот муж моего сердца!Здесь текст также поврежден: ряд строк полностью утрачен, однако в них, по-видимому, говорилось о соединении Инанны с Думузи, поскольку текст возобновляется описанием их союза и того, каким волшебным образом пробуждает этот союз новую жизнь во всей природе:
При мощном его подъеме, при мощном его подъеме, побеги и бутоны воспряли. Чресла царя! При мощном его подъеме лозы воспряли, злаки воспряли; степь наполнилась (зеленью), как несущий отраду сад.От описания брачного союза и его результатов текст без видимого перехода обращается к описанию радости Инанны, живущей в доме Думузи. Она просит его сделать для нее желтое молоко — т. е. изготовить сливки и сметану. Она просит коровьего молока, козьего и даже верблюжьего — все это Думузи готов ей предоставить и поместить в своем доме «Э-намтила» («Доме жизни»). Текст заканчивается довольно пространной хвалой этому дому и изобилию в нем молока и других молочных продуктов.
Концовка «Свадебного текста Доильщика» во многом сходна с концовкой других свадебных текстов. Здесь точно так же выражается восторг по поводу великого изобилия съестного. Однако между ними есть и некоторая разница. Богатства, запасаемые на сей раз Инанной — молоко и молочные продукты, — не подлежат длительному хранению. Их нельзя, подобно более стойким финиковым плодам, запасти впрок в преддверии сухого сезона и освободить этим общину от нужды вплоть до следующего урожая. Чувство достигнутой обеспеченности, которым проникнуты тексты с Амаушумгальанной, плохо вяжется с миром скотоводов, где блага так недолговечны.
Впрочем, и в этом мире есть свои собственные ценностные ориентиры. Весной пустыня покрывается зеленью, животные привольно резвятся на пастбищах и случаются. От случки животных зависит все благополучие пастуха: умножение поголовья скота (ягнят, козлят, телят), изобилие молока в полных выменах маток. С точки зрения скотовода главный смысл священного союза — священного брака содержится в акте совокупления, который расценивается как божественное порождение жизни, пробуждающее мощный весенний напор бытия; космический половой акт оплодотворяет всю природу.
Этот новый акцент ясно выступает в откровенном восхвалении Инанной своих тайных прелестей, центральный образ которого — поле, готовое принять оплодотворяющий плуг. Заметим, кстати, что и этот образ не выводит нас за пределы мира скотоводов, поскольку ими управлялись волы, тянущие плуг[66].
Итак, ритуал священного брака у земледельцев и у скотоводов радикальным образом отличаются друг от друга. В первом случае — это ритуал сбора урожая, в котором нуминозная сила плодородия и достатка, присущая финиковой пальме, связывается с нуменом кладовой узами супружества и взаимной любви. Во втором случае — это ритуал плодородия, соединяющий божественные силы плодородия и новой жизни (их воплощения — актеры, люди) в порождающем новую жизнь любовном объятии.
СМЕРТЬ И ОПЛАКИВАНИЕ
Весне, однако, отпущен краткий срок: животворные силы ее постепенно убывают и сходят на нет с наступлением жаркого засушливого лета. В мифотворческом восприятии это равнозначно смерти Думузи, павшего жертвой темных сил смерти и подземного мира. Конкретные обстоятельства смерти бога варьируются от одного текста к, другому: на Думузи нападают (в овчарне или где-либо еще) разбойники с большой дороги или злые посланцы подземного мира: его убивают, берут в плен или же он погибает при попытке спастись бегством. Во многих версиях предполагается, что смерть бога уже произошла: повествование, как таковое, начинается с момента, когда юная вдова Думузи — Инанна, его сестра и мать приходят к опустошенной и разграбленной стоянке в степи, чтобы оплакать погибшего.
Главные мотивы убийства чаще всего остаются неясными. Иногда оно мотивируется врожденной кровожадностью и алчностью нападавших, но подчас упоминаются вскользь и приказания, полученные исполнителями от тех мрачных сил, которым они служат, — приказания эти, впрочем, в дальнейшем никак не поясняются.
Особый повод для убийства выдвигается единственный раз — в пространном, чисто литературном повествовании, известном под названием «Сошествие Инанны». Здесь Думузи, преданный своей молодой женой, принимает смерть вместо нее. Правильнее, однако, отложить на время это в высшей степени сложное произведение и начать с другого литературного повествования. Оно носит более традиционный характер и стоит ближе к культовым текстам. Это — «Сон Думузи»[67]. «Сон Думузи» начинается описанием того, как Думузи, опечаленный предчувствием скорой смерти, обращается с просьбой оплакать его ко всей природе — к пустынным возвышенностям и к болотам, к речным ракам и лягушкам в надежде, что его мать Дуттур, охваченная горем, воскликнет: «Он стоил моих пятерых! Он стоил любых десяти!» Если она еще не слышала о его смерти, ей расскажет об этом пустыня. Далее отчаявшийся Думузи засыпает, но сон его беспокоен: очнувшись, он протирает глаза и, потрясенный,, зовет свою сестру — Гештинанну. Та искушена в толковании снов и должна явиться к нему, дабы принести умиротворение. Но Гештинанна не в силах прогнать его тревоги: сны неумолимо предвещают недоброе, и от них нет избавления. Думузи приснился тростник, восставший против него; это предвещает нападение разбойников. Ему приснились три камышинки: сначала сломали одну, стоявшую отдельно, потом две другие — это означает, что у Дуттур отнимут двух ее детей — Гештинанну и Думузи. Думузи видел также во сне, как заливают водой костер на его пастбище, — так поступают, покидая стоянку. Он видел, как его маслобойку забрали из маслобойной ямы (?) и как сняли чашку с колышка, на котором она всегда висела. Ему привиделись его козы и овцы, лежащие в пыли — и с ними потерянные чашка и маслобойка. Маслобойка лежала на боку, но в ней не было ни капли молока; чашка тоже была перевернута. Самого Думузи уже не было среди живых, стадо его разбрелось на все четыре стороны. Смысл сна, таким образом, более чем очевиден: он увидел то, что скоро должно случиться.
Думузи, однако, все еще надеется избегнуть такой участи. Он посылает сестру на вершину горы для наблюдения. Когда она вместе со своей подругой, богиней виноградарства, замечает лодку со злоумышленниками, которая причаливает к берегу реки, он говорит сестре и своему товарищу, что спрячется на пастбище в степи, на больших травянистых участках, на малых травянистых участках, в канаве пустыни Аралли, — и просит их не выдавать его. Оба, не довольствуясь простым согласием, выражают пожелание быть съеденными сторожевыми псами Думузи в том случае, если проговорятся.
Когда враги — сборище посланцев из четырех главных городов — прибывают в поселок, сестра Думузи в отличие от его товарища держит свое слово. Тот же открывает одно за другим все тайные места, где прячется Думузи, добавляя всякий раз, что сам не знает, где Думузи находится; посланцы безжалостно обыскивают все укрытия и наконец обнаруживают Думузи в канаве канала Аралли. Думузи, видя их приближение, понимает, что именно произошло:
В городе сестра моя помогла мне в живых остаться, мой товарищ навлек на меня смерть!Предполагая, что злоумышленники уже расправились с его сестрой и его товарищем или же взяли их заложниками, Думузи думает об их осиротевших детях:
Если (моя) сестра оставит ребенка бездомным, пусть кто-нибудь (полюбит и) поцелует его; если (мой) товарищ оставит ребенка бездомным — пусть никто не поцелует его!Напавшие окружают его и крепко связывают, но истерзанный Думузи обращается к богу солнца, напоминая, что тот приходится ему, мужу Инанны, шурином, и просит Уту превратить его в газель. Бог солнца слышит его молитву, превращает Думузи в газель, и тот освобождается из плена и спасается бегством, укрывшись в местности с длинным трудным названием, до сих пор известным только по этому тексту. Злобные посланцы, однако, продолжают преследование и вновь схватывают Думузи. Вновь Думузи обращается к Уту, вновь претерпевает превращение и скрывается; на сей раз он ищет прибежище в доме мудрой женщины Белили.
Приближаясь к дому, он просит воды и муки, чтобы скорее утолить голод и жажду, и сообщает, что он — простой смертный, но муж богини. Белили выходит к нему навстречу, но преследователи, увидев ее, догадываются, что Думузи здесь. Они окружают его и связывают.
Снова, уже в последний раз, Думузи взывает к Уту, вновь меняет образ и спасается бегством. Теперь он прячется в овчарне сестры: она расположена в пустыне, но оказывается плохой защитой. Преследователи врываются туда друг за другом, сея на пути разорение. Разорение овчарни — свидетельство того, что сон Думузи сбылся. Когда маслобойка и чашка, небрежно брошенные захватчиками, высыхают, Думузи уходит из жизни; стадо его разбредается по всему свету; сам он пал на «празднестве молодых людей», как говорится тексте, использующем традиционный кеннинг битвы[68].
Обращаясь от литературного изложения сюжета во «Сне Думузи» к его трактовке в культовых текстах, нельзя не заметить сходства основной темы и мифа в тексте, который мы назовем «Горчайший плач»[69]. Последний, помимо различий в описании подробностей мифа, выдержан в более напряженном стиле и проникнут большим эмоциональным сопереживанием. Текст начинается с выражения сочувствия юной вдове, потерявшей мужа:
Горчайший плач (сочувствия) — по мужу, (плач) Инанны по мужу, царицы Эанны по мужу, царицы Урука по мужу, царицы Забалама по мужу. Несчастен муж ее! Несчастен юный муж ее! Несчастен ее дом! Несчастен ее город! Плач по пленному мужу, пленному юному мужу, попившему мужу, погибшему юному мужу, мужу, потерянному для Урука в плену, потерянному для Урука и Куллаба в плену, потерянному для Урука и Куллаба в смерти...После дальнейших строк соболезнования плач подхватывает сама Инанна:
Инанна льет горькие слезы о юном супруге: «В тот день, когда милый супруг, мой супруг, удалился, в тот день, когда мой юноша, мой супруг удалился; ты удалился — о супруг мой! — на ранние пастбища, ты удалился — о мой юный супруг! — на поздние пастбища. Мой супруг, в поисках пастбища, был убит на пастбище. Мой юный супруг, в поисках воды, был захвачен во время разлива. Мой юный супруг оставил город вовсе не как (пристойно) окутанный саваном труп. О вы, мухи ранних пастбищ! Он оставил город вовсе не как (пристойно) окутанный саваном труп!»Далее в тексте рассказывается о том, что произошло. Семь злых гонцов подземного мира пробрались в овчарню Думузи, застав его спящим. Как все набеги в пустыне, этот также совершается ночью. Напавшие проникают внутрь и в неистовой жажде разрушения крушат все на своем пути. Седьмой гонец подходит к Думузи и грубо будит его:
Седьмой гонец, войдя в овчарню, пробудил старшего пастуха, который спал, пробудил Думузи, старшего пастуха, который спал, пробудил супруга священной Инанны, старшего пастуха, который спал: «Мой хозяин нас послал за тобой, вставай, пойдем, нас послал за тобой, Думузи, вставай, пойдем! Супруг Инанны, сын Дуттур, вставай, пойдем! Улулу, брат хозяйки Гештинанны, вставай, пойдем! Овец твоих взяли, ягнят угнали, вставай, пойдем! Коз твоих взяли, козлят угнали, вставай, пойдем! Сними с головы священный убор, иди с головой непокрытой; сними с себя облаченье святое царя, иди обнаженным; выпусти жезл священный из рук, иди с пустыми руками! Сбрось сандалии священные с ног, иди босым!»Но Думузи каким-то образом ухитряется ускользнуть из протянутых к нему рук и благополучно выбирается из овчарни. Он бежит к реке, срывает там свои одежды, набрасывая их на колючки и раскидывая по земле, перед тем как броситься в воду и переплыть на другой берег, где его ждут Инанна и Дуттур. Его преследователи, не отваживаясь на погоню, ищут в пустыне другую добычу. Но Думузи, к несчастью, не соразмерил свои силы с течением реки, которая начинает разливаться. Бурлящий поток уносит его мимо Дуттур и Инанны, наблюдающих за ним с берега. Он протягивает к ним руки в тщетном порыве:
Когда протянул он руку к чреву Дуттур — матери, выносившей его, Дуттур — матери, выносившей его, (его) сердобольная мать преисполнилась жалости, Инанна (!) — его жена, участливая жена, преисполнилась жалости, когда протянул он руку к чреву Инанны — своей молодой жены, пронзительный крик обратила к нему Инанна как воющая (!) буря.Но обе беспомощны:
У яблони на большой плотине в пустыне Эмуш, сокрушающие лодку воды унесли юношу в подземный мир; сокрушающие лодку воды унесли супруга Инанны в подземный мир.Текст заканчивается кратким описанием существования Думузи в подземном мире — мире, лишенном реальных субстанций, в царстве теней, вещей призрачных и бесплотных:
(Там) имеет он долю в пище, которая вовсе не пища, имеет долю в воде, которая вовсе не вода; (там) построены загоны для скота, которые вовсе не загоны для скота; (там) сплетены из прутьев вовсе не ограды для овец; гонцы (подземного мира), а не верное его копье, бок о бок с ним.Повествовательный отрывок в «Горчайшем плаче», напоминающий сходные (однако не вполне допускающие сравнение) повествовательные части в текстах свадебных культов, является редкостью в текстах о смерти и оплакивании. Как мы уже говорили, традиция состояла в том, чтобы представить факт смерти Думузи как уже свершившийся: главные плакальщицы — вдова, сестра, жена — находятся уже на пути к его разоренной стоянке. Сюда может включаться и повествование, однако акцент делается именно на оплакивании, посредством которого они изливают свое горе.
Примером служит погребальный плач[70], поющийся юной сестрой Думузи, Гештинанной. О себе она нисколько не думает, полностью отождествляя себя с убитым братом и сокрушаясь, как если бы была на его месте, о погубленных надеждах и несбывшихся свершениях:
Прежде чем юная супруга уснула в его объятиях и моя мать смогла покачать дитя у себя на коленях, когда он был избран родителями жены и они стали его тестем и тещей, когда он сидел среди сотоварищей, когда он был только воином юным — (тогда) (вышние силы) вынесли ему приговор — благородному, высокому юному господину; и его бог исполнил над ним приговор: «Сильный швыряет дротик[71] в тебя» — когда он был только воином юным — «Быстрый обгонит тебя, гневный обрушится на тебя с бранью» — когда он был (только) воином юным.Как если бы Думузи был простым смертным — обыкновенным юношей, Гештинанна рассматривает его смерть как предрешенную богами; как приговор, который его собственный божественный покровитель, его личный бог, не в состоянии отменить.
Для иллюстрации плачей, выражающих скорбь юной вдовы Думузи — Инанны, приведем один, дав ему название «Дикий Бык, что Лег На Землю»[72]. «Дикий Бык», как отмечалось ранее, — обозначение «пастуха», служащее эпитетом для Думузи. Инанна, навестив Думузи в его овчарне в степи, нашла его мертвым, стадо расхищенным, домочадцев — убитыми. Она спрашивает горы о нем, но узнает только, что «Буйвол» увел его (то есть его тень) в горы — иначе говоря, в царство мертвых, ибо для шумеров «kur» («гора») означало «подземный мир». На месте бывшей стоянки Думузи бродят одни дикие звери. В нашем пересказе опущен длинный перечень титулов и эпитетов Думузи — между первой и второй строфами:
Дикого быка, что лег на землю, больше нет, дикого быка, что лег на землю, больше нет; Думузи, дикого быка, что лег на землю, больше нет, ...старшего пастуха больше нет, дикого быка, что лег на землю, больше нет. О ты, дикий бык, как крепко ты спишь! Как крепко спят ягнята и овцы! О ты, дикий бык, как крепко ты спишь! Как крепко спят козлята и козы! Я спрошу у холмов и долин, я спрошу у холмов о Зубре: — Где мой юноша, мой супруг? скажу я; тот, кому я не подаю больше еду? скажу я; тот, кому я не подаю больше питья? скажу я; и милые м ои служанки? скажу я; и милые мои юные слуги? скажу я. «Зубр увел твоего супруга ввысь, в горы! Зубр увел твоего юношу, твоего супруга ввысь, в горы!» «Горный Зубр, с крапчатыми глазами! Горный Зубр с сокрушающими зубами! Зубр! Ты его увел от меня, увел его от меня, увел того, кому не подаю больше еду, от меня, увел того, кому не подаю больше питья, от меня; увел моих милых служанок от меня; увел моих милых юных слуг от меня; юношу, который погиб для меня (от руки) твоих слуг; юного Абабу, который погиб для меня (от руки) твоих слуг; Да не сумеешь ты положить конец его красоте! Да не заставишь ты исказиться (страхом) его красивые уста! На ложе его ты пустил шакалов, в овчарне супруга моего ты поселил воронов, на его тростниковой флейте будет играть ветер, песни моего супруга — северный ветер пропоет их».Из плачей, в которых несчастная мать изливает свое горе, мы выбрали плач, по первой строке называемый «Мое сердце играет на тростниковой флейте»[73]. Думузи послал за женой, матерью и сестрой, чтобы они присоединились к нему в степи, однако по прибытии они обнаруживают, что преследователи разграбили овчарню и убили Думузи. Плач начинается как плач всех троих, однако скоро становится выражением одних только материнских чувств:
Тростниковая флейта плача — мое сердце играет на тростниковой флейте, (инструменте) плача о нем в пустыне. Я, хозяйка Эанны, которая опустошила горы, и я, Нинсун, мать (юного) господина, и я, Гештинанна, золовка Неба. Мое сердце играет на тростниковой флейте плача о нем в пустыне; играет там, где жил юноша, играет там, где жил Думузи, в Аралли, на Холме Пастуха — мое сердце играет на тростниковой флейте плача о нем в пустыне — там, где юноша жил, взятый в плен, там, где Думузи жил, тот, что связан, там, где овца уступила ягненку — мое сердце играет на тростниковой флейте плача о нем в пустыне — там, где коза уступила козленку. Вероломно ты, божество того места, где, хотя он и сказал мне: «Пусть моя мать придет ко мне!» — мое сердце играет на тростниковой флейте плача о нем в пустыне — не может он протянуть ко мне бессильные руки, не может он ступить ко мне бессильной ногою. Приблизилась она к пустыне — приблизилась к пустыне — мать в пустыне — о, что за утрата ее постигла! Добралась она до пустыни, где жил юноша, добралась до пустыни, где жил Думузи, ............................................................. — мать в пустыне: о, что за утрата ее постигла! Смотрит она на своего убитого бычка, смотрит ему в лицо — мать в пустыне; о, что за утрата ее постигла! Как она содрогается ............................................................ — мать в пустыне: о, что за утрата ее постигла! «Это ты», — говорит она ему, «Ты непохож на себя», — говорит она ему. — О, что за утрата ее постигла, горем охвачен ее дом, скорбью — ее опочивальня.В заключение обзора текстов, посвященных смерти Думузи, остановимся кратко на интерпретации, странным образом отличающейся от обычной. Она нашла выражение в сложном литературном произведении, называемом «Сошествие Инанны»[74]. Здесь молодая супруга, вместо того чтобы оплакивать смерть Думузи, сама навлекает на него гибель — отдает его в руки демонов подземного мира ради собственного спасения. Одна лишь сестра Думузи — Гештинанна сохраняет ему верность и в итоге платит за свою преданность жизнью.
Рассказ начинается с описания каприза Инанны, внезапно охваченной неудержимым стремлением попасть в подземное царство, причем желание это овладевает ею всецело, заставляя забыть обо всем остальном:
Устремилась с высочайших небес в глубочайшую земную бездну, богиня устремилась с высочайших небес в глубочайшую земную бездну; Инанна устремилась с высочайших небес в глубочайшую земную бездну, госпожа покинула небо, покинула землю, спустилась в подземное царство, Инанна покинула небо, покинула землю, спустилась в подземное царство.Инанна отправляется в рискованное путешествие в полном убранстве, собрав вокруг себя свои тайные силы, надев лучшие украшения и облачившись в самые пышные одеяния. Близ входа в подземное царство ее охватывают запоздалые опасения и сомнения относительно того, сумеет ли она совладать с предстоящими испытаниями; и Инанна полагает разумным обеспечить себе помощь на случай беды. Тут она дает своей верной служанке Ниншубур подробные указания, как поступать в том случае, если она не вернется назад, к каким богам обращаться и с какими словами. Подойдя к громадным воротам подземного мира, Инанна — властная, как истинная молодая царица, — призывает привратника громким стуком и гневно требует, чтобы тот ее впустил. Привратник довольно равнодушно задает вопрос, кто она такая, и, узнав, что перед ним Инанна — могущественная богиня утренней звезды, появляющаяся на небесах при восходе солнца, естественно, недоумевает, что могло привести ее в столь негостеприимные края:
Нети, главный страж подземного царства, ответил священной Инанне, (сказав): «Ты-то, кто же ты такая?» «Я — Инанна, устремленная к восходу солнца». «Если ты — Инанна, устремленная к восходу солнца, зачем (тогда) ты явилась в страну, откуда нет возврата? На дорогу, (по которой) не идет назад ни один путник, как увлекло тебя твое сердце?»Инанна с готовностью объясняет: она пришла, чтобы выразить сочувствие. Повелитель Гугальанна, «Великий бык небес», муж ее старшей сестры Эрешкигаль — царицы подземного мира, умер, и вот она явилась с тем, чтобы увидеть его памятную статую и осчастливить своим присутствием погребальное возлияние пива. Такое объяснение отнюдь не успокаивает Нети, однако он просит Инанну подождать, пока он пойдет сообщить Эрешкигаль о ее приходе. Доклад его предельно обстоятелен: похоже, что ни малейшая подробность внешности Инанны не ускользнула от его внимания, однако о причинах ее прихода он даже не упоминает — очевидно, считая их вздором, пустой отговоркой.
Эрешкигаль вовсе не обрадована новостью. Она ударяет себя по бедрам и кусает губы; наконец, приказывает Нети впустить Инанну и привести к ней, но та должна быть согбенной и раздетой догола. Нети исполняет наказ — и когда он проводит Инанну через семь ворот подземного царства, служитель у каждого из них снимает с Инанны одно из украшений или какую-либо часть одеяния. Изумленная, она спрашивает: «Что это, что?» — и всякий раз получает один и тот же ответ:
Молчи, Инанна! Так подобает по законам подземного царства; не возвышай свой голос, Инанна, против обычаев подземного царства!Когда Инанна, пройдя через седьмые ворота, оказывается перед Эрешкигаль совершенно обнаженной, Нети до конца раскрывает смысл своего ответа:
Молчи, Инанна! Так подобает по законам подземного царства; не возвышай свой голос, Инанна, против обычаев подземного царства: скрюченный и нагой, человек приходит ко мне.Древние хоронили мертвых обнаженными и в скорченном положении. Сама того не понимая, Инанна уподобилась мертвым, подчинившись законам царства смерти, которое намеревалась завоевать. Цели своей она, однако, не оставляет и, бесстрашно столкнув Эрешкигаль с трона, сама занимает ее место. Однако Инанна не посчиталась с волей могущественных богов-Ануннаков, семи судей подземного царства. Те вовсе не одобряют ее попытки свергнуть власть сестры и, хладнокровно собравшись на совет, приговаривают Инанну к смерти. Убитая, она обращается в половину мясной туши, подвешенной на крюк в стене, причем туши несвежей, позеленевшей и покрытой пятнами. Смерть и отвратительные процессы разложения одерживают над ней полную победу.
Тем временем служанка Инанны Ниншубур терпеливо ждала у ворот. По истечении трех дней и трех ночей становится ясно, что произошло неладное и настала пора исполнить указания Инанны. Все эти указания Ниншубур исполняет в точности: поднимает плач об Инанне, оповещая собравшихся о горькой утрате, бьет в барабан в доме собраний и обходит храмы богов, призывая их внимание к участи Инанны. Сама она — образцовая плакальщица, царапающая себе ногтями глаза и рот, живот тоже, но проявляя скромность и только в том случае, если поблизости нет мужчин. Одета она в рубище — как вдова, о которой некому позаботиться. В таком виде Ниншубур является в Ниппур к Энлилю и умоляет его помочь Инанне. Упрашивает его она теми же словами, что слышала от Инанны: смысл их сводится к тому, что Инанна слишком драгоценна для того, чтобы обращаться с ней, как с простой смертной. Энлиль не должен допустить, чтобы его чистое серебро потемнело в подземном мире; гранильщик не должен дробить его кубик лазурита наряду с обыкновенными камнями; плотник не должен пилить его драгоценный самшит вместе с простым деревом. Как может он позволить, чтобы его дочь уравнялась со смертными и стала добычей подземного царства? Энлиль, несмотря на неотразимость доводов, ничем помочь не в состоянии. Над подземным миром он не властен. Он может сказать только, что Инанна сама навлекла беду на свою голову — и теперь никто не в силах спасти ее:
Дитя мое жаждало высочайших небес, жаждало глубочайшей земной бездны; Инанна жаждала высочайших небес, жаждала глубочайшей земной бездны. Законы подземного мира — строгие законы, строгие законы — преградили ей путь. Кто может найти ее и вызвать оттуда?Тогда Ниншубур покидает Ниппур и направляется в Ур к богу луны Нанне. Там она повторяет свое ходатайство, однако Нанна также считает дело безнадежным и дает точно тот же ответ, что и Энлиль. Последняя надежда — бог Энки в Эреду. Добравшись до Эреду, Ниншубур излагает ему свою просьбу и, наконец, получает ответ, внушающий надежду. Энки чувствует, что ему необходимо вмешаться:
Отец Энки ответил Ниншубур: «Что случилось с моей дочерью? Я должен напрячь свои силы! Что случилось с Инанной? Я должен напрячь свои силы!»Он выковыривает из-под своих ногтей грязь, изготавливает из нее двух искусных плакальщиков — посыльного (kurgaru) и элегиста (kalaturru)[75] и отправляет их в подземное царство, научив, каким образом следует ловко подольститься к Эрешкигаль и найти возможность оживить Инанну с помощью воды жизни и травы жизни, которые он им вручает.
Следуя наставлениям Энки, посланцы устремляются к подземному царству, куда проникают незамеченными, перелетев через подземные врата подобно мухам и проскользнув под косяками, подобно ящерицам, и, наконец, добираются до Эрешкигаль.
Они застают ее предающейся привычной скорби, раздирающей тело ногтями в тоске по своим маленьким детям, преждевременно умершим:
Мать, давшая жизнь — Эрешкигаль, лежала, больная (от горя) из-за своих детей; ее чистые члены не окутывало полотно, ничем не была прикрыта ее грудь, ногти ее были над ней как медные грабли (?), волосы на голове были как (побеги) лука-порея.Как наставил их Энки, оба изощренных плакальщика присоединяются к ее жалобам. Когда она причитает: «Увы, горе моему сердцу!» — они говорят: «О ты, что вздыхаешь, о госпожа наша, увы, горе твоему сердцу!»; а когда она стонет: «Увы, горе моей печени!», они с готовностью подхватывают: «О ты, что страждешь, госпожа наша, увы, горе твоей печени!»
Встретив сочувствие и жалость к своему одинокому несчастью, Эрешкигаль тронута — как раз на это Энки и рассчитывал — и спрашивает, кто эти добрые существа, с кем она может разделить свои чувства. В порыве благодарности она обещает наделить их добрым словом, если они боги, а если они смертные — наградить благословением. Это как раз то, чего они ждали. Они заклинают ее отдать им висящую на крюке тушу. Захваченная врасплох, Эрешкигаль взамен предлагает сначала полноводную реку, затем зерно в полях, однако они непреклонны. Эрешкигаль пытается отговориться тем, что туша принадлежит их госпоже (т. е. Инанне) и потому, дескать, Эрешкигаль не может ею распоряжаться. Просители, однако, не отступают от своего и в конце концов получают требуемое. Немедля один из профессиональных плакальщиков бросает на тело траву жизни, другой обрызгивает его водой жизни — Инанна вновь перед ними. Она намерена покинуть подземное царство, но тут в очередной раз вмешиваются внушающие ужас боги-Ануннаки. Никто еще не покидал преисподнюю безнаказанно. Инанна должна оставить вместо себя замену.
Один бросил на нее траву жизни, другой обрызгал водой жизни, и Инанна встала на ноги. Инанна собралась выйти из подземного царства, (но) Ануннаки схватили ее, (сказав): «Кто из тех, кто всходил наверх из подземного царства, покидал его безнаказанно? Если Инанна взойдет наверх из подземного царства, пусть оставит вместо себя замену».В соответствии с этим Инанна освобождается лишь условно, и отряд гонцов из подземного мира сопровождает ее, наблюдая за тем, чтобы она нашла себе заместителя. Они беззастенчиво присваивают прерогативы верной Ниншубур: один идет перед Инанной с жезлом в руке, другой — за ней с дубинкой на боку; прочие окружают ее, словно заросли тростника. Это дикая, ужасающая, безжалостная толпа, безразличная к предлагаемым дарам, попирающая все человеческие узы любви и привязанности.
Первой на обратном пути им встречается преданная Ниншубур, которая припадает к ногам госпожи. Свирепые гонцы предлагают Инанне отдать Ниншубур подземному царству в качестве замены. Инанна не может согласиться на это: Ниншубур только что спасла ей жизнь, как же можно предавать столь верную служанку смерти? Они продолжают шествие и приходят в Умму, где их встречает бог этого города Шара, который припадает к ногам Инанны. Он уселся в пыли, охваченный скорбью по Инанне, одетый в рубище. И вновь гонцы хотят схватить его, и вновь Инанна не в силах обречь смерти того, кто столь предан и чьи услуги столь необходимы. Вскоре они приходят в Бад-тибиру, где бог города, Латарак, также бросается, приветствуя Инанну, ей в ноги. Он также предавался плачу, сидя в пыли. Опять гонцы хотят скорее покончить дело, и опять Инанна противится этому. Так продолжается вплоть до Урука — или, вернее, до обломанной яблони в пустыне Куллаб, примыкающей к Уруку[76]. Именно здесь юный супруг Инанны пасет свое стадо, и именно здесь она сталкивается с ошеломляющим зрелищем. Покинутый муж, вместо того чтобы, предаваясь безмолвным терзаниям, в рубище осыпать себя пеплом, как все прочие, явно наслаждается жизнью, сидя на троне в царственном одеянии.
Гонцы — возможно, понимая, какие чувства вызывает эта картина у Инанны, — на сей раз не испрашивают разрешения и тотчас набрасываются на Думузи:
Гонцы ворвались в овчарню, разлив молоко из семи чанов; все семеро набросились на него, как если бы он был чужестранец, и начали бить пастуха по лицу трубками и дудками.Инанна же охвачена муками ревности и безоглядным гневом: одного взгляда было для нее достаточно. Она предоставляет гонцам полную свободу действий:
Она взглянула на него — это был взгляд смерти, заговорила с ним — это было слово гнева, крикнула им — это был возглас: «Виновен! Возьмите его!» Священная Инанна отдала пастуха Думузи в их руки.Бедняге Думузи надеяться не на что. Посланцы подземного мира не знают пощады:
Те, кто сопровождал его, те, кто сопровождал Думузи, не знали пищи, не знали воды. не вкушали (изделий из) просеянной муки, не пили воды, не наполняли сладостью чресла супруги, не целовали сладко ребенка — заставили сына человека сойти с колен, заставили сноху покинуть дом свекра.В отчаянии Думузи способен обратиться только к традиционному блюстителю справедливости —
богу солнца Уту, который к тому же приходится ему шурином. Он воздевает руки к Уту, напоминая ему о свойстве и умоляет превратить его в змею, лишь бы спастись от врагов.
Здесь основная версия рассказа обрывается, однако сказание «Сон Думузи» и в особенности вариант сказания «Сошествие Инанны» из Ура позволяют нам предположить, что Уту исполнил его просьбу. Думузи благополучно бежал, но был пойман снова, и так несколько раз; его сестра Гештинанна, преследуемая посланцами, отказалась выдать брата; Думузи наконец был схвачен в своей собственной овчарне. Версия из Ура здесь прерывается, однако из последних строк можно заключить, что Гештинанна отправляется на поиски брата после разлуки с ним:
Сестра из-за своего брата кружила по городу, как (описывающая круги) птица: «Я пойду к зачинщику (этого) насилия над моим братом, я войду в его дом».Ради того, чтобы быть вместе с братом, она готова служить в любом доме, где он обретается пленником.
В поисках вероятного продолжения сюжета необходимо обратиться к другим текстам. Особенно важен тот, в котором говорится, что дорогу к Думузи подсказала Гештинанне муха, приведшая ее к пивоварне, где он жил с мудрыми пивоварами[77]. Включение мухи в сюжет согласуется с заключительной частью основной версии рассказа о сошествии Инанны, которым мы, к счастью, располагаем, хотя и в поврежденном состоянии. В этом отрывке Инанна выносит приговор мухе — благоприятный или нет, неясно, — очевидно, за какой-то ее проступок, и судьба этой мухи также остается неизвестной. Естественно предположить, что муху наказали или наградили за то, что она сообщила о местонахождении Думузи. В тексте говорится о том, что Инанна решила смягчить участь Думузи:
Думузи плакал, (говоря): «Моя сестра пришла, ее захватили вместе со мной! Теперь, увы, ее жизнь (оборвана)».На это Инанна отвечает:
«Ты — полгода, твоя сестра — полгода; пока ты будешь ходить (живым), она будет лежать недвижно, пока твоя сестра будет ходить (живой), ты будешь лежать недвижно».Думузи с сестрой будут по очереди пребывать по полгода в подземном мире[78].
Рассказ завершают две строки, прямо напоминающие о забытой уже предыстории злоключений Думузи и Гештинанны, а именно то, что рассказ, в сущности, посвящен вызову Инанны, брошенному ею Эрешкигаль, вызову к борьбе, в которой Эрешкигаль оказывается победительницей, в то время как Инанне едва удается выпутаться из затруднительного положения ценой мучительной нравственной уступки:
Священная Инанна предала Думузи как своего заместителя. Священная Эрешкигаль! (Петь) хвалы тебе сладостно!Каково значение этой диковинной истории или, лучше сказать, что означают те основные мифологические мотивы, на которых она строится? Сюжет, как представляется, состоит, как минимум, из трех отдельных мифов об умирающих и воскресающих божествах, соединенных в один миф таким образом, что воскрешение одного божества становится причиной смерти другого или, во всяком случае, совпадает с ней. Оживление Инанны — причина смерти Думузи, а воскрешение Думузи — по крайней мере на полгода — зависит от смерти Гештинанны. Наиболее ясным компонентом сюжета является, по-видимому, линия, связанная с Гештинанной. Тот факт, что здесь Думузи обнаруживают в пивоварне, «доме пива», показывает, что в этой части повествования мы имеем дело с аспектом божественности, согласно которому Думузи — это сила, заключенная в зерне и сваренном из него пиве, а не с пастушеским аспектом, как в других местах. Соответственно смерть его наступает во время сбора урожая, когда из ячменя варят пиво и отправляют его на хранение под землю — иначе говоря, в подземный мир.
Сама Гештинанна — это нуминозная сила, заключенная в виноградной лозе и в изготовленном из нее вине. Это явствует из ее имени, означающего «покрытая листвой виноградная лоза», а ее эпитет — «Amamutinna» (на диалекте эме-саль[79] вместо «Amageshtinna») значит «корневище виноградной лозы». Так две силы, наполняющие два главных опьяняющих напитка древних — пиво и вино, воспринимались ими как состоящие в тесном родстве (наподобие брата и сестры). Оба умирают, по мифотворческим представлениям, во время сбора урожая, и оба исчезают под землей, где и хранятся. Однако это происходит не в одно и то же время года. Зерно убирали весной, позднее варили из него пиво и помещали на хранение. Виноград собирали только осенью и тогда же давили из него вино. Разрыв во времени между смертью и сошествием под землю, являющийся темой мифа, объясняется в терминах вневременных происшествий illo tempore[80]. Когда Думузи пива исчезает под землей весной или в начале лета, его сестра, богиня вина, безутешно ищет его до тех пор, пока, с наступлением осени, сама не спускается под землю и не находит его в подземном мире. Миф далее поясняет, каким образом это различие во времени существования на земле становится постоянным по воле божественного приказа Инанны. Инанна определяет им судьбу, которая заключается в том, чтобы вечно сменять друг друга в подземном царстве[81].
Большую трудность для истолкования представляет миф о сошествии Инанны в преисподнюю. Условно можно предположить, что речь идет здесь о том времени года, когда запасы пищи достигают критического предела, об исходе зимы, когда содержимое кладовых убывает и постепенно сходит на нет. Согласно очеловечивающим представлениям мифа, это означает смерть кладовой и действующей в ней силы — Инанны; последующее пополнение кладовой с весенних пастбищ соответственно — воскрешение этой силы. Если это предположение справедливо, то намерение Инанны в мифе овладеть подземным миром отражает то обстоятельство, что подземные кладовые становятся по мере опустошения все более просторными и начинают соперничать с другим подземным помещением, известным древним, а именно могильным склепом. Постепенное исчезновение подобающих кладовой одеяний и украшений — запасов съестного — могло получить мифотворческое соответствие в утрате Инанной царственного одеяния и украшений по мере ее нисхождения в царство смерти. Ее действительную смерть — конечную неспособность кладовой служить источником пищи — в мифе драматически символизирует кусок порченого мяса, в который она обращается в подземном царстве. Пустой амбар на исходе зимы, содержащий одну только гниющую тушу — опыт, несомненно, знакомый древним: ужасающий запах разложения означал для них угрозу неминуемого голода.
Воскрешение Инанны, новое пополнение кладовых, совершает Энки (бог пресных вод) посредством предоставления пастбищ и источников орошения — это трава жизни и вода жизни. Происходит оно весной, в ту пору, когда дожди и паводки превращают пустыню в зеленое пастбище. Это время и сбора урожая: не случайно Эрешкигаль предлагает посланцам Энки полноводную реку и созревшее поле. Далее, воскрешение предполагает смерть Думузи-пастуха, поскольку пополнение кладовых идет за счет поголовья стада и новорожденных ягнят и козлят — этого источника свежего мяса в хранилищах, — т. е. за счет как раз того увеличения, активной силой которого является Думузи и которое прекращается именно в это время года. Таким образом, в самом упрощенном виде, мы усматриваем в смерти Инанны опустошение кладовых, в ее воскрешении и вызванной этим смерти Думузи — пополнение кладовых свежим мясом, когда стада возвращаются с пастбищ, а подножный корм исчезает в конце весны—начале лета.
Заключительная часть рассказа — поиски Гештинанной брата — по-видимому, является мифом, относящимся к Думузи в его нуминозном аспекте зерна и пива. Первоначально это был отдельный миф, связанный с истолкованием временного разрыва между сбором урожая зерна и сбором винограда, между изготовлением пива и вина.
ПОИСК И ВОЗВРАЩЕНИЕ
Поиски Гештинанной утраченного ею брата описываются в тех мифах о Думузи, где он выступает нуминозной силой зерна и пива. Такие поиски, предпринятые матерью и сестрой (или же одной сестрой), характеризуют также и мифы, связанные с Даму — это аспект Думузи, в котором он является силой, скрытой в соке деревьев и другой растительности. Здесь эти поиски совмещаются с празднованием возвращения умершего бога на землю. Наиболее известная трактовка дана, вероятно, в произведении под названием «Edin-na u-sag-ga» («В степи ранних трав»), которое в основе своей представляется текстом, посвященным Даму, хотя мотивы, заимствованные из культа ряда других обликов Думузи, вошли в переработанном виде в тексты, служащие его продолжением. Текст открывается пространным жалобным плачем о мертвом боге, чья связь с деревьями и растительностью изображается в таких строках, как:
(О ты), мой тамариск, (которому) не (суждено) пить воду на своем месте в саду, вершина твоя не зазеленела в долине, мой тополь, не радовавшийся у водного протока; мой тополь, вырванный с корнем, моя лоза, (которой) не (суждено) пить воды в саду...[82]Далее в тексте повествуется о поисках Даму скорбящими матерью и сестрой[83]. Мать Даму вспоминает тот страшный день, когда за ним явились посланцы из подземного мира:
Я — мать, родившая (его)! Будь проклят тот день, тот день, будь проклята ночь! Я — мать того юноши! Будь проклят тот день, тот день, будь проклята ночь! Тот день, что занялся для (единственной) моей опоры, что занялся для юноши, моего Даму, если б тот день зачеркнуть, если б могла я забыть его! Та ночь, что должна была преградить путь тому дню, когда наглые посланцы предо мной предстали, тот день лишил меня сына... лишил меня сына, моего Даму...Идя по дороге, она спрашивает, где ее сын:
Я, мать юноши, побреду от одних тростников к другим; я, мать господина, побреду от одних тростников к другим, чтобы кто-нибудь мне показал, (где) мой кормилец, чтобы кто-нибудь мне показал, где мой кормилец, отнятый от меня[84].Но заросли тростника ничем не могут ее утешить:
Корова, не склоняйся к теленку, поверни голову ко мне! Посланец судьи не отдаст тебе твоего сына, правитель не отдаст его тебе; господин, убивший его, не отдаст его тебе[85].Плач матери продолжается:
От меня, скорбящей женщины — горе! — чего хотел судья от меня? Судья правителя, чего он хотел от меня? В Нгирсу на берегу Евфрата, чего он хотел от меня? Он разнял мне бедра, отнял у меня мужа, он развел мне колени, отнял у меня сына! Горе (тому) судье, чего он хотел от меня?[86]Она намерена требовать возмещения:
У ворот судьи я буду стоять, принесу ему мои слезы, у ворот судьи я буду ходить скорбным шагом; «Горе юноше», — скажу в печали. «Я — мать, родившая его, а он уведен как вол»,—горячо я воскликну. И когда я выскажу жалобу, что он скажет мне в ответ? Когда я принесу (ему) мои слезы, что скажет он мне в ответ на жалобу? Когда я наполню (его двор) причитаниями, что он скажет в ответ на жалобу?[87]Наконец ей становится понятно, что ее сына нет ни на земле, ни на небе; он находится в подземном царстве — искать его надо там. Бесполезно загробное предостережение самого Даму, мрачно напоминающего о воде и пище, которые, согласно обычаю, помещают в могилу вместе с покойником:
О ты, мать, давшая жизнь, как могла ты есть эту пищу, как могла ты пить эту воду? О мать юноши, как могла ты есть эту пищу, как могла ты пить эту воду? Вид у этой пищи скверный, как могла ты есть эту пищу? Вид у этой воды скверный, как могла ты пить эту воду? Ту пищу, что ем я со вчерашнего дня, ты, моя мать, не должн а есть! Ту воду, что сам я пью, ты, моя мать, не должна пить![88]Однако мать Даму непреклонна в достижении цели:
Если так нужно, о мальчик, дай мне пройти с тобой по дороге, откуда нет возврата. Горе мальчику! Мальчик мой Даму! Она идет, идет к груди холмов (смерти). День убывает, день убывает; идет к холмам, (все еще) освещенным, к нему, лежащему в крови и воде, спящему господину; к нему, не ведающему целительных омовений, к «Дороге, которая Губит Того, кто Идет по Ней»[89].И вот она идет через пустыню, тщетно призывая сына:
Я — не тот, кто может ответить моей матери, зовущей меня в пустыне, пробуждающей плачем эхо в пустыне, где нет ей ответа. Я — не трава и не могу вырасти (вновь) для нее; я — не вода и не могу подняться (вновь) для нее; я — не трава, пробивающаяся в пустыне; я — не новая поросль, пробивающаяся в пустыне[90].По дороге сестра и мать Даму делают остановки; смысл отдельных плачей понятен лишь отчасти. В некоторых литаниях перечисляются могилы, в которых покоятся Даму и его различные проявления, среди которых — все умершие цари Третьей династии Ура и позднейших династий. К концу сочинения мы теряем из виду мать Даму; в подземном мире его обнаруживает сестра. Даму трогательно приветствует ее:
О сестра моя, что должна быть и матерью для меня, о Амагештинна, что должна быть и матерью для меня, слезы я лью, как ребенок, рыданья, как ребенок, обращаю к тебе![91]Ответ Амагештинны, в котором используются особые формы обращения, напоминает, что за человеческим обликом скрывается нуминозная сила растительности:
О брат мой, пышно произрастающий обличьем, изобильно плодоносный обличьем: кто твоя сестра? Я твоя сестра! кто твоя мать? Я твоя мать! День, восходящий для тебя, восходит и для меня — день, что ты увидишь, я тоже увижу![92]О поисках Даму говорится также в сохранившемся фрагменте, где сестра следует за ним по берегу реки, приводящему его в подземное царство — высохшее за сухой сезон речное русло:
В реке подземного царства вода не течет — вода из нее не утоляет жажды. В полях подземного царства не растет зерно — из него не мелют муки. Овцы подземного царства не носят шерсти — из нее не ткут ткани.Окликнув брата, она предлагает ему утолить голод и жажду едой и питьем, которые она припасла для него, но он не может дать ответа. Когда они достигают ворот подземного царства, Гештинанна пытается их открыть, но усилия ее тщетны — и ей приходится отправляться в обратный путь. Теперь Даму охватывает чувство полного одиночества — заботливая сестра, ставшая для него матерью, также покинула его:
Теперь в самом деле я обречен, моя мать от меня отвернулась, моя мать от меня отвернулась, моя сестра от меня отвернулась, моя мать от меня отвернулась!Третий связанный с Даму текст (первоначально посвященный, очевидно, богу дерева Нингишзиде, с которым Даму отождествлялся) рассказывает о том, как его сестры — старшая и младшая — находят его в лодке, готовой отплыть в подземное царство. Сестры, одна из которых стоит у носа, а другая — у кормы судна, обращаются к нему с просьбой взять их с собой. Сначала он ничего не отвечает, но, когда злобный гонец подземного мира, правящий лодкой, обращает его внимание на просительниц, Даму всячески пытается их отговорить: расспрашивает, почему они хотят плыть с ним, старается внушить мысль о том, что он отправляется туда против собственной воли — пленником; наконец, сравнивает себя с деревом, тамариском или финиковой пальмой, срубленными до поры. Сестры, однако, стоят на своем, предлагая в качестве выкупа свои украшения и драгоценности, так как, по их словам, съестные припасы и напитки, взятые ими с собой, отобраны голодными и жаждущими — и теперь они на краю гибели. Злобный гонец тогда задерживает отплытие лодки, чтобы они могли присоединиться к брату, — и только тогда лодка начинает свое путешествие к подземному царству. Впереди них раздается предостерегающий возглас:
О (город) Ур! От моего возгласа — запирай свой дом, запирай свой дом — город, запирай свой дом! О храм Ура! Запирай свой дом — город, запирай свой дом. От своего господина, который покинул (дом свой) Гипару, — город, запирай свой дом!Наконец лодка прибывает в подземный мир, где ее неожиданно останавливает сын Эрешкигаль (возможно, Ниназу) и приказывает гонцу освободить пленника. Даму со слезами благодарности умащает голову, надевает сандалии и садится к пиршественному столу. Отныне он не пленник, но служитель подземного царства.
Возвращение Даму в страну живущих прославляется, насколько нам известно, только в одном произведении. Однако мы располагаем тремя его версиями, из которых только одна может считаться достаточно полной[93]. По начальной строке ее можно назвать «О Владыка, Величественное Дитя, Превозносимый на небе и под землей!» Первая песня — это хвалебный пеан в честь Даму, в котором поэт выражает желание возвышенными речами превознести имя Даму, затем славит его под именами различных богов, с которыми он отождествлялся, — Иштаран, Игишуба и другими. За этим вводным хвалебным гимном следует песнь умиротворения, а далее — плач о разрушенном Уре, который подвергся каре по решению совета богов, объявленному, как всегда, Аном и Энлилем. Многие части этих первых песен стереотипны и вполне могут оказаться позднейшими вставками. Главная суть произведения обнаруживается в пятой песни, которая представляет собой плач матери Даму, охваченной страхом перед тем, что бог не вернется назад:
О нем вдалеке — плач из (страха), что он не вернется, о сыне моем вдалеке — плач из (страха), что он не вернется. О Даму моем вдалеке — о помазаннике вдалеке — от священного кедра, где я, (его) мать, родила ( его), от Эанны вверху и внизу, плач из (страха), что он не вернется, плач в обиталище господина, плач из (страха), что он не вернется, плач в городе моего господина, плач из (страха), что он не вернется, этот плач — воистину плач о лозах; участок с лозами не родит винограда. Этот плач — воистину плач об ячмене: борозда не родит его. Этот плач — воистину плач о великой реке: она не родит свои воды. Этот плач — воистину плач о поле: оно не родит пестрого ячменя. Этот плач — воистину плач о запруде: она не родит сазанов и форели. Этот плач — воистину плач о тростниковой заросли: старый тростник не родит нового. Этот плач — воистину плач о лесах: они не родят олених и оленей. Этот плач — воистину плач о садах: они не родят вина и меда. Этот плач — воистину плач об огородах: они не родят латук и кресс-салат. Этот плач — воистину плач о дворце: он не родит долгой жизни.В шестой песни мать отправляется искать сына к няне, с которой она его оставила:
О моя (добрая) няня, с которой я рассталась, я оставила дитя с тобою, дитя, порожденное Аном, я оставила дитя с тобой, я оставила мальчика Усусу («Кормильца») — дитя оставила с тобой, я оставила дитя с тобой, я оставила господина Нингишзиду с тобой, я оставила дитя с тобой, я оставила мальчика, моего Даму, с тобой, я оставила дитя с тобой, я оставила Иштарана, Игишубу, с тобой, я оставила дитя с тобой — глаза свои я украсила сурьмой для него, руки свои я покрыла кедровым благовонием для него, плечи свои я украсила для него расшитой тканью и расшитым холстом; голову свою я украсила для него роскошным тюрбаном.Далее говорится, что ребенок покоился у няни в коре и в сердцевине, что няня ела и пила вместе с ним; мать оплакивает потерю сына как будущего кормильца: ее вопли «Горе!» и «Увы!»
достигают небес и уходят глубоко под землю. В седьмой песни, которая начинается словами:
(Угодить) ему, что плывет по высоким волнам потока... угодить ему, что выходит из реки, я, чтобы угодить сыну, что выходит из реки...мать Даму вновь напоминает, что ради сына она надела все свои лучшие украшения. В одной из версий текста, более того, она отождествляет себя с деревом — кедром:
Бока мои — кедр, грудь моя — кипарис, О няня, члены мои — сочный кедр, сочный кедр из (гор) Хашхура[94] черное дерево (острова) Тельмун.Описав свое пышное убранство, она добавляет, что сын ее спал в тростниках среди деревьев, но и тростник, и деревья отпустили его в пустыню, которая теперь стережет его, до тех пор пока он не явится вместе с паводком:
Мой сын лег на землю и спит теперь, дикий бык лег на землю, сраженный предательским сном; Даму лег на землю, сраженный предательским сном,и спит теперь; помазанник лег на землю, сраженный предательским сном, и спит теперь; сын мой лежал в зарослях шуппатту, и заросли шуппатту притихли; сын мой лежал в траве альфа, и трава альфа притихла; он лежал у тополя, и тополь шелестел над ним; он лежал у тамариска, и тамариск пел ему колыбельную песню; дитя мое они отпустили в верхнюю пустыню; отпустили его в верхнюю пустыню и в нижнюю пустыню; пустыня сторожила его там, как бдит пастух над своим многочисленным стадом коров, сторожила она его; как бдит пастух над своим многочисленным стадом овец, сторожила она его; того, кто плывет по высоким волнам паводка.В восьмой песни — восторженном пеане — воспевается прибытие бога, вызывающего восхищение у поклоняющихся:
Благороден, этот господин благороден! Усусу — благородный домовладелец, этот господин благороден! Нингишзида — благородный домовладелец, этот господин благороден! Даму — благородный домовладелец, этот господин благороден! Иштаран — благородный домовладелец, этот господин благороден! Игишуба — благородный домовладелец, этот господин благороден! Мать, что родила его, —богиня Ураш (т. е. «пашня»), этот господин благороден! Отец его дикий бык Эреду (т. е. Энки), этот господин благороден! Взгляд его внушает благоговение, этот господин благороден! Речь его полна сладости, этот господин благороден! Члены его покрыты сладостью, этот господин благороден! Слово его первенствует, этот господин благороден! Благородный, благородный, будь милостив к нам! Усусу, благородный домовладелец, будь милостив к нам! Нингишзида...Песнь далее дословно повторяет все сказанное, однако с другим рефреном — «Будь милостив к нам!» вместо «Этот господин благороден!»; затем она повторяется вновь, на этот раз с рефреном «Мы умилостивим его!» — и так до конца.
Короткую девятую песнь — по-видимому, призыв к волу бога, который, очевидно, тянет лодку бога, — сменяет десятая песнь, гимн процессии, в которой поклоняющиеся сопровождают бога к его отцу:
Ты, кого я сопровождаю,кем я восторгаюсь, спешащий под звездами в мире; Усусу, кого я сопровождаю к отцу, кем я восторгаюсь, мой Даму, кого я сопровождаю к отцу, кем я восторгаюсь, Иштаран, кого я сопровождаю к отцу, кем я восторгаюсь, Игишуба, кого я сопровождаю к отцу, кем я восторгаюсь, пастырь Ур-Намму, кого я сопровождаю к отцу, кем я восторгаюсь...Начиная с Ур-Намму, первого царя Третьей династии Ура, песнь перечисляет целый ряд правителей, которые во времена своего царствования были ритуальными ипостасями бога и продолжают оставаться его воплощением после своей смерти. Литания переходит от царей Третьей династии к царям династии Исина и затем — к недолго правившему царю Иддин-Иштару. Характер бога как даятеля пищи ясно проступает в концовке песни:
Господин еды и питья, кого я сопровождаю, кем я восторгаюсь; господин еды и питья, кого я сопровождаю, кем я восторгаюсь.Эта концовка (к сожалению, весьма поврежденная) повторяется, упоминая загоны для скота, овчарни, виноградные лозы, поля и оросительные каналы.
Произведение включает в себя еще три песни: одиннадцатую на тему «Великий господин, если бы я мог сравниться с тобой во славе и блеске!»; двенадцатую, которая повторяет седьмую, и тринадцатую, последнюю. К сожалению, тринадцатая песнь сохранилась очень плохо, поэтому прочтение восстановленных мест условно и не вполне достоверно.
Ты приходишь к нам с поклажей, ты приходишь к нам с поклажей! О Усусу! Ты приходишь к нам с поклажей, ты приходишь к нам с поклажей; Нингишзида, ты приходишь к нам с поклажей, ты приходишь с поклажей; мой Даму, ты приходишь к нам с поклажей, ты приходишь с поклажей; Иштаран, Игишуба, ты приходишь к нам с поклажей, ты приходишь с поклажей; ты приходишь к нам с поклажей восстановления храмов, ты приходишь с поклажей; ты приходишь к нам с поклажей восстановления храмов, ты приходишь с поклажей; ты приходишь к нам с поклажей дающей (жизнь) пищи, ты приходишь с поклажей; ты приходишь с поклажей дающей (жизнь) воды, ты приходишь с поклажей...Список приносимых благ занимает еще приблизительно восемь строк, из-за фрагментарности не поддающихся реконструкции. Произведение, несомненно, представляет собой подлинную культовую песнь, предназначенную для сопровождения ритуала — ритуала, который, как можно с уверенностью утверждать, начинался с погребальных плачей, исполнявшихся у священного кедрового дерева, произраставшего на огороженном участке храма Эанна в Уруке (упоминался в пятой песни). Этот священный кедр не только отмечал место рождения бога, но сам считался его матерью. Вероятно, и изгиб реки, на котором встречали бога, также располагался поблизости. Обряд, по-видимому, завершался триумфальным шествием процессии, сопровождавшей бога вниз по течению. Согласно бытовавшим представлениям, бог воплощал в себе живительный сок, дремлющий в тростниках и деревьях на протяжении сухого сезона, однако просыпающийся, к величайшему облегчению и радости земледельца, вместе с подъемом воды в реке. Воплощение древесной силы; «кедр сочный», растущий возле Урука, мог считаться матерью Даму; в конечном итоге, однако, поскольку сок растений берет начало от орошения речными водами — от Энки, увлажняющего пашню, и от Ураш, Даму считался сыном или потомком двух этих начал.
Итак, четвертое тысячелетие[95], насколько мы можем судить по источникам того времени и позднейшим свидетельствам, сообщило древнемесопотамской религии ее основной характер: почитание сил природы. Эти силы постигались интуитивно как жизненный принцип в наблюдаемых явлениях, как их воля пребывать в данной определенной форме. Наиболее характерным для рассматриваемого периода мы можем считать поклонение тем силам, которые были наиболее важными для человеческого существования, — силам, от которых зависели ранние формы хозяйствования, — и их постоянное очеловечивание, возникающее из людской потребности существенного родства с ними. Это вело к растущему предпочтению антропоморфных форм как единственно подобающих богам перед старыми, не антропоморфными. Само бытие богов организовывалось по человеческим моделям семьи и определенного рода занятий. Доминирующей фигурой стал сын и кормилец, чья жизнь от сватовства до брака и ранней смерти отражает годовой цикл плодоношения и созревания урожая.
Хотя мы рассмотрели только один культ, а именно культ Думузи и божественных фигур, отождествляемых с ним, есть все основания предполагать, что он являлся наиболее характерным и что связанный с ним ритуал и метафорические образы сватовства и брака, смерти и оплакивания были широко распространены и типичны, так как следы его присутствия или параллели с ним обнаруживаются в сказаниях, связанных едва ли не с любым из основных древнемесопотамских богов. Сватовство и брак встречаются в мифе и ритуале, связанных также с Энлилем, Нанной/Суэном и Нинуртой/Нингирсу, тогда как близость к смерти, смерть или нисхождение в подземный мир рассказываются (в той или иной форме) об Ане, Энлиле, Энки, Нанне/Суэне, Нинурте/Нингирсу, Уту, Ишкур и Инанне. Все эти мотивы представляют собой, по-видимому, общедоступные и общепонятные формы приближения к «нуминозному». В следующем тысячелетии тенденция к антропоморфизации переросла узкие рамки семьи, рода занятий и индивидуального жизненного цикла и вошла в более широкие рамки общины и государства с их внешними и внутренними политическими формами, развиваясь от антропоморфизма и социоморфизма к политоморфизму.
3. МЕТАФОРЫ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ. БОГИ КАК ПРАВИТЕЛИ: ВСЕЛЕННАЯ — ГОСУДАРСТВО
ВРЕМЕНА СРАЖЕНИЙ
Выше говорилось о том, как смешанные чувства страха перед «нуминозным» и тяготения к нему побуждали человека делать выбор между стремлением к неведомым силам и желанием оградить себя от них. Проведенный нами анализ ранних культов плодородия показал, что такой выбор обусловливался главным образом ситуативно: силы, покровительства которых искали прежде всего, действовали в тех жизненных положениях и явлениях природы, от которых зависело само существование человека, и заступничество этих сил обещало свободу от нужды и лишений.
С началом III тысячелетия до н. э. постоянный страх голода перестал быть основным фактором, напоминавшим об эфемерности человеческой жизни. Не менее реальной угрозой стала внезапная гибель от меча на поле сражения или при набеге разбойников.
Насколько мы можем судить, IV тысячелетие, как и времена, предшествовавшие ему, протекали в сравнительно мирной обстановке. Войны и набеги были известны — и не понаслышке, — но длились они недолго и образ жизни определялся не ими. Однако в III тысячелетии они становятся, по-видимому, повседневным явлением. Отныне никто не мог чувствовать себя в безопасности.
Стремительность, с которой враг мог нанести удар (например, какой-нибудь военачальник, нагружавший награбленной добычей длинные лодки, легко передвигавшиеся по сети главных каналов, — а они пересекали Месопотамию вдоль и поперек), делала существование даже самых богатых и могущественных ненадежным: царицы и знатные госпожи, подобно своим сестрам-простолюдинкам, находились в постоянном страхе перед завтрашним днем, когда они могли оказаться несчастными вдовами, оторванными от дома и детей, в рабском подчинении у варварского семейства:
Горе! в тот день, когда я была погублена; горе! в тот день, когда я была погублена, Ибо в тот день он явился ко мне в дом, ибо в тот день он повернул с гор на дорогу ко мне, ибо в тот день лодка приплыла ко мне по реке, ибо в тот день, (направляясь) ко мне, лодка встала у моего причала, ибо в тот день хозяин лодки явился ко мне, ибо в тот день он протянул ко мне грязные руки, ибо в тот день он крикнул мне: — На борт! Взбирайся на борт! Ибо в тот день погрузили пожитки на нос лодки. Ибо в тот день меня, царицу, подняли на корму. Ибо в тот день от страха била меня ледяная дрожь. Враг вторгся обутой ногой в мою спальню! Враг протянул ко мне грязные руки. Он потянулся ко мне грязной рукой, вселил в меня ужас! Этот враг потянулся ко мне грязной рукой, заставил меня умирать от страха. Этот враг напугал меня — меня он не испугался. Этот враг сорвал с меня облачение, одел им свою жену, этот враг порвал мою нитку с бусами, своему ребенку повесил на шею. Мне (самой) пришлось ступать (по проходам) его жилища[96].Скорбящая здесь царица — богиня, и описываемое ею вооруженное нападение датировке не поддается, однако ее горькие воспоминания о «дне... когда она была погублена», вполне могли бы разделить многие высокородные женщины Раннединастического периода.
О степени грозившей в те времена опасности свидетельствуют громадные городские стены, непременно ограждавшие тогда каждый город; только жестокая необходимость могла заставить мириться с чудовищным количеством труда, затрачиваемого на их возведение. На такую необходимость красноречиво указывает и новый тип расположения поселений, характерный для той эпохи. Изыскания Роберта М. Адамса в центральных регионах Шумера показывают, что сеть малых незащищенных деревень, ранее столь обширная, совершенно исчезает в Раннединастическом периоде. На их месте повсюду вырастали большие города, по мере того как сельское население искало защиты за прочными городскими стенами[97].
МЕТАФОРА ПРАВИТЕЛЯ
Противостоять угрозам люди могли только под защитой ставших жизненно важными институтов коллективной безопасности — больших дружин с их вождями-предводителями, и особенное значение стал приобретать новый, возникший в ту пору царский сан. Согласно имеющимся свидетельствам, сан царя первоначально был временной должностью: царь избирался как предводитель на время военной угрозы и утрачивал власть с исчезновением опасности. С превращением вражеских набегов в повседневность должность царя становится постоянной; так же постоянно действует армия, сторожевая служба и охрана городской стены. Постепенно руководство во всех главных общинных начинаниях переходит к царю и сосредоточивается в его лице. Традиционная формула почитания, обращенная к правителю Урука, которую сохранило сказание о тех временах, выражает веру в царя, который в силах отстоять огражденный стеной город и рассеять вражеские полчища:
(Город) Урук — творенье богов, и (его храм) Эанна — храм, сошедший с небес... Это сами великие боги воздвигли все, что его составляет! Большая стена — разве она не грозовая туча на горизонте? — и царственное жилище — разве оно не основано самим Аном? — (И Урук, и Эанна) вручены тебе, ты властелин и защитник! Разбиватель голов, повелитель, возлюбленный Аном, — о, что за страх ты внушил своим появленьем! Отступил противник — войска рассеялись, не могли устоять перед ним воины[98].Новые тревоги породили новую фигуру правителя — избавителя от бед, вознесенного над смертными; воина, вызывающего страх; могучего властелина, внушающего благоговейный трепет. Трудно переоценить влияние этой новой концепции на характер мышления того времени. В изобразительном искусстве прежние ритуальные мотивы отступили на второй план, потесненные сценами военных сражений и побед; в литературе наряду с мифом заняла свое место новая жанровая форма эпического сказания. Герой эпоса — смертный, наделенный властью; сказание воспевает его ум, доблесть и отвагу, доходящую до того, что он способен бросить вызов авторитету богов. Гильгамеш, к примеру, в одном из сказаний берет под защиту Инанну, несмотря на то что ее брат, бог солнца и справедливости, отказался сделать это; в наказание он лишается предметов, с которыми он забавлялся, что, в свою очередь, ведет к гибели его верного сподвижника Энкиду, когда тот пытается вернуть эти вещи из преисподней[99]. В сказании «Небесный бык»[100] Гильгамеш грубо обходится с Инанной. В эпизоде с Хувавой он проявляет непочтительность по отношению к Энлилю тем, что убивает сторожа его леса[101]. В эпическом сказании «Энмеркар и Владыка Аратты»[102] смертный правитель Аратты использует всю свою хитрость, чтобы расстроить ставшие известными ему замыслы Инанны, и немало преуспевает в этом. Тенденция к вере в возможности человека, противостоящего богам, сохранялась вплоть до периода Аккаде и нашла наиболее яркое — и наиболее назидательное — выражение в фигуре своенравного царя Нарам-Сина, бросившего вызов Энлилю, что привело к разрушению Аккаде и положило конец его правлению[103].
Религия, как показывают приведенные выше примеры, противопоставила этой склонности к высокомерию (hybris) и отсутствию уважения к богам утверждение, что в конечном счете богов нельзя невозбранно осмеивать и что божественное возмездие неотвратимо. Еще более революционные последствия возымело интуитивное понимание того, что новая идея правителя, будучи чисто светской по происхождению, на деле открыла доступ к фундаментальным основаниям «нуминозного», до того трудно представимым, а именно к таким аспектам устрашающего начала, как «величие» и «мощь». Между членами небольшой, тесно сплоченной общины — деревни или малого города, типичных для древней Месопотамии раннего периода, — не наблюдалось значительной социальной дифференциации, и чувства почтительного преклонения перед вышестоящими не могли получить сколько-нибудь заметного развития. С концентрацией власти в руках царя эмоции, связанные с трепетом перед лицом облеченного могуществом величия, вошли в повседневный опыт. Небывалая энергия, сосредоточенная в личности царя, была чем-то новым. Он являлся средоточием общественной воли и в мирное время, и в пору военных действий, — движущей силой всего происходящего.
Поскольку новая идея правителя допускала более глубокое осознание нуминозного опыта, нежели прежние метафоры, основанные на ситуациях примитивного хозяйствования, в центре внимания которых было fascinosum, то вполне понятно широкое распространение новых представлений как метафоры божественного. Красноречивый тому пример — молитва Гудеа, правителя Лагаша, обращенная к Нингирсу. Эта молитва относится к более позднему времени, нежели рассматриваемый нами период, и демонстрирует, вероятно, более свободное по сравнению с предыдущими попытками слияние метафоры правителя с прежними метафорами сил природы. Нингирсу — нуминозная сила грозовых бурь и ежегодного паводка, когда ливни переполняют стекающие с гор притоки Тигра и его красновато-бурые воды выходят из берегов. Нингирсу считается первенцем — сыном «Великой Горы», бога бури Энлиля, чей титул ясно указывает на восточные горы, откуда стекают притоки Тигра. Во сне Гудеа услышал приказание Нингирсу построить храм, однако тот еще не дал подробных разъяснений на этот счет, и вот Гудеа обращается к нему с мольбой:
О мой хозяин Нингирсу, властитель, семенные потоки окрасились кровью при лишении девства, всесильный властитель, семенные потоки, исторгнутые «Великой Горой», герой, не имеющий равных, Нингирсу, я должен воздвигнуть тебе дом — но как мне явиться к тебе? Воитель, ты потребовал «настоящей вещи», но, сын Энлиля, властитель Нингирсу, неведома мне суть дела. Твое сердце вздымается, словно (волны) в открытом море, разбивается в брызги, словно буруны, устремляется с ревом, как вода (сквозь пролом в дамбе), города разрушает, словно волна потопа, обрушивается на вражеский стан, как буря. О мой повелитель, твоему сердцу, как натиску потока (сквозь пролом в дамбе) противостоять нельзя; воитель, твое сердце далеко (и недоступно), как недоступно небо, как мне узнать его желанья?[104]Метафора правителя — выраженная терминами «хозяин», «властитель» и «воитель» — как нельзя лучше отвечает идее беспредельного могущества того естественного явления, в обличье которого воспринимается божество, и молитва убедительно передает благоговейный страх Гудеа перед mysterium tremendum — «Всецело иной», внушающей ужас и трепет силой водного потока, низвергающегося с гор.
Метафору правителя — так же, как и концепцию правителя, — нельзя отделять от социально-политического контекста, из которого заимствовано ее значение. Новый взгляд на богов как на правителей видит в них опору всей политической структуры вокруг земного правителя и, поскольку боги олицетворяли силы всей действительности, — опору целого мира. Вселенная приобрела государственное устройство — стала политией.
Чтобы составить представление о том, каким казался и воспринимался мир под этим углом зрения, мы должны сначала рассмотреть роль богов на самом низком, локальном уровне — как правителей собственных храмов и городов и только после этого перейти к анализу их более общих функций и обязанностей на политической сцене всего народа.
БОЖЕСТВЕННЫЕ УГОДЬЯ
У себя в храмах главнейшие боги были, если можно так сказать, владельцами крупных поместий; они управляли обширными храмовыми хозяйствами, наблюдали за тем, чтобы пахота, сев и уборка урожая совершались в урочное время, и блюли порядок в городах и деревнях, находившихся в их угодьях.
Образец подобного божественного поместья — Энинну, храм бога Нингирсу в Нгирсу: о его устройстве мы располагаем особенно большим количеством сведений, полученных из различных источников. Физический труд в самом храме и на примыкающих к нему землях осуществлялся под началом правителя Нгирсу; аналогично храм жены бога — Бабы находился под опекой супруги правителя, а храмы детей бога управлялись детьми правителя или же от их имени. Правитель располагал большим штатом служителей. Одни выполняли внутри храма ежедневный ритуал, состоящий из приготовления еды и кормления бога, ухода за его одеянием и уборкой его помещений. Другие занимались пахотой, севом, оросительными работами, уборкой урожая, рыбной ловлей и разведением содержащихся при храме животных — ослов, волов, коз и овец. Помол зерна, прядение шерсти и ткание полотна, как правило, находились в ведении женской прислуги, хотя к работницам нередко приставлялись надсмотрщики. Писцы и счетоводы вели тщательный учет доходов и расходов[105].
Поскольку человек, по представлениям шумеров, был слабым существом и не мог ничего добиться без божественного вмешательства, необыкновенной удачей считалось то, что все работавшие внутри и вне храма получали возможность черпать силы в содействии бога. У каждой группы работников был свой надзиратель; однако помимо этого процесс труда управлялся служителями бога, обеспечивавшими успешную деятельность. Полный состав божественных блюстителей на службе у Нингирсу, через посредство которых бог управлял делами Энинну, приведен в дошедшей до нас надписи Гудеа, молитву которого, обращенную к Нингирсу, мы уже цитировали. Гудеа описывает, как он назначил богов-помощников на их должности в построенном им новом храме, и начинает с сына Нингирсу по имени Игалима, которому были доверены обязанности главного стража:
Дабы направлять верно руку праведника, но сковать злоумышленника, установить порядок, вносить в дом радость, издавать повеления своему городу — поместью Нгирсу, воздвигнуть трон для (вынесения) приговоров, вложить (Гудеа) в десницу скипетр; дабы пастырь, призванный Нингирсу, вознес голову (так горделиво), как желтый тюрбан (луны), и назначить должности во дворе Энинну для одетых в шкуры (работников поля), для одетых в льняное платье (служителей по дому) и для тех, чьи головы покрыты убором (распорядителей?), он (Гудеа) назначил Игалиму, главного стража Нгирсу, его (Нингирсу) возлюбленного сына, исполнять свой долг для владыки Нингирсу во (внутреннем помещении) Ульнун, в качестве великой дверной створки[106].
Бог Игалима, имя которого означает «створка двери почитаемого», — персонификация двери, ведущей в святая святых Нингирсу — Ульнун. Мифотворческое воображение шумеров наделило его обязанностями хранителя и сделало главным стражем Нингирсу. Его служебный долг как начальника охраны состоял в том, чтобы блюсти справедливость, задерживать злоумышленников, издавать указы по городу, а когда правитель вершил суд, готовить для него трон и вручать скипетр — символ власти. По этой причине занимавшаяся Игалимой должность называлась также «тронодержатель» (gu zala). Игалима отвечал также за наведение порядка среди толпящихся в ожидании аудиенции: ему следовало указать каждому место, выстроив собравшихся в ряд.
После Игалимы Гудеа называет старшего сына Нингирсу — Шульшагану — и кратко излагает его обязанности дворецкого. Мы узнаем, что о домашних потребностях Нингирсу печется божественный «постельничий» —богиня Киндази, в обязанности которой входит приготовление купальни для бога; она следит также за тем, чтобы постель его была всегда набита свежей соломой. Шульшагана, как подобает по обычаю старшему сыну в многолюдном семействе, надзирал за трапезой и приносил кувшин с водой для омовения рук до и после еды. Переменчивый нрав Нингирсу ублажали два божественных музыканта — «певец» Ушумгалькалама, дух арфы под тем же названием, увеселявшей бога, и автор элегий Лугалигихушам — дух другой арфы, дарившей утешение в мрачные минуты. «Служанки» Нингирсу — семь его дочерей, персонификации облаков: они рождены ему его женой Бабой. Особая их обязанность состоит в том, чтобы доставлять ему прошения.
Для официальной, административной стороны каждодневной деятельности бога существовал божественный «советник» Лугальсиса (значит «Царь справедливости»). Он исправлял должность божественного правителя, когда Нингирсу отправлялся в культовое путешествие в находившийся на некотором расстоянии от Ура Эреду. Дела, заслуживавшие внимания бога, не представлялись ему кое-как, вперемешку (серьезные вопросы вместе с пустяковыми), но готовились и сортировались его секретарем (sukkal) Шакан-шабаром, прежде чем быть представленными богу. Законность и порядок обеспечивал сын бога Игалима: его функции хранителя — «главного стража» мы уже отмечали. Для отражения внешних угроз у Нингирсу было два «военачальника» — боги Лугалькурдуб и Куршунабуруам; и сам бог, конечно, предводительствовал армией на военной колеснице.
Военная колесница использовалась и в мирное время: предпринимая культовое путешествие в Эреду, Нингирсу совершал на ней если не весь путь, то часть его (один из впряженных в повозку ослов так и назывался «осел Эреду»). Этот осел вместе с другими ослами Нингирсу находился под опекой божественного погонщика — бога Энсигнуна, тоща как другой божественный скотовод, Энлулим, служил у Нингирсу пастухом.
Обширные земли, принадлежавшие Энинну, располагались главным образом в плодородной полосе Гуэден, включавшей в себя пахотные земли, заболоченную местность и степи. Здесь мы обнаруживаем пахаря Нингирсу — бога Гишбаре и бога Ламара, «сборщика налогов» с рыбного промысла, следившего за изобилием рыбы в заболоченных протоках: отчеты передавались Нингирсу через гонца — Иминшаттама, разъезжающего в небольшой лодочке. Был здесь и пастырь — Димгалабзу, на котором лежала обязанность создания на необрабатываемых участках подходящих условий для того, чтобы дикие животные и птицы могли спокойно жить и размножаться.
В концепции божества преемственность традиции совмещается с ее обновлением. Нингирсу продолжает оставаться нуминозной силой плодородия, таящейся в весенних грозовых ливнях[107] и паводке Тигра; однако теперь он принимает «профессиональный» образ, заимствованный из хозяйственной деятельности человека, становясь распорядителем плодородия в имении, прежде всего «пахарем».
Это наглядно видно на примере Ниппура, где — под именем Нинурты[108] — Нингирсу является «пахарем» Энлиля, ведающим вспашкой храмовых земель, которые принадлежат Энлилю. Более существенное новшество — забота бога о справедливости и его роль защитника и военного предводителя. Все это — функции правителя, перешедшие к богу вместе с метафорой правителя. Месопотамская «царственность» (nam-lugal) возникла вместе с военным руководством. При угрозе вражеского нападения из знатной среды pro tempore[109] избирался молодой предводитель, который должен был вести общину в сражение и потому на время опасности наделялся чрезвычайными полномочиями. Когда в богах стали видеть правителей, естественно, что от них стали ожидать защиты от внешних врагов; и свидетельства, сохранившиеся от Раннединастического периода (такие, как глиняный конус Энтемены), показывают, что Нингирсу сражается с соседом и извечным врагом Нгирсу — городом Уммой. На знаменитой Стеле Коршунов изображено, как бог, набросив на врагов сеть, сокрушает им головы жезлом, подобно тому как птицелов убивает пойманных птиц.
Поскольку первоначально пребывание в царском сане было недолгим и власть царя и его влияние убывали по мере уменьшения военной опасности, молодые цари всячески искали возможности удержать власть в своих руках. Поэтому они охотно брали на себя ответственность за искоренение зла и поддержание справедливости, подобно «судиям» в библейском смысле слова, что позволяло им укрепить свое привилегированное положение приемлемым с точки зрения морали способом. Метафора правителя также возводила такую заботу о правосудии к божественному началу — и такой правитель, как, скажем, Уруинимгина из Лагаша, рассказывает, что заключил с Нингирсу договор не оставлять вдовиц и сирот на произвол сильного[110]. Созвучны этому заявлению и слова позднейшего правителя — Гудеа, который также говорит, что он обуздывал злодеев и соблюдал правду божеств Нанше и Нингирсу[111].
Многообразие забот, которыми метафора правителя наделяла богов, делало значительно менее ясными требования богов к человеку. Прежде «нуминозное» воспринималось как «интранзитивное» — как сила, скрытая в природном явлении, стоящая за ним и порождающая его. Теперь же роль бога как правителя (который наблюдает за своим имением, принимает решения относительно войны и мира, выносит суд над добром и злом) вызвала к жизни всевозможные проблемы, и ответственность за их разрешение целиком легла на земного властителя. Прежде чем действовать, он должен был знать — и знать наверняка, — чего именно желали боги; он должен был следить за тем, чтобы желания бога исполнялись надлежащим образом, дабы община не пострадала от божественного гнева или, что едва ли лучше, божественного пренебрежения.
В какой-то степени такое знание, конечно, давала традиция. Боги, без сомнения, хотят, чтобы за их храмами ухаживали, культ отправлялся соответственным образом, праздники проходили в положенное время: разумеется, от людей в целом требовались внимание и почтительность. Однако этими правилами — можно назвать их «уставными» — дело не ограничивалось. Иногда складывались такие ситуации, в которых божественная воля могла быть не столь ясной. Хотел ли бог назначения нового главного жреца или главной жрицы, — а если так, то кого именно следовало назначить? Желал ли бог перестройки храма сейчас или позже? Или она вовсе была не нужна? Полагал ли он, что стоило объявить войну опасному соседу или же склонялся к применению дипломатических средств? Разумеется, бог мог и скрывать желание, которое нельзя было предугадать, но тем не менее о нем следовало узнать путем гадания и исполнить его.
В подобных ситуациях — можно назвать их «особыми» — правитель должен был полагаться на веления богов, полученные во сне или видении, на знаки и предзнаменования или же прибегать к какому-либо традиционному способу приближения к богам и получения, в случае удачи, ответа. Гудеа, к примеру, услышал во сне, что он должен перестроить храм Нингирсу. Не вполне полагаясь на собственный дар истолкования, он обратился к божественной толковательнице Нанше за разъяснением. Последовав ее совету, он дождался нового сна-послания от Нингирсу и затем удостоверился в его истинности, принеся в жертву козленка и прочитал волю богов по форме его печени[112]. Благодаря особой важности гаданий неудивительно, что искусство прорицания процветало и привело к созданию богатой и подробной специальной литературы.
КОСМИЧЕСКИЕ ОБЯЗАННОСТИ
Выступая в роли владельцев хозяйств и вождей местных общин, большинство главных богов помимо этого обладали еще обязанностями всенародного или космического масштаба.
Во многих случаях роли сводились главным образом к прежним проявлениям сил плодородия, однако теперь они не столько выражали прирожденную сущность богов, сколько были обязанностями, возложенными на них вышестоящим богом — Аном или Энлилем — или же советом богов в целом. Так, Нингирсу/Нинурта, божество весенних грозовых ливней, не просто выражает ими свою внутреннюю сущность: он — «воин» на службе у Энлиля, сражающийся за него с нагорьями[113]. Сходным образом Энки, божество пресных вод в реках и болотах, не является более просто заключенной в них нуминозной силой плодородия. Теперь он — должностное лицо, на которое Ан возложил следующие обязанности:
Очистить светлые устья Тигра и Евфрата, сделать обильной зеленую поросль, нагнать плотные тучи, даровать воду в избытке всем пахотным землям, поднять в бороздах верхушки колосьев, утучнить пастбища в степи, пустить в рост побеги в садах и на пашнях, словно частый лес[114].Сам Энлиль — уже не только божество ветра, «Владыка Ветер»; ему подчинены все ветры, находящиеся у него на посылках.
Космические обязанности обозначаются тем же термином me[115], что и менее возвышенные домашние, описанные Гудеа: фактически организация космоса аналогична организации землевладения, сопряженного с различными работами. В мифе «Энлиль и мировой порядок»[116] устройство богом Энки космоса для Энлиля излагается именно в таком плане. Он установил водный режим Евфрата и Тигра, назначил бога Энбилулу небесным «смотрителем каналов», отделил болота от моря, также приставив к ним должностных служителей высокого ранга. Далее он создал дождь, препоручив его заботам бога Ишкура. Затем он принялся за сельское хозяйство и наказал заботиться о пахоте, орошении и сборе урожая богу земледельцев Энкимду и богине зерна Эзину. Изготовив первый кирпич, он возлагает попечение о строительном искусстве на бога кирпичей Куллу и божественного архитектора Мушдаму; продолжая действовать в том же духе, Энки заполняет степь растительной и животной жизнью, основывает земледелие, устанавливает границы, проводит черту между полями и местами застройки, учреждает ткачество — всякий раз поручая надзор соответствующим богам.
Охрану границ Энки поручил богу солнца Уту — богу справедливости, вселенский размах деятельности которого подчеркнут в мифе словами «для земли и неба». Момент очень важный, поскольку здесь подразумевается, что все в мире подчинено одному и тому же закону, одному и тому же судье. Идея подчиненности всего сущего единому закону и суду оказала многообразное воздействие как на поведение, так и на характер мышления в целом. В частности, она послужила побудительным стимулом для «справедливой войны». Войну теперь можно было приравнять к принудительному (с применением силы) осуществлению судебного вердикта. Так, Энтемена изображает успешную пограничную войну с Уммой как акцию, предпринятую самим Нингирсу по «справедливому» указанию Энлиля. Первоначально Энлиль разрешил спор между Нгирсу и Уммой, установив между ними истинную границу. Позже правитель Уммы нарушил границу, и потому Энлиль повелел Нингирсу силой обеспечить выполнение его указа[117]. Сходным образом Саргон из Аккаде, успешно отразив нападение Лугальзагеси и захватив его в плен, говорит об этом как о «приговоре» Энлиля в судебном деле Саргона[118]. Используются и специальные юридические термины: когда Утухенгаль начал освободительную войну против варварского племени кутиев, присвоивших себе царскую власть над Шумером, его сопровождал божественный посланец, точно так же, как в судебном процессе к истцу прикреплялся особый «помощник», или «представитель» (машким), для лучшего уяснения жалобы[119].
Возможность привлечения к судебной ответственности любого обидчика реализуется на космическом уровне заклинаниями, описывающими злостные происки духов и демонов, насылающих болезни на живущих. В этом случае пострадавший может обвинить их перед богом солнца, который ночью вершит суд в подземном царстве, или перед Гильгамешем и другими судьями подземного мира. Он может даже призвать умерших членов семьи вступиться за него в ходе судебного разбирательства. Исполняя просьбу, судьи должны схватить злого духа или демона и вернуть его в заточение в подземном мире, откуда он бежал[120]. Обращение в суд лежит также в основе ритуала очищения царя (bít rimkí)[121], когда ему угрожают опасности, предвещаемые затмением луны. Ритуал солнечного восхода превращается в настоящий судебный процесс перед Уту и собранием богов. Уту выступает в роли судьи и выслушивает жалобу. Энки дает гарантии того, что решение неминуемо будет приведено в исполнение, — должностная обязанность, известная как «подтверждение» судебного процесса.
ВЕРХОВНАЯ ВЛАСТЬ: СОБРАНИЕ БОГОВ
Высшая власть в месопотамской вселенной принадлежала собранию богов. В случае необходимости боги собирались вместе в Ниппуре в углу переднего двора Экура (храма Энлиля в Ниппуре), называвшемся Ubˇsu-ukkinna, и, перед тем как приступить к делу, обыкновенно подкреплялись яствами и напитками. Председательствовал в собрании бог неба Ан. Боги связывали себя клятвой выполнять все принятые ими решения; затем обсуждались различные предложения и ставились на голосование; боги выражали свое согласие возгласом heam («да будет!»). Решения собрания излагались в окончательной форме группой из семи «богов указов», а исполнение возлагалось, как правило, на Энлиля.
Дела, которыми занималось собрание, принадлежали к двум основным разновидностям: это был и суд, выносящий приговор злоумышленникам (богам или смертным), и верховный орган власти, который избирал и смещал должностных лиц — например царей. Два примера функционирования собрания в качестве суда — это изгнание Энлиля, когда тот в молодости совершил насилие над Нинлиль[122], и обвинение Кингу в подстрекательстве к мятежу (в эпосе «Энума элиш»). В «Энума элиш» собрание избрало царем Мардука, а множество царственных гимнов периода Исина и Ларсы[123] указывают на участие собрания богов в избрании земного правителя. Власть собрания свергать правителей, бессмертных или смертных, выразительно раскрыта в великом «Плаче об Уре», в котором богиня Ура, Нингаль, рассказывает о том, как она страдала от сознания надвигающейся гибели:
Когда я сокрушалась о дне испытания, о дне испытания, мне сужденном, возложенном на меня, вся в слезах, о дне испытания, мне сужденном, возложенном на меня, всю в слезах, на меня, царицу. Хотя я трепетала перед этим днем, этим днем испытания, мне сужденным, возложенным на меня, вся в слезах, этим жестоким днем, мне сужденным, — я не могла бежать от его неотвратимости[124]. И вот — мне открылось: нет счастливых дней в моем царствовании, нет счастливых дней в моем царствовании. Хотя я трепетала перед этой ночью, этой ночью горького плача, мне сужденной, я не могла бежать от ее неотвратимости. Ужас гибели, насылаемый словно потоп, был тягостен мне, и вот — ночью на ложе моем, ночью на ложе моем не было снов даровано мне. И вот — на ложе моем забвенье, на ложе моем забвенье не было мне даровано. Раз (эта) горькая участь моей стране была суждена, — как корова к завязнувшему в трясине теленку, даже если бы пришла я помочь ему выбраться, я не могла бы вытащить мой народ из трясины[125]. Раз (эта) горькая боль была суждена моему городу, даже если бы я, словно птица, расправила крылья — и, (словно птица), полетела к моему городу, все равно мой город был бы разрушен до основания, все равно Ур лежал бы в руинах. Раз этот день испытания занес надо мной длань — даже если бы я, плача, вскрикнула: — Вернись, о день испытания, (вернись) к (себе) в пустыню! — этот день испытания все равно двинулся бы на меня напроломБогиня, не в силах принудить себя оставить обреченный город, тщетно ищет заступничества у Ана и Энлиля. Затем, в отчаянии, она делает последнюю попытку поколебать все божественное собрание:
И тогда на собрание, где толпа еще не собралась, в то время как Ануннаки[126], обязанные (принять решение), еще рассаживались по местам, я пришла, волоча ноги, и протянула руки, проливая слезы перед Аном. Так я плакалась перед Энлилем: «Пусть не будет мой город разрушен!» — обратилась я к ним. «Пусть Ур не будет разрушен!» — обратилась я к ним. «Пусть не будут убиты его жители!» — обратилась я к ним. Но Ан не прислушался к моим словам, и Энлиль ответом: «Хорошо, да будет так!» не успокоил мне сердце. (И вот) они отдал и распоряжение разрушить город; (и вот) они отдали приказание, чтобы Ур был разрушен, — и, как повелела судьба, чтобы были убиты жители[127].Город обречен, и исполнение чудовищного приговора поручено Энлилю. Пользуясь обычными определениями, можно было бы рассказать о случившемся, насколько нам это известно, следующим образом: дикие жители гор с Востока — эламиты и народ «су» — наводнили Шумер, осадили Ур и, когда жители наконец сдали город, безжалостно разграбили его и сожгли. Однако обыденные термины были бы совершенно неадекватны для передачи того, что думали о происшедшем сами шумеры. В космическом плане Ур уничтожила разрушительная сущность Энлиля, нашедшая выражение в стихийном бедствии. Дикие орды с гор были всего лишь случайной формой, в которую облеклась эта сущность; реальностью был ураган, насланный Энлилем:
Энлиль вызвал бурю. Скорбью народ охвачен. Плодородия ветры отнял он у страны. Скорбью народ охвачен. Добрые ветры отнял он у Шумера. Скорбью народ охвачен. Выслал злобные ветры. Скорбью народ охвачен. Вверил их Кингалуде, сторожу бурь. Вызвал он бурю, иссушающую землю. Скорбью народ охвачен. Вызвал он ветры, несущие гибель. Скорбью народ охвачен. Энлиль — избрав Гибила[128] себе в помощники — вызвал (мощный) ураган с небес — скорбью народ охвачен. (Слепящий) ураган, завывающий в небесах, — скорбью народ охвачен — ураган, иссушающий землю, ревущий в небе, — скорбью народ охвачен — Пожары зажег он — предвестия бури — скорбью народ охвачен. И зажег по сторонам свирепых ветров испепеляющий жар пустыни. Этот огонь обжигал, как пламенный жар полудня[129].Город и разрушен именно этим ураганом:
Буря, насланная Энлилем во гневе, буря, губительная для страны, накрыла Ур как покрывалом, занавесила его как пологом тканым[130].Когда ураган пронесся, все кончено:
В тот день, когда буря покинула город, город лежал в руинах. Отец-Нанна, город остался в развалинах! — скорбью народ охвачен. В тот день буря страну покинула — скорбью народ охвачен. (Трупы) людей, не глиняные черепки, усеяли подходы. Стены зияли; высокие ворота, дороги были покрыты мертвыми. На широких улицах, где собирались (когда-то) толпы на праздник, лежали они грудами. На всех улицах и проездах лежали тела, на открытых лужайках, где танцующие толпились, грудами люди лежали. Кровь страны заполнила все ее поры, как металл отливку; тела растаяли — будто масло на солнце[131].Так решило собрание богов, и решение было исполнено.
Рассматривая последствия, к которым привело господство метафоры правителя, мы отмечали, что радикально изменился взгляд на само земное существование. Прежний мир, в котором все происходило более или менее само по себе, а боги были «интранзитивными» силами, уступил место упорядоченному, осмысленному универсуму, деятельно управляемому богами. Сами же боги расширили круг своих забот далеко за пределы того, что мы называем природой: в обществе они стали блюстителями законности и нравственности, в области политики за ними оставалось предрешение побед и поражений. Боги стали править историей и творить ее.
Как с этой новой точки зрения объясняются исторические катастрофы такого масштаба, как падение Ура? Находятся ли у жертв грехи и проступки, за которые они заслужили подобную участь? По всей вероятности, нет. Проблема вины со стороны Ура поднимается в другом пространном плаче, в котором бог города, Нанна/Суэн, взывает к своему отцу Энлилю от имени города:
О мой отец, меня породивший! Что тебе сделал мой город? Почему ты от него отвернулся? О Энлиль! Что тебе сделал мой город? Почему ты от него отвернулся? Корабль с первинками не приносит больше первинков отцу, меня породившему, не приходит больше в Ниппур к Энлилю с твоим хлебом и снедью! ....................................................... О мой отец, меня породивший! Вновь прими в руки мой город, спаси от запустенья! О Энлиль! Прими вновь в руки мой город, спаси от запустенья! Прими вновь в руки мой (храм) Экишнугаль, спаси от запустенья! Пусть слава твоя восстанет в Уре! Пусть народ твой умножится в Уре: пусть жизнь Шумера, что был разрушен, для тебя возродится![132]Энлиль в своем ответе не находит за Уром никакой вины; но просто указывает на факт постоянных бурных перемен и на то, что боги вовсе не гарантировали долговечности сущего:
Энлиль ответил своему сыну Суэну:
«Сердце опустошенного города плачет, тростник (для флейты) печали растет там, его сердце плачет; тростник (для флейты) печали растет там, жители его проводят день свой в плаче. О благородный Нанна, о себе (позаботься), что получишь ты в обмен на слезы? Нельзя опровергнуть суд, приговор, вынесенный собраньем, повеленья Ана и Энлиля никогда еще не менялись. Уру в самом деле даровали царственность — но вечный срок ему не был дарован. С незапамятных дней, когда страна впервые возникла, и до нынешних дней видел ли кто-нибудь окончание божественного служения? Царственность города, срок его службы, вырваны с корнем. Он должен скорбеть. (Ты), мой Нанна, не сокрушайся! Оставь свой город!»[133]В действительности, таким образом, справедливость (вернее, человеческая справедливость) пасует перед абсолютной властью единодушной воли богов; божественная воля пересмотру не подлежит.
4. МЕТАФОРЫ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ. БОГИ КАК ПРАВИТЕЛИ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БОЖЕСТВЕННЫЕ ПЕРСОНАЖИ
Число богов, входивших в собрание, было огромным Представляется возможным охарактеризовать лишь наиболее значительных из них. Наше изложение опирается в основном на шумерские литературные тексты, сохранившиеся в старовавилонских копиях, которые отражают взгляды и верования конца третьего тысячелетия до н. э. — того времени, когда они были созданы. Мы, однако, привлекаем и ранние, и поздние источники -в целях более полной обрисовки отдельных фигур богов.
АН-ВЛАСТЬ
Небесная сила
Ан занимал среди богов главенствующее положение «Ан» по-шумерски значит «небо» (имя заимствовано аккадским в форме «Анум»). По существу своему Ан — это нуминозная сила неба, источник дождя[134] и основа календаря: ведь именно небо, на котором меняют свое положение светила, возвещает о смене времен года с на сезонными работами и празднествами. Первоначально, как можно предположить, Ан входил в пастушеский пантеон, так как нередко изображается в образе быка.
Жена Ана — земля, Ки, на которой он породил деревья, тростник и всю прочую растительность, о чем упоминается в позднейшем аккадском заклинании[135].
«Как небо оплодотворило землю, чтобы поросль стала изобильной»
В мифе «Lugal-e», восходящем к концу III тысячелетия, противник Нинурты — Асаг, царь растений, был зачат точно таким же образом[136]:
грозой и дождем ведал второстепенный бог Ишкур. ...Ан оплодотворил зеленеющую землю (Ки), и от нее родился тот, кому не страшен воитель Нинурта, — Асаг.Другое имя Ки — Ураш, «пашня» (возможно, раннее заимствование из аккадского языка)[137]. Как отец Энки, бога проточных вод, Ан в списке богов[138] составляет пару богине Намму — воплощению нуминозной силы речного русла, порождающего воду. По-видимому, существовала традиция, согласно которой нуминозная сила неба виделась как мужской, так и женской, и бог Ан (аккадский Анум) отличался от богини Ан (аккадская Антум), своей супруги[139]. В соответствии с таким видением, дожди изливались из грудей небесной богини — или же из ее вымени, иначе говоря, туч[140].
Ан породил не только растительность: он был отцом и предком всех богов, а также множества демонов и бесчисленных злых духов. Нередко он изображался в образе огромного быка. Один из его эпитетов, «Плодовитый Племенной Бык»[141],—вполне уместная персонификация покрытого тяжелыми облаками весеннего неба, когда раскаты грома напоминают рев быка, а обильные дожди способствуют буйному произрастанию зелени. Древним образом самого бога мы должны, по-видимому, считать принадлежащего ему «небесного быка», убитого Гильгамешем и оплакиваемого Инанной и ее прислужницами[142]. Бык упоминается также как умирающий бог и супруг Эрешкигаль в мифе «Сошествие Инанны», где он именуется «Гугальанна» (т. е. Gu(d)gal-an-na (k)) — «Великий Бык небес»[143]. Его смерть символизирует исчезновение туч с концом весны.
Источник власти
Естественным следствием представлений об Ане как главном источнике плодородия, «отце, дающем рост всходам»[144], зачинателе растительности, прародителе демонов и всех богов, было возложение на него отцовской власти. Как отец, он возглавляет собрание богов: все они — его дети.
С углублением социальной дифференциации и по мере возрастания пиетета перед правителем возникло, по-видимому, и новое отношение к потенциальным возможностям использования небесного свода в качестве символа, вызывающего чувство религиозного благоговения. Созерцание небосвода способно вызвать у человека, особенно в моменты обостренной религиозной восприимчивости, подлинный экстатический трепет. Свидетельства этому можно найти и в нашей собственной культуре — ср., например, такие строки Уоттса:
От века горние владенья Величье полнит Провиденья: Там звезды в беге вековечном Кружат в пространстве бесконечном[145].Ср. также переживания, описанные анонимным автором, которого цитирует Уильям Джеймс:
Я вспоминаю ту ночь и тот самый клочок земли на вершине холма, где душа моя словно открылась Бесконечному — и два мира, внешний и внутренний, стремительно слились воедино. Бездна призывала бездну: бездне, которую мои борения разверзли внутри меня, откликалась неизмеримая бездна вовне, простирающаяся превыше звезд. Я стоял наедине с Ним, сотворившим меня, и со всей красотой мира — и любовью, и горем, и даже соблазном[146].
Для жителей древней Месопотамии небесным откровением могло быть внутренне присущее Ану сочетание абсолютной власти с величием — могло быть, однако вовсе не обязательно, поскольку в будничном состоянии духа небо могло восприниматься помимо нуминозных импликаций — как нечто вполне заурядное.
Абсолютность власти, интуитивно приписываемой Ану, ясно видна из утверждений, провозглашающих его первоисточником всякой власти — и родительской, и хозяйской, и царской.
В мифе о вознесении Инанны боги обращаются к нему с такими словами:
Твои приказанья сбываются! Слово властителя и господина выражает твое веленье. О Ан! твоя воля превыше всего — кто осмелится ей перечить? Отец богов, твоя воля — основа земли и неба, какой бог посмеет (ее) попрать?[147]В существующем виде отрывок датируется, вероятно, скорее II, нежели III тысячелетием до н. э., и, по всей видимости, более концентрированно обрисовывает могущество Ана, нежели предшествующие источники. И тем не менее он явно выдержан в одном ключе с ними. Здесь говорится о том, что всякая власть монарха, господина берет начало у Ана: он — источник власти; власть — это осуществление божественной воли.
Поскольку человеческое общество — не единственное образование, основанное на власти и повелении (мир природы устроен точно так же), постольку все существующее в мире, устроенном наподобие государства, подчинено воле Ана. Ан — это сила, которая выводит существование из хаоса и анархии и превращает его в упорядоченное целое. Как строение покоится на фундаменте и выявляет заложенную в нем основу, так и древнемесопотамская вселенная поддержана созидательной волей Ана и отражает ее. Веления Ана — это «основа земли и неба»[148].
Как конечный источник всякой власти, Ан тесно ассоциируется с высшей властью на земле — царской. Именно он провозглашал царя избранным на собрании богов — именно он был par excellence богом, даровавшим царское звание. Знаки царской власти лежат на небесах перед Аном: вместе с ними он передает избраннику не только сопряженные с царским саном прерогативы, но и обязанности, связанные с его собственными космическими функциями, — ответственность за ведение календаря и совершение календарных обрядов. Например, это праздники новолуния, которые, как явствует из их названия («ezen-èš-èš» — «праздник всех храмов»), отмечались во всех храмах, и праздник Нового года, когда, видимо, год получал наименование по какому-либо из царских свершений. Посредством этого мандата, следовательно, царь становился инструментом в руках Ана для поддержания правильного хода времен. Соглашаясь на избрание Шульги царем, Ан описывает его главные обязанности следующим образом:
Пусть Шульги, царь, правящий беспечальный срок, исполняет безупречно для меня, Ана, обряды, установленные для царственности; пусть он соблюдает правила богов для меня, пусть дарит мне подношения в день новолуния и в праздник Нового года. Пусть доставляет (?) мне хвалы, обращения и жалобы — изобилие, вырастающее из земли подобно злакам и травам, я (их) поистине (?) для него приумножил!Описание Ана, относящееся к периоду Исина и Ларсы, в тот момент, когда он восходит на трон, чтобы даровать царский титул правителю Липит-Иштару, хорошо рисует самого бога и передает внушаемое им чувство благоговейного трепета:
Прославленный повелитель, господин, искусный жрец, стоящий над всеми, родоначальник всех властителей; с головой, высоко вознесенной, превосходящий всех, плодовитый племенной бык; громкого имени, внушающего благоговение, чьи торжественно провозглашаемые (веления) не встретят того, кто им противится, взошел по ступеням на чистую вершину власти, занял место на тронном возвышении — Ан, повелитель богов, (Из) далека он пристально взглянул на него — пристально взглянул на царя Липит-Иштара, даровал ему долгую жизнь, даровал долгую жизнь царю Липит-Иштару; повеление Ана, повеление непреложное, не оспорит никто из богов. Ануннаки, боги в полном собрании сошлись вкруг него выносить решение: все великие обязанности он вызвал — небесные боги прислуживали ему — их дела он направлял — земные боги склонились пред ним — из самых прославленных обязанностей, из обязанностей первостепенных, царственность, что всего дороже, — Липит-Иштару, сыну Энлиля, великий Ан в дар преподнес[149].ЭНЛИЛЬ-СИЛА
Нуминозная сила «благоприятной погоды»
Второе место в иерархии богов после Ана занимает Энлиль, или Нунамнир: он, в отличие от Ана, олицетворяет энергию и силу, а не безмятежное величие, присущее Ану. Имя «Энлиль» означает «Владыка Ветер»: титул «en» выражающий понятие «господин» в смысле «распорядитель плодородия», показывает, что первоначально здесь подразумевалась нуминозная сила влажных весенних[150] ветров — условия погоды, наиболее благоприятствующей росту растений. Другие черты Энлиля характеризуют его как нуминозную силу, имеющую особую важность для земледельца, поскольку он является создателем самого универсального сельскохозяйственного орудия — мотыги, которая, как и плуг, применяется, когда влажность весеннего воздуха делает почву пригодной для обработки[151]. Трон Энлиля — «Du6 -kug» («священный холм», т. е. груда зерна или шерсти[152] в хранилище)[153]. Его супруга Нинлиль, или Суд, — богиня зерна, дочь бога запасов Хейи и богини ячменя Ниншебаргуну, или Нидабы[154]. Сын Энлиля — Нинурта, или Нингирсу, бог плуга и весенних грозовых ливней.
Изображение Энлиля в виде весенних ветров, которые возвращают природу к жизни, особенно наглядно в следующем отрывке из гимна в его честь[155]:
О могучий, во власти твоей небесные дожди и земные воды; Энлиль, ты правишь упряжкой богов (природы). Отец Энлиль, только ты один наливаешь лозы зрелостью; Энлиль, ты взращиваешь рыб, нагревая своим (теплом) пучину; ты насыщаешь птиц в поднебесье и рыб в пучине.Весьма сходно обрисован он и в заключительном пеане мифа «Энлиль и Нинлиль»:
Ты властелин! Ты властелин! Энлиль, ты властелин! Ты властелин! Нунамнир, ты властелин! Ты властелин! Властелин вездесущий, властелин кладовых — это ты! Властелин, взращивающий ячмень, властелин, взращивающий лозы, — это ты! Властелин небес, властелин изобилия, властелин земли — это ты! Энлиль — властелин, Энлиль — царь, слово Энлиля нерушимо, его мудрое слово нельзя изменить[156].В роли распорядителя
Со временем — по мере упрочения метафоры правителя — представление о нуминозной силе влажных ветров, способствующих плодородию, обрело антропоморфность: олицетворением исполнительной власти стало божество, которое держит в своих руках все нити сложного управления, принимает все важнейшие решения и осуществляет свою волю через посредство подчиненного ему помощника.
В большом «Гимне Энлилю» это божество описывается следующим образом:
Когда восседает он в блеске на троне в (храме своем) Имхурсаг, подобно радуге, он опоясывает небо, подобно облаку, вольно плывет. Он — единственный повелитель небес, единственный властелин на земле, прославленный бог, первый из Ануннаков; только он выносит решения, никто из богов не видит. Главный его советник, предводитель собрания, Нуску, ведает и обсуждает с ним все слова и дела, таимые им в сердце, — повсюду Нуску разносит его повеленья; на исполненье священной воли Энлиль напутствует его священным словом. Без (соизволения) Великой Горы, Энлиля, не построится ни один город, не поселятся в нем жители, не соорудят хлев, не разведут скот. Не возведут царя на трон, не назовут никого господином; кому быть верховным жрецом или жрицей — не укажет предзнаменование; в отрядах не будет начальников войска. Разлив мощным напором не сможет очистить каналы, (вода), что придет позднее, начнет выходить (из русла), не потечет прямо, не достигнет (устремляясь с силой) русла дальних (каналов). Море не породит сильного южного ветра с дождями. Рыбы не станут метать икру в тростниковых зарослях; птицы небесные гнезд не совьют на просторной земле. В небе дождем отягощенные тучи уст не разомкнут, в полях пахота не взрастит пестрого ячменя, в степи на зеленых клочках зелень и трава не продержатся долго, в садах раскидистые деревья с гор не принесут плода. Без (соизволения) Великой Горы, Энлиля, (богиня рождения) Нинтур не сможет губить (при рождении), не сможет умертвить ни теленка у коровы в хлеву, ни выкинутого ягненкау овцы в загоне. Животные и птицы, что множатся сами собой, не улягутся в логовах, не сядут на ветви. (Дикие) козлы и онагры, четвероногие (твари) не произведут потомства, не смогут (даже) случаться[157].Неудивительно, что в гимне выражается чувство благоговейного изумления перед грандиозным размахом обязанностей Энлиля[158]. Его «искусное владение сложными замыслами (их скрытое действие — неясный клубок нитей, которые нельзя распутать) — нить, сплетенная с нитью, не видимая ни единому взору», делает его воплощением поразительного божественного провидения. Никто не в состоянии оказывать ему помощь. Все решения принимает только он сам, ибо никто не в силах постичь всех хитросплетений предстоящих ему задач.
Нуминозная сила бури
Следует оговориться, что не всякая деятельность Энлиля благотворна для человечества. Богине рождения он дозволяет умерщвлять новорожденных: с его ведома происходят выкидыши у коров и овец. Потенциальная враждебность Энлиля соотносится с двойственной природой ветра, бывающего и мягким зефиром, и разрушительным ураганом. В буре находят выражение свирепость и губительность, присущие Энлилю:
Могучий Энлиль, слово его нерушимо, он — ураган, разрушающий хлев, сметающий загон для овец. Мои корни вырваны! Мои леса обнажены![159]Так же изливает свои жалобы погруженный в скорбь житель Ниппура, городским богом-покровителем которого являлся Энлиль. Человеку приходится быть с Энлилем всегда настороже, так как никто не может знать о его намерениях:
Что он задумал? Что у отца моего на сердце? Что на уме у бога Энлиля? Какие затеял он против меня тайные умыслы? Сеть раскинута — сеть врага; силки он поставил — силки врага. Он взбаламутил воду и выловит рыбу, он набросил сеть — и птиц изловит[160].Человек остается в неведении и относительно того, когда он к нему проявит наконец жалость:
Доколе? Энлиль, доколе? Подобно туче на небосводе, когда же он перестанет нависать надо мною? Могучая Гора Энлиль, когда же он перестанет угрожать мне?[161]Обуянный дикой жаждой разрушения, бог неприступен и глух ко всем мольбам:
О владыка Энлиль, чьи глаза сверкают (дико), скоро ли наконец появится в них спокойствие? О ты, возложивший себе на голову плат, — скоро ли? О ты, опустивший голову себе на колени, — скоро ли? О ты, запечатавший сердце, словно глиняный сосуд, — скоро ли? О могучий, замкнувший слух перстами, — скоро ли? О владыка Энлиль, они терпят удары и близка их гибель![162]Как отмечалось при разборе «Плача об Уре», разрушительная ипостась Энлиля стоит на службе у собрания богов. Поднятая Энлилем буря — средство осуществления решений собрания. Временами буря — это дыхание, исходящее изо рта Энлиля; и подобно тому явлению, которое кроется за нашим оборотом «выдохнуть слово», для шумеров слово, которое «выдохнул» Энлиль, могло обернуться всеуничтожающим ураганом. Когда он приступал к исполнению принятых богами решений, бурей становилось общее, выдохнутое единогласно слово, обладающее страшной разрушительной силой:
Грозовая туча, встающая на горизонте, сердце его непостижимо; слово его, грозовая туча, встающая на горизонте, сердце его непостижимо; слово великого Ана, грозовая туча на горизонте, сердце его непостижимо; слово Энлиля, грозовая туча на горизонте, сердце его непостижимо; слово Энки, грозовая туч а на горизонте, сердце его непостижимо; слово Асаллухе, грозовая туча на горизонте, сердце его непостижимо; слово Энбилулу, грозовая туча на горизонте, сердце его непостижимо; слово Мудугсаа, грозовая туча на горизонте, сердце его непостижимо; слово Шиддукишарра, грозовая туча, лежащая на горизонте, сердце его непостижимо; слово властителя Дикумаха, грозовая туча на горизонте, сердце его непостижимо; слово его сотрясает небеса наверху, слово его внизу сотрясает землю, словом его Ануннаки несут разрушенье, слово его неведомо (кто может его провидеть?), слово его темно (кто может его разгадать?), слово его — нарастающий потоп; нет никого, кто смог бы ему противостоять[163].Мифы
Мифы, посвященные Энлилю, отражают его сложную природу. Он выступает созидательной и благотворной силой в мифе «Сотворение Мотыги»[164], рассказывающем о том, как Энлиль отделил небо от земли, чтобы семена могли дать всходы, изготовил первую мотыгу и пробил ею твердую кору земли в Uzumua («произрасталище плоти») в Ниппуре и как из проделанного мотыгой отверстия наружу выбрался передовой отряд человечества, подобно тому как из земли появляются ростки. В «Споре между Летом и Зимой»[165] он также выступает в роли благодетеля; он сожительствует с горной грядой Хурсаг и зачинает с ней двух оппонентов, участников спора — бога лета Эмеша и бога зимы Энтена.
Большее напряжение между светлой и темной сторонами природы Энлиля возникает в мифе «Энлиль и Нинлиль»[166], в котором рассказывается, как юная Нинлиль, ослушавшись матери, купается в канале, а увидевший ее Энлиль овладевает ею насильно. За это преступление Энлиля лишают свободы, и собрание богов приговаривает его к изгнанию из Ниппура, где произошло это событие. Энлиль, подчиняясь вынесенному вердикту, покидает Ниппур и отправляется в преисподнюю, а Нинлиль, зачавшая сына (бога луны Нанну или Суэна), следует за ним на некотором расстоянии. Во время пути Энлиль, поочередно принимая облик встретившегося им привратника в Ниппуре, «человека адской реки» и перевозчика из подземного мира, снова и снова убеждает Нинлиль возлечь с ним и всякий раз зачинает ребенка, который мог бы занять место Нанны в подземном мире и избавить его самого от заточения в нем. Так рождаются еще три бога, хтонические по своей природе — Месламтаэа, Ниназу и (если прочтение имени верно) Эннуги. Миф заканчивается хвалебной песнью в честь Энлиля, цитировавшейся выше, в которой превозносится производительная мощь бога и непререкаемая власть его слова.
Вероятно, этот единственный в своем роде рассказ об осуждении и смерти бога лучше рассматривать в связи с культом умирающих и воскресающих богов плодородия: Энлиль, как несущий плодородие влажный ветер, совершает насилие над Нинлиль-зерном (это, возможно, мифотворческая интерпретация ветрового опыления) и умирает, когда зерно опускается в закрома земли.
Существует и другой миф[167], повествующий о преследовании Энлилем Нинлиль, однако здесь Энлиль (проявляя, впрочем, настойчивость гораздо большую, нежели допускают хорошие манеры) добивается ее благосклонности пристойным и надлежащим образом.
Наконец, в «Мифе о потопе» (шумерская версия)[168], в аккадском «Сказании об Атрахасисе»[169] и отчасти в «Эпосе о Гильгамеше»[170] Энлиль неизменно пребывает в дурном расположении духа и подвержен вспышкам буйного гнева. Именно он низвергает на землю потоп, долженствующий истребить человеческий род.
НИНХУРСАГ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Наряду с Аном и Энлилем в триаду наиболее могущественных божеств входит и богиня Нинхурсаг, известная также под именами Нинтур, Нинменна, Нинмах, Дингирмах, Аруру; на аккадском языке — Белет-или, Мама и многими другими[171]. Какие из этих имен указывают на аспекты божества, которые приобрели самостоятельное существование, а за какими стоят другие божества, слившиеся с Нинхурсаг, сказать со всей определенностью трудно. В текстах этих имена служат иногда обозначением отдельных божеств, в иных же случаях это только различные наименования одной богини.
Нумен каменистой земли
Первоначальная сущность богини — это, по-видимому, нуминозная сила каменистой местности, окружающей аллювиальные почвы Месопотамии: с востока — предгорьями и ближними отрогами Иранского плато, с запада — каменистой Аравийской пустыней. С минимальной персонификацией этой силы, называемой nin-hursag-a(k) — «Владычица каменистой земли» или «Владычица предгорий»[172], — мы встречаемся во вступлении к «Спору Лета и Зимы»[173], где говорится о том, что Энлиль в облике гигантского быка совокупился с «предгорьями» (hursag) и породил «лето» (Emeš) и «зиму» (Enten).
Всюду в виде Нинхурсаг она считается супругой Энлиля. Их сыну Нинурте, или Нингирсу, в мифе «Lugal-e» приписывается[174] создание ее царства — предгорий, изобилующих разными деревьями, травами, животными и металлическими рудами. Нинурта преподнес все это матери в качестве дара, наделив ее по этому случаю именем «Нинхурсаг» — «Владычица предгорий» (до того богиня звалась «Нинмах» — «Госпожа превеликая»).
Наряду с традицией, в которой Нинхурсаг является супругой Энлиля, существует и другая, более распространенная, согласно которой она — его сестра (nin9), a его жена — Нинлиль.
Мать животного мира
Живность, которой Нинурта населил горы, с Нинхурсаг связана особенно тесно. Согласно той традиции, в которой она выступает сестрой, а не супругой Энлиля, ее мужем является Шульпаэ, царь диких зверей пустыни, и в одном плаче[175] она, видимо, изображалась в животном облике, судя по тому, что она оплакивает потерю сына, который оказывается диким ослом:
Мой осленок лучшей породы заплутал в степи, мой жеребец — им завладел враг!Богиня скорбно восклицает:
Я, родившая (его) мать, я, вступившая в соитие напрасно, я, целованная напрасно, я, понесшая ребенка (?) напрасно! ............................................................. Я дала жизнь, я дала жизнь, я дала жизнь свободнорожденному сыну. Ради чего дала я жизнь? Я была тяжела, тяжела, тяжела свободнорожденным сыном. Ради чего я была тяжела? Я, мать, даровавшая жизнь, мои роды, моя беременность — что выгадала я этим? Я дала жизнь... он был убит князем. Что выгадала я этим? Я дала жизнь... он был убит князем. Что выгадала я этим? Я дала жизнь осленку лучшей породы; владетель оседлал его. Что выгадала я этим? Я дала жизнь сильному мулу, владетель привязал его у себя. Что выгадала я этим?[176]Будучи богиней гор и каменистой пустыни, Нинхурсаг — мать животных, обитающих в этих краях; она лишается их, когда охотники их убивают или, поймав, приручают. С другой стороны, для домашних животных, если они сбиваются с дороги, ее владения могут стать гибельными. В плаче дочери Нинхурсаг — Лисин, которая, по-видимому, также является ослиным божеством, юная богиня тщетно надеется на то, что:
Он вернет его мне! Он вернет его мне! Мой могучий посланец приведет моего осленка обратно ко мне! Приведет мне стадо, угнанное от меня, обратно ко мне! Приведет моего сосунка обратно ко мне из разрушенного загона! Приведет моего дикого осла, заблудившегося в лесу, обратно ко мне! Блюститель каналов, плывя (в лодке) вниз по реке, приведет его обратно ко мне. Землепашец приведет его обратно ко мне с затопленного поля (т. е. оттуда, где он мог завязнуть в тине)[177].Она знает, однако, что осленок ее не вернется, что его нет в живых, и возлагает вину за это на свою мать, божество пустошей, которая допустила его гибель:
С кем я могу сравнить ее? С кем я могу сравнить ее? Я, с кем могу я сравнить ее? Моя мать позволила (единственному) моему умереть! Я, с кем могу я сравнить ее? Моя мать, что меня родила, — Нинхурсаг — моя мать позволила ему умереть! Я, с кем я могу сравнить ее? С сукой, лишенной м атеринского чувства, могу я сравнить ее! Лисин в одиночестве предается горю[178].И все же, хотя в этом плаче и содержатся страстные упреки, обычно Нинхурсаг рассматривается не только как мать животных гор и пустошей, но также как заботливая мать, опекающая стада:
К ней — сияющей, как Энлиль, обращают мычание корова с теленком, и матерь Нинтур в ответ зовет их нежно — матерь Нинтур, прославленная царица Кеша[179].Нинхурсаг — мать людей и богов и, как Гудеа однажды называет ее, «мать всех детей»[180]. Данный аспект во многих отношениях является для нее определяющим и мог некогда составлять основу отдельного, независимого от нее божества.
Дающая форму, дающая рождение
Имя богини, наиболее часто используемое для обозначения ее ипостасей матери и родительницы, — Нинтур, которое условно переводится как «Владычица хижины для рожениц». Иероглиф tur на письме сопровождается знаком, первоначально изображавшим хижину для рождений в загоне для скота[181], куда помещались перед отелом коровы и где, предположительно, могли находиться больные или слабые животные. Это объясняет его различные значения: «рожать» (dû), но также и «дитя», «юный», «слабый», «козленок» (tur5) и «больной» (durx). Овчарня (шумерское amaš) с отделением, где рожают телят и ягнят tùe и é-tùr, использовалась для метафорического обозначения женских детородных органов[182]: šag4 -tùr («внутренность загона» или «хижина для рождений») — шумерское название матки. Более того, на аккадском языке этот термин — šassuru — одно из имен Нинтур[183]. Ее называют также «Владычица матки» (be-lit re-e-me)[184], и ее эмблема, напоминающая по форме греческую букву «омега» (Ω), убедительно интерпретируется на основе египетских параллелей как изображение коровьей матки[185]. То обстоятельство, что рождение телят, ягнят и козлят обычно происходит весной, когда стада пасутся в предгорьях или в степи, могло способствовать восприятию нуминозной силы, стоящей за рождением, в качестве одного из аспектов силы диких просторов — Нинхурсаг.
Нуминозная сила матки — это, собственно, сила, побуждающая зародыш к росту и придающая ему определенную форму. В качестве таковой Нинтур именуется «Владычица, дающая строение»[186].
Матерь Нинтур, владычица, дающая строение, что трудится в темноте, во чреве, дарование жизни царям, носящим по праву тиару, дарование жизни властителям, увенчанным короной, — в ее руках.Другие ее наименования, делающие упор на этом аспекте, — «Госпожа зародыша» (Nin-ziznak), «Госпожа строения» (Nin-dim), «Плотничающая внутри» (Nagar-šagak), «Владычица-гончар» (Nin-bahar), «Меднолитейшица земли (или богов)» (dTibirakalammak, dTibira-dinğirenek) и т. д.[187]. Иногда она использует свою власть, поддавшись капризу, — как, например, в мифе «Энки и Нинмах»: для того чтобы показать, что в ее воле придать человеку хорошую или плохую форму, она изготовляет несколько уродцев. Однако, согласно гимну Энлилю, цитированному выше, только Энлиль может дозволить ей произвести на свет уродливого ягненка.
По достижении зародышем стадии полной зрелости она освобождает его: функция, которой она обязана своим именем A-ru-ru — «Освободительница зародыша»[188]. Гимн в честь храма богини в Кеше описывает, каким образом это происходит:
Нинхурсаг, обладая ни с чем не сравнимым могуществом, заставляет сокращаться матку; Нинтур, будучи великой матерью, дает толчок родам[189].Соответственно в мифе «Сотворение Мотыги» не кто иной, как она, под именем Нинменна, кладет начало рождениям, после того как от удара мотыгой Энлиля из-под земли показались головы людей[190].
В тот период, когда ребенок созревает во чреве матери, он наиболее подвержен как добрым, так и дурным влияниям; то же самое — и в момент рождения: одно неосторожное слово способно навлечь на него самые неблагоприятные последствия. Поэтому Аруру — это «Госпожа молчания» (Nin-sig5-sig5)[191]. Молчать, однако, должны только повитухи; сама богиня громким голосом заглушает стоны роженицы. В гимне ее священному храму говорится:
Твоя владычица предписывает молчание, великая igizitu («истинная княгиня»), жрица Ана. Бе слово сотрясает небо, ее речь — грохотание бури; Аруру, сестра Энлиля[192].Остановку кровотечения после родов (а возможно, и прекращение менструаций после зачатия) подразумевает ее имя: dMud-kešda («Останавливающая кровь»), а ее имена Ama-dùg-bad («Мать, раскрывающая колени») и Ama-udúda («Мать, родившая»)[193] указывают на ее роль даятельницы рождения. В описании ее образа как Нинтур[194] говорится, что «грудь ее обнажена, на левой руке она держит младенца, чтобы он мог сосать», а царские гимны изобилуют утверждениями о том, что цари и правители вскормлены чистым молоком Нинхурсаг.
Повитуха
По мере того как постепенно крепла тенденция наделять нуминозную силу человеческим обликом и включать ее в социальный контекст, сила, стоящая за рождением, естественным образом персонифицировалась в помощницу при родах — повитуху. Нинтур соответственно выступает как Šag4-zu-dingir-e-ne[k] («Повитуха богов»)[195]. В качестве таковой она описана в мифе «Энки и Мировой Порядок»:
Аруру, сестра Энлиля, Нинтур, госпожа предгорий, носит знак божественного служения, чистые камни, носит она на руке своей... и лук-порей, держит в руке сосуд из лазурита, в котором помещен послед, несет с собой благословенное ведерко с чистой водой; воистину она повивальная бабка всей страны[196].Ее ведерко с водой упоминает и Гудеа; он приносит медное ведро в дар святилищу богини в Нгирсу[197].
Источник царственности
Высшее свершение богини рождения — дарование жизни царям и властителям:
Дарование жизни царям, дарование жизни властителям воистину в ее руках[198].Она не только дарует им жизнь; в ее власти — наделение их знаками высокой должности. Так, в гимне одному из храмов Нинхурсаг/Нинтур, уже цитированном нами, говорится, что:
дарование жизни царям, возложенье на них по праву тиары; дарование жизни властителям, возложенье короны на (их) головы — в ее руках[199].То же самое сказано и о фигуре, родственной этой богине, — Nin-mug («Госпоже-вульве») в мифе «Энки и Мировой Порядок»[200].
В строках о происхождении человека в мифе «Сотворение Мотыги» Нинхурсаг/Нинтур названа «Владычицей, дающей жизнь властителям, дающей жизнь царям, Нинменной» — имя, которое значит «Владычица диадемы»[201]. Под именем Нинменна, в соответствии со старовавилонским ритуалом возведения на царство[202], богиня должна была возлагать золотую корону на голову «властителя» в храме Эанна в Уруке. Соответственно датировочная формула Рим-Сина II указывает на получение царской власти этим правителем из рук богини Нинтур/Нинхурсаг из Кеша, называемой здесь именем Нинмах[203].
Возрастающее распространение метафоры правителя почти не повлияло на характер богини Нинхурсаг. Ее образ берет начало в семейной сфере, прочно ассоциируется с фигурой матери. Эта богиня не обладала специфической политической функцией. Ее важность в общей схеме мироздания как богини каменистой земли и нуминозной силы рождения уравняла ее с Аном и Энлилем как решающих сил мироздания и поддержания мирового порядка. К этой богине в мифах обращаются, когда должно родиться что-то новое, однако она не имеет никакой политической важности — и на протяжении II тысячелетия все более и более теряет свое значение, пока наконец полностью не вытесняется фигурой Энки.
ЭНКИ-ХИТРОУМИЕ
Постоянным соперником Нинхурсаг в триаде правящих богов (Ан, Энлиль и Нинхурсаг) был Энки (аккадское Эйя).
Несущие плодородие пресные воды
Энки олицетворяет нуминозную силу пресных вод рек, прудов и дождей. Он говорит о себе:
Мой отец, царь земли и небес, заставил меня явиться в мир. Мой старший брат, царь всех земель, царство собирал и службы, вложил их в мою десницу. Из Экура, дома Энлиля, я принес искусство моему Апсу[204] — Эреду я — истинное семя, низвергнутое могучим диким быком, я первенец Ана; я — мощный ураган (буря), несущийся из подземного мира, я — великий добрый правитель страны; я несу службу орошения для всех престолов; я — отец всех земель, я — старший брат богов, я делаю изобилие полным[205]Далее он перечисляет свои благодеяния:
Я — хороший управитель, отдаю умелые приказания, превосхожу всех; по моему велению строятся загоны для скота и овчарни; когда я склоняюсь к небу, дожди, несущие плодородие, льются с вышины; когда я склоняюсь к земле, паводок набирает силу; когда я склоняюсь к спеющим полям, кучи зерна громоздятся по моей воле[206].А в цитированном выше гимне Энки его отец Ан поручает ему:
Очистить светлые устья Тигра и Евфрата, сделать обильной зеленую поросль, нагнать плотные тучи, даровать воду в избытке всем пахотным землям, поднять верхушки колосьев в бороздах, утучнить пастбища в степи[207].Энки обычно изображается с двумя потоками — Тигром и Евфратом, — низвергающимися с его плеч или же из вазы, которую он держит в руках. Часто в этих потоках плавают рыбы. Иногда он держит в руках птицу, напоминающую орла, — птицу грома, Имдугуда, которая символизирует поднимающиеся из вод облака; ногой он опирается на козерога — эмблему Апсу, подземного мирового океана пресных вод[208].
Имя Энки (en-ki[ak]), «Владыка (т. е. „производящий управитель") земли» отражает важную роль воды в увеличении плодородия почвы. Другие имена — Lugal-id-[аk](«Владетель реки»), Lugal-abzu- [ak] («Царь (хозяин; Апсу») и аккадское Naqbu («Источник») представляют его как специфическую нуминозную силу рек и подземных вод[209].
Считалось, что тайная сила воды, обеспечивающая плодородие почвы, близка оплодотворяющей силе мужского семени. Шумеры воспринимали воду и сперму как нечто тождественное, обозначая и то и другое одним словом. Естественно поэтому, что Энки выступает оплодотворяющей силой. Еще одна связь между водой и продуктивностью — это «вода рождения», предшествующая появлению ребенка на свет. Как нуминозная сила околоплодных вод Энки воспевается в следующем отрывке:
О родитель Энки, покинь осемененный край — и да прорастут добрые всходы! О Нудиммуд, покинь мою добрую овцу, и пусть она даст рожденье ягненку! Покинь оплодотворенную корову — и пусть она даст рожденье теленку! Покинь мою добрую козу — и пусть она даст рожденье козленку! Когда ты покинешь увлажненное поле, мое доброе поле, пусть нагромоздятся в степи горы зерна[210]Формообразующие пресные воды
Сила, несущая плодородие, — не единственная сила, свойственная воде. Увлажняя глину, вода сообщает ей пластичность и способность принимать и сохранять всевозможные формы. У Энки эта сила находит отражение и в его имени Нудиммуд — Nudimmud («Создатель образов»), бог «формовки»[211], возможно, это подчеркивает его функции божества художников и ремесленников — гончаров, меднолитейщиков, резчиков по камню, ювелиров, резчиков печатей и прочих[212]. К данной его ипостаси относится и эпитет mummu — заимствование из шумерского umun («отливка», «форма»). В аккадском языке это слово означает «первоначальная форма», «архетип» — и служит эпитетом Эйи/Энки как название его эмблемы (изогнутый посох с ручкой в форме головы овцы); в «Энума элиш» это имя одного из захваченных в плен врагов бога[213].
Очищающие пресные воды
Третье свойство, присущее воде, — сила очищения, и Энки выступает как бог ритуального омовения и устранения скверны. Общим местом шумерских заклинаний является эпизод, когда сын Энки, Асаллухе, обнаружив какое-либо зло, сообщает об этом отцу, а тот говорит ему, какие меры следует принять. В последовательности действий, вместе называемых «Купель» (bît rimkí), предназначенных для очищения царя от зла, угрожающего ему во время лунного затмения, ритуал принимает, как уже упоминалось выше, форму судебного процесса перед собранием богов в час восхода солнца, с богом солнца в роли судьи. Долг Энки — «обеспечение дела»: иначе говоря, он должен гарантировать точное исполнение приговора. Эту обязанность он осуществляет в качестве очищающих вод ритуальных омовений, давших наименование обряду.
Мифы
Роль блюстителя судебных решений, которую Энки играет в ритуале омовения, не совсем обычна для него, поскольку силовые приемы ему чужды. Он предпочитает добиваться своего посредством дипломатических уловок или прямого обмана. Возможно, здесь проявляется его сущность как божества пресных вод, так как «вода действует окольным образом. Вода не преодолевает препятствий, но уклоняется, обходит их и в конце концов достигает цели. Земледелец, занятый орошением, прокладывая канал за каналом, хорошо знает, как прихотлива и своевольна вода в своем поведении, как легко она ускользает и как непредсказуем избираемый ею путь. Именно такие наблюдения и способствовали, как можно предположить, тому, что идея изощренного хитроумия стала связываться с Энки»[214].
Наиболее часто протагонистом Энки в мифах выступает Нинхурсаг в той или иной своей ипостаси — как богиня каменистых гор на востоке или же как богиня рождения. Однако хотя сообразительный Энки то и дело оставляет ее в дураках, тем не менее она странным образом не утрачивает своего достоинства: напротив, складывается впечатление, что именно она, после всего сказанного и сделанного, по сравнению с ним оказывается божеством более благородным и более могущественным.
В мифе «Энки и Нинхурсаг»[215] рассказывается о том, как в начале времен Энки, которому вместе с Нинхурсаг был отведен остров Тельмун (современный Бахрейн), оросил остров пресной водой и сделал город на нем благословенным обиталищем богини. Затем он попытался вступить с нею в связь, но встретил отказ и был вынужден сделать предложение вступить в законный брак. Плодом их союза стала богиня растительности Нин-сар — Nin-sar («Госпожа Растений»). Юной девушкой она гуляла по берегу реки, где ее увидел Энки и соединился с ней так же, как и с ее матерью. Нин-сар родила богиню горы Нинкур — Nin-kurra («Госпожа гор»), с которой, по достижении ею зрелости, произошло то же самое, что и с Нин-сар. Ее отпрыском стала паучиха Утту (Uttu), богиня ткачества, шумерский аналог греческой Арахны. Согласно другой версии, Энки сначала породил богиню Нинимму — Nin-imma (персонификация женских половых органов) от Нинкур, а затем — Утту от Ниниммы. Рождение Утту побудило наконец Нинхурсаг к действиям: после строжайшего предупреждения она надежно заперла Утту в доме. Энки, однако, ухитрился соблазнить Утту обещаниями женитьбы, предложив ей выращенные с помощью садовника разнообразные плоды в качестве свадебных даров. Нинхурсаг, придя на помощь соблазненной и покинутой Утту, изъяла из ее тела семя Энки. Из этого семени произросло восемь растений. Случайно наткнувшись на эти растения, Энки дает им имена и съедает их. Узнав об этом, Нинхурсаг в ярости проклинает его имя и дает обет никогда не бросать на него своего живительного взора.
Между тем растения, возникшие из семени Энки, развиваются в его теле и — поскольку беременность плохо согласуется с устройством мужского организма — вызывают смертельную болезнь. Боги безутешны при виде его мучительных страданий, однако не в состоянии дать избавления, до тех пор пока лисица, которая вызвалась привести Нинхурсаг, не выполняет свое обещание. Нинхурсаг раскаивается, прибегает, помещает Энки к себе во влагалище и рожает восемь детей, созревших в его теле. Восемь новорожденных богинь названы по имени различных частей тела Энки, где они были выношены; Энки выдает их замуж либо обеспечивает средствами к существованию.
Миф, завершающийся восторженной формулой в честь Энки, представляется примитивно-гротескным восхвалением животворной силы речной воды, в попытке возвести к ней проявления других нуминозных сил, присущих растениям, горам, наукам и т. д. Краткосрочность весеннего паводка, быстрый подъем и спад воды находят отражение в непостоянстве Энки; постигшая его и едва не ставшая роковой болезнь — возможно, намек на почти полное пересыхание рек в засушливое лето.
Еще один миф, в котором Энки и Нинхурсаг противопоставлены друг другу, — «Энки и Нинмах»[216]. Здесь она именуется Нинмах — «Госпожа превеликая». Это рассказ о том, как в начале времен богам приходилось трудиться, добывая себе пропитание, и как они воззвали к Намму, матери Энки (возможно, по высказанному ранее предположению, это персонификация речного русла), и Намму от имени бога просит сына создать работника для облегчения их труда. Энки вспоминает о животворной глине пучины (Апсу), породившей его самого, и просит Намму послать двух богинь женского чрева отщипнуть для нее кусочек этой глины. Вылепив тело, она должна дать ему жизнь с помощью Нинмах и восьми других богинь. Намму, таким образом, порождает человечество для того, чтобы избавить богов от труда. На пиршестве, устроенном в честь благополучного разрешения Намму от бремени, Энки и Нинмах выпивают чересчур много вина и затевают ссору. Нинмах похваляется, что может изменить облик человека и ухудшить его, если ей заблагорассудится. Энки ловит ее на слове и бьется об заклад, что сумеет найти применение в жизни даже наихудшему из сотворенных ею существ. Нинмах создает из глины разных калек и уродцев: великана, больного недержанием мочи; женщину, страдающую бесплодием; существо среднего рода, не имеющее определенного пола, и так далее; однако для каждого из них Энки находит место в обществе и обеспечивает им пропитание.
Одержав победу в споре, Энки предлагает Нинмах оказать точно такую же помощь существу, созданному им. Это существо изнемогает от всех мыслимых и немыслимых недугов, свойственных преклонному возрасту; оно не в состоянии двигаться и принимать пищу. Все усилия Нинмах тщетны — и, повергнутая в ужас немощным порождением Энки, она гневно его проклинает. Энки отвечает ей словами примирения — и в конце рассказа (к сожалению, здесь большая лакуна) согласие, видимо, восстанавливается.
Энки с большим успехом использует свою изобретательность в мифе, который можно назвать «Происхождение Эреду»[217]. Этот миф, начало которого не сохранилось, описывает сотворение человека четырьмя высшими божествами — Аном, Энлилем, Нинхурсаг (здесь она именуется Нинтур) и Энки. После того как Нинтур приняла решение обратить человека от примитивной бродячей жизни к жизни городской, началась пора, когда на землю с небес сошла царственность и все живое на земле благоденствовало. Были построены и получили названия древнейшие города, дарованы и поделены между богами мерные чаши — эмблемы экономической системы перераспределения. Развивалось земледелие с применением оросительных систем; люди процветали и множились. Однако шум, производимый людьми в их перенаселенных городах, начал сильно досаждать Энлилю — и, доведенный до крайнего раздражения, он убедил остальных богов уничтожить человечество и наслать на землю потоп. Расторопный Энки нашел способ предупредить своего любимца — некоего Зиусудру, велев ему построить ковчег, где можно было бы пережить потоп вместе с семьей и представителями животного царства. Зиусудра благоразумно последовал совету Энки — и, после того как воды потопа схлынули, Энки сумел склонить богов к тому, чтобы не только пощадить Зиусудру, но и даровать ему вечную жизнь в награду за спасение всего живого от гибели.
Другой противник Энки, менее значительный, чем Нинхурсаг или Энлиль, однако в целом более удачливый — это его внучка, богиня Инанна. В мифе под названием «Инанна и божественные силы»[218] она берет над ним верх: навестив Энки в Эреду, Инанна скрывается, похитив божественные силы «ме», которые захмелевший и растроганный бог сам передал Инанне на время пиршества, устроенного в честь ее визита. Проснувшись поутру, Энки видит, что сделанного не исправить, как ни старайся.
В мифе «Энки и Мировой Порядок»[219] Инанна, в приливе завистливого раздражения, жалуется Энки, что у нее одной в отличие от всех других богинь нет никаких обязанностей. Энки добродушно указывает на ее многочисленные обязанности, затем смягчается и наделяет ее самыми разнообразными видами власти из числа оставшихся у него в наличии. К сожалению, текст в данном месте настолько испорчен, что можно только гадать о том, что именно она получает и как поступает дальше. В обоих случаях никакого состязания умов не происходит. Инанна выигрывает, пользуясь случаем, когда Энки теряет бдительность или же стремится избежать хлопот. Инанна верно оценивает свои скромные возможности и хорошо понимает превосходство деда по части хитроумия. Попав в серьезную беду из-за собственной опрометчивости, как это происходит с ней в мифе «Сошествие Инанны»[220], она ищет спасения только в опоре на сообразительность и изворотливость Энки.
Упомянутый нами миф «Энки и Мировой Порядок» восхваляет Энки как главный источник культурной деятельности человека ничуть не менее, чем его роль устроителя природного хода вещей. Миф начинается обращенной к Энки пространной хвалебной речью, за которой следуют два славословия бога, превозносящего собственное могущество. В заключение, после поврежденных строк, в тексте описывается, как Энки поочередно приносит благоденствие известным тогда крупным культурным центрам — Шумеру (обозначающему здесь город Ниппур), Уру, Меллуххе[221] (Эфиопии) и Тельмуну, определяя судьбу каждого и придавая каждому из них особое индивидуальное обличье.
После этого Энки обращается к устройству мирового порядка и учреждению различных видов хозяйственной деятельности. Он кладет начало существованию морей, рек, облаков и дождей. Затем он учреждает земледелие и скотоводство, кладет начало таким ремеслам, как строительство жилищ и ткачество, а также устанавливает границы, воздвигая межевые камни. Природные стихии и каждую область хозяйства Энки поручает заботе какого-либо подходящего божества: богине Нанше он наказывает заботиться о море, богу Ишкуру — о тучах; бог Энкимду и богиня зерна Эзину должны ведать орошением и прочим землеустройством; Думузи-Амаушумгальанна — разведением скота и так далее. Миф заканчивается бурной жалобой Инанны на то, что ее обошли при распределении обязанностей.
Другой миф, в котором Энки выступает центральной фигурой, — «Энки — строитель Э-энгурру»[222], повествующий в гимническом стиле о том, как Энки построил для себя дом в Эреду, а затем отправился вверх по течению Евфрата к храму своего отца Энлиля — Экуру в Ниппуре, где приготовил пиршество для Энлиля и прочих богов, для того чтобы отпраздновать это событие. Миф, в котором Нинурта бросает вызов Энки, лучше рассматривать, говоря о Нинурте, — так же, как и аккадский миф о птице грома Анзу (она же Имдугуд), где Энки дает совет Нинурте, как одолеть эту птицу. Два основных аккадских мифа, в которых Энки играет важную роль, — «Сказание об Атрахасисе» и вавилонский эпос творения «Энума элиш» также подробно освещаются ниже.
Энки фигурирует также в коротком, но характерном аккадском мифе «Мифе об Адапе»[223]. В мифе, где употреблена аккадская форма имени Энки — Эйя, рассказывается, что у него был слуга-умелец Адапа, который вел хозяйство в доме Энки. Однажды южный ветер опрокинул лодку, в которой рыбачил Адапа, и в порыве гнева тот обломал ветру крыло. Обеспокоенный отсутствием южного ветра, Ан узнает о случившемся и повелевает Адапе явиться на небеса, где его призовут к ответу. Адапа оказывается в трудном положении, однако Эйя, не желая терять усердного слугу, дает ему совет, как расположить к себе небесных властителей. Адапа должен облачиться в траурные одежды и, подойдя к воротам дворца Ана, на вопрос сторожащих его богов Думузи и Гишзиды, почему он в трауре, ответить, что он оплакивает двух исчезнувших с земли богов — Думузи и Гишзиду. Эйя велел ему также не прикасаться к предложенным ему еде и питью, ибо они принесут ему смерть.
Явившись к воротам Ана, Адапа поступает, как ему было сказано; Думузи и Гишзида настолько довольны его ответом, что решают вступиться за него перед Аном. В результате Ан встречает Адапу скорее как гостя, нежели преступника. Более того, поскольку правила гостеприимства предписывают обильное угощение, Адапе предлагаются небесная еда и питье — хлеб и вода жизни, которые сделали бы его бессмертным. Адапа, помня совет Эйи, отказывается от угощения — и в ответ на расспросы ссылается на полученные указания. Услышав это, Ан радостно смеется: он, как и Эйя, вовсе не хотел для Адапы бессмертия, однако был вынужден подчиниться законам гостеприимства.
Завершая описание Энки, следует отметить, что метафора правителя приложима к нему лишь в модифицированной форме. Суть этой метафоры — неограниченная власть — не вполне соответствует его образу. Одерживать победы вовсе не свойственно его натуре: для достижения цели он предпочитает окольные способы — различные уловки, уговоры и т. п. Энки — самый умный из богов, единственный, кто может планировать, организовывать и находить выход там, где этого не может никто. Он — советник и опытный помощник, знаток и отвратитель бед, правая рука правителя, но только не сам правитель. Он устраивает и блюдет мировой порядок, однако по велению Ана и Энлиля, а не для себя; он спасает людей и животных от потопа, но не оспаривает власти Энлиля. Его цель — действенный компромисс, избегающий крайностей. Обычно дружески расположенный к человеку, он не прибегает ради него к крайним мерам: когда Нинмах изготовляет уродцев, он смягчает зло, изыскивает способы поддерживать их существование, однако не пытается ее остановить — и сам поступает еще хуже. Сходным образом, спасая людей в сказаниях о потопе, он не пытается предотвратить потоп. Энки — устроитель дел, посредник, но не обладатель высшей власти.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БОГОВ-«СКАЗАНИЕ ОБ АТРАХАСИСЕ»
Взаимосвязь четырех наиболее могущественных божеств древнемесопотамского космоса живо изображена в великом аккадском мифе о начале времен, называемом «Сказание об Атрахасисе»[224].
Представляется целесообразным рассмотреть это сказание именно сейчас, дабы обобщить то, что говорилось об этих богах выше. Основная версия текста сохранилась в копии, относящейся к старовавилонскому периоду (начало II тысячелетия до н. э.), однако неясно, восходит ли она к более ранней эпохе — к III тысячелетию до н. э. Остается спорным вопрос о том, являются ли источники текста исключительно шумеро-аккадскими или же частично западносемитскими по происхождению. Тем не менее фон действия и основная тема сказания — противостояние человека природе и ее божественным силам — как нельзя лучше соответствуют умонастроениям, характерным для более ранних периодов месопотамской истории. Нет серьезных оснований для того, чтобы приурочить наш анализ к главам, посвященным позднейшим эпохам: здесь, в этом сказании, слышится голос III тысячелетия до н. э., а подчас и неясные отзвуки IV. Вот его начальные строки:
Когда Илу (т. е. Энлиль) был хозяином, бремя труда они носили, таскали корзину; корзина богов... была огромна, тяжек был труд, велики тяготы.Пока не был сотворен человек, богам пришлось взвалить на себя всю тяжелую работу — прокапывать реки, рыть каналы и заниматься трудным делом землеустройства и орошения. Три великих бога — Ану[225], Энлиль и Энки — разделили вселенную между собой, бросив жребий, подобно сыновьям, делящим отцовское имение; таким образом Ану, их отцу и верховному владыке, досталось небо; воителю Энлилю, его советнику, — земля, а мудрому Энки выпало повелевать подземными водами и морем. Энлиль, получив во владение землю, подчинил себе богов, которые непрерывно трудились день и ночь, год за годом, прокапывая Тигр и Евфрат.
В конце концов боги пришли в изнеможение, возроптали и подняли шум. Они задумали обратиться к своему управляющему — сыну Энлиля, Нинурте, или же добраться до самого Энлиля, олицетворявшего высшую власть. Один из бунтовщиков, однако, отвергает эти сравнительно мирные предложения как бесплодные и целиком стоит за насильственные действия — немедленное нападение на дом Энлиля. Боги следуют его совету — сжигают свои орудия и окружают жилище Энлиля. В самую полночь привратник Энлиля, заслышав шум, торопливо закрывает ворота на засов и посылает советника Энлиля Нуску разбудить господина. Энлиль, услышав недобрые вести, охвачен сильной тревогой, и Нуску вынужден напомнить ему, что боги в конечном счете приходятся ему детьми и потому бояться их не следует. Он предлагает также призвать Ану и Энки на совет.
Сказано — сделано. Прибывшим Ану и Энки Энлиль возмущенно сообщает о происшедшем. По предложению Ану, Нуску посылают к мятежным богам, чтобы выяснить, кто из них зачинщик беспорядка, однако боги уверяют, что решение принято ими совместно, а подстрекнуло их к протесту непосильное бремя убийственного труда. Более того, ни при каких обстоятельствах к работе они не вернутся.
Услышав это, Энлиль разражается рыданиями и тут же выражает желание оставить свою должность. Он отправится на небо к Ану. Здесь вмешивается дипломатичный Энки и предлагает компромисс. Да, подтверждает он, труд бастующих слишком тяжел, велики их тяготы. Но вот с нами восседает богиня рождения. Пусть она создаст человека: боги возложат на него бремя трудов и станут свободны.
Богиня рождения Нинтур выражает свое согласие при условии содействия со стороны Энки, которое он охотно обещает. По его предложению, боги убивают одного из своих собратьев — очевидно, предводителя мятежа — некоего Ве-э, «подавшего мысль», и Энки учреждает для них обряд очистительного омовения в первый, седьмой и пятнадцатый день каждого месяца. На крови и плоти убитого Нинтур замешивает глину для изготовления человека. Благодарные боги нарекают Нинтур именем Белет-или (Bêlit-ili — «Владычица богов»), и она вместе с Энки отправляется к «дому судеб», где новым существам будут дарованы их обличья и судьбы.
Там особые богини чрева топчут глину, и Нинтур произносит необходимые заклинания по подсказке Энки. Затем она отламывает четырнадцать ломтей глины, кладет семь направо и семь налево, а посредине между ними — кирпич. Из этих ломтей каждая из семи пар богинь чрева сотворила по мужскому и женскому зародышу.
По истечении девяти месяцев наступило время родов, и Нинтур «с сияющим, полным радости лицом, с покрытою главою свершила повивание». Она также устанавливает на будущее правила празднования рождений: роженица должна оставаться в уединенном покое, а повитуха может принять участие в семейном веселье. Кроме того, в честь Нинтур на девять дней должен быть возложен кирпич. В заключение она излагает правила позднейшего девятидневного празднества, когда между родителями возобновляются нормальные супружеские отношения.
Итак, боги разрешили свои затруднения как нельзя лучше. Вместо сожженных мотыг и лопат были изготовлены новые, возобновились работы на реках и каналах, земля стала кормить и богов и смертных. В результате люди расплодились так стремительно, что через двенадцать столетий шум непрерывно возрастающего населения сделался невыносимым и Энлиль лишился сна: «земля ревела, как дикий бык». Энлиль, в крайнем раздражении, добился у богов согласия на то, чтобы наслать на людей чуму, надеясь таким образом сократить их численность и уменьшить шум.
В те дни жил на земле весьма умный человек — Атрахасис, бывший в услужении у Энки. Он обратился к своему мудрому господину за помощью, умоляя предотвратить чуму, и Энки посоветовал ему собрать совет старейшин и объявить народу через вестников о том, чтобы люди вели себя тише и чтобы каждый совершал ежедневные приношения не своим личным богам, но богу чумы, Намтару, и славил его молитвой. Устыдившись при виде изобильных даров и почестей, Намтар удержал руку и отвел от людей болезни.
Однако по прошествии еще двенадцати сотен лет люди снова размножились и подняли шум. На этот раз Энлиль принудил богов наказать людской род засухой: Адад, бог дождя, должен был удерживать ливни. И вновь Атрахасис воззвал к Энки, и опять получил совет поклоняться и приносить дары только посылающему бедствие богу. Адад, подобно Намтару, пришел в замешательство и позволил дождям излиться свободно.
Но, по-видимому, людской шум все возрастал, пока Энлиль окончательно не лишился сна. Тогда, насколько позволяет судить поврежденный текст, боги решили наложить полный запрет на все дары природы без исключения. Ану и Адад должны были охранять небо, Энлиль — землю, Энки — воды, дабы совершенно лишить человечество каких-либо средств пропитания. Эти меры, которые нельзя было отвратить никакой усердной молитвой, оказались роковыми:
Они отобрали у людей пропитание, скудными стали харчи в их желудках. Вверху Адад свой дождь сделал редким, внизу (ежегодный) паводок был перекрыт плотиной, воды не могли подняться к (речным) истокам. Поле уменьшило урожаи, Нидаба (богиня зерна) отвернулась. Черные пространства побелели, просторное поле рожало соль. Чрево земли восстало, растения не взошли, злаки не пробились наружу. Немощь одолела людей, матка сжалась, не в силах поторопить, как должно, младенца, ................................................... По наступлении второго года они нагромоздили запасы. По наступлении третьего года черты людей исказил голод. По наступлении четвертого года их широкие шаги (?) укоротились, узкими стали их широкие плечи, люди сгорбившись брели по улицам. По наступлении пятого года дочь (из ее дома) сторожила мать у дома (букв. «чтобы войти внутрь» — т. е. в дом матери), (но) мать не открывала двери дочери. Дочь следила за весами матери. Мать следила за весами дочери. По наступлении шестого года дочь съели они на обед, сына употребили на дневное пропитанье. Дом пошел войною на дом. Лица покрылись холодом смерти; люди цеплялись за жизнь, при последнем издыханье.В конечном итоге план, уже намеченный, был, по-видимому, сорван Энки, который (случайно, по его утверждениям) позволил обширным косякам рыбы появиться на земле и напитать страждущее человечество. Тогда Энлиль потерял всякое терпение и, приведенный в ярость усмешками богов, которых позабавила уловка перехитрившего его Энки, утвердился в намерении навсегда покончить с человеческим родом. Он связал всех своих собратьев клятвой обрушить на землю потоп.
Вначале Энлиль пожелал, чтобы потоп устроили Нинтур и Энки, поскольку они сотворили человека, но Энки воспротивился этому; потоп был делом самого Энлиля. Затем, несмотря на данную клятву блюсти тайну, Энки ухитряется предупредить Атрахасиса о грозящей опасности, притворившись, что обращается не к нему, а к хижине, в которой тот находился. Атрахасис строит громадную лодку, объяснив старейшинам города, что должен уйти в изгнание из-за раздора между его личным богом — Энки и Энлилем, во владении которого находился Шуруппак, где он жил. Погрузив на судно животных всех родов и видов, взяв на борт семью, он увидел, что погода меняется. Охваченный дурными предчувствиями, он плотно затворяет дверцу, и тут же на землю обрушивается потоп, сметая все на своем пути.
Картина поголовной гибели человечества повергла богов в ужас и уныние. К тому же отсутствие приношений вскоре заставило их страдать от голода. Потоп продолжался семь дней и семь ночей, после чего ураган стих, воды схлынули и корабль Атрахасиса оказался на суше. Исполненный благодарности, он принес жертву — и голодные боги, почуяв благовонный запах, собрались в одном месте, словно мухи.
Только Энлиль остался непреклонен. Завидев корабль, он исполнился возмущения и гневно спросил, каким образом человек смог уцелеть, на что Ану резонно ответил вопросом: кто, как не Энки, способен на подобные штуки?
Энки, нимало не смутившись, пускается в объяснения. Он обвиняет Энлиля в том, что тот без разбора казнил и правых, и виноватых, и (в данном месте текст испорчен) предлагает, повидимому, другие способы прекратить шум. Тогда Энлиль успокаивается. По его заданию Энки и Нинтур совещаются относительно того, как избежать в дальнейшем нестерпимого гвалта.
Итогом обсуждения является план контроля над рождаемостью. Боги вызывают к жизни бесплодных женщин, создают демоницу Пашитту, убивающую младенцев при рождении, и учреждают несколько разрядов жриц, которым деторождение воспрещено. Далее следует поврежденный текст, и миф завершается хвалой Энлилю и его могуществу:
Как хвалу тебе, пусть Игиги (т. е. небесные боги) услышат эту песню и внемлют твоему великому подвигу, я воспел о потопе всем людям. Слушай!Современному читателю вполне может показаться, что Энлиль, легко поддающийся испугу, готовый с рыданиями отречься от власти, черствый по отношению к другим, постоянно водимый за нос хитроумным Энки, сам по себе довольно жалок. Этот вовсе не так! Проявление высшей силы Энлиля — разыгравшийся всемирный потоп — поражало древнее воображение и требовало почтительности. Весь миф посвящен, в сущности, потопу.
Вместе с тем совершенно ясно, что миф рассматривает абсолютную власть как воплощение эгоизма, беспощадности и неразборчивости в средствах. Но что есть, то есть. Существованию человека угрожает множество опасностей, и даже польза, которую он приносит богам, отнюдь не служит ему защитой, если только не позаботиться о том, чтобы не досаждать им, пусть даже самым безобидным образом. Человек должен знать, что его самовыражению положены определенные границы.
НАННА/СУЭН - ЦАРСТВЕННОСТЬ
Как явствует из вышеизложенного, четыре верховных древнемесопотамских божества — Ан, Энлиль, Нинхурсаг и Энки, — совместно принимающие великие, жизненно важные решения, являются нуминозными силами основных природных стихий: небесных высей, воздушных вихрей, каменистой почвы и проточных пресных вод. Их роли соответствуют положению, которое они занимают в семействе богов. Наивысшей властью обладает Ан, отец богов. За ним, рангом ниже, следует Энлиль, внушающий почтение к себе и требующий послушания как старший, первородный сын Ана. Равным с ним авторитетом пользуется Нинхурсаг как старшая сестра. Один лишь Энки, допущенный в этот круг очень поздно (в начале второго тысячелетия), не наделен прирожденной властью: он младший сын и должен полагаться главным образом на свою смекалку.
Бог луны
Нуминозные силы подчиненных космических стихий — Луны, Грома, Солнца, Утренней и Вечерней Звезды — считаются внуками и правнуками Ана, не оспаривающими могущества старших божеств. Старшим из молодого поколения богов является бог луны Нанна, или Суэн (позднейшая сокращенная форма имени — Син), — первенец Энлиля. Имя «Нанна» значит «Полная луна», Sú-en — «Полумесяц», а третье имя Aš-im4-babbar употребляется в значении «Новый свет». Величественно зрелище полной луны, медленно плывущей по ночным небесам, и понятно, почему Нанну, единственного из младшего поколения богов, постоянно называют «Отцом», обычно «Отцом Наиной». Чувством нуминозного благоговения по отношению к богу проникнуто шумерское обращение к Наине, восхваляющее его следующим образом:
О ты, совершенный в величии, венец ты носишь по праву; твое чело благородно, лик внушает благоговение, твой образ чист и прекрасен! Твое великолепие простирается на все земли! Твоя слава достигает небес! Нимб вкруг тебя внушает священный трепет!Космические функции Наины заключались в основном в том, чтобы разгонять ночную тьму, измерять время и обеспечивать плодородие. Две первые обязанности явно присущи нуминозной силе, одухотворяющей Луну, которая видится как
...светильник, зажженный в ясном небе, Син, вечно обновляющийся, озаряющий тьму, приносящий свет человеческому множеству[226];или как:
Нанна, великий господин, свет, сияющий в ясном небе, носящий на голове убор князя; бог, неукоснительно сменяющий дни и ночи, определяющий месяц, приводящий год к завершенью; имеющий доступ в Экур, обладающий правом судить справедливо в доме отца своего, (того), кто зачал его; возлюбленный сын Нинлиль, Аш-им-баббар[227].В соответствии с фазами Луны празднества, именуемые èš-èš (т.е. «всехрамовые» или «общие» праздники), устраивались в первое, седьмое и пятнадцатое число месяца во времена царствования Третьей династии Ура. Особые приношения совершались в тот день, когда луна становилась невидимой и, как представлялось, мертвой: ud-n'u-а («день возлежания») — в этот день Нанна спускался в подземный мир вершить суд и принимать административные решения вместе с хтоническими божествами — Энки[228] и Нинки. В гимне, обращенном к нему, говорится:
Когда ты измеришь дни месяца, когда ты дойдешь до этого дня, .......................................................... Когда ты объявишь народу день своего «возлежания» по завершении месяца; ты, о владыка, мудро разбирай судебные дела в подземном мире, выноси решения лучшим образом. Энки и Нинки, великие властители, великие повелители, свершающие в нем решения дел, ждут, что послышится из твоих уст, как к отцу... они.... к тебе. Справедливые приговоры ты влагаешь во все уста, делаешь должное очевидным, честные сердца ты радуешь, управляешь делами по чистой совести...[229]В конце концов, по завершении дел в подземном мире, бог вновь появляется на небесах в облике новой луны:
На просторном небосводе... ты распространяешь свет, озаряешь тьму; твоего восхода ожидают Ануннаки-боги с возлияниями и мольбами; при твоем великолепном восходе разливается новый свет, дивный, полный красоты, ожидает тебя в радости великая госпожа Киур — матерь Нинлиль[230].Отношения с правителем
Лунные празднества в каждом месяце были, по-видимому, самым тесным образом связаны с правителем и его домом. Во времена Третьей династии Ура принесение жертв во время новолуния возлагалось на правящую царицу[231]; в Умме (а возможно, и в других городах) устройство празднеств èš-èš находилось в ведении храмов,'воздвигнутых в честь умерших и обожествленных представителей династии.
Серьезную тревогу, как и следовало ожидать, вызывали периодические затмения, полностью или частично скрывающие от глаз яркий смеющийся лунный лик. В I тысячелетии до н. э. подобное событие давало верховным богам основания для расспросов Суэна о том, какими средствами можно противостоять злу, навлекаемому затмением[232]; более, по всей вероятности, ранняя концепция происходящего, сохранившаяся в так называемом «Мифе о затмении»[233], была куда серьезнее. Согласно этому представлению, затмение вызывалось нападением злых демонов на Нанну, после того как они соблазнили двух его детей — Инанну и Ишкура. Перед лицом грозной опасности Энлиль сумел известить о ней Энки, который послал на помощь Нанне своего сына Мардука, и тот, по-видимому, достиг успеха. Текст заканчивается описанием магического обряда, связанного с обрывом нити и ритуальным омовением царя, который
подобно новому свету, Суэну, держит в своих руках жизнь страны; подобно новому новому свету носит на голове священный ужас.Эти строки вновь подчеркивают тесную связь между богом луны и правящим царем. Совершенно очевидно, что царь замещает здесь бога, который проходит очищение благодаря свершаемому царем омовению.
Омовения с целью отвратить скверну от сияющей луны были, по-видимому, характерной чертой культа и происходили не только во время затмений, но и ежегодно в Новый год (zag-mu- [ak]), который в Уре приходился, вероятно, на начало месяца Ma ˇsdagu, и во время «Великого Праздника» (Ezen-mah) в девятый месяц, дающий ему название. Еще когда Ибби-Суэн, царь Третьей династии Ура, привез домой из похода в Элам драгоценный и редкостный золотой кувшин, он посвятил его Нанне,
дабы в день Эзен-мах и в Новый год, при омовениях в честь Наины, не оказалось недостатка в масле там, где (обряд) «открытия уст» свершается из банного медного кувшина Нанны[234].Об этом кувшине для омовений, на котором был изображен возрождающий силы обряд, называемый «открытие уст», с целью усилить его эффективность, когда он использовался при обрядах омовения, мы знаем и из других источников. Он стоял в спальне Наины на верхушке зиккурата храма Экишнугаль в Уре и считался запретным для непосвященных глаз[235]. Своей чистотой и очищающим способностям он был обязан Энки, владыке Абзу[236].
Бог пастухов
Ур, главный город Наины, был расположен в нижнем течении Евфрата на краю болот в местности, которая частично была занята садоводами, жившими по берегам реки, и частично скотоводами, пасшими стада среди болот. Неудивительно, что следствием этого явилось возникновение различных форм божества, каким оно представлялось живущим бок о бок группам населения, имевшим различный профессиональный опыт. «Плодом, который вырос сам по себе»[237], бог виделся тому, кто разводил сады, а сравнение рогов полумесяца с рожками «игривого небесного теленка»[238] естественным образом зарождалось в воображении пастуха. Возможно, что именно пастуху мы обязаны и уподоблением полумесяца небесной «лодке», или «барке»[239], поскольку формой полумесяц напоминает длинные, изящные лодки, которые были — и остаются до сего дня — главным средством передвижения среди заболоченных проток. Со временем, однако, по мере распространения антропоморфности, эти основанные на непосредственном восприятии образы претерпели изменения, и «бык» постепенно уступил место «пастуху», а «лодку» вытеснил «лодочник».
От пастухов берет свое происхождение и фигура Нингаль, супруги Наины. Ее имя «Нингаль» («Великая госпожа») само по себе говорит мало, однако она — дочь Нингикуги («Владычицы чистого тростника») (nin-gi-kug-а[к]), которая была женой Энки, бога водной пучины[240]. Можно предположить, следовательно, что она, как и ее мать, была богиней тростника. Это подтверждается и тем, что она делила свое другое имя (Zirru — «Тростниковая ограда») с верховной жрицей, воплощавшей ее в земном обличии[241]. По всей вероятности, пастух, наблюдая месяц, который вечером выходит из тростников, а утром возвращается в них, мог ассоциировать это с уходом месяца из своего дома и последующим возвращением домой, к жене.
Возможно, из-за подмеченной связи луны с приливами или же благодаря надеждам, возлагаемым пастухами на своего бога как на покровителя весенних паводков, бог луны Нанна/Суэн был также богом плодородия. По сути, он во многом сходен с другим пастушеским богом плодородия — Думузи. Однако в текстах о Нанне/Суэне встречаем примечательное указание на стоящую за богом высшую силу. В одних случаях Нанна/Суэн сам является источником приносимого им изобилия, в других подлинным источником выступает его отец — Энлиль из Ниппура, который из любви к сыну наделяет его дарами. Плодородие, над которым властвует сам Наина, распространяется на более узкую пастушескую сферу: от него зависит подъем воды, рост тростника, увеличение поголовья скота, обилие молока, сливок и сыра. Плодородие, исходящее от Энлиля, носит более общий характер.
Ряд мифов и песен изображают Нанну, как и Думузи, влюбленным. В одном из аккадских мифов[242] рассказывается, что Нанна любил плавать в лодке с веслами, что он изобрел различные охотничьи приспособления; что, полюбив Нингаль, он сделал ей предложение, соединился с ней и взял в жены, не спросив согласия тестя.
Свойственная Нанне и Нингаль горячность хорошо видна в посвященной им шумерской песне[243]. Начало песни утрачено; по-видимому, она открывается обращением Нингаль, от которого сохранились только самые последние строки. В них она выражает свое страстное желание оказаться в объятиях любимого. Нанна отвечает ей предложением отправиться с ним в прибрежные заросли. Он благоразумно советует ей запастись тростниковой обувью и предлагает утолить голод собранными им птичьими яйцами, после чего она может ополоснуть руки в протоке. Далее Нанна обещает подоить коров и отнести молоко в родительский дом и — о! — если бы только он мог навестить любимую в отсутствие ее матери Нингикуги! Нингаль отвечает, что она придет к нему:
О мой Нанна, жалоба твоей (возлюбленной) сладостна: это жалоба моего сердца.В культе Думузи любовные песни вели к свадьбе бога, праздновавшейся в ритуале священного брака. Во время обряда царь отождествлялся с богом, тогда как верховная жрица выступала воплощением богини. Подобный обряд входил составной частью и в культовый ритуал, связанный с Наиной. Известно, что верховная жрица Нанны в Уре — избранница из царской семьи — считалась земной супругой бога[244]. Она была, по собственному описанию одной из верховных жриц, «лоном, пригодным по святости для отправления службы верховной жрицы»[245]. Ее титул — zirru — является именем Нингаль, поэтому она вполне могла быть ритуальным воплощением богини. Можно предположить, что ритуал священного брака совершался на празднестве Акиту, устраиваемом в честь Нанны в двенадцатый месяц, свидетельством чего являются записи о приношениях, связанных с обрядом «постилания постели»[246].
Изобилие, которое дарует Думузи, часто находило воплощение в свадебных дарах бога или подношениях молока, сливок и прочего — в ответ на просьбу его невесты Инанны[247]. Песня, передающая диалог между Наиной и Нингаль, представляет собой сходный пример[248]. В ней Нанна отправляет с путником любовное послание Нингаль, где перечисляет все свои лакомства из молока и ясно выражает желание, чтобы она соединилась с ним. В своем ответе она, однако, велит ему не спешить. Когда он наполнит реки весенним паводком, прорастит в поле пшеницу, разведет в болотистых протоках рыбу, обновит заросли тростников, пустит в леса оленей, насадит в пустыне деревья, обеспечит сады медом и вином, а огороды — зеленью и ниспошлет долголетие дворцу, — только тогда, по ее словам, она поселится с ним в великолепном обиталище на вершине зиккурата в Уре:
В твой дом наверху, в твой возлюбленный дом, я приду жить; о Нанна, наверх, на твою гору, с кедровым благовонием я приду жить; о владыка Нанна, в твою крепость я приду жить; где коровы телятся, телята множатся, я приду жить; о Нанна, в твое капище Ура я приду жить; о владыка! В твоей постели и я найду себе место!Другая разновидность текстов, в которых Нанна не выступает конечным источником плодородия, но получает главные свои благодеяния в дар от своего отца Энлиля, наиболее выразительно представлена центральным, самым пространным мифом «Путешествие Нанны в Ниппур»[249]. Здесь повествуется о том, что Нанна решает отправиться в Ниппур, чтобы навестить отца, и нагружает лодку всевозможными животными и разными видами деревьев. Плывя вверх по течению от Ура, он минует несколько крупных городов, и богиня каждого из них выходит к нему с приветствиями и благословениями. Наконец он достигает Ниппура, где приказывает привратнику растворить двери храма Энлиля: он явился насытить стада, наполнить корзины птичьими яйцами, присмотреть за тростником на болотах, привести диких свиней и развести разных рыб. Он собирается также наделить множество овец ягнятами, впустив к ним баранов, множество коз — козлятами, впустив к ним козлов, и множество коров — телятами, впустив к ним племенных быков. Привратник радостно открывает ворота, и Энлиль, который счастлив иметь такого сына, готовит для него угощение. Он приказывает подать любимые им пироги, хлеб, налить пива (кушанья, имеющие касательство скорее к земледелию, нежели к скотоводству) и сверх всего наделяет его даром всеобщего благоденствия, с которым Нанна вернется в Ур: это стаи сазанов в реках, урожай на полях, разная рыба в реках, тростники на болотах, растения в высокогорных краях, олени в лесах и долголетие во дворце.
Миф о путешествии Нанны в Ниппур тесно связан с весенним обрядом плавания лодки n i s a g (название обозначает лодку «с первыми плодами»), которая отвозила в подарок первые в году молочные продукты из Ура в Ниппур[250]. Значение этого ритуального акта, по нашему предположению, состояло в религиозном празднике освящения обмена провизией между различными хозяйствами — скотоводов южной дельты и землепашцев севера.
«Путешествие Нанны в Ниппур» — не единственная трактовка этой темы. В хорошо известном гимне в честь Нанны[251] бог воспевается как владыка Ура и городского храма Экишнугаля, проплывающий по небу в лодке, подкрепляясь пивом и наблюдая за бесчисленными стадами коров (здесь это, очевидно, звезды), в то время как его отец Энлиль в Ниппуре, с радостью взирая на него, возносит ему хвалу. Энки в своем храме в Уре поступает точно так же. Гимн заканчивается ликующими упованиями на то, что вода в речных каналах и запрудах может вот-вот подняться — событие, власть над которым гимн приписывает Нанне. Похожая песнь[252] изображает Нанну в виде пастуха, окруженного коровами (также, вероятно, звездами): он снимает с них путы, наливает молоко в чашу и уносит; затем, закончив работу, снова стреноживает коров, гонит их на пастбище и пасет. Его мать Нинлиль просит его прийти в Экур по истечении ночи. Там его окружают лаской и обещают, что отец Энлиль выполнит любое его желание. Нанна/Суэн повинуется, наливает молоко в маслобойку, дает распоряжение об омовении рук перед едой и объявляет, что Энлиль должен вкусить от лучших из его подношений. Песнь заканчивается новым восхвалением Нанны устами Нинлиль.
НИНУРТА - ВОИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ
Нанна принадлежит к тому же поколению, что и другой сын Энлиля — Нинурта, бог грома и весеннего паводка. Поскольку сырой весенний воздух и первые грозы увлажняют почву и создают благоприятные условия для пахоты, понятно, что Нинурта является также богом землепашества. Его имя содержит, видимо, давнее заимствование из лексики, относящейся к сфере культурного обихода, —слово (urta < *hurta < hurt), которое означало, вероятно, «Владыка Плуга». В отличие от Нанны, культ которого был распространен прежде всего среди пастухов, Нинурта — прежде всего бог землепашцев: у земледельцев севера в Ниппуре и на востоке в Нгирсу он становится первенцем Энлиля, вытесняя Нанну.
Птица грома
Первоначально внешний облик Нинурты представлялся как грозовая туча, которая рисовалась мифотворческому восприятию громадной птицей, парящей в небе с распростертыми крылами. Так как громовые раскаты могли исходить не иначе как из львиной пасти, птица издревле была наделена головой льва. Обыкновенно бог нарекался по названию явления, нуминозную силу которого составлял: в данном случае он получил имя Имдугуд — «Проливной дождь». Поскольку im-dugud может означать также «камень из пращи» или «катышек глины»[253], то здесь, возможно, имеется указание — хотя бы посредством народной этимологии — на ливень с градом. Любопытный пережиток этого неантропоморфного облика бога сохранился в «Эпосе о Лугальбанде»[254], где герой встречается в восточных горах с богом-птицей.
Хотя и птица, Имдугуд приходится Энлилю сыном в той же мере, что и позднейшие антропоморфные образы, Нинурта или Нингирсу. Как Нинурта в эпосе «Lugаl-e» воздвигает ближние горные кряжи, служащие защитной стеной, наглухо запирающей страну, точно так же по велению Энлиля Имдугуд тесно сдвигает горы, «как дверные створки» на границе; Имдугуд — так же, как и Нинурта, — выносит непререкаемые решения.
Возрастающее ощущение того, что для зрительного представления облика бога пригодна только антропоморфность, вызвало в случае с Имдугудом ряд трудностей. В районе Диялы уже во Втором Раннединастическом периоде[255] на печатях изображается бог-птица с человеческим туловищем, а на круглом изображении бог выступает в человеческом облике; бог в образе птицы сводится к скульптурной эмблеме. Процесс антропоморфизации протекал медленно и неравномерно. В Нгирсу во время правления Эаннатума в конце Третьего Раннединастического периода палица, посвященная антропоморфному богу «Владыке Нгирсу», все еще изображает дарителя, Багаркибу, в позе поклонения перед птицей грома. Более позднее свидетельство: когда Гудеа увидел во сне своего господина Нингирсу, бог предстал ему с крылами Имдугуда, а нижняя часть его тела переходила в низвергающийся поток воды[256]. Наконец, в ассирийский период, уже в I тысячелетии до н. э., рельеф Ашшурнацирапала, украшавший храм Нинурты в Нимруде, изображает бога в человеческом облике, но с крыльями. Знаменательно, что бог поражает громовыми стрелами свой собственный прежний облик — вариант птицы с головой льва, крылатого льва-птицу[257].
Затянувшееся соперничество между антропоморфным и неантропоморфным образом становилось все острее. форма, лишенная человеческих черт, изживалась трудно, и это порождало все большие проблемы. Она была низведена до статуса простой эмблемы — символа бога. Однако когда бог отправлялся на войну вместе с войском или же когда на судебном разбирательстве, принося клятву, следовало коснуться бога, использовалась именно эмблема, прежний, неантропоморфный облик. Под конец антипатия к неантропоморфному образу и трудности его изживания превратили его в противника, плененного врага. Образ птицы Имдугуд вступает в конфликт с человеческим образом Нингирсу или Нинурты, который берет его в плен во время сражения в горах[258]: аналогично, в человеческом облике, бог пресных вод Энки/Эйя берет в плен Апсу, подземный океан пресных вод — собственный неантропоморфный древний облик.
Царь-воин
Очеловечивание внешнего облика бога грозы сопровождалось социализацией облика внутреннего. Гром и молния — явления, протекающие бурно. В раскатах грома древним слышался не только львиный рык или рев быка: подчас им чудился в них грохот боевой колесницы, а удар молнии представлялся выпущенной стрелой, блеснувшей на солнце. Так, Нинурта/Нингирсу, взяв в плен свой птичий облик во время сражения в горах, привязывает его впереди своей боевой колесницы и мчится по небу; дождь же, как мы видим на древневавилонских цилиндрических печатях, изливался из птичьего клюва[259]. Очеловеченный образ бога — победителя-колесничего — стал воплощением военного вождя, царя. Царский сан, как таковой, в то время только зарождался. Этот сан, однако, уже дал метафорическую основу и ключ к общественному значению нуминозной силы грозы, которая превратилась, подобно новоявленному царю, в защитника от внешних врагов, карающего также и неправду внутри государства. В последующих III и II тысячелетиях именно эти аспекты Нинурты доминировали в гимнах и молитвах. Его роль приносителя дождя, паводков и плодородия отошла на второй план[260].
Мифы о боге дождя
В мифах о Нинурте сохраняется характер бога как природной силы. Миф «Аn-gimdím-ma» («Кто значит столько же, сколько Ан»[261])[262] в основе своей является заклинанием для умиротворения гроз, представлявших опасность для Ниппура. Здесь описывается воитель грозовых туч, Нинурта, который возвращается с битвы на своей военной колеснице, полный «шума и ярости». Встревоженный Энлиль посылает своего советника Нуску встретить Нинурту и велеть ему вести себя потише, чтобы не беспокоить отца. Нинурта откладывает в сторону оружие, отводит в конюшню коней и входит в Экур, где при его появлении Ануннаки смолкают. Мать Нинурты Нинлиль ласково приветствует сына, в ответ он разражается длинной хвастливой речью, превознося свои военные доблести. В конце концов входит бог Нинкарнунна, цирюльник Нинурты, успокаивает хозяина и сопровождает его в его храм — Эшумеша.
Самый пространный и наиболее известный миф о Нинурте «Lugal-e ud me-lám-binir-gál» («Царь, буря, слава[263] которой благородна»)[264] также изображает бога как силу природы, однако в очеловеченном виде — юным царем и воином. Природные события, составляющие основу мифа, — это, очевидно, приход весной первых гроз, которые разражаются над горами, и таяние снегов, вызывающее паводок на Тигре. Миф изображает бушевание гроз в горах как битву между Нинуртой и царем-соперником Азагом, имя которого, как и имя неантропоморфного образа Нинурты — Имдугуд, значит «Камень из пращи», т. е., по всей видимости, как указывалось выше, обозначает град. Азаг является, таким образом, не чем иным, как прежней формой бога в виде птицы-льва, выступающей его врагом в облике крылатого льва, каким он представлен на упоминавшемся выше ассирийском рельефе. После победы над Азагом Нинурта переустраивает завоеванные территории. Миф очеловечивает нуминозную силу ежегодного паводка, наделяя ее чертами юного царя, предпринимающего крупные ирригационные работы:
В ту пору воды, выходящие из-под земли, не проливались на поля; (нет!), подобно льду, что накапливался долго, они дыбились по ту сторону гор. Боги той страны, где они жили, носили мотыги и корзины, — такая работа была им предписана; то, что они откололи сначала (от них), они пролили на поле. Тигр, которому великий удел (был определен?), не поднимался в паводке, не устремлялся он прямо к морю, неся пресные воды. На берегу никто не окунал (?) ведра, в жестокий голод не было пропитанья, каналы никто не чистил, не отчищал от ила, на плодородное поле вода не проливалась, никто не строил плотин. В стране, за страной не садили в борозды, сеяли вразброс[265].Чтобы исправить все это, Нинурта воздвигает неподалеку каменную стену — горные кряжи, которые защитят страну и послужат одновременно плотиной, для того чтобы не дать водам Тигра уйти на восток.
Повелитель в этом проявил великое разумение — Нинурта, сын Энлиля, действовал ловко. Он нагромоздил камни в горах — словно низкие дождевые тучи они явились, (паря) на распростертых крылах — запер страну высокой стеной. Повсюду расставил он колодцы с журавлями. Этот воитель был искусен, орошал (?) города поровну. Могучие воды устремились вдоль камня. Теперь эти воды не поднимались от земли к вечным горам. Что было рассеяно — он собрал, что было в горах поглощено болотами, он собрал и кинул в Тигр, направил паводок на поля[266].При виде изобильного урожая, собранного с орошенных земель (ячменя, садовых плодов и целых гор продовольствия), боги и цари всей страны ликуют и возносят хвалу Нинурте перед его отцом Энлилем. Мать Нинурты, Нинлиль, тоскующая о сыне, решает навестить его — и обрадованный Нинурта преподносит ей в подарок изготовленную им громадную каменную глыбу, которую наделяет всевозможными растениями, живностью и полезными ископаемыми, и дает ей имя — hursag. Так Нинлиль становится Нинхурсаг — «Владычицей лесистой горы». Миф заканчивается подробным описанием того, как Нинурта вершит суд над различными камнями: они составляли воинство Азага. Он вознаграждает тех из них, что вели себя достойно, и назначает их на различные посты в своей новой администрации, однако сурово наказывает тех, что проявляли к нему особую враждебность. Так камни получили свои свойства. Кремень, к примеру, осужден на то, чтобы ломаться при нажиме гораздо более мягкого рога — как в действительности и происходит.
Нуминозная сила паводка
Миф «Lugal-e» в существующем ныне виде датируется, на основании внутренних критериев, эпохой правления Гудеа или немного более поздним временем. Он является характерным свидетельством того, как медленно протекал процесс антропоморфизации богов и с какой легкостью сосуществовали различные стадии этого процесса: представленная в «Lugal-e» вполне очеловеченная картина современна «сну Гудеа», в котором, как упоминалось выше, бог являлся «птицей Имдугуд, если судить по крыльям; если судить по нижней части тела — паводком»[267]. Еще более разительным является пример, когда бог предстает перед молящимся Гудеа (текст цитировался нами выше для иллюстрации сферы применения метафоры правителя; теперь мы возвращаемся к нему, чтобы указать на все еще значительную роль метафор с неантропоморфными образами): Нингирсу здесь — просто красноватые воды притоков, с шумом низвергающихся с гор. Это — семя, извергнутое «Великим Утесом» восточных нагорий (kuг-gal) в предгорья (hursag[268]); красноваты они от крови, вызванной дефлорацией:
О мой хозяин Нингирсу, властитель, семенные потоки окрасились кровью при лишении девства, всесильный властитель, семенные потоки, извергнутые «Великой Горой» (Энлилем)...[269]Напор потока передает мощную божественную сущность:
Твое сердце вздымается, словно (волны) в открытом море, разбивается в брызги, словно буруны; устремляется с ревом, как вода (сквозь пролом в дамбе), города разрушает, словно волна потопа[270].Наряду с «Lugal-e» следует назвать еще один шумерский мифологический текст, от которого до нас дошла лишь середина: он не слишком примечателен в литературном отношении, однако интересен сам по себе[271]. В начале сохранившегося отрывка Нинурта, по всей видимости, одержал победу над юной птицей Имдугуд, следуя наставлениям Энки. Птица Имдугуд держала в когтях божественные силы, необходимые для получения власти над Апсу, и Нинурта надеялся, одолев птицу, завладеть ими. Однако, когда Нинурта поразил птицу оружием, от боли она разжала клюв, и божественные силы сами возвратились к Энки в Апсу. Изображенная ситуация настолько близка сюжетной схеме, изложенной в аккадском мифе «Нинурта и птица Анзу»[272], что можно предположить существование общей для этих сказаний мифологической основы. В аккадском мифе птица Анзу похитила у Энлиля таблицы судеб и улетела в горы. В шумерском сказании эти таблицы похищены, по-видимому, у Энки. В обоих случаях Нинурта (по совету Энки) побеждает птицу во время сражения в горах, однако известная нам часть аккадского сказания на этом обрывается. В шумерском сказании птица уносит Нинурту, обманутого в его ожиданиях, обратно к Абзу. Там Энки приветливо встречает его, осыпает похвалами и отдает ему птицу как пленника. Однако все это не удовлетворяет тщеславного сердца Нинурты. Он возвращается на свой пост в Абзу и окрашивает волну в темный и желтый цвет, делая ее сердце мятежным и обращая ее лик против целого света. Хотя Нинурта держал свои намерения в тайне, проницательный Энки каким-то образом узнал о происходящем, и, когда чудовищная волна половодья обрушилась на храм Апсу, он послал к Нинурте своего советника. Нинурта, однако, не поддался на уговоры и отказался выйти. Тогда Энки прибег к хитрости. Он создал черепаху, поместил ее у входа в Апсу и, солгав, объявил Нинурте, что его пост передан черепахе. Нинурта вышел наружу, черепаха ловко зашла ему за спину, быстро вырыла яму и сбросила туда Нинурту. Энки делает его мишенью для язвительных насмешек:
Ты преследовал мои силы в горах, нашел их там, ты восстал против меня, замыслив меня убить! Хвастливых выскочек я подавляю или даю им волю (по собственному усмотрению); как ты посмел восстать против меня? Разве я отнял у тебя что-нибудь? Куда девалась твоя мощь, где твоя доблесть? Он привык сокрушать горы — теперь же, поистине: «Увы!»[273]Дошедший до нас отрывок заканчивается тем, что мать Нинурты узнает о случившемся и горько оплакивает сына, пострадавшего от жестокости Энки. Можно предположить, что далее рассказывалось о том, как ей удалось в конце концов добиться освобождения сына.
Здесь мы вновь встречаемся с темой круговорота воды и весенних гроз в горах: сначала вода исчезает, испаряясь из Апсу, и принимает форму облаков (птица грома Имдугуд/Анзу), затем птица скрывается — дожди идут в горах; далее потоки воды, питаемые дождями, реками устремляются к Апсу в Эреду и к болотистым заводям: в мифе это представлено как возвращение Нинурты в Апсу с птицей грома и сотворение им темно-желтых вод паводка.
Наконец, убывание паводка и понижение уровня воды в летнее время соответствует ввержению Нинурты в пропасть. Героем мифа является Энки, которому удается захватить власть над водами: сначала грозовых ливней — над Имдугудом, затем паводка — над Нинуртой.
Точка зрения, изложенная в данном мифе (который явно на стороне Энки), не является, однако, единственно возможной: в других текстах мы находим иные воззрения на описываемые природные процессы. Поход Нинурты на Апсу и в Эреду, направленность паводка вниз по течению рек рассматривались почитателями Нинурты не как попытка низложить Энки, но как исполнение высшего долга ради обеспечения плодородия и изобилия. Культ бога включал в себя шествие в Эреду из Нгирсу, где бог именовался Нингирсу[274], и из Ниппура, где его называли Нинуртой.
В обоих случаях бога, по всей вероятности, везли в виде статуи или, возможно, культовой эмблемы. В гимне из Ниппура, воспевающем ритуальную процессию, о ее цели говорится достаточно ясно:
Чтобы решать, как наступить изобилью, чтобы повсюду шли в рост могучие побеги, чтобы травы и злаки зеленели в широкой степи, чтобы буйволицы давали молоко и сливки в хлеву и загоне, радуя пастуха, — воитель Нинурта положил отправиться в Эреду, чтобы Тигр и Евфрат шумели, чтобы Апсу дрожал (?), пучина содрогалась, чтобы в болоте водилась рыба «хи-сухур» и «сухур-маш», старый и молодой тростник, первые сливки, всякая живность в зарослях, животные плодились и размножались, всякая тварь в степи, ... оленей и диких овец в лесах, ......................................................................... и следить, чтобы блюлись обряды Шумера, распорядок для всех земель сохранялся...[275]В приведенном тексте Энки словно и не существует; все описанное свершается волей Нинурты, с одобрения Ана и отца Нинурты — Энлиля.
УТУ - ПРАВЕДНОСТЬ
К поколению, следующему за Суэном и Нинуртой, принадлежат трое детей Нанны/Суэна — Уту, Ишкур и Инанна. Уту — бог солнца, нуминозная сила света, враг тьмы и темных деяний. В социальной сфере он становится соответственно божеством справедливости и истины.
Гимны и молитвы однозначно рисуют Уту божественной силой в природе, приводящей день и рассеивающей мрак: мифотворческое воображение наделяет его упряжкой быстрых мулов (первоначально бурь), колесницей и возничим для ежедневного путешествия по небу[276]. Однако в целом важнейшая функция Уту заключается в том, что он — блюститель справедливости. Уту — судья богов и людей, восседающий утром в суде (подобная роль известна нам по ритуалу «Купель»), где демонам и другим злоумышленникам предъявляют иск их жертвы из числа смертных.
По ночам Уту улаживает тяжбы мертвых обитателей подземного мира[277]. Уту — последнее прибежище обиженных, отчаявшихся добиться справедливости от своих собратьев: их вопль «i-Utu!», обращенный к нему, внушал страх, как обладающий сверхъестественной силой. В одном из сказаний о Гильгамеше[278] этого призыва оказалось достаточно, для того чтобы разверзлась земля и любимые предметы забавы Гильгамеша провалились в подземный мир. Неудивительно поэтому, что приобрел он нежелательный оттенок как выражение «недовольства» и цари Третьей династии Ура, а также Исинской династии упорствовали в стремлении искоренить его как социальное зло.
ИШКУР - БУРЯ
Брат Уту, Ишкур — аккадский Адад — был, подобно Нинурте, богом дождей и грозовых ливней. Мы даже располагаем текстом, в котором он, как и Нинурта в «An-gim dim-ma», шумным приближением к Ниппуру встревожил покой Энки, и потому его просят удалиться[279].
Если Нинурта со всей очевидностью является богом земледельцев, то Ишкур принадлежит, несомненно, пастушеству: он — «Царь изобилия», «Царь зелени» и «Царь, дающий пышный рост травам и растениям»[280], — иными словами, Ишкур приносит дожди, способствующие пышности пастбищ в степи. Подобно другим персонификациям животворных весенних дождей, мифы, связанные с Ишкуром, отражают тревогу древних при раннем прекращении дождей: так, миф, сохранившийся в копии периода Аккаде, изображает пленение бога в горах[281].
Ранние, неантропоморфные, обличья Ишкура — бык и лев (их рев слышится в раскатах грома). Очеловеченный, он предстает, подобно Нинурте, в виде воителя, который проносится по небу в грохочущей колеснице, меча вниз из пращи большие и мелкие камни — градины и капли дождя. В колесницу запряжены семь бурь; советник Ишкура, молния, «идет перед ней»[282]. Неудивительно, что мантия Ишкура стелется по земле, «подобно одеянию»[283], и его воинственный клич нарушает покой других богов и внушает им страх.
Помимо традиции, изображающей Ишкура сыном лунного бога Нанны/Суэна, существует и другая, согласно которой он приходится сыном богу неба Ану и братом-близнецом Энки. Во многих отношениях такое родство кажется более естественным, однако нет никаких данных для определения времени возникновения этой альтернативной традиции или же места ее прохождения[284].
ИНАННА - БЕСКОНЕЧНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
Нуминозная сила кладовых
Сестра Уту и Ишкура, третий ребенок Наины, богиня Инанна (аккадское «Иштар») в некоторых отношениях — самая интересная фигура шумерского пантеона. Мы уже описывали ее как невесту и молодую жену Думузи-Амаушумгальанны. Мы указали тогда, что по происхождению она является нуменом закромов с финиками и вступает в брак с Амаушумгальанной, владыкой урожая фиников, в ту пору, когда урожай убирается на хранение; очень рано ее власть распространилась на кладовые в целом, в том числе на хранилища шерсти, мяса и зерна.
Частично здесь отражен, по-видимому, процесс постепенной унификации культов плодородия, характерных для двоякого хозяйства Урука, — выращивания финиковых пальм и землепашества, процесс стирания различий между богом фиников и богиней закромов (Амаушумгальанной и Инанной), с одной стороны, и другими пастушескими божествами, Думузи и Инанной (предположительно богиней дождя), — с другой. В действительности Инанна обладает таким множеством аспектов, помимо тех, которые характеризуют ее в связи с Думузи (причем весьма разнородных по сути), что невольно возникает мысль о том, что в один многогранный образ богини Инанны слилось несколько изначально несходных божеств.
Нуминозная сила дождей
Совершенно очевидно представлен в имеющихся памятниках аспект Инанны как богини грозы и дождя, достаточно близкой по характеру к своему брату, Ишкуру, и к Нинурте. Как и Нинурта, она обладает властью над птицей грома с львиной головой — Имдугудом. Мы узнаем, что Инанна выпускает ее из дома[285], а в сказании «Энмеркар и Владыка Аратты» птицу называют «уздой Инанны, наложенной на уста всего мира»[286]. В этом сказании Инанна вынуждает город Аратту подчиниться Уруку тем, что, прекратив дожди, обрекает город на засуху. Лев — типичный облик или эмблема бога грома (Ишкура и Нинурты) — связывается и с Инанной. В ее колесницу запряжено семь львов, она правит львом или же сама принимает облик льва[287]. Другое соотнесенное с громом животное — дикий бык, которого передает Инанне, хотя и с большой неохотой, Ан, когда ей требуется «Небесный Бык», чтобы убить Гильгамеша[288]. О характере Инанны как нуминозной силы грома прямо говорится в начальных строках основного гимна — славословия Инанне[289], где она именуется «Инанной великой, ужасающей небесной бурей». Энхедуанна, дочь Саргона Аккадского, в своей молитве Инанне обращается к ней так:
О разрушительница гор, ты наделила крыльями бурю! О возлюбленная Энлиля, ты прилетела в страну, исполняя веления Ана. О моя госпожа, ты своим рыком заставляешь земли склоняться низко[290].Далее в том же тексте говорится:
Ты являешься с натиском урагана, ты завываешь с воющей бурей, ты издаешь рык с Ишкуром, свирепствуешь со всеми злыми ветрами![291]В другом гимне Инанна более сдержанно обрисовывает свой образ богини дождя:
Я ступаю по небесам, и дождь проливается вниз; я ступаю по земле, и травы и злаки идут в рост[292].Однако бурные взрывы ее гнева — самая настоящая буря, когда гром сотрясает небо и землю, а молния вызывает пожары и разрушения. Ее ярость, вызванная безвременной смертью царя Ур-Намму, описана следующим образом:
Инанна, свирепая буря, старшее дитя Суэна, что она сделала? По ее воле небеса сотрясались, земля содрогалась; Инанна разрушала хлевы, сжигала овчарни (с воплем) «Да падет хула на Ана, царя богов!»[293]Этот аспект Инанны как богини дождя помогает понять постоянство традиции, делающей ее невестой бога небес Ана — вплоть до отождествления ее с Антум[294]. Как мы видели ранее, Ан (аккадское «Антум») выступал и как женское соответствие небосвода, покрытого тучами — «грудями небес», из которых изливались потоки дождя. Антум и Инанна олицетворяют одно и то же самое природное явление — нуминозную силу дождевых туч. К традиции, представляющей Инанну богиней дождя, примыкает также миф «Затмение», о котором мы говорили выше[295]. В нем Инанна участвует в нападении Ишкура и бурь на отца, лунного бога, поскольку она намеревается стать женой Ана и, следовательно, небесной царицей (фактически «царица небес» — это одно из истолкований ее имени). Тем же настроением проникнут и поздний миф «Возвышение Инанны»[296]. Здесь боги предлагают Ану взять замуж Инанну, «которую ты полюбил», на что он охотно дает согласие. Он также передает ей свое имя и все свое могущество. Вслед за ним то же самое делает и Энлиль, и, наконец, Энки следует их примеру. Став царицей вселенной, Инанна соединяет в себе все высшие силы мироздания.
Богиня распри
В процессе антропоморфизации наблюдалась тенденция представлять богов грозы и дождя — как мы видели это на примере Ишкура и Нинурты — воителями, несущимися на своих колесницах в битву. Соответственно мы обнаруживаем, что воинственный нрав Инанны и ее искусное владение оружием воспеваются, начиная с ранних мифов, в одном из которых рассказывается о ее сражении с горой Эбех[297](современная горная гряда Джебель-Хамрин); в числе более поздних памятников — миф «Возвышение Инанны» и надписи ассирийских царей. Битва, в сущности, была для шумеров «пляской Инанны»[298], о чем она сама с гордостью заявляет в следующем гимне:
Когда я стою на (переднем) краю битвы, я — предводительница всех земель; когда я стою перед началом битвы, я — колчан наготове; когда я стою посреди битвы, я — сердце битвы, рука воинов; когда я ступаю к концу битвы, я — злобный прилив крови; когда я иду по пятам за битвой, я — женщина, (призывающая отставших): — Вперед! Догоните (противника)![299]Инанна прославляет свое могущество богини грозы и распри в следующих горделивых строках:
Мой отец дал мне землю, дал мне небо, я — Инанна! Царственность он дал мне, ведение войны он дал мне, нападение он дал мне, потоп он дал мне, ураган он дал мне! Небеса возложил он венцом мне на главу, землю он надел как сандалии мне на ноги, священное одеяние он обернул вокруг моего тела, священный скипетр вложил мне в руку. Боги — это воробьи, а я — сокол; Ануннаки едва ковыляют — я прекрасная дикая буйволица; я — прекрасная дикая буйволица моего отца Энлиля, его прекрасная дикая буйволица, пролагающая путь![300]Утренняя и вечерняя звезда
Инанна — не только богиня дождя и богиня распри, но и богиня утренней и вечерней звезды. Примечателен гимн, относящийся к эпохе Иддин-Дагана из Исина[301], славословящий Инанну, когда она восходит на утреннем небе. Здесь рассказывается, как ежемесячно в новолуние Инанна устраивает прием в честь богов — выслушивает прошения; для нее играет музыка, и стражники из ее свиты разыгрывают военные представления, которые завершаются потешным парадом пленников — и, возможно, отнюдь не шуточным кровопролитием. Далее гимн описывает Инанну как вечернюю звезду, чей восход означает конец дневного труда для всего живущего. Все могут отправляться на отдых, тогда как она, сияя в небе, судит, кто прав и кто виноват.
С зарей Инанна — утренняя звезда оповещает всех о пробуждении. Для нее совершаются обильные жертвоприношения, и личные боги смертных приближаются к ней с дарами — едой и питьем. Заключительные песни гимна, проанализированного в гл. 2, занимает описание ежегодного ритуала священного брака, в котором царь отождествляется с Амаушум-гальанной, ее божественным женихом.
Приведем песнь, воспевающую богиню как восходящую утреннюю звезду: Великую царицу небес, Инанну, я воспою! Единственная, явись в вышине — восславлю тебя! Великая царица небес, Инанна, — восславлю тебя! Ясный факел, пылающий в небе, свет небесный, блистающий ярко, как сияние дня; великая царица н ебес, Инанна, — восславлю тебя. Священная, внушающая благоговение царица Ануннаков, тебя одну почитают в небесах и на земле, увенчанную великими рогами, старшее дитя Суэна, Инанна, восславлю тебя! Ее могущество, ее величие, ее торжественный великолепно-пышный выход на вечернее небо, ее сияние в небе — ясного факела — ее положение на небесах, точно как у луны и солнца, известное во всех странах от юга до севера, величие священной госпожи небес, владычицу я воспою[302].Блудница
Вечерние часы, после работы и перед сном, отводятся играм и танцам. В гимне мимоходом упоминается об этом при описании отхода людей ко сну:
Плясавший со всеми, участник празднества, юный герой открывает сердце (в постели) своей возлюбленной[303].Вечерние танцы изображаются предметом благосклонного интереса богини в отрывке из «Эпоса о Лугальбанде», повествующем о том, как Инанна, взошедшая на небосвод вечерней звездой, посылает свои лучи в пещеру, где лежит больной юноша Лугальбанда. Поэт описывает добрую заботу богини следующим образом:
Чтобы путь осветить к пляскам бедным людям, залив (своими лучами) зеленую лужайку, и устроить приятный отдых в уголке укромном блуднице, идущей к корчме, подняла Инанна, дочь Суэна, словно танцовщица, (гордо) голову над землей[304].Отметим, что здесь присутствует и другая характерная примета вечера — блудница, высматривающая себе клиентов среди работников, которые возвращаются с поля; вероятно, привычное появление блудницы одновременно с вечерней звездой послужило основой для возникновения ассоциативной связи между ними[305]. Инанна — покровительница блудниц, а также корчмы, возле которой они промышляют. Более того, сама вечерняя звезда — тоже блудница, выходящая в небесах на промысел: ее нуминозная сила одухотворяет сестер Инанны внизу, делая их воплощением богини, а их случайных спутников — воплощениями ее жениха Думузи. Гимн обращает к Инанне следующие слова:
О блудница, ты направляешься к корчме, О Инанна, ты собираешься встать у окна (на привычном месте) (зазывать) любовника — о Инанна, владычица множества деяний, ни один бог не может соперничать с тобою! Нинегаль, здесь твое обиталище, позволь мне сказать о твоем величии! Как пыль, (поднятая) стадами, оседает слоями, когда волы и овцы возвращаются в загоны и овчарни, ты, моя госпожа, одеваешься, словно безвестная, в единственное платье; бусы — (знак) блудницы ты надеваешь себе на шею. Это ты окликаешь мужчин из корчмы! Это ты бросаешься в объятия своего жениха Думузи! Инанна, семь твоих брачных спутников укладывают тебя на ложе[306]!Иштар
Примечательно, что рассмотренные аспекты богини — богиня дождя, богиня распри, богиня утренней и вечерней звезды — слиты также в аккадском и общесемитском божестве Иштар, с которым отождествлялась Инанна. Иштар — ее имя через промежуточную форму Eštar восходит к *‘Attar — соответствует западносемитскому богу утренней звезды Астару, который был также божеством дождя полузасушливых районов, где земледелие возможно только с помощью ирригации. Соответственно в западно-семитской мифологии, когда Астар вознамерился занять место мертвого Баала, бога дождя районов с естественным орошением, он оказался слишком мал для трона Баала[307]. Женская параллель Астара — Астарта (раннее ‘Attart), богиня вечерней звезды, была богиней войны, а также богиней чувственной любви[308]. Наши сегодняшние знания не позволяют однозначно решить вопрос о том, действительно ли совпадение функций (богиня дождя, распри, любви) послужило основой отождествления Инанны с аккадской Иштар в исторические времена и тогда указывает на возможное семитское происхождение Инанны или же, что более вероятно, — всего лишь на близкое сходство особенностей их обеих.
Многообразие и противоречия
Итак, мы рассмотрели Инанну как нумен закромов, как богиню дождя, как богиню войны, богиню утренней и вечерней звезды и богиню блудниц. Однако это еще не все. Власть ее простирается буквально на все сферы, и ее по праву называют «Nin-me-ˇs'аr-ra («Владычица мириад обязанностей»[309])[310]. В круг ее обязанностей входит как разжигание костров, так и тушение огня; она вызывает слезы и восторг; она становится причиной вражды и честных дел и так далее[311]. Также:
Докучать, оскорблять, попирать, осквернять
и чтить — в твоей власти, Инанна.
Уныние, бедствие, горе
и радость, и ликование —
в твоей власти, Инанна.
Опаска, испуг, ужас —
сияние и слава — в твоей власти, Инанна[312].
Примечательно, что в этом смешении противоречивых черт процесс очеловечивания мифов и сказаний смог отыскать как бы внутреннее единство и представить их бесконечное разнообразие всего лишь различными проявлениями одной и той же внушающей веру божественной фигуры. И тем не менее как раз так и обстояло дело. А то, что не могло быть абсорбировано или казалось второстепенным, стало обязанностями богини, но не чертами ее характера.
Мифы
В эпических сказаниях и мифах Инанна предстает прекрасной, порядком своенравной юной аристократкой. Мы видим ее очаровательной, слегка капризной младшей сестрой, взрослой дочерью (хотя, возможно, слишком торопящейся использовать свои преимущества); она составляет предмет неусыпной заботы со стороны старших, поскольку склонна к импульсивным действиям, несмотря на серьезные предупреждения о том, что это может плохо кончиться. Мы видим ее возлюбленной, счастливой невестой, охваченной горем юной вдовой. Мы видим ее, в сущности, во всех ролях, которые может играть женщина, за исключением двух, требующих большей зрелости и чувства ответственности. Инанна никогда не изображается ни женой и помощницей, ни матерью.
В качестве младшей сестры Инанна фигурирует в том сказании[313], где ее брат Уту, бог солнца, находит ей подходящего мужа — пастушеского бога Думузи, но обнаруживает, что Инанна и не помышляла выходить замуж за пастуха: ее муж должен быть земледельцем, и вот он земледелец. В другом рассказе, как послушная дочь, она навещает своего деда Энки в Эреду[314]. Энки, обрадованный встречей со внучкой, устраивает для нее пышный прием, на котором выпивает лишку и в приливе щедрости наделяет Инанну божественными силами (me). Проснувшись утром с похмелья, он видит, что Инанна исчезла вместе с божественными силами. Инанна попадает в куда более серьезную переделку, когда вознамеривается завладеть страной мертвых и лишить власти свою могущественную старшую сестру Эрешкигаль[315]. Как описывалось выше, Инанна одна отправляется в подземное царство, однако терпит полное поражение. Старшим родственникам с большим трудом удается вызволить ее и вернуть к жизни, в чем преуспевает ее мудрый дед Энки. Вернувшись на землю, она видит, что Думузи не выказал достаточно сильного страдания от того, что лишился супруги, и в порыве прямо-таки детского гнева передает его как свою замену в руки посланцев из подземного мира.
С большими основаниями Инанна пытается убить Гильгамеша после того, как он отверг ее[316], заставив своего деда Ана передать ей на время свирепого Небесного Быка и угрожая в случае отказа выломать ворота подземного мира и выпустить оттуда всех умерших в мир живых.
Сдержанность и скромность, приличествующие воспитанной юной девушке, плохо даются Инанне. Ей ничего не стоит тайком ускользнуть на любовное свидание в тростники[317]. Ее возлюбленный молит:
Голов у нас две, ног у нас четыре; ............................................................... О моя сестра, если я обнимал тебя в тростниках, если я целовал тебя там, чей взор выследить мог нас? Дева Инанна, если я обнимал тебя в тростниках, если я целовал тебя там, чей взор мог нас выследить? Та одинокая птица в небе (выследила)? Дай мне убить ее! Та одинокая рыба в протоке (выследила)? Дай мне убить ее! Если пожелаешь, я лягу с тобой — как в былые дни, если пожелаешь, богиня? Инанна, если ты пожелаешь, я лягу с тобой — как в былые дни, если пожелаешь, богиня?И Инанна отвечает ему:
Я царица, богиня, сижу с юношей, как в былые дни, я, лентяйка! Меня, проводящую время с юношей, как в былые дни, меня моя мать не отыщет!Инанна требует, чтобы все свершалось немедленно. Она с силой швыряет все, что попало, в ворота подземного мира и угрожает сломать их, если привратник не поспешит ее впустить[318]. Пораженная красотой героя Гильгамеша, она тотчас предлагает себя ему в жены[319]. Гильгамеш, надо сказать, обнаруживает еще меньшую воспитанность, когда подробно перечисляет, почему на нее нельзя полагаться: он называет ее сандалией, жмущей ногу того, кто ее носит; жаровней, что гаснет в холод, когда она всего нужнее; дверью черного хода, впускающей ветра и бури; а для большей убедительности называет шестерых ее любовников (не считая Думузи), которых постигло несчастье по вине Инанны.
Во всем этом есть нечто характерное для Инанны. Она губит тex, кого любит, или по крайней мере приносит им несчастье. В рассказе о ее нисхождении в преисподнюю и в упреках, которыми осыпает ее Гильгамеш, на нее возлагается прямая ответственность за причиненное зло. В других сказаниях дело обстоит иначе: Инанна ни в чем не виновата, однако тех, кого она любит, настигает гибель. Так, ее юного супруга убивают разбойники, когда он пасет в пустыне овец, или же он тонет в разлившейся реке, а Инанна идет в пустыню оплакивать его мертвое тело. Аура смерти и погибели окружает ее.
Итак, в образе Инанны возник необычайно интересный и смелый характер — настолько достоверный, что природная его основа постепенно перестала ощущаться. Нуминозное божество закромов, обреченное на утрату молодого супруга — содержащихся в них запасов, все менее и менее ощущается за утратой Инанной мужей и любовников. Нуминозная сила природной грозы меркнет перед яростным темпераментом Инанны. Вечерняя звезда, восходящая на небосвод одновременно с появлением блудниц у корчмы, — словно одна из них; неукротимая похоть случающихся животных в стаде уже недостаточна для объяснения вольного нрава Инанны и свободы ее увлечений. А ее поспешное бегство с «божественными силами» из Эреду так характерно, что отпадают все дальнейшие вопросы о причинах внутреннего присутствия нуминозной силы Инанны за разнообразием сотни или более различных ее обязанностей, так подробно описанного в мифах. Инанна стала воплощением подлинной женственности, обладающей бесконечным разнообразием проявлений.
5. МЕТАФОРЫ ВТОРОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ. БОГИ КАК РОДИТЕЛИ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЛИЧНОЙ РЕЛИГИИ
ЛИЧНАЯ РЕЛИГИЯ
Термины, насыщенные эмоциональным содержанием, призванные обозначить сокровенные движения души, редко обладают точностью: от них и нельзя ее требовать, поскольку то, чему пытаются дать определение, имеет субъективную природу — всякий раз особенную.
К таким терминам относится и термин «личная религия» в заглавии данного раздела: разные люди неизбежно вкладывают в него различный смысл, поэтому необходимо сразу оговорить, какой смысл в этот термин вкладывается нами. Под «личной религией» мы понимаем особое, легко обнаруживаемое религиозное состояние, в котором религиозно настроенный индивидуум воспринимает самого себя в тесной непосредственной связи с божественным, ожидает помощи и руководства свыше в своих жизненных делах, опасается гнева божества и суровой кары за свои прегрешения, однако неколебимо верит в божественное участие и всемилостивое прощение в случае искреннего раскаяния. Вкратце: каждый человек небезразличен Богу, Бог опекает каждого. Несколько характерных примеров проиллюстрируют такую позицию яснее любых описаний. Все они взяты из религиозной литературы Израиля, Египта и Месопотамии и датируются I тысячелетием до н. э. (египетский текст — более раннего происхождения). Приведем отрывок из Псалтири (24: 4—7):
Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою и научи меня; ибо Ты Бог спасения моего; на Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай; по милости Твоей вспомни меня Ты, ради благости Твоей, Господи!Здесь содержатся все основные элементы названного нами религиозного состояния: божественное водительство («Направь меня на истину Твою и научи меня»), боязнь божественного гнева и наказания за грехи («Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай»), вера в божественную милость («ради благости Твоей, Господи»).
Еще более бурное выражение эти чувства находят в 38-м псалме: Господи! не в ярости Твоей обличай меня и не во гневе Твоем наказывай меня, ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего; нет места в костях моих от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне, смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем поник; весь день сетуя хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. ...................................................................... Не оставь меня, Господи, Боже мой! Не удаляйся от меня; поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой!Как пример из египетских текстов возьмем молитву, обращенную к Ре-Харахти:
Явись ко мне, о Ре-Харахти, и уберегай от бед! Ты — это тот, кто способен действовать, и нет никого, кто действует без тебя! значит, это ты действуешь с ним заодно. ................................................ Не казни меня за многие прегрешения, ведь я не знаю самого себя, я человек неразумный. Я дни провожу в поисках пищи, как корова ищет траву... Приди ко мне... ты, покровитель многих и многих, избавитель сотен тысяч, защитник того, кто взывает к тебе![320]В Месопотамии встречаем следующие строки из молитвы к Иштар:
Я взываю к тебе, (я), страдающий, изнуренный, измученный твой служитель. Узри меня, о моя госпожа, прими молитвы! С доверьем взгляни на меня, услышь мольбу! Смилостивись надо мной, и сердце твое смягчится. Смилостивись над несчастным телом моим, полным тревог и бедствий. Смилостивись над скорбным сердцем моим, полным слез и рыданий. Смилостивись над предзнаменованиями моими, несчастными, тревожными, беспокойными. Смилостивись над домом моим бессонным, охваченным горьким плачем; Смилостивись над скорбью моей, полной слез и рыданий[321].Несколько далее в этой молитве следует:
Чем я провинился, о мой бог и моя богиня? Как с тем, кто не боится богов, обошлись со мною! Немощь, головная боль, утраты и разоренье выпали мне на долю; страхи, лица (людей), отвернувшихся (от меня), налитые гневом (лица) — вот моя участь; гнев, ярость и ненависть богов и людей. Узрел я, госпожа моя, дни мрака, месяцы отчаяния, годы скорби! Узрел я, госпожа моя, резню, мятежи, восстания, смерть и беда держат меня в рабстве. Святилище мое безмолвно, безмолвна моя молельня, безмолвие разлито над моим домом, воротами моими, моим полем, свой лик отвратил от меня бог, развеян мой род, ограда моя разрушена[322].В другой молитве страдалец взывает о помощи к богу и богине[323]:
Я продолжал поиски, но никто не взял меня за руку, я рыдал, но никто не встал рядом; я возносил жалобы — никто меня не услышал — я сражен, покрыт одеянием, не могу видеть. «О милосердный бог», — обращаюсь к тебе с мольбой, припадаю к ногам моей богини, перед тобой я распростерт во прахе[324]! ................................................... О владыка, не отвергай твоего раба. Он увязает в трясине, схвати его за руку! Обрати совершенные мной грехи в добро! Пусть ветер унесет прочь преступления, что я совершил! Велики мои прегрешения, сорви их с меня, как одежды! О бог мой заступник! Преступленья мои возросли семижды семь крат! Очисти меня от грехов![325]«Велики мои прегрешения, сорви их с меня, как одежды!» — эта строка показательна для религиозной позиции, которую мы попытались показать на примере библейского, египетского и месопотамского способов выражения этой идеи. Рассмотрим более подробно, каково ее непосредственное содержание и как оно отражается на взаимоотношениях человека с божеством. Аспект, разительнее всего бросающийся в глаза, — это, разумеется, принижение себя, нарочитое самоуничижение кающегося грешника. В грехах он кается со всей страстью, льет слезы, заклинает, ползает во прахе, всячески стараясь выставить свою непривлекательность, напоминая о смердящих незаживающих язвах. Вполне естественно, что эта особенность религиозной позиции оказалась в центре внимания, и понятно, почему псалмы, подобные приводившимся выше, стали именоваться «покаянными псалмами».
Однако, хотя такое самоуничижение и привлекает внимание в первую очередь, было бы неразумно не попытаться выяснить, каковы его исходные предпосылки. Ясно, что покаяние не имело бы ни малейшего смысла, если бы грешник не был внутренне убежден в глубокой личной заинтересованности Бога в его судьбе. И чем больше мы вникаем в такую невысказанную презумпцию, тем больше первое впечатление уступает место совершенно иному ощущению: мы начинаем понимать, что на самом деле здесь — вовсе не униженность, но подсознательное огромное человеческое самомнение; а если учесть, что данное отношение есть отношение к Божественному, то самомнение почти безграничное.
В сущности говоря, если вернуться к самым различным выражениям приниженности и самоуничижения и внимательно их перечитать, вдумываясь в подтекст, мы невольно почувствуем, что псалмы не просто придают большое значение судьбе кающегося, но она ставится превыше всего прочего, надо всем сущим. Заботы кающегося значат так много, что вытесняют все остальное. Фигура кающегося оказывается в центре мироздания, оказывается настолько важной, что способна монополизировать внимание Бога, вовлечь Бога в эмоциональное сопереживание, вызывая гнев, сочувствие и любовь по отношению к себе — и перед этим натиском беспредельного эгоизма фигура Бога умаляется. Он более не внушающий благоговение Творец и Вседержитель; он — всего лишь «Бог моего спасения». Как и в любви, которая является только любовью-потребностью, возлюбленный перестает быть личностью, обладающей собственными правами, и рассматривается только как средство удовлетворения потребностей любовника, так и Бог здесь оказывается в опасности, грозящей превратить его в простой инструмент для утоления личных нужд одного-единственного индивидуума.
Чтобы пояснить нашу мысль, сопоставим личное отношение к Богу в покаянных псалмах, проникнутых подспудной надеждой на неусыпную божественную опеку над индивидуумом, с совершенно иным отношением, присутствующим в псалме 8 (4—10):
Когда взираю я на небеса Твои — дело твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умалил его пред Ангелами; славою и честию увенчал его; Поставил его владыкою над делами рук Твоих; все положил под ноги его: Овец и волов всех, и также полевых зверей, Птиц небесных и рыб морских, все, преходящее морскими стезями. Господи, Боже наш! Как величественно имя Твое по всей земле!Здесь, несомненно, подлинное самоуничижение выражено более явно (заботы отдельного человека слились с заботами всего человечества, и то, что Бог помнит о каждом, вызывает даже удивление), и это не случайно: образ Бога ничуть не умаляется. Он предстает во всем величии как создатель и повелитель всего сущего.
Еще более красноречивым выглядит сравнение со следующими выдержками из Книги Исход (20:18—19):
Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся; и увидев то, весь народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать; но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть.
Или:
И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, — и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа (Книга Пророка Исайи 6:5).Ощущение и святости Бога, и окружающего его благоговейного трепета исчезает в узком индивидуальном мирке покаянных псалмов.
Наш выбор примеров ограничился в основном отрывками из Библии, однако следует указать и хотя бы один пример из месопотамских текстов, который свидетельствует, что и они содержат глубоко прочувствованные и живо выраженные свидетельства благоговейного преклонения перед божественным величием. Вот гимн, обращенный к Энлилю как устроителю вселенной и подателю всяческих благ:
Энлиль, искусным устройством замыслов хитроумных, их действие тайное — нитей клубок, который нельзя распутать; нить сплетена с нитью, не уследить их глазом — ты превосходишь всех, занят божественным промыслом. Ты — советчик свой собственный, помощник и управитель, кто (еще) способен постигнуть твои деянья? Ты владыка-Ан и повелитель-Энлиль (вместе), судья и решающий судьбы (как) земли, так и неба, никто не отвергнет великих твоих повелений, они почитаемы, как Ан[326].Все эти примеры, как нам кажется, вскрывают парадоксальную сущность личной религии, а именно — неявное наведение мостов между космическим миром и личным миром индивидуума. Вопрос в том, каким образом могло возникнуть столь противоречивое отношение: ко всему самому возвышенному, внушающему наибольший трепет, и ужасающему здесь обращаются с непосредственной и небрежной фамильярностью: «Поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой!», и «Явись ко мне, о Ре-Харахти, и уберегай от бед!», и «Я взываю к тебе, (я), страдающий, изнуренный, измученный твой служитель. Узри меня, о моя госпожа, прими молитвы!»
ИСТОРИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
Для ответа на этот вопрос необходимо прежде всего обратиться к историческим свидетельствам рассматриваемых нами религиозных воззрений, дабы выяснить, где и когда они зародились, при каких обстоятельствах и на каком фоне.
Самые ранние проявления личной религии возникают в Месопотамии к началу II тысячелетия до н. э. и продолжают оставаться единственными в своем роде на протяжении пяти столетий. За пределами Месопотамии мы впервые сталкиваемся с ними в хеттской молитве Кантузилиса[327] (приблизительно 1350 г. до н. э.). В Египте новые религиозные взгляды появляются столетием позже, около 1230 г. до н. э.[328], после века Амарны, когда характерный для него дух межнационального культурного обмена способствовал широкому распространению по всему Ближнему Востоку месопотамских идей и письменных текстов. Поскольку в Египте примеры нового отношения к религии появляются довольно неожиданно, будучи новым элементом распространенной формы религиозности, вне связи с утвердившейся религией, то представляется вероятным, что здесь имеет место внешнее влияние — прежде всего месопотамское; когда же в I тысячелетии формируется древнеиудейское религиозное мышление, месопотамское идейное влияние распространяется настолько широко, что личная религия уже может считаться составной частью общего культурного окружения.
Итак, первоисточники следует искать в Месопотамии: отправившись по широкому потоку «Личная религия» вверх по течению времени, мы видим, как по мере приближения к истоку русло все более и более сужается. Истоки лежат в одной характерной для месопотамской религии концепции так называемого личного бога. Если в позднейшие времена личная религия может быть устремлена едва ли не к любой фигуре божественного пантеона, то в самых ранних образцах она ограничена обращениями индивидуума только к своему личному богу или богине (единственным, по-видимому, исключением является обращение к богине врачевания)[329].
Жанры месопотамской письменности, в которых впервые возникает концепция личной религии, — это «покаянные псалмы» и «письма к богам»[330]. В качестве раннего образца первого из них можно процитировать памятник под названием «Человек и его бог»[331], где человек жалуется своему личному богу на то, что бог забыл о нем — и вот ни в чем он не встречает удачи, дела никак не ладятся:
Я человек молодой, способный к знанию, но то, что я знаю, не идет мне во благо. То, что я говорю истинно, обращается в ложь. Обидчик вводит меня в обман: я вместо него держу в руке серп (т. е. простодушно делаю за него грязную работу); моя рука в неведении порочит меня перед тобой, а ты насылаешь на меня самые жгучие из горестей[332].Его бог — наделяющий способностью ясно и быстро мыслить — подводит его, когда друзья его обманывают или возводят на него лживые обвинения:
Словам друга я не могу доверяться, сотоварищ лживыми объявляет мои правдивые речи; обидчик возводит поклеп на меня, но ты, бог, мой заступник, не устыдишь их, ты лишаешь меня рассудка![333]Бог-заступник, очевидно, потерял интерес к своему подопечному: «Как долго еще ты не спросишь обо мне, не будешь искать, где я?»[334]. Произошло это, безусловно, по вине смертного, но кто в состоянии вести совершенно безупречный образ жизни? «Знающие люди говорят справедливо и верно. Ребенок без провинностей? Матери не рожали таких!»[335] Пусть бог по крайней мере скажет, в чем состоят его прегрешения, чтобы можно было покаяться!
Бог мой заступник... когда ты раскрыл мне глаза в воротах собрания (т. е. публично) те, что тобой забыты, и те, что тобой (уже) названы: я назову, я, человек молодой прилюдно провозглашу свои провинности перед тобой[336].Жанр «писем к богам» можно проиллюстрировать двумя фрагментами одного из наиболее пространных и замысловатых посланий[337]. Письмо обращено к Энки, личному богу отправителя — писца по имени Суэн-шамух. Он жалуется, что его дело в суде рассмотрено недостаточно внимательно и что его постигла несправедливость. Пишущий сокрушается о том, что вынужден страдать за поступки, которых не совершал, что он «брошен, словно караванная повозка, дышло которой сломано, ...оставлен посреди дороги»[338]:
Я простерт на ложе страданий и горя, скорбь пронзает меня (насквозь); мое стройное тело клонится к земле, я падаю ниц к (людским) ногам[339]Беды преследуют его отовсюду:
Я, знающий грамоту, превращен из человека сведущего в ком глины; рука моя отвыкла от писания, уста, владевшие речью, к ней почти неспособны; я еще не старик, и (однако) стал тугоухим, зренье мое ослабло![340]Зло торжествует, однако он еще не утратил надежды:
Сегодня позволь мне принести тебе все мои прегрешения, вырви меня из рук врагов, и когда увидишь, где я пал, смилуйся надо мной. Когда обратишь темные мои стези в залитую дневным светом (дорогу), позволь мне войти в твои ворота, освобождающие от греха и проступков, дай мне воспеть тебе хвалу; позволь мне признаться, (ревом) быка, тебе во всех моих прегрешениях и позволь мне сказать о твоем величии[341].Подобные настроения содержатся не только в шумерских памятниках, но и в аккадских текстах. В следующем фрагменте покаянного псалма, который, если судить по характеру написания, относится к ранним годам периода Исина и Ларсы, звучит совершенно недвусмысленная нота:
Я не могу с помощью руки, простертой (ко мне) наследником,
высоко держать голову!
До каких пор я досыта есть не буду?
Собственной хорошей одежды я не имею,
не могу умащать свои члены маслом,
нищета проросла сорняками мне в сердце![342]
Можно было бы процитировать и другие, более обширные произведения, однако достаточно привести отрывок из длинного воззвания к Иштар, в котором предстательствующий за грешника жрец молит богиню:
Иштар — кто, как не ты, откроешь ему дорогу? Услышь его моления! Он обратился к тебе, он тебя ищет. Твой раб согрешивший — сжалься над ним! Он простерся ниц и громко молит тебя. За совершенные проступки он возносит покаянный гимн. Сполна он перечисляет благодеяния Иштар, все, что помнит, и все, что забыл. ...................................................................... Он согрешил и о проступках своих говорит начистоту. Об усталости, которой он изнурил себя, рассказывает подробно. «Я совершил зло — мои проступки Иштар мне возместила, я жарко плачу! Я не испытываю сомнений, Иштар...»[343].Таким образом, представляется необходимым более пристально и детально рассмотреть особую религиозную концепцию личного бога.
ЛИЧНЫЙ БОГ
Удача
Отметим прежде всего аспект понятия личного бога, заключающийся в обещании удачи. Личный бог ab ovo[344] выступал непосредственным блюстителем благополучия того, кто ему поклонялся. Жизненное преуспеяние индивидуума было поставлено в настолько тесную зависимость от бога, что тот, по существу, являлся персонификацией нуминозной силы, движущей личным успехом. Бывает (многие, вероятно, знают это по себе), что человеку внезапно начинает сопутствовать редкое, необычайное везение — и тогда возникает ощущение, будто здесь замешана некая сверхъестественная сила, проявившая интерес к делам смертного. Это вполне понятная наивная реакция, нашедшая точное выражение в заглавии одной появившейся не так давно автобиографической книги, написанной человеком, который считал себя обласканным жизнью: «Кто-то там, наверху, любит меня» («Somebody Up There Likes Me»).
Житель Древней Месопотамии чувствовал что-то подобное: как в шумерском, так и в аккадском языке существовал только один термин, обозначавший счастливый поворот судьбы: «обрести бога»[345]. В литературе предсказаний благоприятное предзнаменование могло предвещать, что «этот дом обретет бога, этот дом простоит долго»[346], и, наоборот, дурное предзнаменование указывало, что «этот дом постигнет запустение, он не обретет бога»[347]. Автор одного древневавилонского письма, опасаясь, что его выгонят из дома, где он живет, пишет: «Если я вернусь с пустыми руками, меня выставят за дверь, и тогда мне уже никогда не вернуться» — буквально «я не обрету бога, который вернет меня обратно»[348]. В другом письме[349] девушка обращается к своей подруге, которая удачно вышла замуж и заняла более высокое место на общественной лестнице, став женой «Его Превосходительства, вождя соплеменников». Девушка, писавшая письмо, не вполне свободна от чувства ревности. Она пишет:
К Эльмешум слово, так говорит Сирум: «Да продлят тебе Шамаш и Мардук ради меня твои дни! Так вот как ты проявляешь сестринские чувства! Ведь разве мы с тобой не выросли вместе с младенчества? Но с тех пор как тебе улыбнулось счастье (буквально „с тех пор, как ты обрела бога"), ты меня ни в грош не ставишь. А вчера, когда ты пришла, я взяла трость abarahhu, и ты была недовольна до тех пор, пока не унесла ее с собой, сказав: „Я пришлю тебе хорошую палку для ходьбы с ручкой (?)". И не прислала... А я посылаю к тебе человека... пошли мне сотню кузнечиков[350] и провизии на одну шестую шекеля серебра — и в этом покажи мне свои сестринские чувства».
Сила, движущая успехом
Приведенные выше примеры изображают «удачу» или «успех» как события, которые происходят в жизни человека. Чаще, однако, участие бога в человеческих делах предполагает определенную Степень сотрудничества. Бог не просто воплощает в себе удачу — это сила, способствующая достижению успеха. Пословица прямо говорит: «Если заглядываешь вперед, твой бог — твой; не заглядываешь вперед, то твой бог — не твой бог»[351]. Здесь бог явно выступает силой, воздействующей на результативность замыслов, планов, устремлений, — и в этом заключается главное содержание понятия. Например, предсказание гласит, что «по велению бога и богини такой-то построит дом, о котором мечтает»[352], т. е. человек возымеет побуждение к строительству и окажется способен осуществить свою мечту о собственном доме. Когда Гудеа из Лагаша должен был строить храм бога — хранителя своего столичного города Нгирсу, во сне он увидел свет, сияющий на горизонте. Этот свет, согласно истолкованию, данному богиней Нанше, символизировал его личного бога Нингишзиду, а сон означал, что Нингишзида присутствует в мире повсюду[353]: т. е., выражаясь современным языком, личное влияние Гудеа и успех его деятельности будут ощущаться во всем мире, поскольку он ввозил строительные материалы из Эфиопии[354], с горного хребта Аманус на берегу Средиземного моря и других столь же отдаленных мест.
Поскольку личный бог воплощает здесь успех персональной деятельности, мы видим, как бог Нингишзида и человек — Гудеа сотрудничают рука об руку на строительстве храма Нгирсу: «Нингишзида построил храм на крепком основании (глубоко врытом); Гудеа, правитель Лагаша, заполнил фундамент галереи»[355]. Подобное сотрудничество человека со своим богом мы можем отнести к началу III тысячелетия до н. э.[356], когда Ур-Нанше из Лагаша рассказывал о строительстве храма в Нгирсу так: «Шуль-утула, (личный) бог царя, носил священную корзину (с кирпичами и строительным раствором), Ур-Нанше, царь Лагаша, сын Гуниду, сына Гуршара, построил храм в Нгирсу»[357].
Так как личный бог является нуминозной силой, движущей личными достижениями, он также выражает чувство удовлетворения и гордости за достигнутое. Например, нам известно, что Гудеа — это «тот, кого его бог, Нингишзида, заставил выглядеть гордо» (буквально «высоко держать голову в собрании»[358]). Когда Гудеа возвел храм городской богини — Бабы, то поместил статую своего собственного бога Нингишзиды в одном из приделов, объяснив, зачем он это сделал: Нингишзида (т. е. нуминозная сила, которая обеспечила Гудеа успех и наделила его могуществом как правителя и восстановителя храмов) должен был «возродить храм Бабы, осыпать его изобилием, укрепить опоры трона Лагаша, вложить скипетр справедливости в руки Гудеа, правителя Лагаша, и продлить дни его жизни»[359].
Ответственность
Как воплощение нуминозной силы, движущей поступками и обеспечивающей успех, личный бог в немалой степени нес ответственность за содеянное. Однако действия, внушенные божеством, вовсе не обязательно должны быть благими. Примером служит проклятие Эаннатума, относящееся еще к III тысячелетию до н. э. Он преподнес в дар богине Нанше каменную ступку и выразил желание, чтобы каждый, кто причинит ей какой-либо вред, «перед лицом Нанше не мог ступать и его (личный) бог не мог ступать»[360]. Несколько более позднему времени принадлежит текст, оплакивающий поход Лугальзагеси, правителя Уммы, на владения Уруинимгины в Нгирсу и Лагаш. В нем утверждается следующее:
Человек из Уммы, разграбив Лагаш, совершил грех против (бога Лагаша) Нингирсу, напал на него (т. е. на поле Нингирсу), унес урожай с него. Нет вины на Уруинимгине, царе Нгирсу. Пусть Нидаба, личное божество Лугальзагеси, царя Уммы, возложит на него эту вину[361].
Сохранилось, наконец, древневавилонское частное письмо, датируемое приблизительно 1700 г. до н. э. Автор письма сердит на адресата за то, что тот избрал неподходящее место для поселения. Он пишет: «Неужели ты не раскаиваешься в том, что там поселился? Да сгинет имя твоего бога и того, кто подстрекнул тебя (к этому) и побудил тебя и твоего брата поселиться там»[362].
Возможность идентификации
Из цитированных выше отрывков явствует, что личный бог представлял собой сверхъестественную силу, которая побуждала человека к действию и, как правило, обеспечивала успех всем его предприятиям. Следует также отметить, что из приведенных нами наиболее ранних примеров, относящихся к III тысячелетию, очевидно, что жители древней Месопотамии всегда точно знали своих личных богов, отождествляя бога (или богиню) с какой-то известной фигурой пантеона: такой-то и такой-то бог есть личный бог такого-то и такого-то человека. Неопределенный «кто-то», присутствующий в названии автобиографической книги «Кто-то там, наверху, любит меня», уже конкретизирован. Помимо того, всякий бог, даже обладатель космического могущества, мог принять на себя роль личного бога какого-либо индивидуума: подобными функциями наделены Син (Суэн), бог луны, Шамаш (Уту), бог солнца и справедливости, Адад, бог грозы, Нергал, повелитель подземного царства, и многие другие боги.
Родитель
Последний аспект месопотамской концепции индивидуального личного бога, требующий нашего внимания, — это внутренняя форма или образ бога, каким он представлялся верующему. Точно так же, как проявление заботы и покровительства по отношению к отдельному индивидууму — самая суть идеи личного божества, — стоят в месопотамской религиозной литературе особняком как нечто специфическое, и «внутренняя форма», «образ» или, точнее, «метафора», под покровами которой выступает личный бог, тоже выглядит совершенно уникальной: это образ родителя (божественного отца или божественной матери). Аналогичного отношения богов к человеку мы более нигде не встречаем. Обыкновенно образ бога по отношению к своему адоранту совершенно иной: между ними устанавливается связь, аналогичная связи между господином и рабом. Даже самый могущественный властитель был рабом по отношению к богу-хранителю города и страны; только перед своим собственным личным богом он был, если воспользоваться стандартной фразой, «человеком, сыном своего бога»[363].
При более пристальном рассмотрении этой концепции можно выделить несколько составляющих ее компонентов. Во-первых, это чисто физический аспект: отец, зачинающий ребенка; мать, дающая ему жизнь. Во-вторых, аспект даятеля: отец — кормилец семьи. В-третьих, аспект защитника и ходатая и, в-четвертых, аспект, заключающийся в требовании к детям почитать родителей и повиноваться им.
Рассмотрим прежде всего аспект физический. Обычное обращение к «личному богу» — «бог, создавший, или породивший, меня» или «божественная мать, явившая меня на свет»[364]. Для более четкого уяснения того, что означают такие термины, необходимо понять, что личный бог обитал в человеческом теле. Если же «бог покидал тело человека»[365], оно могло стать жертвой злых демонов болезни, «овладевающих» им.
Как божественная сила, обитающая в человеке и движущая его успехом, бог естественным образом присутствовал, активно ему способствуя, и при высшем, решающем жизненном свершении, а именно рождении сына. Бездетность, отсутствие сыновей обрекали на личную неполноценность, лишали жизнь смысла[366]. Только личный бог и личная богиня, воплотившись в отце с матерью, зачинали дитя и давали ему жизнь. Соответственно древнешумерский правитель Лугальзагеси, чьим персональным божеством была, как уже упоминалось, богиня Нидаба, называет себя «ребенком, рожденным от Нидабы»[367]. Аналогично Ур-Баба, чьим божеством была Нин-а-галь, именуется «сыном, зачатым Нин-а-галь»[368].
В гимне-самовосхвалении основатель Третьей Династии Ура, Ур-Намму, говорит о себе: «Я — брат великого Гильгамеша, я отпрыск Нинсун»[369], тогда как обращение к его преемнику Шульги, личными божествами которого тоже были Лугальбанда и Нинсун, гласит: «ты — дитя, рожденное Нинсун»[370]. Шульги также называет самого прославленного из потомков Лугальбанды и Нинсун, легендарного героя Гильгамеша, своим «братом и товарищем»[371]. В другом гимне[372] описывается, как Нинсун берет маленького Шульги с собой на свой божественный престол, нежно ласкает его, прижимая к груди, и обращается к нему с такими словами:
Шульги, священное семя, которому я дала жизнь, ты, священное семя Лугальбанды; на моем священном ложе я взрастила тебя, на моей священной груди определила тебе твою участь; ты лучшая часть моего приданого.Весьма характерна и надпись на цилиндрах Гудеа. Личным богом этого правителя был Нингишзида, а личной богиней — Нинсун, «владычица диких коров». Гудеа обращается к ней следующим образом:
Ты — (ибо) твой бог-заступник, владыка Нингишзида, отпрыск Ана, (а) твоя мать — богиня Нинсун, родительница доброго потомства, чадолюбивая — был рожден от доброй коровы, как от женщины[373].Можно привести и множество других примеров.
При взгляде на различные известные нам месопотамские династии мы видим, что у отца и сына неизменно были одинаковые личный бог и личная богиня. Бог, следовательно, переходил из тела отца в тело сына, как новое поколение продолжает жизнь предыдущего. Это дает объяснения фрагменту, доставившему ассириологам немало трудностей. Древний комментатор[374] объясняет термин «дочь его бога» как «его сестра». Поскольку бог, который обитает в теле человека, ранее находился в теле его отца и породил ранее его самого и его сестру, он является «сыном своего бога», а его сестра — «дочерью его бога». Это верование лежит также в основе стандартного древнеассирийского обозначения личного бога — «бог отцов»[375] например: «Ашур, бог твоих отцов», «Илабрат, бог наших отцов» или «Илабрат, бог твоих отцов», с каковым обозначением можно сопоставить строки Книги Исход (3:15): «Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова».
Понятие «отец» предполагает не только родителя, но еще и кормильца семьи — добытчика, и этот аспект занимает важное место в концепции личного бога, что вполне естественно, так как бог является нуминозной силой, отвечающей за успех предприятия. Поскольку данный мотив присутствует во многих из уже цитированных пассажей, мы ограничимся единственной лаконичной фразой из текста «Человек и его бог»: «Без (личного) бога человек не ест хлеба»[376]. Вряд ли можно выразить данную мысль более сжато.
Отец — не только даятель, он еще и защитник и ходатай перед вышними силами. В сущности, аккадский термин «отцовство» (abbûtu) приобретает специфический оттенок значения — «заступничество», характерный для образа отца. В исключительно сложном социальном и политическом мире пантеона древней Месопотамии «способность покровительствовать» нередко сводится к «связям» и действиям влиятельных друзей. Примером того, в частности, служит следующее заявление правителя Энтемены: «Пусть его личный бог, Шуль-утула, всегда предстоит Нингирсу в Энинну, (молясь) за его (т. е. Энтемены) жизнь»[377]— формула, которая в сокращенном варианте встречается на многих надписях. На роли бога как защитника часто делается особый упор. Человек живет под «(охранительной) тенью» своего бога[378]. В текстах, содержащих предсказания, добрая примета означает, что «долгая (охранительная) тень (личного) бога будет на человеке»[379], тогда как дурные приметы указывают, что «слабые покинут охранительную тень сильных, а сильные — тень своего бога»[380]. Забавной иллюстрацией обязанности личного бога опекать свое «дитя» и использовать свое влияние перед более могущественными богами служит следующее древневавилонское письмо, в котором человек обвиняет своего личного бога в небрежении им:
К богу, отец мой, обратись со словами: «Так говорит Апил-адад, слуга твой: „Почему ты (так) мною пренебрегаешь? Кто собирается дать тебе другого, кто занял бы мое место? Напиши богу Мардуку, который тебя любит, чтобы он снял с меня бремя повинности; тогда я увижу твое лицо, облобызаю тебе ноги! Позаботься также о моей семье, взрослых и младенцах; смилостивись над ними ради меня, пусть достигнет меня твоя помощь!"[381]».Наконец, личный бог так же требует от своего подопечного почитания, повиновения и принесения даров, как и земной родитель от своего сына. Приведем лишь два примера. Пословица говорит о необходимости восхвалять своего бога так: «Когда ты видишь пользу от почитания бога, превозноси бога и благословляй царя»[382]. В следующем отрывке эта мысль выражена с еще большей отчетливостью:
Ежедневно поклоняйся своему богу — приношеньями, молитвами и курениями. Склоняй сердце к своему богу; как требует служение богу-заступнику, возноси молитвы и приношения, прижимай (руку к) носу (в знак приветствия) — так поступай каждое утро, — тогда твое могущество будет велико, и ты, с помощью бога-заступника, много преуспеешь в жизни[383].ИМПЛИКАЦИИ
Вернемся теперь к интересующему нас вопросу о том особом значении личной религии, с которым мы сталкиваемся в покаянных псалмах II и I тысячелетий до н. э. Впервые оно обнаруживается в Месопотамии в начале II тысячелетия и проявляется в специфическом отношении человека к своему личному богу. Рассмотрев более детально концепцию личного бога, мы сможем легче судить, насколько она способствует лучшему уяснению парадоксального характера личной религии, в которой совмещаются столь разнородные черты: демонстративное самоуничижение, примечательным образом опирающееся на почти безграничную гордыню, вовлечение высших космических сил в тесный мирок индивидуума, наконец, столь непринужденно-фамильярный подход к надстоящему, внушающему благоговейный трепет началу. Психологические корни подобного отношения становятся понятнее с учетом фона, на котором они зародились. Уверенность в заботе бога о благополучии индивидуума возникла вместе с представлением о личном боге как персонификации силы, дарующей подопечному удачу и успех во всех начинаниях. Именно это чувство и составляет самую сущность концепции личного бога. Противоположным ему является приписывание любых бед и несчастий отходу божества, которое в гневе покидает человека, подвергая его тем самым суровому наказанию.
Более того, внутренняя «форма» или «метафора» родителя («отца» или «матери»), в оболочке которой личный бог представлялся воображению, служит как бы психологическим мостиком к могучим, внушающим ужас и благоговение космическим силам. Человеческому восприятию вполне доступно понимание того, что даже самые высокопоставленные, вознесенные на вершину величия, окруженные раболепием общественные деятели по отношению к своим детям предстают скромной, домашней, обыкновенной, «гуманной» стороной. Дети, в силу своей непосредственности и уверенности в том, что их любят, могут преступить — причем совершенно бессознательно — барьеры страха и почитания, отделяющие верховную власть от простых смертных, единственно потому, что ищут и видят в своих отношениях с другими только личное начало. Таким образом, допущение возможности того, что даже космические силы могут быть личными богами, исполненными по отношению к своим земным малым детям чувств любви, мягкости и всепрощения, психологически объяснимо.
Однако если мы оказываемся в состоянии, поместив личную религию в ее первоначальное окружение, понять ее психологические основы, это нимало не подрывает ее изначальной коренной парадоксальности со всеми внутренними противоречиями. По мере распространения подобной концепции на религию в целом, когда она стала прилагаться не только к одному чьему-либо личному богу, но и к любому богу, даже к Богу единому и единосущному, неизбежно выявилась ее парадоксальная природа. В детстве есть пора, когда родители представляются ребенку всемогущими небожителями. Вырастая, ребенок вынужден со временем приучать себя к нелегкому осознанию того, что родители его, в конце концов, всего лишь обыкновенные человеческие существа со свойственными им человеческими слабостями. Однако в данном случае подобная адаптация совершенно исключалась. Божественные родители должны были оставаться божественными. Итак, опыт неизбежно вбивал все глубже клин между бесстрастным, ужасающим, космическим аспектом божественного, управлявшим действительным ходом вещей, и лично заинтересованным, гневным, прощающим, любящим аспектом, в котором я, личность, значу так много, что из любви ко мне вселенная может сойти со своего пути, лишь бы помочь мне.
Такова проблема, встающая перед страдальцем-праведником. Она проникает в месопотамское религиозное сознание примерно в середине II тысячелетия и проявляется в двух примечательных произведениях — «Невинном страдальце» («Ludlul bêl nêmegi» «Дай восхвалю владыку мудрости»[384]) и в «Вавилонской Теодицее»[385]. В первом из них мы узнаем о человеке, набожном праведнике, которого тем не менее постигает несчастье:
Болезнь «алу» запеленала мне тело, словно одеяние; сон уловляет меня в сеть, глаза мои открыты, но ничего не видят, уши мои отверсты, но ничего не слышат; немощь охватила все мое тело[386].Бесчувственный, космический аспект божественного преследует свои собственные цели, не принимая в расчет невзгоды смертного:
Никто из богов не пришел мне на помощь, не взял за руку, богиня, моя заступница, не смилостивилась надо мной, не пошла со мною рядом[387].Непостижимость путей мироздания, полное безразличие к участи смертного так велики, что он может найти прибежище только в сомнениях относительно себя и собственных способностей к суждению:
Что кажется тебе хорошо — преступление перед богом. Что сердцу одного кажется злом — добро перед богом другого. Кто может постичь помыслы богов в безбрежности неба? Мысли (тех) божественных глубоких вод, кто может их измерить? Как люди, отуманенные, могут постичь поступки богов?[388]Теодицея приводит к подобному же выводу. Это — обсуждение двумя друзьями очевидной несправедливости, царящей в мире. Добро уступает, зло торжествует:
Божественный разум далек, словно средина небес, знанье о нем недоступно, люди пребывают в неведении[389].Противоречия в самом деле неразрешимы, пока установка личной религии позволяет урезать бытие бесконечности вселенной до узких рамок личностного мира и полагать центром всего сущего нужды и потребности личности.
Важнейший шаг к решению проблемы был сделан лишь гораздо позже, в середине I тысячелетия, религиозным гением Израиля — трактовкой проблемы в Книге Иова. Здесь, в речи Бога, дисбаланс восстановлен. Личностный, эгоцентрический взгляд страждущего (пускай и праведника) отвергается. Гордыня, требующая, чтобы вселенная подчинялась его потребностям, его праведности, отброшена: статус Бога как могущественного создателя и правителя мироздания утверждается безоговорочно. Расстояние между вселенским и личностным, между Богом в Его беспредельном величии и простым смертным столь велико и столь решающе, что индивидуум не имеет никаких прав, даже на справедливость:
И отвечал Иов Господу и сказал: знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть остановлено. Кто сей, помрачающий Провидение, ничего не разумея? — Так, я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у Тебя, объясни мне. Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле[390].
Затронем последний вопрос — вопрос о степени влияния и жизненности личной религии. В Месопотамии, по-видимому, она оставалась индивидуальным мировоззрением и не стала решающим фактором, повлиявшим на общественную религию, и мало воздействовала на формирование отношения народа к общенародным богам. Есть, однако, указания, что развитие религии в Месопотамии приняло именно это направление: в знаменитом «Плаче о падении Ура» (датируемом ок. 2000 г. до н. э.) в заключительной молитве предполагается, что человеческое страдание и раскаяние, индивидуальное или коллективное, могут поколебать сердце великого бога и склонить его к участию и желанию прекратить народное бедствие. Здесь говорится следующее:
С давних дней, когда (впервые) земля была основана, о Нанна, тебе поклонялись, обнимая твои ноги, приносили тебе слезы над разрушенным храмом, (дозволяли) себе петь перед тобой. Так, когда черноголовый народ изгнан пред тобою, позволь ему тебе поклоняться. Когда город лежит в развалинах, позволь ему слезно молить тебя, (и), о Нанна! восстановив город, дай ему воздвигнуться пред твоим взором, а не заходить, как заходят звезды, но да идет он пред твоим взором! Бог (-заступник) смертного принес тебе приветственный дар, (смертный) проситель молит тебя, о Нанна, ты, милостивый к цело й стране! О владыка Аш-им-баббар, ты — согласно велению твоего сердца — отпустил, о Нанна, грехи того человека, человека, который молит тебя, — пусть твое сердце смягчится к нему, и, взглянув истинно на просителя за тех, кто стоит здесь, о Нанна, чей зоркий взор проникает в утробы, пусть их сердца, выстрадавшие (так много) зла, предстанут чистыми для тебя, пусть сердца тех, кто есть на этой земле, предстанут добрыми для тебя, и, о Нанна! в твоем городе, вновь возрожденном, они вознесут тебе хвалу[391].Однако в последующие времена, хотя мы и узнаем о человеческих проступках, навлекающих божественную кару в общегосударственном масштабе, и о государственных богах, в гневе отвращающих милость от своего народа, — но об общенародном раскаянии и самоуничижении как средстве возвращения божественной милости говорится мало.
Насколько мы можем судить, только Израиль решающим образом расширил установку личной религии до уровня целого народа. Отношение Яхве к народу Израиля — его гнев, участие, всепрощение и снова гнев, обрушивающийся на согрешивший народ, — в самом главном совпадает с отношениями между богом и индивидуумом, характерными для личной религии. Вместе с этим пониманием народной жизни и народного благополучия, сопряженным с предельной моральной ответственностью, Израиль создал концепцию истории как обладающей конечной целью — ту самую концепцию, которая в основном до сих пор составляет суть концепций осмысленного исторического существования.
6. МЕТАФОРЫ ВТОРОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ. ПРОИСХОЖДЕНИЕ МИРА И МИРОВОЙ ПОРЯДОК: ЭПОС ТВОРЕНИЯ
«ЭНУМА ЭЛИШ»
Излюбленным восклицанием Маргарет Фуллер, трансценденталистки из Новой Англии, было: «Я принимаю Вселенную!» Карлейль, узнав об этом, язвительно заметил: «Надо же! Пусть-ка попробует отказаться...»
В определенном смысле суровый шотландец был, безусловно, прав: в данном случае выбор у человека невелик. Всякий смертный осознает себя внутри мироздания: он не в силах выйти за его пределы и должен каким-то образом упорядочить свои отношения с внешним миром. Проблема, в сущности, стоит совершенно иначе. Вопрос — хотя и не высказанный прямо — от века заключается в том, может ли человек прийти к согласию с миром на условиях, приемлемых не только для рассудка, но также и для души. Древнемесопотамский эпос творения — «Энума элиш»[392]— представляет собой весьма раннюю и во многих отношениях примечательную попытку войти в гармонию с мирозданием, понять и принять Вселенную.
Сохранившиеся версии памятника датируются в основном первой половиной I тысячелетия до н. э. Язык поэмы, написанной по-аккадски, кажется, однако, слишком архаическим для данного периода, что заставляет отнести предположительное время ее создания ближе к концу II тысячелетия до н. э.[393].
Центральная фигура поэмы — Мардук, главный бог города Вавилона; однако в начале тысячелетия, когда с возвышением Ассирии утвердилось ее повсеместное господство, ассирийский писец, по-видимому, заменил в своей версии Мардука своим собственным богом Ашшуром и внес в текст ряд соответствующих поправок. Именно в таком виде дошла до нас ассирийская версия, найденная в древней столице Ассирии — Ашшуре.
Состав поэмы разнороден по времени и месту происхождения. Шумерские элементы, в частности, представлены в ней традиционной системой теогонии, изложение которой служит вступлением к поэме. Эта система известна нам в более подробном варианте, обладающем гораздо большей внутренней логикой, — а именно из генеалогии Ана, приведенной в великом списке богов «Ан =Анум» (An = Anum)[394]. В рассказе о сотворении Мардуком вселенной слышатся отголоски шумерского мифа о Нинурте «Lugal-e», в котором Нинурта воздвигает горный кряж на востоке и, одержав победу, учреждает ирригацию: суд Мардука над Кингу и возложение им различных обязанностей на побежденных богов под собственным началом напоминают суд Нинурты над своими пленными врагами, камнями[395].
Вероятно, аккадским по происхождению является мотив буйной пляски богов, лишающей первобытные силы покоя и сна. Он близок тому эпизоду в старовавилонском «Сказании об Атрахасисе»[396], в котором человечество раздражает своим гамом страдающего бессонницей Энлиля. В этом сказании содержится также и мотив сотворения человека из крови убитого бога (в «Энума элиш» — из крови Кингу). Мотив обретения мирового господства посредством убийства родителей, в преобразованной форме лежащий в основе эпизодов с Апсу/Абзу и Тиамат, также может быть аккадским. Этот мотив неоднократно возникает в очень зловещем мифе «Династия Дуннума»[397], распространившемся до Финикии и Греции, где он вошел в «Теогонию» Гесиода. В другом варианте он достиг и хеттов. Мотив сражения между богом бури и морем, составляющий подоплеку битвы Мардука и Тиамат, известен из находок в Угарите на берегу Средиземного моря: там он встречается в мифе о Баале и Намму. Возможно, что он был занесен на восток амореями Первой вавилонской династии[398].
СЮЖЕТ
Теогония
Поэма распадается приблизительно на две части: короткую, где излагается происхождение основных сил мироздания, и длинную — пространное повествование о том, как постепенно, шаг за шагом, установился нынешний мировой порядок. Поэма открывается описанием изначального состояния мира, еще до рождения первых богов:
Когда вверху небо не было (еще даже) названо, внизу не имела имени твердо установленная суша; (когда) лишь первородный Апсу, их оплодотворитель, и их праматерь, Тиамат — она, давшая жизнь всем им, — воды свои воедино мешали; когда не было еще болот, (и) островов не образовалось; когда никого из богов еще не появилось, никто из них не был назван по имени, ничья судьба не была определена: тогда боги образовались внутри них.В данном описании начало мира изображается в виде водного хаоса, в котором смешаны божество пресных подземных вод, Апсу/Абзу, и божество соленых морских вод — Тиамат. Не существовало ничего иного. Отсутствовала сама идея неба над головой, не было и земли внизу, как не было ни единого островка или болота; не было и никого из богов.
Затем посреди этих вод явились на свет два бога — Лахму и Лахаму. Текст прямо указывает на то, что, зачатые Апсу, они были порождены Тиамат; а их имена говорят о том, что они представляют собой ил, образовавшийся в первородном океане[399]. Они, в свою очередь, породили Аншара и Кишара — горизонт: окружность небесную и соответственно окружность земную, Аншар и Кишар породили бога по имени Ану (аккадский вариант имени бога небес «Ан»), и Ану породил Нудиммуда, более известного нам под именами Энки и Эйя. Он, как мы видели, — бог текучих вод, рек и болотистых проток:
Лахму и Лахаму явились и были названы по имени; возрастая с веками, они выросли, Аншар и Кишар тогда образовались, превосходящие их; они жили многие дни, добавляя год к году. Наследник их —Ану, равный своим отцам, Аншар своего первенца Ану себе уподобил, Ану породил свое подобие — Нудиммуда, Нудиммуд превзошел богов — отцов своих, отверстый слухом, мудрый и могущественный, могущественнее отца своего отца — Аншара. Нет ему равных среди богов — его собратьев.Основное содержание поэмы известно нам, как упоминалось выше, в более ранней и полной форме из великого месопотамского списка богов «Ан - Анум» и может быть дополнено материалами других древнейших шумерских мифов[400]. Это позволяет понять ее изначальный смысл. Догадки, посредством которых жители древней Месопотамии пытались проникнуть в тайну происхождения мира, основывались, очевидно, на непосредственном наблюдении процесса рождения новой земли. Почва в Месопотамии — аллювиальная, образованная наносами речного ила. Такова она в устьях рек, где пресные воды (Апсу) впадают в соленые воды моря (Тиамат), осаждая свой груз ила (Лахму и Лахаму), который образует новую землю по направлению к истокам. Этот изначальный ил осаждался по краям первичного океана, образуя сперва горизонт (Аншар и Кишар), а затем, нарастая по направлению к центру, — два больших диска (Ан и Ки — небо и земля), которые в конце концов были насильно разделены их сыном — богом бури Энлилем. Энлиль был отцом Нудиммуда-Эйи.
Эпос «Энума элиш» модифицирует сюжет в двух моментах. Во-первых, здесь исключаются из генеалогии жена неба, Ки, ее сын Энлиль и супруга Энлиля — Нинлиль; отцовство передается от Ану — он же Ан, бог неба, — Нудиммуду, породившему героя нашего эпоса, Мардука. Во-вторых, эпос одухотворяет первоначальный, исходный сюжет. Вместо рассказа о главных элементах космоса — подземных водах, море, горизонте, иле, земле, небе и пр., и нуминозных силах, стоящих за ними, повествуется только о «богах» этих явлений. Он представляет теогонию, которая развертывается в мире одних только потенциальных возможностей. О создании соответствующих реальностей космогонии в эпосе рассказывается гораздо позже.
Теомахия как семейная борьба: анархия
Точно так же, как из непосредственного наблюдения над физическими процессами в окружающей действительности в древней Месопотамии сформировались теории происхождения вселенной, из исторической памяти и непосредственного опыта политической организации общества выросли гипотезы о происхождении миропорядка.
Политическая жизнь Месопотамии Старовавилонского периода, многообразная и нестабильная, изобиловала различными племенными и городскими формами общественного уклада. Диапазон этих форм был широк — от почти полной анархии и демократических или полудемократических форм, имевших в основе созыв общего собрания, до деспотических монархий. Постоянно меняющаяся расстановка сил, частые попытки то одной, то другой стороны утвердить свое превосходство, несомненно, давали наглядные уроки того, как добиваться власти, когда равно угрожающая всем опасность требовала единства, и того, как удерживать захваченную власть путем мудрого и великодушного правления, после того как опасность миновала.
В эпосе мировой порядок рассматривается как результат именно такого успешного стремления к превосходству. Начало свое мировой порядок берет в теомахии, продолжительном конфликте между представителями двух противоборствующих принципов — сил движения и сил деятельности (боги) и сил инерции и покоя (старейшее поколение богов). В этом конфликте возникают стадии все большей концентрации и постоянства власти одна из другой: фактическая анархия и кровная месть уступают место примитивной демократии с военным вождем ad hoc[401] — царем, избранным на общем собрании, когда опасность вызывала необходимость сплочения и координации действий. Эта примитивная демократия, в свою очередь, перерастает в постоянную монархию с ее обещанием даровать административные блага сверх необходимого минимума, достаточного для обеспечения временной безопасности жизни подданных и их собственности.
Но вернемся к поэме. Рождение богов вносит в мир новый принцип — принцип движения, деятельности. Новые божества составляют резкий контраст с поколением прародителей, символизирующих недвижность и бездействие. В характерной для мифа манере этот контраст подается в виде драматической ситуации: собравшись вместе, боги пускаются в пляс.
Собратья-боги сошлись вместе, и, бойко ступая навстречу друг другу, они встревожили Тиамат, встревожили Тиамат чрево. Пляской они огорчили сердце сердцевины небес. Апсу не мог утихомирить их гомон, и Тиамат безмолвствовала перед ними. Хотя их повадки причиняли ей беспокойство и пути их недобры, она им потакала.С этого момента конфликт становится открытым, и первым на вызывающие действия богов откликается Апсу. Прислужник Апсу, Мумму, с которым мы встречаемся здесь[402] впервые, — это, судя по его имени mummu («форма», «матрица»), один из аспектов «образа». Вероятнее всего, он олицетворяет волю единственной из существовавших тогда форм — архетипа водной стихии.
Тогда Апсу, прародитель великих богов, призвал своего советника Мумму, сказал ему: «Мумму, мой советник, радующий мне сердце, давай пойдем с тобою к Тиамат!» Они пошли и перед Тиамат воссели, совет держали о богах, своих первенцах. Апсу открыл уста и сказал чистой Тиамат: «Их повадки причиняют мне беспокойство! Нет мне днем отдыха, ночью нет сна. Да уничтожу я их, да сокрушу вдребезги их пути, дабы мир мог (опять) воцариться и сон пришел к нам!»Однако Апсу говорит это матери, у которой любящее и долготерпеливое сердце: Тиамат не потерпит ничего подобного.
Тиамат, заслышав это, возмутилась, набросилась на своего мужа, вопила, язвила, одинокая в негодовании. Она приняла злобу (близко) к сердцу: «Как можем мы уничтожить то, что (сами) явили на свет? Хотя пути их беспокойны — перенесем это мирно!»Ее сопротивление могло бы остановить карающую длань Апсу, если бы не вмешательство Мумму, который вновь подстрекает его проучить нарушителей спокойствия, рисуя перед ним заманчивые перспективы безмятежного сна:
«Уничтожь, отец мой, беспорядочные их повадки, и ты будешь отдыхать днем и спать ночью». Апсу возликовал, услыша это, лик его просветлел, ибо он дурное замыслил против богов, своих сыновей; он обхватил Мумму за шею, посадил к себе на колени и стал целовать.Вести о злом умысле скоро дошли до богов. Сперва они были охвачены смятением, но, несколько успокоившись, уселись и замерли в безмолвии, полные страха. Только мудрый Эйя сохранил достаточно присутствия духа, чтобы подумать об ответном ударе:
Он, разумом превосходящий всех, искусный, умелый, Эйя всеведущий, замыслил план против них. Он изготовил, да, он создал против него образ Всего, искусно сотворил заклинание — могущественное, священное. Он произнес его так, что утихомирил воды, пролил дремоту на него, усыпил крепко.Когда Апсу, уступив власти волшебного заклинания, погрузился в сон, Эйя отнял у него тиару и одеяние из огненных лучей, предал смерти и воздвиг над ним свои собственные чертоги. Мумму, погруженный в оцепенение под воздействием тех же чар, был заперт на засов и надежно посажен на веревку, продетую ему через нос.
Слушателям той эпохи смысл этого отрывка, по-видимому, был гораздо яснее, чем нам. Для лучшего понимания необходимо пристальнее вглядеться в текст. Эйя прибегает к заклинанию, т. е. к подкрепленному магией приказу: власть древним представлялась как сила, изначально присущая повелениям, — такая сила, которая требует послушания и находит претворение в действительности. В данном случае власть заклинания Эйи оказалась достаточной для того, чтобы наделить бытием выраженную в ней идею, подразумеваемую под словами «созидание Всего».
Таким образом осуществляется замысел космического масштаба: Апсу погружается в вечный сон — сон, сохраняющий подземные пресные воды невозмутимо спокойными. Непосредственно над ними воздвигается чертог Энки — храм в Эреду, построенный на водах лагуны. Энки восседает там и стережет Мумму, «первичный водный образ», дозволяя явиться на свет другим формам, помимо водных, создавая возможность существования нынешнего мира с его многообразием форм.
Заметим, что эта первая победа богов одержана одним богом, действующим по собственной инициативе, а не совместными усилиями всего божественного сообщества. Миф опирается еще на примитивный уровень социальной организации — фактическую анархию, когда опасность для общины ликвидируется посредством индивидуального поступка одного из наиболее могущественных ее сочленов — и Апсу, и Эйи. Борьба здесь пока еще не выходит за рамки семьи-общины.
Царь ad hoc, обеспечивающий безопасность
В доме, построенном над Апсу, Эйя водворился со своей супругой Дамкиной, и там был рожден его первенец Мардук — подлинный герой мифа. Певец восторженно описывает его внешность:
Крепким было его сложение, сверкающим его взгляд, взрослым он явился на свет, могущественнейшим от начала. Ану, его дед, увидел его, возликовал, просветлел ликом, радость наполнила его сердце. Подобие своей ( собственной) божественности он придал ему. Ростом высок он был необычайно, превосходил их во всем. Непредставимо был облик его совершенен, непостижим, труден для восприятия. Четыре глаза и четыре уха — пламя вырывалось, когда он открывал уста.Ану, дед юного Мардука, был, как водится, необычайно привязан к своему внуку и выдумал в подарок ему игрушки:
Ану зачал, породил четыре ветра, вложил их ему в руку, (говоря): «Пусть мой внук забавляется!» Он создал прах, велел южной буре нести его, нагнал волну, мутя Тиамат. Возмущена Тиамат, днем и ночью богам нет покоя, причиняет тревогу им каждая буря. Замыслив злое в сердце, сказали они своей матери Тиамат: «Когда убили они Апсу, твоего мужа, ты не встала ему на защиту, сидела смирно. (Ныне некто) сотворил четыре ужасных ветра, твое чрево встревожено, и мы спать не можем. Апсу, твой муж, не был в твоем сердце и Мумму, попавший в плен! Ты в стороне держалась! Ты не мать нам, ты мечешься вокруг в тревог е и нас, не могущих спать, нас ты не любишь!»Возмущенные боги по какой-то причине стояли на стороне Тиамат, и их раздраженные жалобы возымели действие: Тиамат проникается к ним глубоким сочувствием и принимается за снаряжение громадного войска. Она порождает ужасающих чудищ, которые возглавляют его:
Разъяренные, строя планы, не зная покоя ни днем, ни ночью, они готовились к битве, метались и прядали, словно львы, собрали совет — задумать сраженье. Матерь Хубур, что все сотворяет, умножала неотвратимое оружие, родила чудовищных змеев, острозубых, с беспощадными клыками, тела их наполнила вместо крови ядом. Свирепых драконов она облачила ужасом, увенчала их сиянием и сделала богами, чтобы всякий, кто взглянет на них, — погиб бы от страха, и они, если встанут во весь рост, назад бы не обернулись.Предводителем армии Тиамат избирает своего второго мужа Кингу, наделяет его всей полнотой власти и вручает ему «таблицы судеб», на которые занесены решения, принятые собранием богов. Эти таблицы символизируют высшую власть над вселенной. Итак, теперь все готово к нападению на младших богов.
Первым об этом узнает, как обычно, проворный и сведущий Эйя, хорошо понимающий гораздо большую опасность положения по сравнению с прежним. На сей раз он не знает, что предпринять:
Эйя услышал об этом, погрузился в молчанье мрачное, сел безмолвно. Потом, глубоко поразмыслив и утишив смятенье сердца, сам отправился в путь к отцу своему Аншару, предстал пред Аншаром, отцом своим, его породившим, поведал ему все, что замыслила Тиамат.Аншар, услышав новость, встревожен не менее, чем Эйя: он ударяет себя по бедрам и кусает губу. Сначала он намеревается отправить Эйю к Тиамат и склонить ее на уступки, однако Эйя испугался ее и повернул назад. Тогда к Тиамат посылают Ану, наделяя его более широкими полномочиями: в случае неповиновения Ану должен пригрозить Тиамат от имени всех богов. Однако и Ану терпит поражение. Тиамат мановением руки обращает его в бегство. Для богов настал черный день, они сидят безмолвно, утратив всякую надежду:
Аншар умолк, устремил взгляд в землю, скрежеща зубами, качая головой над Эйей, (тогда как) Игиги и все Ануннаки[403] сидели в собранье со сжатыми губами, не произнося ни слова.Наконец Аншар вспоминает о юном Мардуке и посылает за ним. Мардук, ничуть не колеблясь, готов сразиться с Тиамат, однако ставит условие: если он будет защищать богов, они должны вручить ему свою власть — он должен стать выше всех:
(Мой) владыка! Боги велений! Великие боги! Если я стану вашим защитником, чтобы победить Тиамат и спасти вас, соберите совет и провозгласите меня выше всех. Воссядьте весело вместе в Ub-ˇsu-ukkinna пусть буду я вашим посланцем, словом своим определять буду судьбы, и то, что я создам, да пребудет неизменным, и да будет мой устный приказ не отменен, не нарушен.
Аншар дает согласие и отправляет посла к Лахму и Лахаму сообщить им о надвигающейся опасности и созвать Совет. Охваченные ужасом, они спешат на призыв. Боги собираются на своем дворе (Ub-šu-ukkinna), приветствуют друг друга, садятся за пиршество и ведут долгие беседы:
Стали они беседовать, сели за пиршество — хлеб они ели, пили темное пиво. Сладкое питье прогнало их страхи, они пели от радости, пили крепкое вино. Стали они весьма беспечны, и дух их вознесся, ибо Мардуку, своему защитнику, вручили они (свои) судьбы. Воздвигли ему царственное возвышение[404], и воссел он, перед лицом отцов, (принять) правление: «Ты могуществен среди богов великих, твоя воля всевластна, твое повеление — Ану, Мардук, ты могуществен среди богов великих, непреложна твоя воля, твое повеление — Ану. Отныне твои наказы исполняться будут беспрекословно, вознести или низвергнуть — отныне в твоей власти. Сказанное тобой сбудется, твое слово не будет напрасным. Из богов никто не посягнет на твое право. Поддерживаться должны храмы богов, и забота об их святилищах возлагается на тебя».То, чем боги наделяют Мардука, есть царская власть:
Царскую власть мы тебе дали, власть надо всем и вся. Займи место в совете, и пусть твое слово главенствует. Да не знает пораженья твое оружие, пусть разит оно врагов. Даруй дыхание жизни, о Владыка, тому, кому доверяешь, но если бог замыслил злое — сгуби его жизнь.Таким образом, Мардук наделяется гражданской властью возносить и низвергать, не спрашивая остальных богов, а также ответственностью за надлежащую сохранность храмов; ему даются и военная власть, «царственность», требующая безоговорочного подчинения, и разящее без промаха оружие, и право миловать или убивать пленных врагов.
Для испытания того, действительно ли Мардук обладает врученной ему властью, боги устанавливают созвездие[405] и хотят, чтобы он сначала приказал ему исчезнуть, а потом появиться снова:
Созвездие посредине они положили и сказали Мардуку, своему первенцу: «О владыка, твоя воля истинно вышняя меж богов. Прикажи разрушить или создать — так оно да будет. Слово промолви — оно уничтожит созвездье. Промолви его вновь — созвездье будет прежним». Промолвил он слово — созвездье разрушилось. Промолвил снова — созвездье вновь (по) явилось. Боги-отцы, видя (мощь) его слова, возликовали, воздавая ему должное: «Мардук — царь!».Удовлетворенные боги вручают ему царские регалии, вооружают и торопят в битву:
Дали ему скипетр, престол и царское облачение, дали ему оружие, что разит без промаха, побеждая врага. «Ступай, перережь Тиамат горло! И пусть ветры кровь ее принесут сюда как радостную весть». Боги-отцы решили судьбу владыки: Пусть идет он дорогой «Безопасности и Послушания».Формула программна: в ней делается упор на то, что Мардук обладает чрезвычайной властью, которой он облечен богами под давлением угрозы нападения. Подчиняются они ему лишь ради достижения безопасности.
Вооруженный луком и стрелами, булавой и сетью для уловления Тиамат, Мардук выпустил перед собой молнию, наполнил тело сверкающим пламенем и взошел на колесницу бури, сопровождаемый различными ураганными ветрами, которые он создал. Таким — в образе грозовой бури — он устремился навстречу Тиамат:
Он изготовил лук, избрал его оружием в битве, стрелу возложил на тетиву тугую. Схватил булаву (он) правой рукою, взмахнул ею, лук и колчан на боку повесил, пустил молнию перед собою, жгучим огнем заставил пылать тело. Изготовил он сеть — уловлять ею Тиамат, установил четыре ветра, дабы ничто из нее не ускользнуло. Южный ветер, северный ветер, восточный ветер, западный ветер, дары от его (пра)отца Ану, по краям сети он поставил.Вот армии сошлись вместе — и Мардук, оглядывая вражеское полчище, замечает, что предводитель его, Кингу, смущен и растерян, действия его неуверенны, а взоры его помощников затуманились от ужаса при виде Мардука. Только Тиамат непреклонна: она пытается отвлечь Мардука льстивыми речами о его стремительном возвышении:
На устах ее — льстивые речи, были они лживы: «Ты прославлен, о Владыка, тем, что боги встали на твою сторону, они собрались на твоем месте, и (теперь) они (здесь) с тобой».Но Мардук не поддается на уловки — он сурово обвиняет ее в лживости:
Владыка поднял потоп — свое грозное оружье, Тиамат, (что пыталась) к нему подольститься, так он крикнул: «Зачем носить доброжелательство (как покров) снаружи, хотя сердце твое замышляет дать знак для схватки? Сыны отступили, их отцы поступали неправедно, и ты, давшая им жизнь, ненавидишь свое потомство. Ты назвала Кингу своим суженым, возвела его в сан, чтобы он выносил царские решения, — (честь) такая ему не подобает. Против Аншара, владыки богов, ты замышляешь злое, ты обнаружила свою злобу против богов, отцов моих: Воистину силы твои построены, опоясаны они оружием, тобою (изготовленным). Готовься! Да сойдемся с тобой мы в битве!»Младшие боги должны были отступить, поскольку прародители, в их глазах, вели себя несправедливо по отношению к ним, когда Апсу хотел их уничтожить; и теперь Тиамат, их мать, пылая ненавистью, рвется в бой с ними, стоя посреди вооруженной ею самой толпы.
Услышав вызов Мардука, Тиамат, охваченная страшным гневом, испускает рев и, дрожа от ярости, бросается в битву:
Тиамат и защитник богов, Мардук, завязали бой, вступили в единоборство, сошлись в битве. Раскинул владыка сеть, ее опутал; бурю, что следовала по пятам, пустил в лицо ей. Тиамат открыла пасть — широко, как могла; он направил в нее бурю, чтобы губ она не сомкнула. Свирепые ветры заполнили ей чрево, нутро у нее раздулось, и (рыгая) рот она широко открыла: он пустил стрелу, рассек ей чрево, разрубил ей утробу, пронзил ей сердце. Крепко стиснул ее и жизнь прекратил ей.При виде поверженной Тиамат ее соратники обращаются в бегство, однако оказываются пойманными сетью Мардука; они разоружены и взяты в плен. Кингу скован, и Мардук отнимает у него «таблицы судеб», для пущей сохранности налагая на них печати.
Должность царя сохраняется для создания благ: космос
Одержав над врагами победу и утвердив власть Аншара, Мардук вернулся к Тиамат, рассек ей булавой череп, разрезал артерии и велел северному ветру гнать ее кровь обратно (нетрудно догадаться, что тут имеются в виду дожди), неся радостную весть о победе. Затем воин предался отдыху, созерцая труп врага и замышляя хитроумные планы относительно того, как поступить с ним. Первое из его искусных свершений — создание космоса.
Сначала он разрубил Тиамат надвое и сделал из одной половины небо, позаботившись о запорах и страже, которая следила бы за тем, чтобы небесные воды не могли просочиться. Пересекши только что сотворенное небо в поисках строительной площадки, Мардук набрел на место прямо над жилищем Эйи внизу — Апсу. Здесь, предварительно измерив Апсу, он воздвиг точное его подобие — свое собственное владение, Эшарру. В тексте поясняется, что это название означает «небо»[406]. Затем Мардук сделал созвездия, учредил календарь, утвердил на месте Полярную Звезду и дал инструкции луне и солнцу:
Он повелел явиться месяцу: доверил (ему) хранение ночи; назначил ему украшать ночь для измерения времени; и каждый месяц, неукоснительно, он обозначил короной. «Когда новая луна поднимается над страной, сияй двурогим, отмеряя шесть дней; на седьмой день (яви) половину короны, и пусть пятнадцатидневья равными будут, две половины каждого месяца. И после, когда на тебя будет наступать солнце на основании небесном, убывай постепенно, уменьшай свой рост!»Управление ветрами и бурями Мардук оставил себе. Внизу он насыпал гору над головой Тиамат, пронзил ей глаза, ставшие источником Тигра и Евфрата (в аккадском языке «глаз» и «источник» обозначаются одним словом īnu; оба понятия в каком-то смысле, по-видимому, не расчленялись), нагромоздил горы также и на ее пронзенных сосках, из которых потекли реки с восточных гор, впадающие в Тигр. Ее хвост он загнул на небо, превратив во Млечный Путь, а промежность сделал опорой неба.
Сотворив таким образом небо и землю, Мардук с триумфом возвратился домой, где представил «таблицы судеб» своему деду Ану и устроил парад пленных богов перед их прародителями. Созданных Тиамат чудищ он разоружил и сковал. Вид их был настолько страшен, что он сделал их статуями и поставил в отцовском доме — у ворот Апсу, дома Эйи, — как памятник на все времена.
Понятно, что победа Мардука привела богов-отцов в восторг, Аншар вышел ему навстречу, и Мардук как царь (т. е. военный вождь) официально объявил ему, что добился мира и безопасности. Приняв приветствия богов и их поздравительные дары, Мардук совершил омовение, смывая с себя кровь и пот битвы, облачился во все регалии и занял место на престоле в тронном зале, дабы по всей форме выслушать славословия богов. Его копье, названное по именам препорученных ему «Безопасности и Послушания», помещается рядом с ним. Теперь его родители, Эйя и Дамкина, напоминают богам, что Мардук отныне — не просто их возлюбленный сын, но царь; собравшиеся боги дают ему имя «Lugal-dimmer-an-ki-a» («Царь богов неба и земли»), тем самым вновь подтверждая свою преданность. Теперь, однако, они прибегают к иной формуле. Произошли огромные перемены. Со смертью Тиамат крайняя нужда в защите более не является побудительным стимулом для послушания; с другой стороны, после того как Мардук создал вселенную, возник новый могущественный стимул — надежда быть облагодетельствованным его административным умением. И поэтому боги, вновь подтверждая свою лояльность Мардуку как царю, используют новую формулу: «Благо и Послушание».
Когда они вручили Мардуку царство, провозгласили над ним слова — «Благо и Послушание»: «Отныне ты будешь хранителем наших святилищ, и все твои приказания мы исполним».Постоянная основа для получения благ. Создание человека
Первым делом Мардук требует от богов, чтобы они построили ему город и дом, который служил бы постоянным царским административным центром и местом для проведения собраний: ориентир на пути к постоянству. Называться он должен Вавилоном. Боги-отцы, слушая Мардука, спрашивали: кто окажет ему содействие в управлении всем тем, что он создал, и будет исполнять его желания? Они готовы перебраться в Вавилон, дабы их помощь была более доступна, и там им будут ежедневно возноситься жертвы.
Тогда Мардук великодушно прощает богов, примкнувших к Тиамат, отпускает их на волю и поручает им строительные работы. Избежав смерти, боги простираются пред ним во прахе, восхваляют как своего царя и избавителя и обещают построить дом, какой только ему заблагорассудится. Их готовность взять на себя тяжкий труд побуждает Мардука замыслить новое искусное предприятие. Для облегчения бремени богов он решает сотворить ради них новое великое благо — создать человека.
Свяжу я жилы, скреплю я кости. Создам я Lullu[407], дам ему имя «человек», сотворю человека-Lullu Пусть он несет труды вместо богов, чтобы они свободно вздохнули. Затем я искусно распоряжусь путями богов; воистину спутаны они вместе, как клубок, пусть разделятся надвое.По совету своего отца Эйи Мардук созывает богов на совет, где обвиняет Кингу в том, что тот был зачинщиком нападения на богов — тем самым, кто взбаламутил Тиамат. Связанного Кингу приводят к Эйе и убивают, и Эйя сотворяет человека из его крови:
Они связали его, привели к Эйе, возвели на него вину, перерезали жилы-; из крови его людей сотворил он; возложил на них труд, богам дал свободу. Это деяние непостижимо для (человеческого) разума. (Действуя) по искусному наущению Мардука, сотворил его Эйя.Избавленные отныне человеком от низменного труда, боги обрели свободу для разнообразных задач по управлению мирозданием, и Мардук разделяет их на две группы: одни должны помогать Ану в небесных делах, другие — наблюдать за ходом дел на земле. Всем им он отдает свои приказания и назначает судьбы.
Благодарные боги подтверждают свою признательность действием — и в последний раз берут в руки лопаты, чтобы воздвигнуть Вавилон и храм в нем:
Ануннаки взялись за лопаты, целый год кирпичи изготовляли; по наступлении второго года воздвигли вершину Эсагилы[408] (над и) напротив Апсу и построили верхний (двойник) зиккурата (что) в Алсу. Для Ану, Энлиля, Эйи и для него поставили там сиденья; в величии он воссел перед ними, рога его (тиары) смотрели вверх на корни Эшарры (неба).Царь становится постоянным: монархия
По окончании строительства Мардук приглашает богов на пир в новом жилище. После празднества боги слагают с себя административные обязанности и распределяют должности на земле и на небе; великие боги восседают в собрании и назначают постоянных «семь богов судеб» — или, точнее, «велений» — выносить окончательные решения божественного совета. Мардук положил свой лук и сотворенную им сеть перед богами; Ану так понравился лук, что он усыновил его и дал ему место среди богов, его братьев, в собрании. Далее Ану возвел Мардука на царский престол. Боги склонились перед ним и связали себя клятвой, умастив себе шею маслом и водой. Затем они по всей форме даровали ему царственность на вечные времена, назначив его непреходящим властителем богов неба и земли[409]. Однако даже этого показалось недостаточно Аншару, и он, далее, нарек Мардука новым именем — Асаллухе, побудив богов к почитанию его. Власть Мардука и сопряженные с ней обязанности Аншар обрисовал следующим образом:
Безмерным да будет его могущество, пусть соперника он не знает, пусть он служит пастырем народа черноголовых, и пусть говорят они о его деяньях, да не будут они забыты до окончания времени. Да установит он великие приношения пищи своим отцам, да проследит он за их содержанием, позаботится о святилищах, да будут зажжены курения, да ликовали бы их святая святых. Подобье тому, что он оздал на небе, пусть на земле будет создано! Да приучит он народ черноголовый к почитанию, пусть подданные о нем помнят, взывают к своему богу. Да внемлют его слову — как слову богини-заступницы. Да приносит (народ) жертвы своим богам и богиням, да не будут они забыты, пусть они (народ) помнят своих богов, пусть (народы) страны свои возвысят, воздвигнут престолы. И пусть отдельные личные боги будут уделом черноголовому народу. Что до нас, то для всех нас — сколько нас ни поименовано — он наш бог-покровитель!Поэма завершается призывом Аншара к собравшимся богам назвать пятьдесят имен Мардука, что они и делают, причем каждое имя указывает на отдельную разновидность его могущества или на характеризующее его деяние.
СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ
Основная структурная линия: политическая тема
Сюжет в поэме «Энума элиш» необыкновенно сложен и детализирован. Поэтому, вероятно, небесполезно вычленить в нем основные структурные линии с целью получить более ясное представление о целях поэмы и о средствах их достижения.
Конечный смысл поэмы, несомненно, — возвышение Мардука до бессменного царя вселенной и тем самым установление монархической формы правления. Главный шаг к осуществлению этой возможности — сокрушение Тиамат и окончательная победа богов, олицетворявших энергию и движение, над древними силами инерции и покоя.
Не только сам сюжет в сегодняшнем виде, но и его mise au point[410] в финальных строках поэмы, где она называется «песнь о Мардуке, кто осилил Тиамат и взял себе царственность», говорят в пользу того, что именно в описанных событиях следует видеть самую сущность произведения.
Для того чтобы проследить все превратности сюжета на пути к этим целям, мы отложили на прилагаемой диаграмме (см. схему 1) ключевые события поэмы в порядке их изложения по горизонтали, а по вертикали отметили точками сюжетные моменты, которые способствуют либо, наоборот, препятствуют конечному достижению указанных целей. Результирующая кривая начинается с рождения богов и контраста между их природой и природой древних сил, лежащей в основе конфликта. В дальнейшем кривая образует четыре главных пика, каждый из которых соответствует пусковому событию, выполняющему роль «ударного механизма», который дает толчок к развертыванию очередного самостоятельного эпизода.
Два первых таких пусковых события, в которых находит выражение бьющая через край энергия молодости — квинтэссенции богов, — это пляска и игра: именно они служат причиной крайнего раздражения древнейших божеств, лишившихся покоя. Сначала Апсу, а вслед за ним. Тиамат доведены до того, что решают уничтожить своих мучителей, — лишь с тем, чтобы самим потерпеть поражение и погибнуть. Этот сюжетный отрезок, видимо, суммирован в финальных строках определением «кто осилил Тиамат», поскольку его кульминацией является сокрушение Тиамат.
По сути, два составляющих этот сюжетный отрезок эпизода существенно различаются по своему характеру: их можно рассматривать как изображение двух аспектов политической формы примитивной демократии: 1) неспособность пустить ее в действие и добиться согласованности в поступках либо по неумению прийти к согласию, либо по причине парализующего страха: и то и другое оставляет ситуацию на уровне фактической анархии; и 2) успешное функционирование примитивного демократического устройства в целях обеспечения единодушия в минуту грозящей опасности.
Первый из этих двух эпизодов, в котором нападающий — Апсу, заканчивается провалом. Апсу не в силах заставить Тиамат присоединиться к нему и действует на свой страх и риск. Эйя, когда новость становится известной, сталкивается с растерянными, загнанными в угол богами, неспособными ни к какой инициативе, — и также поступает по собственному усмотрению.
Второй эпизод, в котором главным антагонистом выступает Тиамат, заметно отличается от первого. Ход событий опирается на вполне отлаженную работу примитивной демократии, предполагающей созыв общего собрания во время кризиса и избрание военного вождя ad hoc. Когда дети Тиамат подстрекнули ее обрушить гнев на богов, сходится огромное собрание, включающее и потомков младшего поколения богов. Предводителем войска становится Кингу: его облекают соответствующими полномочиями и вручают надлежащие знаки отличия. Равным образом, как только весть о грозящей беде доходит до богов и упования на силу, заключенную в совместных или индивидуальных повелениях членов семейства Аншара, оказываются тщетными, Аншар, по просьбе Мардука, созывает собрание богов в расширенном составе, для того чтобы возложить на Мардука царский сан — право предводительствовать в предстоящей обороне. Происхождение должности ad hoc, порожденной реальной угрозой, выражено формулой «Безопасность и Послушание».
Пусковые события, служащие толчком для дальнейшего развертывания сюжета, обладают иным характером, нежели события первой части: они являются уже не раздражающим, а побудительным стимулом. Содержание этого отрезка поэмы суммировано в заключительных строках произведения словами «и взял себе царственность». Здесь повествуется о том, как Мардук — после того как победа над Тиамат устранила угрозу, фактическое обоснование его власти, — находит возможность благодаря выдающемуся уму и таланту руководителя добиться сначала продления срока своей должности, а затем стать бессменным, т. е. подлинным, монархом, поскольку его правление сулит неслыханные дотоле блага.
Первая из этих «хитроумностей» (niklātu, как значится в тексте) — это создание Мардуком вселенной из тела Тиамат. По мере исчезновения угрозы при все более явных признаках победы и после того как Мардук честно передает свою власть старейшинам — Эйе и Ану, а Аншар во всеуслышание провозглашает наступление мира, отпадающая необходимость в Мардуке-защитнике уступает место в высшей степени привлекательным перспективам преимуществ, которые сулит сотворение им космоса. Соответственно собравшиеся боги оставляют за Мардуком власть. Прародители Мардука торжественно возлагают на него свои прерогативы, новая основа которых выражена прямо в новой формуле, служащей приветствием царю: «Благо и Послушание» вместо прежней «Безопасность и Послушание».
Следующий шаг к обретению постоянной власти делает сам Мардук, предлагая построить постоянную столицу — Вавилон. В ответ на это предложение прародители незамедлительно заявляют о своей готовности перебраться туда в качестве правителей новой вселенной, и даже пленные боги, которым Мардук даровал прощение, движимые благодарностью, возглашают о своем желании предпринять гигантский труд по постройке города.
За этим следует еще одно «пусковое» событие — еще одна «хитроумность» Мардука, которая водворяет наконец постоянство и устанавливает монархический строй: сотворение человека. Трудность, заключающаяся в том, что это сотворение требует убийства бога, преодолевается проведением надлежащего судебного процесса — обвинением и казнью Кингу за подстрекательство к мятежу. Освобожденные боги демонстрируют свое доверие к Мардуку верноподданническим осуждением Кингу на собрании, специально созванном для этого. Сотворение человека раз и навсегда освобождает всех богов, не исключая Мардука, от тяжкого труда, и в результате им даруются посты в новом управленческом аппарате. Таким образом, воцаряется примирение и устанавливается всеобщее согласие.
Перед тем как окончательно распрощаться с тяжелым физическим трудом, боги воздвигают Вавилон как постоянное место для встреч и собираются там для того, чтобы учредить постоянно действующие органы управления. Первым делом учреждается постоянный комитет из «семи богов судеб» — иначе говоря, семи богов, которые придают решениям божественного совета окончательную, непререкаемую форму. Затем Мардук возводится на престол, и ему приносятся клятвы в верности. В итоге наступает торжество истинной монархии.
Побочная сюжетная линия: тема убийства родителей
Постепенный переход от начальной анархии к примитивной демократии, а затем монархии можно считать основной сюжетной линией в поэме «Энума элиш». Это ее политическая тема. Однако в первой половине поэмы с ней тесно переплетается также и другая, побочная, — тема убийства родителей, предмет которой составляет не политическая, а семейная власть. В центре эпизодов с Апсу и Тиамат стоит фигура родителя, до предела раздраженного проявлениями юношеской жизнерадостности — пляской и игрой — собственных отпрысков. Разные поколения вступают в открытый конфликт, который разрешается убийством родителей, после чего убийца основывает свой собственный дом на теле покойного родителя.
Мотив, взятый сам по себе, естественнее всего истолковывается как символизация эмоций, связанных с переходом власти в семье от отца к сыну после смерти родителя. Элемент убийства родителей может представлять более или менее подавленные желания младшего поколения, тогда как построение сыном своего собственного дома на теле родителя — мрачноватая проекция той ситуации, когда сын становится во главе дома, а тела родителей предаются захоронению в семейном склепе под домом.
В «Энума элиш» этот мотив разработан, однако, уклончиво, с оговорками. С одной стороны, автор явно стремится всячески притушить его и смягчить; с другой — столь же недвусмысленно желает сделать на нем упор, сочувственно подчеркивая родительский статус жертв, в особенности материнство Тиамат. Попыткой смягчить жестокость поступка следует считать изображение автором родителей и потомков отстоящими друг от друга на несколько поколений — с тем, чтобы убийство столь отдаленных предков выглядело действием менее преступным, нежели прямое убийство отца и матери. Автор всеми силами пытается оправдать кровопролитие. Затеянные богами пляски и игры, вызвавшие недовольство древнейших божеств, явно не носили намеренно провокационного характера. Бремя ответственности за возбуждение враждебности последовательно возлагается на родителей, так что дети действуют исключительно в целях самозащиты. Мардук лаконично выражает это, бросая Тиамат следующее обвинение:
«Сыны отступили, их отцы поступили неправедно, и ты, давшая им жизнь, ненавидишь (свое) потомство».Однако, хотя мотив убийства родителей отчасти затушевывается и изображением как отдаленных предков, и прямым возложением на них всей вины, все же этому в целом невыгодному для них впечатлению отчасти — и едва ли не намеренно — противоречат усиленное подчеркивание материнства Тиамат и постоянно сочувственное изображение ее. Так, налицо ее материнская привязанность, когда она отказывается примкнуть к Апсу:
Тиамат, заслышав это, возмутилась, набросилась на своего мужа, вопила, язвила, одинокая в негодовании. Она приняла злобу (близко ) к сердцу: «Как можем мы уничтожить то, что (сами) явили на свет? Хотя пути их беспокойны — перенесем это мирно!»Сходным образом в конце концов ее удается подбить на роковые действия не из-за недостатка терпения и выдержки, но воззвав к материнскому инстинкту заботы о детях:
«Ты не мать нам, ты мечешься вокруг в беспокойстве, и нас, не знающих сна, ты не любишь! Наша вода застоялась, источники иссохли!»Подобная благожелательная трактовка заклятого врага — Тиамат — настолько странна, что невольно создается впечатление, будто автора обуревают противоречивые чувства — любовь, страх и чувство вины, вызывающее потребность оправдываться.
Во второй половине поэмы, посвященной усилиям Мардука стать бессменным правителем, тема убийства родителей совершенно исчезает. Здесь, правда, происходит расправа над одним из древнейших божеств — Кингу, но родственные связи с ним нигде не подчеркиваются, а сам он остается на редкость безжизненной фигурой. Здесь также возводится дом — Эсагила и Вавилон, однако не на теле Кингу, и он предназначается не для одного Мардука, но для всех богов, включая и тех, кто был на стороне Тиамат. По контрасту с темой убийства родителей здесь особо подчеркивается образцовое отношение Мардука к своим родителям, деду и прадеду, а также мирная и доброжелательная обстановка, в которой ему вручается желанная для него власть.
Возникает вопрос о цели введения в рассказ темы убийства родителей и ее связи с политической темой эволюции монархии.
В поисках ответа сначала следует, видимо, обратить внимание на некоторые другие тексты, говорящие о наделении Мардука царским саном, — в особенности на весьма ранние сведения, которые находим в начале Законов Хаммурапи:
Когда державный Ану, повелитель Ануннаков (богов), и Энлиль, владыка земли и неба[411], отдающий повеления всему народу, вручили судьбы Мардуку, первенцу Эйи, (исполнение) обязанностей Энлиля для всех людей и возвеличили его среди Игигов (богов), назвали Вавилон гордым именем, поставили его превыше всех среди четырех сторон (света), посреди него установили навечно нескончаемое царство, основанья которого нерушимы как (основанья) земли и неба, в то время...[412]Здесь мы легко узнаем древнейшую шумерскую традицию созыва совета богов, собирающихся под началом Ану и Энлиля в Ниппуре, для того чтобы наделить одного из членов совета, его город и правителя этого города царской властью над Южной Месопотамией, Шумером и Аккадом (или, наоборот, отнять ее). Впрочем, по сравнению с более древними языковыми оборотами можно отметить одно любопытное различие. Вплоть до поколения, следующего за падением Третьей Династии Ура (а возможно, и позднее), у шумеров сохранялись представления о политическом устройстве мира богов как о примитивной демократии, а царский сан, вручаемый собранием богов, все еще был должностью ad hoc с ограниченным сроком полномочий. И это несмотря на то, что к тому времени подлинная монархия уже давно господствовала на политической арене месопотамского общества. Напомним слова Энлиля, произнесенные им после падения Ура:
Нельзя опровергнуть суд,
приговор, вынесенный собраньем.
Повеленья Ана и Энлиля
никогда еще не менялись.
Уру в самом деле даровали царственность —
но нескончаемый срок не был дарован.
С незапамятных дней, когда страна впервые возникла,
и до той поры, пока она не перестала развиваться,
видел ли кто-нибудь совершенной царскую должность?[413]
Новым в Законах Хаммурапи является, следовательно, определение «нескончаемое»,
используемое для характеристики царствования, установившегося в Вавилоне, поскольку именно в «нескончаемости», используя именно это слово, отказал Энлиль царствованию, которое было даровано Уру. Таким образом, мы имеем здесь предварение, как бы в самом зачатке, политической темы «Энума элиш», которая заключается в переходе от временной царской власти примитивной демократии к постоянной власти примитивной монархии, обретенной Мардуком.
Представляет интерес и космический масштаб царской власти — такой, как она изображена в Законах Хаммурапи. Власть даруется Аном, повелителем богов, и Энлилем, владыкой неба и земли: Мардуку вручаются, собственно, прерогативы Энлиля по управлению человечеством. Соответственно город Мардука становится центром мира. Этот космический аспект традиционен. Он вытекает из характера богов как совмещающих в себе государственную и космическую власть. Энлиль властвует над небесами и землей объединенных Шумера и Аккада. Политический и космический горизонт этим и ограничивается.
В Законах Хаммурапи повод для формальной передачи власти Мардуку имеет историческую подоплеку: это — победа Хаммурапи, на тридцатом году его царствования, над Рим-Сином, благодаря которой он подчинил Нижнюю Месопотамию и древний Шумер своей власти и объединил страну так, как в последний раз это было во времена правления Третьей Династии Ура. Провозглашение Мардука царем, таким образом, — совсем недавнее историческое событие для этого памятника. Иное дело в «Энума элиш»: здесь царская власть Мардука существует изначально и восходит к мифическим временам. Ввиду этого различия и того факта, что объединение под властью Хаммурапи никоим образом не было «нескончаемым» (Юг откололся менее чем через двадцать лет, во время царствования его сына Самсуилуны), представляется маловероятным, что за столь короткое время историческое происхождение царской власти могло быть забыто и что автор мог отнести его к мифическому времени. Очевидно, подоплеку картины, изображенной в «Энума элиш», следует искать в чем-то другом.
Ответ дан, по-видимому, в самой поэме: примечателен выбор моря, Тиамат (в позднейшей, сокращенной форме «Тамтум»), в качестве главного антагониста Мардука. Этот выбор должен показаться странным, ибо море — Персидский залив — лежит далеко на юге, за обширными болотами, и вряд ли играло значительную роль в мирском быте заурядного вавилонского жителя.
Необходимо наличие какого-то более специфического обстоятельства, обусловившего такой выбор, и этим обстоятельством является тот факт, что исторически главным антагонистом Мардука и Вавилона вскоре после смерти Хаммурапи и длительное время на протяжении касситского периода была именно «Земля Тиамат» (mat tâmtim) — «Приморье», занимавшее как раз территорию древнего Шумера[414]. В конце концов оно было завоевано Улам-Буриашем, который таким образом объединил Южную и Северную Вавилонию, Шумер и Аккад в одно царство на гораздо более длительный срок, нежели прежде.
Если Тиамат — олицетворение Приморья, а победа, одержанная над ней Мардуком, воплощает завоевательный поход и присоединение к Вавилону и Северу во время правления Улам-Буриаша, что в воспоминании могло представляться эпохальным событием отдаленного прошлого, то многое в поэме «Энума элиш» становится понятным. Почти полное отсутствие в повествовании каких-либо упоминаний об Энлиле и Ниппуре, например, всегда было трудно объяснимым, поскольку традиционно космическая власть была дарована Аном и Энлилем, действующими за богов, которые собираются в городе Энлиля — Ниппуре. Однако если Тиамат — это Приморье, тогда отсутствие Энлиля становится понятным, так как Ниппур — часть Приморья. Таким образом, Ниппур и Энлиль были бы на стороне Тиамат, а Энлиль — одним из пленных богов и не вполне подходящим источником власти.
Многое проясняет рассмотрение темы убийства родителей. Воюя с Приморьем, Вавилон воевал с территорией древнего Шумера со всеми его знаменитыми и почитаемыми древними городами и их богами. Это была война выскочки против породившей его цивилизации. Злободневность этой проблемы и то, что Приморье полагало себя наследником и продолжателем шумерской цивилизации, ясны из следующего факта: его властители, особенно последние представители династии, щеголяли изысканными шумеризированными именами[415]. Понятно поэтому, что Вавилон мог ощущать — сознательно или подсознательно — свою победу в некотором смысле отцеубийственной. Понятно также, что он мог искать оправдания собственной агрессивности, изображая себя жертвой нападения и выступая олицетворением юности и юношеской жизнерадостности, противопоставленной одряхлевшим традициям.
Прежде всего, однако, наполняется смыслом забота о примирении и единстве в повествовании: и частое изображение Тиамат в положительном свете, и амнистия, дарованная богам — ее сторонникам, и быстрое включение их в новую администрацию вполне укладываются сюда как отражающие чувство единства и родства с бывшим врагом, что, возможно, и было осознанной политикой после объединения.
В «Энума элиш» царственность, власть Мардука и Вавилона над всей Вавилонией существуют изначально. Соответственно маловероятно, чтобы в то время, когда создавалась поэма, сохранялись очень точные воспоминания ее исторических корней. Эмоциональные отголоски и смутные воспоминания о наказанной гордыне сохранялись, однако, в сознании довольно прочно.
Цели и задачи
Вернемся теперь к поставленному в самом начале главы вопросу о приемлемости мироздания, применив его конкретно к мирозданию, с каким мы сталкиваемся в «Энума элиш». В «Энума элиш», как мы видели, проблема освещается на нескольких уровнях. Прежде всего, это мифотворческое изображение восхождения Вавилона и Мардука к власти над объединенной Вавилонией, но отнесенное к мифическим временам и получившее универсальное значение. Это также повествование о том, что правит вселенной, о возникновении монархии как объединяющего начала устремлений многих божеств. В целом это история происхождения мира и мироустройства. Происхождение мира, как здесь утверждается, по сути своей акцидентально: боги рождаются из смешения первобытных вод и порождают других богов. Активная природа богов ведет к конфликту с древнейшими божествами — воплощениями пассивности, покоя и «мертвой руки» могучей старой культурной традиции. Мировой порядок, в сущности, возник в результате юношеской воли, сознательной, созидательной деятельности прирожденного властителя — Мардука. Он создал подлунный мир, преодолел былые страхи, победил ненависть тем, что великодушно даровал амнистию богам, захваченным в сражении, и назначил их на должности в своей администрации. Так мир утверждается как государство, как благоустроенная патерналистская монархия с постоянным, несменяемым царем, столицей, советом и царским дворцом в Вавилоне.
Такой взгляд на миропорядок во многом впечатляет. Вселенная видится основанной на божественной власти и божественной воле: даже те устремления, которые традиционно ощущались как древнейшие, более авторитетные или же как враждебные, объединяются под эгидой единого правителя, власть которого осуществляется посредством совета, убеждения и уговора. В религиозном плане подобный взгляд обладает большой глубиной, воплощая в образе Мардука аспекты благоговейного почитания и величия. Более того, в интеллектуальном смысле он исключительно привлекателен тем, что унифицирует концепцию существования: политический порядок охватывает как природу, так и общество. Наконец, в чисто человеческом аспекте он также вполне привлекателен: конечная власть не отчуждена от людей, но воплощена в образе богов, имеющих человеческий облик и действующих доступным разумению образом. Вселенная теперь исполнена нравственного смысла, полна значения и есть проявление творческого сознания, направленного к достойной цели: всеобщему порядку, миру и процветанию.
7. МЕТАФОРЫ ВТОРОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ. «И СМЕРТЬ - КОНЕЦ ПУТИ». ЭПОС О ГИЛЬГАМЕШЕ
ПРОБЛЕМАТИКА. ГЕРОЙ. ВЕРСИИ
Мы рассмотрели поэму «Энума элиш» как примечательную попытку понять и принять мироздание, примирить человека с его судьбой. Автор «Энума элиш» оказался в состоянии сделать это вполне чистосердечно, однако выраженный им взгляд на мир ни в коем случае не был единственно возможным; подтверждением этому служит более ранний эпос о Гильгамеше[416], в котором также выражено примирение с человеческой участью. Впрочем, здесь приятие мира дается не столь легко, и достигнутый итог не вполне убедителен. В отличие от «Энума элиш» в эпосе о Гильгамеше предмет изображения — не боги и не власть над вселенной, а человек; основная проблема — смертная природа человека, тот факт, что все мы обречены на смерть.
Гильгамеш, насколько нам известно, — историческая фигура, царь города Урука (библейское «Эрех»), правивший ок. 2600 г. до н. э. Резонно предположить, что сказания о нем распространялись длительное время после его смерти, однако для нас они становятся доступны только приблизительно с 2100 г. до н. э., когда их подхватывают придворные поэты Третьей Династии Ура. Цари этой династии считали Гильгамеша своим предком. Мы располагаем рядом коротких эпических сказаний на шумерском языке, оригиналы которых должны относиться ко времени оживления этого интереса, однако собственно «Эпос о Гильгамеше», к рассмотрению которого мы приступаем, датируется приблизительно 1600 г. до н. э.: он был создан в конце старовавилонского периода на аккадском языке. Строго говоря, следовало бы вести речь не об «эпосе», а о «контурах эпоса», поскольку от старовавилонской версии сохранились лишь фрагменты, представляющие собой, возможно, только отдельные песни не вполне оформившегося цикла о Гильгамеше[417]. Эти фрагменты, однако, содержат все более или менее существенные эпизоды (в основном связанные внутренней зависимостью), составляющие сюжет позднейшей версии. Эта версия, созданная, по-видимому, в конце II тысячелетия неким Син-лике-уннинни, дошла до нас по большей части в копиях, относящихся приблизительно к VII в. до н. э., из прославленной библиотеки Ашшурбанапала в Ниневии. Она содержит немало постороннего основному сюжету, и ей недостает свежести и живости древневавилонских фрагментов. В нашем пересказе мы будем поэтому опираться на древнейшие фрагменты везде, где только возможно.
СЮЖЕТ
Начало сказания — представление героя — выдержано в высоком стиле «романтического эпоса». Как «Одиссея» открывается характеристикой Одиссея:
Скажи мне, Муза, о том человеке, готовом подать помощь, о том, что по свету странствовал всюду... и многих людей города повидал, и помыслы их изучил он; воистину мук претерпел он в сердце своем немало, по волнам морским скитаясь, жизнь уберечь вожделея и со спутниками возвратиться...[418][419] —так и «Эпос о Гильгамеше» начинается строками, рассчитанными на то, чтобы возбудить читательский интерес к герою как к человеку, испытавшему диковинные и волнующие приключения и повидавшему дальние страны:
Тот, кто все повидал, до самого края земли Познал моря, испытал все...Однако во вступлении к «Эпосу о Гильгамеше» звучит особая тема, отсутствующая в «Одиссее». Здесь упор делается на том, что выходит за рамки индивидуального опыта, хотя бы и редкостного. Основное внимание сосредоточено на осязаемом, непреходящем свершении, воплощенном в постройке городской стены, ограждающей Урук[420]. В те времена, когда писались строки вступления, это сооружение все еще вызывало изумление:
Он обнес стеною Урук, (город) овчарен, священный предел Эанны, амбар сокровенный. Взгляни на стену: ее фриз — как из бронзы! Погляди на укрепления — нет им равных! Взойди по ступеням из камня — столь древним, приблизься к Эанне, обители Иштар, подобного ей будущий царь — никто из людей — никто не построит. Поднимись и пройди по стене Урука, исследуй уступы, изучи кирпичную кладку: основание сложено разве не из обожженного кирпича? Не семеро ли владык заложили основу?При первом же знакомстве с юным Гильгамешем мы узнаем о его редкостной мощи и жизненной силе. Будучи правителем Урука, он берется за дело со всей страстью. Он постоянно поднимает войско по тревоге, отзывая соратников от мирных занятий; он доводит юношей города до такой степени усталости, что у них темнеет в глазах и они лишаются чувств от изнеможения; он не оставляет им ни минуты досуга, который они могли бы разделить с родственниками и возлюбленными.
Жители Урука, понятно, не слишком довольны происходящим и начинают донимать богов жалобами и просьбами как-нибудь исправить дело. Боги провидчески узнают причину беспокойного состояния Гильгамеша: мощь и несравненная жизненная сила правителя поставили его особняком, обрекли на одиночество. Ему нужен равный ему друг, достойный сподвижник, столь же мощный и неистовый. Они обращаются к богине-создательнице Аруру с просьбой создать подобие Гильгамеша:
Ты, Аруру, создала дикого быка (Гильгамеша), теперь создай его подобье, буйным сердцем пусть сравнится он с Гильгамешем, пусть вступят они в состязанье, а Урук вкусит отдых.Аруру в качестве образца создает умственный образ бога небес, умывает руки, отщипывает глины, бросает в пустыню — и таким образом сотворяет Энкиду.
Энкиду — это человек, находящийся в первобытном состоянии. Он обладает чудовищной силой, ходит обнаженным, все его тело покрыто шерстью, волосы у него длинные, как у женщины, и густые, как колосья хлеба. Но он ничего не знает ни о стране, в которой живет, ни о. населяющих ее людях: бродит вместе с газелями по степи, ест траву и вечерами утоляет жажду вместе с животными у водопоя. Друг зверей, он помогает им спасаться от охотников: засыпает вырытые ямы-западни и ломает поставленные ловушки. Это сталкивает его с человеком. Охотник, живущий поблизости, терпит тяжелые лишения из-за дел Энкиду, но, поскольку Энкиду велик и силен, противостоять ему он не может. В отчаянии охотник идет к отцу и рассказывает ему о пришельце, который мешает его промыслу. Отец охотника советует отправиться в Урук к Гильгамешу и попросить у него блудницу: та, явившись сюда, соблазнит Энкиду, который ради нее оставит зверей. Охотник отправляется в Урук и обращается к Гильгамешу с мольбой. Гильгамеш, выслушав его рассказ, велит охотнику взять и увести с собой блудницу, которая испробует на Энкиду свои чары.
Итак, охотник находит блудницу, вместе они возвращаются в степь, на третий день добираются до водопоя, куда Энкиду любит приходить вместе с животными, и там устраивают засаду. Проходит день, другой — на третий день появляется Энкиду, а с ним звери, которые принимаются пить воду. Охотник, указав блуднице на Энкиду, побуждает ее снять одежды и попытаться привлечь внимание Энкиду. Это удается ей как нельзя лучше, и Энкиду вкушает наслаждение шесть дней и семь ночей, забыв обо всем на свете. Насытившись наконец женской лаской, на седьмую ночь он хочет вернуться к своим зверям. Но животные разбегаются. Он бросается за ними вдогонку, однако обнаруживает, что утратил прежнюю силу и былое проворство. Догнать их он не в состоянии.
Отчасти причиной тому является известная усталость, однако с уверенностью можно предположить, что создатель поэмы вкладывал в этот эпизод большой смысл. В судьбе Энкиду произошла некая решающая магическая перемена. Легко возникающая естественная симпатия, существующая между детьми и животными, оставила Энкиду, как только он перестал быть ребенком и лишился невинности. Познав женщину, он сделал свой выбор: отныне он принадлежит человеческому роду: животные теперь боятся его и более не могут вступать с ним, как раньше, в безмолвное общение. Не сразу и не до конца, но все же Энкиду осознает это. «Он стал взрослым, — говорит автор поэмы, — его разумение расширилось». Энкиду смиряется с тем, что зверей ему не догнать, и возвращается к блуднице, которая встречает его очень приветливо:
Я смотрю на тебя, Энкиду, ты подобен богу! Зачем ты бродишь в степи со зверями? Пойдем, дай мне ввести тебя в Урук с широкими улицами, в священный храм, обиталище Ану. Энкиду, встань, дай мне ввести тебя в Эанну, обиталище Ану, где Гильгамеш отправляет обряды. Ты бы мог совершать их тоже, вместо него, утверждая себя!Слова блудницы радуют Энкиду, и он решает последовать ее совету. Тогда она делится с ним своей одеждой и, взяв за руку, ведет по степи к пастушескому стану, где их встречают радушно и гостеприимно. Здесь Энкиду впервые сталкивается с цивилизацией и всеми ее сложностями. Пастухи ставят перед ним еду и питье — нечто, совершенно ему неведомое.
Он был приучен сосать лишь молоко зверей; хлеб поставили перед ним. Он смутился, он глядит, он смотрит. Энкиду не знал, как едят хлеб, он не был обучен, как пить пиво. Блудница открыла уста и сказала Энкиду: «Ешь хлеб, Энкиду, это опора жизни! Пей пиво — это обычай страны!» Энкиду ел хлеб, пока не насытился, пил пиво — семь кувшинов — отдохнул он душой, возвеселился, нутро у него взыграло, лицо просветлело. Он омыл водой свое волосатое тело, умастился маслом и стал как все люди. Надел облаченье, как юноша знатный. Оружие взял, сражался со львами, и пастухи мирно спали ночью.Несколько дней Энкиду проводит с пастухами. Однажды, сидя с блудницей, он видит спешащего мимо человека и просит блудницу привести этого человека к нему: он хочет узнать, куда тот торопится. Человек объясняет, что несет свадебный пирог в Урук, где готовится свадьба Гильгамеша[421]. Это огорчает Энкиду: он бледнеет и немедля отправляется в Урук вместе с блудницей. Их прибытие вызывает смятение. Вокруг собираются люди, глазея на Энкиду и поражаясь его могучему сложению. Ростом он пониже Гильгамеша, но столь же силен.
Пока народ выражает свое восхищение, приближается Гильгамеш вместе со свадебной процессией, направляясь в дом тестя для совершения брачного обряда[422], однако, в то время как он подходит к двери, Энкиду преграждает ему путь, не допуская к невесте. Схватившись, противники сражаются, как юные быки, обрушивая сени и сотрясая стены. Наконец, Энкиду берет верх и Гильгамеш преклоняет одно колено, но, когда Гильгамеш смиряет гнев и признает свое поражение, Энкиду обращается к нему — без тени злорадства победителя — со словами истинного восхищения:
Не сравнимого ни с кем родила тебя мать, дикая буйволица ограды Нинсун, высоко над мужами главу вознес ты, над людьми царство определил тебе Энлиль!Великодушие Энкиду подкупает сердце Гильгамеша: сражение между ними кладет начало нерушимой дружбе. Гильгамеш берет Энкиду за руку и приводит в дом к своей матери, которая встречает его как сына, брата Гильгамеша.
Таким образом разрешаются все проблемы. Энкиду счастливо живет в Уруке, Гильгамеш нашел себе друга, однако — как это часто бывает — счастье длится недолго. Новый образ жизни расслабляет Энкиду. Крепость его мышц исчезает: он чувствует себя вяло, плохо — совсем не так, как некогда в степи. Однажды Гильгамеш застает его в слезах и сразу догадывается, что именно следует предпринять. Им обоим необходим какой-нибудь трудный поход, сопряженный со множеством испытаний и приключений. Необходимо, предлагает Гильгамеш, сразить ужасное чудовище по имени Хувава, живущее далеко на западе в кедровом лесу.
Хотя Энкиду и оплакивает горько утрату прежней мощи, предложенный Гильгамешем способ ее возвращения—это для него, пожалуй, чересчур. Ведь если Гильгамеш только наслышан о Хуваве, Энкиду видел его собственными глазами во время своих странствий по степи и проникся здравым чувством почтительности по отношению к гиганту:
Хувава, рык его — как бурный поток, уста его — жаркое пламя, дыханье его — смерть. Зачем ты желаешь совершить это? Неотразимый натиск — топот Хувавы!Но решение Гильгамеша твердо. Он укоряет Энкиду за недостаток храбрости и, пристыдив, склоняет к походу. Взяв выкованное для них мощное оружие, они прощаются со старейшинами города, которые дают им советы относительно похода, прощаются и с матерью Гильгамеша.
Поход описывается со множеством подробностей: особенно детально передаются сны Гильгамеша, исполненные зловещих предзнаменований. Однако Энкиду стоит на своем и с бессознательной нечестивостью всякий раз усматривает в снах Гильгамеша обещание победы над Хувавой[423]. Далее повествуется об их действительной схватке с Хувавой: к сожалению, во всех версиях этот эпизод плохо сохранился, однако из имеющихся отрывков можно заключить, что так или иначе Хувава терпит поражение и просит пощады; Гильгамеш склонен сохранить ему жизнь, но по настоянию Энкиду убивает его. Наиболее полное описание эпизода содержится в более раннем, чем эпос, шумерском сказании, которое, возможно, входило в круг источников, имевшихся в распоряжении создателя эпоса[424]. В нем говорится, что поначалу Гильгамеш поддается ужасу, который внушает Хувава, и теряет способность двигаться. Из гибельной ситуации его вызволяет хитрость: Гильгамеш делает вид, что явился вовсе не для того, чтобы биться с Хувавой. Его цель на самом деле — якобы получше узнать горы, где Хувава живет, и предложить ему свою старшую сестру в жены, а младшую — в служанки. Хувава, поверив обману, снимает с себя военное одеяние из лучей ужаса. Оказавшись беззащитным, он не может противостоять натиску Гильгамеша, который одерживает над ним полную победу. Хувава умоляет оставить ему жизнь — и Гильгамеш, будучи рыцарем, готов пойти на это, однако Энкиду, по-деревенски недоверчивый, отговаривает его:
Того, кто выше всех, но суждения не имеет. Намтар (смерть) поглощает, Намтар, не признающий никаких (оправданий). Упустишь пойманную птицу, плененному птенцу вернуться к матери, ты сам никогда не вернешься в свой город к матери, тебя родившей.Хувава, разъяренный этим вмешательством, язвительно спрашивает, не собирается ли Энкиду — этот «наемник, который, нанося ущерб съестным припасам, тащится за своими спутниками», — возложить таким образом на него всю вину, и Энкиду, уязвленный оскорблением, отрубает Хуваве голову.
По возвращении в Урук — мы следуем эпосу — Гильгамеш смывает с себя запекшуюся кровь и дорожную пыль и облачается в чистые одежды. В своем одеянии он настолько привлекателен, что сама богиня Урука — Иштар влюбляется в него и предлагает стать ее супругом. Тогда она подарит ему колесницу из золота и лазурита, цари будут преклонять перед ним колени, его козы приносить тройней, а овцы — двойней. Гильгамеш отнюдь не прельщен подобной перспективой, которая вызывает у него никак не радость, а скорее даже смятение. Вместо спокойного отказа он осыпает Иштар обвинениями: она — и недостроенная дверь, которая не защищает от ветра и сквозняков; смола, которая пачкает того, кто ее несет; дырявый мех, обливающий того, кто его держит; сандалия, жмущая ногу владельца, и так далее. Более того, он напоминает о том, что все, кого Иштар любила прежде, кончили плохо. Среди них — Думузи (или Таммуз), предмет ее девической любви, ежегодные оплакивания которого она учредила. Любила она и пеструю птичку, которой сама же сломала крыло, и та скитается теперь в лесах с криком «kappī! каррī!» («мое крыло! мое крыло!»).
Любила она и льва, для которого вырыла ямы-ловушки, и боевого коня, которому определила кнут и шпоры. Любила она и пастуха, которого потом превратила в волка и натравила на него его же собак; любила и садовника своего отца, Ишуллану, на которого наслала несчастье, когда он отверг ее притязания.
Выслушав этот каталог своих прегрешений, Иштар — никогда не отличавшаяся терпением — бросается к своему отцу Ану, богу небес, с жалобой на Гильгамеша. Не в силах стерпеть нанесенного ей оскорбления, Иштар просит у него небесного быка, дабы погубить Гильгамеша.
Ану соглашается не сразу и высказывает предположение о том, что Иштар сама вызвала Гильгамеша на бранные речи. Однако Иштар полна такой ярости, что угрожает, в случае отказа, сломать ворота подземного царства и выпустить оттуда мертвых, чтобы они пожирали живых. Ану напоминает: небесный бык, оказавшись на воле, причинит такие разрушения, что за этим последует семь лет голода. Но Иштар уверяет, что она запасла достаточно зерна и сена для людей и скота, и в конце концов Ану уступает.
Бык, которого Иштар ведет в Урук, представляет собой ужасную угрозу. От первого же его выдоха в земле разверзается яма, в которую падает сто мужей, от второго выдоха — вторая, и в нее падает еще двести мужей. Однако Гильгамеш и Энкиду доказывают свое давнее умение обращаться с животными. Энкиду заходит сзади быка и крутит ему хвост (испытанный ковбойский прием), в то время как Гильгамеш, подобно матадору, вонзает в шею быка меч.
Гибель небесного быка потрясает Иштар. Она взбирается на городскую стену, исполняет танец скорби и проклинает Гильгамеша. Услышав это, Энкиду отрывает заднюю ногу быку и швыряет ее в сторону Иштар с возгласом: «Ты! Если бы только я мог до тебя добраться, я бы сделал с тобой то же самое». Иштар со своими прислужницами поднимает плач над бедром быка, а Гильгамеш созывает мастеров, чтобы те могли оценить величину бычьих рогов, которые он преподнесет в качестве обещанного дара своему божественному отцу — Лугальбанде. Затем Гильгамеш и Энкиду омываются в Евфрате и с триумфом возвращаются в Урук. Все население города высыпает на улицу, чтобы поглазеть на героев. Гильгамеш торжественным напевом возвещает дворцовым служанкам: «Кто благороднейший из юношей? Кто прославленнее всех из пастухов?» — а они отвечают: «Гильгамеш — благороднейший из юношей! Энкиду прославленнее всех из пастухов!»
Теперь оба друга находятся на вершине славы и могущества. Они умертвили чудовищного Хуваву в отдаленном и недоступном кедровом лесу, высокомерно и заносчиво обошлись с великой богиней — и, убив небесного быка, доказали, что могут одержать над ней верх. Для них, кажется, нет ничего невозможного.
Однако теперь начинают сказываться результаты их деяний. Хувава был назначен стражем кедрового леса Энлилем, и его убийство вызвало у Энлиля ярый гнев.
Во сне той же ночью Энкиду видит богов, собравшихся судить его и Гильгамеша за убийство Хувавы. Энлиль требует для ослушников смертной казни, но вмешивается бог солнца — бог справедливости и умеренности — и берет Гильгамеша под свою защиту. Энкиду, впрочем, поскольку вина его очевидна, должен поплатиться жизнью. И вот Энкиду тяжело заболевает. Пораженный ужасом перед надвигающимся концом, он сожалеет, что явился в Урук, и проклинает тех, кто привел его сюда, — охотника и блудницу. Бог солнца, снова вступаясь за справедливость, указывает Энкиду, как много тот приобрел в своей новой цивилизованной жизни, обретя друга — Гильгамеша. Тогда Энкиду уравновешивает проклятие, посланное им блуднице, пространным благословением. Тем не менее, независимо от того примирился он с судьбой или нет, Энкиду обречен на смерть.
Следует отметить, что вплоть до этого момента Гильгамеш жил героическими ценностями своего времени. Смерть входила составной частью в миропорядок: следовательно, раз она в любом случае неизбежна, пусть это будет славная гибель от руки достойного противника в честном бою, после которой имя и слава героя будут жить в веках. Так, например, когда Гильгамеш, предложив напасть на Хуваву, сталкивается с нерешительностью Энкиду, он бросает другу суровый упрек:
Кто, мой друг, был когда-нибудь так высоко, (что он мог) вознестись на небо и обитать вечно с Шамашем? Простой человек — дни его сочтены, что бы он ни делал, он — только ветер. Ты — и уже сейчас — боишься смерти. Где же дивная сила твоей отваги? Я пойду вперед, а ты, (отставая), можешь кричать мне: «Наступай, не бойся!» И если паду я — оставлю славное имя: «Гильгамеш пал (скажут они) в единоборстве со свирепым Хувавой!»Гильгамеш рисует в воображении картину будущего, когда его дети взберутся на колени Энкиду и как Энкиду расскажет им о ратной доблести отца и его славной смерти.
Но все это было, пока смерть являлась для Гильгамеша абстракцией. Теперь, со смертью Энкиду, он сталкивается со всей ее жестокой реальностью и отказывается верить собственным глазам:
Мой друг, быстрый мул, дикий осел с гор, пантера равнины, Энкиду, мой друг, быстрый мул, дикий осел с гор, пантера равнины, ты, с кем мы делали все вместе — карабкались на уступы; поймав, небесного быка убили; погубили Хуваву, жившего в кедровом лесу, теперь — что за сон овладел тобою? Ты стал темен и не можешь меня услышать! Но он не поднимал глаз, (Гильгамеш) притронулся к его сердцу — оно не билось. Тогда закрыл он лицо другу, словно невесте... Как орел, он кружил над ним; будто львица, что, (вернувшись ), встречает своих львят, он кружил перед своим другом; рвал и разбрасывал волосы, срывал и топтал украшения с тела.Постигшая его утрата непереносима. Все существо Гильгамеша отказывается принять ее:
Тот, кто со мной одолел все тяготы, Энкиду, которого нежно люблю я, того, кто со мной одолел все тяготы, — участь человека его постигла. День и ночь напролет над ним рыдал я, не давал его зарывать в землю, словно мог еще друг мой подняться снова, заслышав мои (громкие) вопли, — семь дней и ночей, пока червь не выпал из его носа. Его нет — и мне не найти утешенья, буду странствовать я, как охотник в пустыне.Смерть, страх смерти становится навязчивой идеей Гильгамеша. Он не может думать ни о чем другом; мысль о том, что он должен умереть, преследует его днем и ночью, не давая покоя. Он слышал о своем предке — Утнапиштиме, который обрел вечную жизнь и теперь живет где-то далеко, на краю света. Он решает отправиться к нему, чтобы выведать секрет бессмертия.
И вот Гильгамеш отправляется в путь. Пройдя знакомый мир, он достигает гор на западе, где садится солнце. Ворота, в которые входит солнце, стерегут громадный человек-скорпион и его жена, но когда Гильгамеш рассказывает им о смерти Энкиду и о своих поисках бессмертия, они проникаются к нему жалостью и пускают в горный ход, сквозь который шествует солнце по ночам. Дважды двенадцать миль отделяют Гильгамеша от выхода; пройдя их в полном мраке, он приближается к воротам рассвета и только тогда ощущает ветерок на лице и видит наконец впереди дневной свет. У ворот восхода разбит сад, в котором на деревьях вместо плодов растут драгоценные камни, однако эти богатства не соблазняют Гильгамеша. Все его думы сосредоточены на одном: избежать смерти. За воротами простираются неоглядные степи: в них Гильгамеш скитается, поддерживая жизнь охотой на диких зверей. Съедая мясо, он одевается в их шкуры. Чтобы добыть воды, он роет колодцы там, где их никогда не бывало. Он бредет бесцельно, в ту сторону, куда подует ветер. Шамаш, бог солнца, — сама умеренность — раздражен этим и урезонивает Гильгамеша с небес. Но Гильгамеш не слушает никаких увещеваний, единственное его желание — жить:
Довольно ли (всего) этого — после скитаний и странствий в пустыне — лечь на отдых во внутренности земли? Много раз ложился я и засыпал все эти годы! (Нет!) Пусть видят глаза мои солнце, и дайте насытиться мне дневным светом! Далека ль темнота? Много ли здесь дневного света? Может ли мертвый увидеть сияние солнца?Скитаясь, Гильгамеш в конце концов приходит на берег моря, кругом омывающего землю, и там обнаруживает корчму. Неряшливый вид Гильгамеша, одетого в шкуры, внушает хозяйке корчмы[425] страх, она торопится запереть дверь, принимая его за разбойника. Приблизившись, Гильгамеш называет себя, рассказывает об Энкиду, о своих поисках вечной жизни, секрет которой он надеется узнать от Утнапиштима. Хозяйка корчмы — вслед за Шамашем — видит недостижимость его цели и пытается переубедить Гильгамеша:
Гильгамеш, куда ты стремишься? Жизни, что ищешь, ты никогда не найдешь. (Ибо) когда боги создали человека, они смерть дали ему в удел, а жизнь удержали в своих руках. Ты, Гильгамеш, насыщай желудок, день и ночь предавайся веселью, ежедневно устраивай праздник, днем и ночью пляши под музыку. Носи чистые одежды, мой голову и окунайся в воду. Погляди на ребенка, что руку твою держит, и пусть жена будет счастлива в твоих объятиях. Только в этом одном — забота людская.Но переубедить Гильгамеша не так-то просто:
Зачем, (добрая) хозяйка, ты говоришь так? Сердце мое тоскует о друге. Зачем, (добрая) хозяйка, ты говоришь так? Сердце мое тоскует об Энкиду!Он просит хозяйку указать ему дорогу к Утнапиштиму, на что она соглашается. Лодочник Утнапиштима, Уршанаби, как раз в это время находится на суше и занят рубкой леса: может быть, он согласится перевезти Гильгамеша. Гильгамеш отыскивает Уршанаби, однако дело поначалу не ладится. Гильгамеш, как видно, сломал в гневе каменные шесты, при помощи которых Уршанаби управлял лодкой, плывя по водам смерти: возможно, поэтому Уршанаби не сразу дает свое согласие. И вот теперь ему приходится нарубить изрядное количество деревянных (и оттого ненадежных) шестов, необходимых для замены прежних прочных каменных. Однако они все-таки доплывают до острова, на котором живет Утнапиштим.
Итак, в конце концов, преодолев невероятные трудности, Гильгамеш достигает цели. Он стоит на берегу острова, перед ним — его предок Утнапиштим, которого можно расспросить о том, как он обрел вечную жизнь.
Но стоило только Гильгамешу устремить взор на Утнапиштима, как он понимает, что ожидал чего-то другого, что-то здесь не совсем так:
Я гляжу на тебя, Утнапиштим, твое тело сложено точно так же, ты в точности сходен со мною! И ты сам точно такой же, ты в точности сходен со мною! Мое сердце было готово вступить с тобой в схватку, но ты на спине лежишь праздно. Скажи мне, как ты оказался в собранье богов в поисках жизни?Тогда Утнапиштим рассказывает историю о потопе — о том, как он один был предупрежден своим владыкой Эйей, как построил ковчег, укрыл и спас в нем свое семейство и пары всех животных, а затем, после потопа, ему была дарована богами вечная жизнь в награду за спасение жизни человека и животных. Это повествование об уникальном событии, а вовсе не тайный рецепт или свод указаний, пригодный для всех и каждого. Оно никак не приложимо к Гильгамешу и его ситуации. Всякая опора для надежды, побудившей его отправиться на поиски, рушится:
Но для тебя ныне кто созовет собранье богов, дабы ты отыскал жизнь, которую ищешь?Утнапиштим не дает Гильгамешу ответить. Возможно, он хочет сразу вразумить Гильгамеша посредством наглядного урока — испытания сном. Не лишено вероятности и предположение, что рассказ о потопе является позднейшей, не слишком искусной вставкой в более краткий рассказ о наглядном уроке. Во всяком случае, Утнапиштим тут же предлагает Гильгамешу не спать шесть дней и семь ночей. Гильгамеш принимает вызов. Он готов вступить в единоборство с младшим братом Смерти, Сном. Но стоит только ему опуститься на землю, как Сон окутывает его своим дыханием, и Утнапиштим сардонически замечает жене:
Взгляни на богатыря, что жаждет жизни! Сон дыханье наслал на него, словно ураган с ливнем.Жена Утнапиштима проникается, однако, жалостью к Гильгамешу, поскольку знает, что от этого сна он никогда не проснется сам: бороться с ним — значит бороться со смертью. Она просит мужа пробудить Гильгамеша, чтобы тот мог спокойно удалиться. Утнапиштим не спешит сделать это. Ему слишком хорошо известно, что человек по природе лжив, и он вовсе не ожидает, будто Гильгамеш явится исключением. Поэтому он велит жене готовить ежедневно для Гильгамеша еду и отмечать дни на стене позади него. Так она и поступает, а на седьмой день Утнапиштим притрагивается к Гильгамешу — и он просыпается. Первые его слова — как и предвидел Утнапиштим — следующие:
«Едва только сон на меня пролился — ты коснулся меня и пробудил от дремоты».Однако отметки на стене и порции еды в различной степени испорченности свидетельствуют об ином. Надежды, таким образом, нет — и ужас охватывает Гильгамеша с еще большей силой, нежели раньше:
Гильгамеш сказал ему, дальнему Утнапиштиму: «Что мне делать, Утнапиштим, куда отправляться? Та, что меня преследовала неумолимо, воссела в моей спальне — это Смерть! И куда я лицо ни обращаю, повсюду она — Смерть!»У Утнапиштима не находится слов для утешения: он только велит Уршанаби отвести Гильгамеша к месту, где тот мог бы умыться и надеть чистые одежды, чтобы пуститься в обратный путь. Одежды эти не сносятся, пока он не доберется до дома. Гильгамеш и Уршанаби вновь сталкивают лодку в воду. Не успевают они отплыть от берега, как жена Утнапиштима вновь вступается за Гильгамеша, спрашивая мужа, что же он даст Гильгамешу теперь, когда тот, после стольких испытаний, возвращается наконец домой. Гильгамеш направляет лодку обратно к берегу, и Утнапиштим рассказывает ему о цветке с шипами, растущем в Апсу — пресных водах глубоко под землей. Он обладает властью возвращать молодость и называется «Старик Становится Ребенком». Обрадованный Гильгамеш спешит открыть ход, ведущий в Апсу, привязывает к ногам камни (как поступают искатели жемчуга в Бахрейне), чтобы они утянули его вниз отыскивать растение. Ему удается сорвать цветок, хотя он и ранит при этом руку. Затем он отвязывает камни и, увлекаемый потоком, поднимается наверх и оказывается на суше. Счастливый, он показывает цветок Уршанаби (оба находятся, по-видимому, скорее на берегу Персидского залива, нежели на острове Утнапиштима) и рассказывает ему о свойствах чудесного цветка и о том, как он доставит его в Урук и съест, когда придет к нему старость, чтобы вновь стать ребенком[426].
Погода стоит жаркая: на обратном пути Гильгамеш, завидев манящий прохладой пруд, сбрасывает одежды и ныряет в воду. Учуяв аромат оставленного им на одежде цветка, из норы выползает змей[427], хватает и пожирает цветок. Исчезая в норе, змей сбрасывает старую кожу и предстает юным, гладким, лоснящимся.
Это событие знаменует конец исканий Гильгамеша. Они кончились провалом. Змей, а не он обрел способность омолаживаться. И вот, наконец, Гильгамеш вынужден признать свое поражение — полное поражение:
В тот день Гильгамеш сидел и плакал, слезы по щекам у него струились: «Для кого, Урнашаби, мои руки трудились? Ради кого кровью истекало сердце? Себе самому не принес я благословенья, змею подземному сослужил я добрую службу!»Однако настроение, в котором он встречает свое последнее поражение, ново и необычно: оно непохоже на то, что он испытывал раньше. Гильгамеш спокоен, уравновешен: его охватывает отрешенное состояние окрашенного легким юмором смирения с оттенком иронии по отношению к себе, в котором нет места ужасу или отчаянию. Оно сходно с чувством, выраженным в строках Драйдена:
Поскольку всякий, кто рожден, умрет, А счастья в жизни меньше, чем невзгод, Спокойно примем все, что суждено: К чему печаль о том, что знать нам не дано? Путь пилигримов мы должны пройти: Весь мир — корчма, и смерть — конец пути[428].Это запоздалое и дорогой ценой завоеванное смирение, это принятие действительности находят символическое выражение в возвращении героя эпоса к началу — к стенам Урука, прочно противостоящим времени. Вот в чем заключается непреходящее свершение Гильгамеша. Человеку приходится умирать, но сделанное им переживает века: в каждом людском свершении есть доля бессмертия — единственного вида бессмертия, доступного человеку. И первое, что делает Гильгамеш вернувшись домой, — показывает Уршанаби стены Урука:
Гильгамеш сказал лодочнику Уршанаби: «Взойди, Уршанаби, на стену Урука, пройдись по ней! Взгляни на уступы, исследуй пристально кирпичную кладку! Не из обожженного ль кирпича сложено его основанье? Не семеро ли владык заложили фундамент? Десятина города и десятина фруктовых садов, десятина речного русла, десятина храма Иштар. Три десятины земли и окрестности храма составляют Урук».На этом поэма заканчивается.
ИСТОЧНИКИ
Чтобы лучше понять содержание древней поэмы и намерения ее авторов, необходимо коснуться двух основных вопросов: об источниках и о мотивах, определивших выбор темы. Проблема источников состоит в выделении того материала, которым пользовался автор, или же, коль скоро старовавилонские фрагменты еще представляют собой не единый эпос, но лишь цикл сказаний, в установлении того, на какие именно традиционные истории о Гильгамеше мог опираться рассказчик. Вопрос о тематике поэмы более сложен. Не так легко объяснить, почему автор (или авторы) поступали с имевшимися в их распоряжении материалами тем или иным образом, какая цель преследовалась, какие именно значения в них усматривались и какой смысл в них вкладывался. Что, собственно, делало эти рассказы предметом поэзии?
Сведения об источниках, известные нам или основанные на догадках, мы попытались сжато представить на схеме «Предания о Гильгамеше» (см. схему 2). Начинается она с «исторического Гильгамеша» — правителя Урука приблизительно около 2600 г. до н. э., в период, называемый Вторым Раннединастическим П. Предположение, что предания о Гильгамеше группируются вокруг подлинной исторической фигуры, подтверждается многочисленными сведениями об этом периоде. Некоторые эпизодические персонажи существовали реально — например, Энмебарагеси, отец Агги из Киша, который упоминается в сказании «Гильгамеш и Агга»: это удостоверяют современные ему надписи[429]. Само имя «Гильгамеш» состоит из элементов, характерных для имен собственных той эпохи, но позднее вышедших из употребления; обычай хоронить двор умершего правителя вместе с ним, подразумеваемый в сказании «Смерть Гильгамеша», известен нам как реально имевший место в относящихся к чуть более позднему времени царских погребениях в Уре; позднее от него отказались. Как правитель Урука в Раннединастический период, исторический Гильгамеш должен был обладать титулом e n («жрец») и должен был объединять в своем лице два различных аспекта — магический (Heros) и военный (Него), соответственно обозначенные нами на схеме.
Магического аспекта должности en мы касались ранее при рассмотрении ежегодного обряда брака, в котором человек-en (жрец или жрица) заключал брачный союз с божеством. В Уруке en был мужчиной и правителем города. В обряде он отождествлялся с Думузи-Амаушумгальанной и вступал в брак с богиней Инанной, или Иштар. Их союз магическим образом обеспечивал плодородие и изобилие для всех. Изображение этого обряда на знаменитой Урукской вазе показывает, что он праздновался в этом городе уже в Протописьменную эпоху. Магические прерогативы верховного жреца en не ограничивались его ритуальной ролью в обряде священного брака. Они принадлежали ему по праву и продолжали оказывать свое действие даже после смерти, когда он переселялся в подземный мир, в землю, из которой исходили силы, побуждающие деревья и растения, сады, поля и пастбища расти и процветать. Особенно удачливые верховные жрецы en, на время правления которых выпадали годы изобилия, почитались и после кончины: погребальные приношения должны были гарантировать, что благотворное влияние ушедших будет продолжаться. Исторический Гильгамеш, как можно предположить, и являлся именно такой фигурой, наделенной властью обеспечивать наступление урожайных лет и остающейся предметом поклонения после смерти. Первое из дошедших до нас указаний на это содержится в хозяйственных документах из Нгирсу (ок. 2400 г. до н. э.). Они свидетельствуют о том, что погребальные приношения удачливым верховным жрецам en и другим лицам, наделенным силой плодородия, совершались в священной местности, называемой «Берег Гильгамеша»[430]. Последующие свидетельства о видном положении Гильгамеша среди влиятельных лиц подземного мира находим в литературном тексте, относящемся приблизительно к 2100 г. до н. э. и повествующем о смерти первого царя Третьей Династии Ура, Ур-Намму[431]. Здесь Гильгамеш выступает судьей в царстве мертвых. Вновь эта роль приписывается ему гораздо позднее, в магических текстах I тысячелетия, где к нему обращаются за приговором над бродячими духами и прочими злыми силами[432]. Наконец, в копиях плачей, созданных, по-видимому, в первой половине II тысячелетия, упоминается Гильгамеш — форма умирающего бога Думузи наряду с богом Нингишзидой[433].
Таким образом, отсюда явствует, что существовала живая и длительная нелитературная религиозная традиция, возникшая из магического аспекта должности исторического Гильгамеша как верховного жреца (en).
Героический аспект должности верховного жреца заставляет предположить, что исторический Гильгамеш должен был возглавлять армию Урука, — и здесь вновь тот факт, что предания группируются вокруг его имени, говорит о том, что он был видным военным вождем. Нелегко ответить со всей определенностью на вопрос о том, содержится ли в позднейшем литературном сказании, воспевающем его как предводителя освободительного похода на Киш, подлинное историческое зерно, но это представляется вполне вероятным. Во всяком случае, приписываемая ему роль освободителя может служить объяснением того, что бог Думузи-Амаушумгальанна избрал образцом для себя Гильгамеша, будучи божественным посланцем в армии Урука в позднейшей войне за независимость против ненавистных кутиев — горных жителей — около 2100 г. до н. э. Утухегаль, приведший армию к победе, сообщает нам в своей надписи, как он доложил об этом решении Думузи-Амаушумгальанны своим войскам, обратившись к ним с речью при выступлении в поход[434].
Сказание о войне Гильгамеша с Кишем упоминается также в царском гимне, написанном в честь Шульги из Ура[435] всего лишь через поколение после Утухегаля, а другое военное достижение — постройка городских стен Урука — приписывается ему в сказании, относящемся приблизительно к 1800 г. до н. э., в надписи Анама, правителя, занимавшегося их починкой[436].
На фоне двух этих нелитературных линий преданий (одна из них — о силе плодородия в подземном мире, т. е. магическая; другая — о прославленном воине и древнем строителе стены, т.е. героическая) мы выделяем то, что может быть названо собственно литературным развитием. О его началах мы не знаем почти ничего, но можно предположить существование большого числа устных сказаний и песен, передававшихся из поколения в поколение и впоследствии утраченных для нас, за исключением тех, что дали материал для позднейших письменных произведений.
По-видимому, подобные письменные произведения впервые появляются[437] с воцарением Третьей Династии Ура около 2100 г. до н. э. Цари этой династии не только проявляют большой интерес к литературе, но и стремятся к сохранению старинных памятников письменности в целом. Они считают себя потомками Гильгамеша, и потому предания и тексты, ему посвященные, пользуются у них особым вниманием. Сохранились (почти все в позднейших копиях) отдельные короткие эпические сочинения на шумерском языке, которые четко делятся на две группы: в одних произведениях, связанных с магическим аспектом, Гильгамеш сталкивается с проблемой смерти; в других, отражающих героический аспект, воспевается его воинская доблесть. Среди первых есть сказание «Смерть Гильгамеша»[438], повествующее о том, как смерть в урочный час пришла к Гильгамешу, как он бурно протестовал и как самому Энлилю пришлось вступить с ним в спор, доказывая неотвратимость конца человеческой жизни. Сказание известно нам только по фрагментам: до конца его смысл можно будет уяснить, только если когда-нибудь посчастливится найти новые источники. Другая история о Гильгамеше, также связанная со смертью, называется «Гильгамеш, Энкиду и Подземный Мир»[439].
Здесь рассказывается о том, как в начале времен богиня Инанна, скитаясь по берегам Евфрата, обнаружила плывущее по нему дерево, вытащила его на берег и посадила в землю в надежде, что, когда оно вырастет, она сможет изготовить из его древесины стол и кровать. Дерево быстро выросло — и, когда оно достигло нужного размера, Инанна захотела его срубить, но оказалось, что на вершине свила гнездо птица грома Имдугуд, в дупле поселилась демоница Кисикиль-Лилла, а в корнях притаилась огромная змея. Бедная Инанна, не решаясь приблизиться к дереву, обратилась к своему брату, богу солнца Уту, за помощью, но получила отказ. Тогда она обратилась к Гильгамешу, который по-рыцарски взялся за оружие и изгнал захватчиков, срубил дерево, дал Инанне древесины для стола и кровати, а для себя изготовил шайбу и клюшку — для игры, видимо, напоминавшей современный хоккей[440]. Урук в радости и веселье праздновал победу; были счастливы все, кроме одной нищей бездомной девочки, у которой не было ни отца, ни матери, ни брата, и чувствовала она себя одинокой и брошенной. В тоске она воззвала к богу солнца, богу справедливости и равенства — и, когда она произнесла внушающий трепет возглас «i—Utu», Уту услышал ее. Земля разверзлась, и игрушки, которые Гильгамеш сделал для собственной забавы, провалились в подземный мир: это должно было послужить укором тем, кто предавался бездумному веселью. Гильгамеш был безутешен, и Энкиду опрометчиво вызвался принести игрушки обратно. Гильгамеш обстоятельно растолковал ему, как следует вести себя в подземном мире; держаться тихо, не привлекая к себе внимания нарядной одеждой и умащениями, стараться не выказывать своих чувств — например, не целовать умерших любимую жену и любимого ребенка и не бить умерших нелюбимую жену или нелюбимого ребенка. Однако вышло, что Энкиду все это проделывал, и поэтому подземный мир не выпустил его. Гильгамеш воззвал к богам, но все, что они могли сделать для него, — это вызволить из подземного мира призрак Энкиду ради короткой встречи. Друзья обнялись, и, отвечая на расспросы Гильгамеша, Энкиду подробно описал ему подземный мир. Существование там мучительно, однако существуют различные градации страдания. С теми, кто имел большие семьи, кто пал в битве, с тем, кто достойно прожил жизнь, обращаются лучше, чем с остальными. Но все же какие-либо ясные моральные или этические принципы, по-видимому, недействительны в инфернальном мире.
Среди произведений героической линии сказаний следует назвать прежде всего текст «Гильгамеш и Агга из Киша»[441]. Это короткое шумерское повествование о том, как Гильгамеш возглавил Урук в борьбе за независимость от Киша. После того как Урук отказался исполнять обычную принудительную работу, войска Агги приплыли на кораблях к стенам города и начали осаду. Первая вылазка, совершенная воином Бирхуртуррой, оказалась безуспешной. Во-второй — Гильгамеш и Энкиду проложили путь к кораблю Агги и захватили Aггy в плен. В сказании затрагиваются сложные проблемы воинской доблести и верности клятве. Гильгамеш некогда был, как выясняется, беглецом, которого Агга принял со всем радушием. В сущности, именно Агга, по-видимому, сделал Гильгамеша своим вассальным правителем в Уруке — и вот, облеченный властью, Гильгамеш теперь поднимает мятеж против него. Как подлинный герой, Гильгамеш не выносит зависимости от чужого великодушия: он должен добиться того, что имеет, благодаря собственной храбрости в бою, должен доказать свое превосходство, одержав победу над Аггой.
Только захватив Аггу в плен, он может признать себя его должником. Гильгамеш отпускает Аггу на свободу и сам, по собственной воле, обещает признать его своим господином. Теперь его черед проявить великодушие: он платит Агге добром за то, что тот для него сделал, и с лихвой возвращает ему долг.
Героический аспект Гильгамеша также преобладает в шумерском сказании о его походе против Хувавы. Оно дошло до нас в двух различных версиях — пространной и краткой[442]. Опасный поход предпринят Гильгамешем с целью прославить свое имя, однако это сказание отличается от сказания об Агге своим более романтическим, почти сказочным фоном. Если Агга — обыкновенный, смертный противник, то Хувава — скорее чудовищный великан, нежели простой воин. Полностью мифический характер носит, наконец, шумерское сказание «Гильгамеш, Инанна и небесный бык»[443]. Здесь, как и в соответствующем эпизоде из эпоса[444] доблесть Гильгамеша противостоит божеству и мифическому чудовищу.
Итак, в сказаниях о Гильгамеше находят выражение две тенденции, в которых проявляются два диаметрально противоположных отношения к смерти. В героических сказаниях герой почти безоглядно бросается навстречу опасности — рассчитаться с Аггой и больше не чувствовать себя у него в долгу, прославиться победой над Хувавой, помочь Инанне. В сказаниях, связанных с магической линией, смерть — великое, но неизбежное зло: «тьма, которой нельзя противостоять, прибыла за тобой»[445], говорят Гильгамешу в «Смерти Гильгамеша». «Если бы я поведал тебе о подземном мире — тебе, сидящему в слезах, и мне захотелось бы сесть рядом и плакать»[446], говорит ему Энкиду в сказании «Гильгамеш, Энкиду и Подземный Мир». Эти противоречивые мнения как бы предвещают то, что становится темой позднейшего эпоса: переход от первоначального презрения к смерти к навязчивому страху перед ней, заставляющему Гильгамеша отправиться на поиски бессмертия после смерти Энкиду.
В ответ на более конкретный вопрос о том, какие элементы шумерской литературной традиции были использованы в эпосе, можно указать на эпизод с Хувавой и на сказание «Гильгамеш, Инанна и небесный бык». Это очевидные прообразы соответствующих эпизодов эпоса. Оба эти эпизода представлены в старовавилонских источниках. С другой стороны, не обнаружено никаких шумерских аналогов эпизодам «Приход Энкиду» и «Поиски жизни», которые также входят в старовавилонский материал. В сущности, сомнительно, чтобы эти сказания вообще когда-либо составляли часть шумерской традиции повествований о Гильгамеше. Скорее всего, происхождение их иное.
Что касается эпизода «Приход Энкиду», то мотив косматого дикого человека, живущего вместе со зверями и заманиваемого в человеческое общество женщиной, во многих формах обнаруживается в восточном фольклоре, мотив этот детально изучен Чарльзом Аллином Уильямсом в диссертации «Восточные параллели легенде о косматом отшельнике» (Urbana, 1925—1926). По наблюдениям ученого, подоплеку рассказа составляет чувство удивления, которое вызывал орангутанг, считавшийся «диким человеком», намеренно избегающим общества других людей. Истоки этого мотива следует, таким образом, искать на Дальнем Востоке.
Мотив «Поисков жизни» также хорошо известен за пределами Месопотамии. Мы находим его отражение в сюжете «Вода жизни» «Семейных сказок» братьев Гримм. Здесь рассказывается об умирающем короле: три его сына отправляются на поиски живой воды, чтобы вернуть отцу жизнь. Только младший сын с помощью животных, о которыми он обошелся по-доброму, сумел добраться до острова, где находится живая вода, и принести ее. Кроме того, он, разумеется, покорил сердце принцессы и после дальнейших испытаний зажил счастливой жизнью.
Наконец, это мотив похищения змеем цветка, возвращающего молодость. Этот мотив убедительно связывается с меланезийским и аннамским фольклором в исследовании «О Гильгамеше — Эпос XI» Юлиана Моргенштерна, опубликованном в журнале «Zeitschrift für Assyriologie» (29, с. 284—300).
Когда именно эти дальневосточные фольклорные мотивы проникли в Месопотамию, установить нелегко. Первые два из названных, по-видимому, существовали уже в старовавилонские времена, как показывают материалы, связанные с Гильгамешем, и нет оснований полагать, что они появились ранее. Почему они были включены в состав преданий о Гильгамеше, представляет собой очередную загадку. Проще всего предположить, что старовавилонские источники на самом деле относятся к некоему эпосу, темой которого послужили контрастно соположенные представления о смерти в сказаниях о Гильгамеше, однако его создатель дополнил их другими известными ему сказаниями, послужившими развитию этой темы. Если же усматривать в старовавилонской версии всего лишь цикл независимых сказаний, то труднее понять, что именно в их содержании побуждало соотносить их с фигурой Гильгамеша.
Если справедливо предположение о существовании старовавилонского эпоса о Гильгамеше, то этот эпос наверняка был короче версии, приписываемой Син-ликеуннинни, начиная, возможно, с конца II тысячелетия. Эта последняя, в свою очередь, короче версии на двенадцати табличках, находившихся в библиотеке Ашшурбанапала. Начнем с ее рассмотрения. Двенадцатая табличка представляет собой механическое добавление — аккадский перевод второй половины сказания «Гильгамеш, Энкиду и Подземный Мир», не имеющий органической связи с основной частью эпоса. Добавление было произведено настолько механически, что первые его строки вообще непонятны, и их смысл проясняется, только если знать содержание тех частей первоначального рассказа, которые были опущены при присоединении его к эпосу о Гильгамеше. Без этого дополнения (сделанного, очевидно, скорее переписчиком, нежели редактором) в эпосе выявляется определенная структура: он начинается и завершается одним и тем же хвалебным гимном стенам Урука. Возможно, именно такую форму придал ему Синлике-уннинни, и к его версии относится, вероятно, также и пространный рассказ о потопе, вложенный в уста Утнапиштима и занимающий почти половину одиннадцатой таблицы. Его принадлежность всей структуре предполагается особым подчеркиванием данного эпизода во введении к эпосу: во фрагменте, опущенном нами при пересказе сюжета, к героическим свершениям Гильгамеша причисляется то, что он принес людям знание о временах перед потопом. С другой стороны, растянутый тяжеловесный рассказ о потопе резко нарушает плавную размеренность повествования, а тот факт, что он дублирует — а по сути, делает бессмысленным — последующее состязание Гильгамеша со Сном, говорит в пользу того, что это дополнение, а не составная часть оригинального сюжета. Его источником, очевидно, является предание о потопе, представленное как шумерским сказанием о потопе, так и обстоятельным рассказом в мифе об Атрахасисе. Ни в одном из этих источников потоп не имеет ни малейшего отношения к традиционным материалам о Гильгамеше. По этой причине следует полагать, что в старовавилонском эпосе (или истории поисков) мотив потопа отсутствовал — по крайней мере в таком объеме — и Син-лике-уннинни включил его в свою версию как представляющий самостоятельный интерес.
СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ: ТЕМАТИКА
Вопрос об источниках эпоса о Гильгамеше привел нас к исторической личности Гильгамеша, верховного жреца («en») города Урука и проблеме происхождения двух линий традиции, отражающих контрастирующее отношение к смерти. Можно предположить, что именно в таком контрасте заключалась, in nuce[447], центральная тема позднейшего эпоса. Дальнейшее развитие темы, характер авторской обработки и концентрации материала наиболее полно можно показать, опираясь на версию Син-лике-уннинни. Главную проблему эпоса можно определить как положительно (поиски бессмертия), так и отрицательно (попытка избежать смерти). На прилагаемой схеме (см. схему 3) мы обозначили движение героя сказания к целям восходящим направлением линии развития сюжета, а неудачи — падением ее вниз.
В начале рассказа Гильгамеш разделяет героические ценности своего времени: его стремление к бессмертию принимает форму поисков бессмертной славы. Смерть еще не кажется настоящим врагом; она неизбежна, но входит в правила игры: доблестно пав от руки достойного противника, герой увековечит свое имя. В преследовании цели Гильгамешу сопутствует необычайный успех: он одерживает одну победу за другой. Он сражается с Энкиду и обретает верного друга и помощника. Вместе они достаточно сильны для того, чтобы одолеть Хуваву и высокомерно обойтись с богиней города Урука, Иштар. В данный момент они, несомненно, достигают пика земной славы. И тотчас же счастье им изменяет. Безоглядно утверждая себя и изыскивая все новые способы доказать свою доблесть, Гильгамеш и Энкиду тяжко оскорбили богов, не уделив им должного внимания. Хувава был служителем Энлиля, назначенным им охранять кедровый лес; их обращение с Иштар — верх заносчивости. Теперь их настигает кара богов, и Энкиду умирает.
Потеряв друга, Гильгамеш впервые осознает факт смерти во всей ее жестокой реальности. Вместе с этим новым осознанием является и мысль о собственном конце. Теперь все прежние ценности рушатся: бессмертное имя и вечная слава внезапно утрачивают для него всякое значение. Ужас, непреодолимый страх смерти овладевает им: Гильгамеш одержим этим навязчивым страхом, он хочет — нет, обязательно должен! — жить вечно. Подлинное бессмертие, недостижимая цель — вот единственное, к чему стремится теперь Гильгамеш.
Итак, начинаются новые поиски — поиски не бессмертия, воплощенного в славном имени, но бессмертия буквального, во плоти. Как и прежде, в новых поисках героический склад Гильгамеша и неукротимая целеустремленность приносят ему одну удачу за другой. В поисках предка Утнапиштима — для того, чтобы узнать, как обрести, подобно ему, вечную жизнь, — ему помогают человек-скорпион и его жена, Сидури, хозяйка корчмы и Уршанаби. Когда же после величайших усилий он предстает перед Утнапиштимом, то все его надежды рушатся. Рассказ о потопе свидетельствует, что случай с Утнапиштимом уникален и не может повториться снова, а предложение Утнапиштима — чтобы окончательно вразумить Гильгамеша — побороть сон и результат этого испытания доказывают полнейшую неосуществимость мечты о бессмертии.
Однако в момент полного и, казалось бы, окончательного поражения Гильгамеш неожиданно обретает новую надежду. Движимая жалостью, жена Утнапиштима просит мужа наделить Гильгамеша на прощание подарком перед его возвращением домой, и Утнапиштим открывает тайну. Глубоко в пресноводной пучине растет цветок, который превращает старика в ребенка. Гильгамеш ныряет в пучину и срывает цветок. Его желание исполнено. Жизнь у него в руках. Всякий раз, состарившись, он вновь может вернуться в детство и начать жизнь заново. И вот на обратном пути ему попадается манящий прохладой водоем — и, когда он бросается в воду, змей похищает цветок, который он беспечно оставил на берегу.
Первоначальное стремление Гильгамеша обрести бессмертие через славу было вызовом богам и навлекло на него их возмездие. Поиски Гильгамешем действительного бессмертия даже еще более дерзостны, это — вызов самой человеческой природе, которая по необходимости ограниченна, конечна, смертна. И в финале именно собственная человеческая природа Гильгамеша заявляет о себе: губит-то его как раз изначальная человеческая слабость, минута беззаботности. Ему некого винить, кроме самого себя: он сам совершил непростительную оплошность. Возможно, именно это полное отсутствие героики и приводит его в чувство. Страх оставляет Гильгамеша, он видит себя достойным жалости и плачет. И потом, как только ирония ситуации доходит до него, ему остается только скорбно улыбнуться над самим собой. Приложенные им сверхчеловеческие усилия привели к результату, который кажется почти комическим. Улыбка, спасительное чувство юмора — знак того, что он наконец преодолел самое трудное. Теперь он способен принять действительность, как таковую, и вместе с ней — возможность новой шкалы ценностей: бессмертие, которое он теперь ищет, в котором ныне усматривает источник гордости, — это относительное бессмертие непреходящего свершения, которым стали стены Урука.
Движение от героического идеализма к мужественному признанию реальности, обрисованное в истории о Гильгамеше, обретает большую глубину, если проанализировать ее не только в позитивном плане, но также и в негативном — как стремление избежать смерти. Бегство от смерти, а не поиск жизни — но что это за бегство?
На всем протяжении эпоса Гильгамеш предстает юношей, даже мальчиком, и он упорно держится за этот статус, не желая расстаться с юностью ради обретения зрелости, сопряженной с женитьбой и отцовством. Подобно Питеру Пэну у Барри, он не хочет становиться взрослым[448]. Его первая встреча с Энкиду — это отказ от женитьбы ради сохранения мальчишеской дружбы, а в эпизоде с небесным быком он отвергает (с едва ли не излишней горячностью) брачное предложение Иштар. Иштар пророчит ему несчастье и смерть. Поэтому после смерти Энкиду Гильгамеш не движется вперед, к поискам нового содружества в браке, но отступает назад, стремясь хотя бы в воображении обрести безопасность в стране детства. У ворот человека-скорпиона он оставляет действительность и буквально переступает «пределы этого мира». Во встрече с хозяйкой корчмы он вновь решительно отвергает женитьбу и детей как приемлемую жизненную цель и в итоге, благополучно преодолев воды смерти, добирается до предков. На острове предков, где живут Утнапиштим с женой, как в детстве, не существует ни возраста, ни смерти. В соответствии со своим образом Утнапиштим делает суровую попытку заставить Гильгамеша по-взрослому осознать всю ответственность. Он дает ему наглядный урок — это состязание со сном; он готов заставить Гильгамеша испытать неизбежные его последствия. Жена Утнапиштима, как мать, более снисходительна: ей хочется, чтобы Гильгамеш подольше оставался ребенком; она даже дает ему возможность достичь желанной цели — пусть он раздобудет цветок «Старик Становится Ребенком». Гильгамеш бежит от смерти, избегает старости, даже зрелости; он стремится обрести спокойствие и безопасность в стране детства.
Утрата цветка означает, таким образом, утрату иллюзии того, что можно снова вернуться в детство, она доводит до его сознания необходимость взросления, встречи с действительностью и приятия ее. Отныне Гильгамеш может воспринимать себя менее серьезно, он способен даже грустно усмехнуться над самим собой. Наконец он обрел зрелость:
Для кого, Уршанаби, мои руки трудились? Ради кого кровью истекало сердце? Себе самому не принес я благословенья, змею подземному сослужил я добрую службу!«Эпос о Гильгамеше» — это история взросления.
ЭПИЛОГ
Если судить по глубине прозрений, то II тысячелетие до н. э. по праву можно считать высшей точкой в развитии древнемесопотамского религиозного сознания. Следующее тысячелетие не принесло новых прозрений, а скорее наоборот — деградацию и брутализацию во многих областях. Поэтому на II тысячелетии мы можем по праву завершить наш обзор, и в эпилоге попытаемся суммировать достижения месопотамской религии и наметить основные вехи ее эволюции вплоть до I тысячелетия до н. э., когда пришел конец самой месопотамской цивилизации.
ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ МЕСОПОТАМСКОЙ РЕЛИГИИ II ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Критическая переоценка: великие произведения
В наследии II тысячелетия, наряду с появившимися в эту эпоху мифами и эпическими сказаниями, необходимо особенно выделить возникновение новой, глубокой по значению религиозной метафоры — метафоры родителей. Эта метафора наглядно и убедительно отображала существенные элементы в реакции человека на нуминозный опыт.
Грандиозные экзистенциальные мифы и эпические сказания, произведения, в которых человек критически осмысливал свое место в мироздании, — это «Сказание об Атрахасисе», «Эпос о Гильгамеше» и «Энума элиш». Каждое из этих произведений на свой собственный лад пересматривает традиционные установки — оценивая, видоизменяя, отвергая или безоговорочно принимая их.
«Сказание об Атрахасисе» непосредственно затрагивает некоторые из древнейших религиозных воззрений. Взаимоотношения человека с природой изображаются с ясным пониманием того, что силы, от которых он жизненно зависит, не только подвержены смерти и исчезновению, в результате чего человек может осиротеть и остаться одиноким; эти силы могут также проявить по отношению к нему враждебность и злую волю. В эпидемиях и вспышках голода усматривается даже воля сократить численность человечества: человечество может погибнуть в результате катаклизма вроде всемирного потопа.
Однако эта воля, могущество Энлиля, способного вызывать глобальные катастрофические потрясения (такие, как потоп), парадоксальным образом не отчуждают человека. Для него они таят странное очарование, ибо «в человеческой душе... Незримая Сила пробуждает чувство беспредельного благоговения, которое проявляется одновременно и как страх, и как влечение к ней»[449]. Так, на глубинном уровне «Сказание об Атрахасисе» полностью сознает себя повествованием во славу Энлиля — антагониста, благоговейно почитаемого за власть, какой он обладает, хотя внешне многое в сказании может показаться направленным на его принижение. Божество пытаются осмыслить; делается попытка модификации естественного ощущения единства человека с силами природы, которая в целом характеризует культ плодородия; этот новый взгляд делает доступным более углубленное понимание нуминозного, а равно и амбивалентности устрашающего аспекта божественности, которое появилось вместе с метафорой правителя в III тысячелетии.
В сопоставлении с этой основой сказания внешние перипетии сюжета (хитроумные уловки слабейших — Энки и человека, пытающихся избежать гибели) выглядят почти ненужными. Спасти людей может только одно: все возрастающее преклонение перед божеством, умножение жертв и угодных божеству служб в надежде на то, что подобная величайшая преданность и благоговейная любовь заставят неприязненно настроенное божество устыдиться и отступить. Соответственно и на будущее должна быть избрана единственно возможная линия поведения: человек — слуга и потому, как слуга, должен «знать свое место». Главная его забота — не навлечь на себя неудовольствия хозяев: не размножаться чрезмерно и не слишком надоедать своим присутствием. Человеку предписывается практиковать разумное самоограничение, избегать любых излишеств. Девизом сказания могло бы стать известное изречение дельфийского оракула: μιδὲν ἄγαν («Ничего сверх меры!»).
Раннединастический период в начале III тысячелетия был, по нашему определению, «героическим периодом», когда война — война всех против всех — стала привычным явлением. Когда со всех сторон грозила опасность, человек искал спасения в воинской доблести: идеал героя — субъекта эпических и героических сказаний — побуждал его полагаться больше на способность человека к подвигу, нежели на благоволение богов. Эта тенденция явственно различима во многих ранних материалах о Гильгамеше; она находит выражение и в фигуре Нарам-Сина из Аккаде, предостерегающие сказания о котором сложились позднее.
Аккадский эпос о Гильгамеше II тысячелетия — подобно шумерским и аккадским сказаниям о Нарам-Сине — берет под сомнение эту установку на героизм человека, полагающегося исключительно на собственные силы. Как уже отмечалось, источники аккадского эпоса о Гильгамеше частично восходят к традиции Раннединастического периода; они проникнуты героическим мировоззрением той эпохи (достаточно вспомнить рассказ о Хуваве или эпизод с небесным быком). Во II тысячелетии происходит осмысление опыта и неумолимое крушение прежнего самонадеянного героизма, бросающего вызов смерти (смерть Энкиду уничтожает иллюзии и делает смерть реальной); однако дается решительный отпор и другой противоположности — паническому страху смерти, который, приобретая параноидальный оттенок, превращается в разновидность донкихотства, преследующего заведомо недостижимую цель — обретение жизни бесконечной.
Таким образом, эпос о Гильгамеше по-своему приходит к почти тем же выводам, что и «Сказание об Атрахасисе»: «ничего сверх меры» — или, по Драйдену, «к чему печаль о том, что знать нам не дано?»[450]. Любопытно, что цитата из Драйдена применительно к эпосу о Гильгамеше в окончательной версии вовсе не представляется неуместной. Несмотря на совершенно иное происхождение, эпос столь же рационалистичен и антигероичен, как и «Паламон и Арсит»[451]. Некий комментатор, говоря об эпизоде со змеем, заметил: «Здесь автор предает своего героя». Автор эпоса поступает именно так, поскольку придерживается принципов здравой и нормальной человеческой жизни. Голос его в этом произведении мы слышим в речах бога солнца, призывающего к равновесию, справедливости, беспристрастности, чувству меры во всем.
Хотя автор позднейшего эпоса о Гильгамеше и вещает устами бога, однако ему не вполне удается сделать свое произведение истинно религиозным памятником. В первой части он предостерегает против дерзкого высокомерия, навлекающего божественное возмездие, а в финале—против вызова, бросаемого самой природе сущего. Такой вызов, если вдуматься, теснее связан с действительностью и менее литературен: позднейший эпос о Гильгамеше — это отрицание человеческого высокомерия, но с позиции не религии, а рационализма, свойственного гуманисту древности.
Тенденция к опоре на человеческую доблесть, следы которой еще есть в эпосе о Гильгамеше, с начала III тысячелетия встречает резкое противодействие: образ героя теперь перемещается в мир богов. В итоге рождается наиболее характерная для этого тысячелетия религиозная метафора — нуминозное предстает в облике правителя. «Энума элиш», третье грандиозное экзистенциальное произведение, посвященное истолкованию именно этой метафоры. «Энума элиш» — апофеоз новой идеи. Здесь концепция правления (прежде всего монархии) принимается безоговорочно и рассматривается как объединяющий и упорядочивающий принцип, которому подчиняется все сущее. Только приняв этот принцип, можно все это сущее постигнуть.
Всесторонне раскрывая связанные с метафорой правителя значения, объясняя происхождение космической монархии и описывая своего героя, Мардука, автор поэмы «Энума элиш» всячески стремится подчеркнуть оба аспекта нуминозного — и tremendum, и fascinosum — как блага, которые обеспечивает монархический строй, и в равной мере необходимость питать к монарху чувства благоговейного трепета и преданности. Достигнутое благоденствие более чем очевидно, все ужасы и тяготы преодолены и никому более не угрожают. Мало что осталось от бессильного страха перед силами природы, которым проникнуты в «Сказании об Атрахасисе» описания голода и всемирного потопа. Исчез и тот священный трепет перед разрушительной силой божественного оружия, который мы видели в великом «Плаче об Уре» предыдущего тысячелетия. Отчасти это объясняется сознательно теоцентрическим мировоззрением поэмы. Человек сам по себе не имеет ни малейшего значения: он — всего лишь удобное орудие богов, чернорабочий, чья задача — освободить их от тяжелого труда, бессловесный и бесправный.
Картина мироздания, его устройство и движущие силы, но отнюдь не окончательное решение человеческой участи — вот тема, занимающая автора поэмы.
Новая метафора
Все три произведения — «Сказание об Атрахасисе», «Эпос о Гильгамеше» и «Энума элиш» — отражают уже сложившиеся формы религиозного сознания: в особенности это относится к метафоре даятеля и метафоре родителя, возникшим в предыдущие тысячелетия. Метафоры со всеми своими импликациями развертываются и проходят испытание в драматических повествованиях, позволяющих слушателям пережить, хотя бы косвенно, описываемые перипетии со всей живостью и наглядностью. Нередко эти метафоры требуют активности слушателя, предлагая ему выносить самостоятельные суждения — от безусловного согласия до приятия с оговорками. В интеллектуальном и эмоциональном плане изначально заложенные в них возможности реализуются полностью, но в основе своей они остаются неизменными, ограничиваясь кругом старых представлений.
Подлинно новым, принципиально новым достижением религиозной мысли II тысячелетия явилось гениальное открытие новой метафоры, адекватно выразившей существеннейшие элементы ответной реакции человека на нуминальный опыт. Эта метафора родителя, увидевшая нуминозное в облике отца и матери, значительно расширила и углубила чувство fascinosum. Этот притягательный, зачаровывающий аспект присутствовал уже в поклонении богам плодородия, парадоксально ощущался за устрашающим аспектом (tremendum) в «Сказании об Атрахасисе» и более рационально выражался в благах божественной монархии в поэме «Энума элиш». Метафора родителя расширила и углубила чувство fascinosum признанием и утверждением личной родственной связи с божественным, внушила и укрепила чувство взаимной привязанности. Человек, подданный и раб в метафоре правителя, в метафоре родителя становится потомком богов.
Метафора родителя придает новое измерение и чувству tremendum — такой страх внушает суровый, но любящий отец. Эта новая метафора вводит человека в религиозную дилемму таинственного (mysterium) через проблему невинного страдальца, которую она поставила в столь острой форме неизбежной конфронтации со Всецело Иным в нуминозном, несоизмеримой ни с чем, несоизмеримой в конечном счете и с какими бы то ни было человеческими моральными и этическими правилами. Метафора родителя приблизила религиозное сознание к тому, в чем Сэпир усматривал самую сущность религии: «к навязчивому сознанию собственной крайней беспомощности в непостижимом мире, к не задающему вопросов и совершенно иррациональному убеждению в том, что можно обрести мистическую безопасность, если как-то отождествить себя с тем, что навсегда останется непознаваемым»[452].
ПЕРВОЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ
Власть смерти
Начало I тысячелетия было зловещим:
«Нарастающая волна арамейского вторжения, отчаянные попытки ассирийцев подавить его, неуклонный упадок Вавилона, Шумера и Аккада, настежь открытых сутиям и арамеям, войны с иноземцами, гражданские войны, наводнения, голод — таково плачевное зрелище, которое представлял собой Ирак на протяжении десятого и девятого столетий до н. э.»[453].
Мир, в котором еще можно было как-то существовать, теперь рухнул и пришел в полное запустение.
В подобные критические времена, как мы отмечали выше, охваченные отчаянием люди склонны обращаться за спасением к силе, к герою-воителю. Начало I тысячелетия ознаменовано возникновением героического эпоса, воспевающего доблесть Тукульти-Нинурты I; точно так же в Раннединастический период сходные условия породили героические сказания о Гильгамеше.
Тенденции к безраздельной вере в человеческую отвагу в Раннединастический период противостояла, как мы указывали, тенденция полного отождествления богов с земными царями и героями, что и породило характерную для III тысячелетия религиозную метафору — метафору правителя. В I тысячелетии произошло нечто подобное — и вместе с тем разительно иное. Здесь образ царя — воина и героя также прилагается к богам; но если в III тысячелетии в идеализированном героическом образе представал защитник и правитель, то в I тысячелетии наблюдается нечто почти полностью противоположное: воин выступает теперь не защитником — он становится источником угрозы, изображается дикарем, убийцей, равно опасным для врага и для друга, участником смуты и даже ее зачинщиком.
Если и можно умиротворить его, то разве только униженной лестью, восхваляя его способность внушать ужас. Когда в соответствии с подобными представлениями складывался образ бога, то не они облагораживались божественным, а, напротив, божественное низводилось до их уровня. Бог мятежа и убийства без разбора Эрра[454] выдвигается на первое по значению место — именно он наиболее соответствует представлению о силе, превратившей мир в то, чем он ныне стал, — и наделяется верховной властью.
Произведение, рассказывающее о том, как этому богу была передана верховная власть, — «Эпос Эрры»[455]. Некий Кабти-или-Мардук узрел его во сне; создан эпос незадолго до 1000 г. до н. э. Вряд ли он мог признаваться универсальной доктриной. Многочисленные копии эпоса или его частей, однако, красноречиво свидетельствуют о широкой популярности текста и содержащихся в нем учений, так что во многих отношениях оно, видимо, отражало распространенные воззрения того времени.
Бог Эрра — первоначально, по-видимому, аккадский бог «выжженной земли», набегов и мятежей[456] — был в I тысячелетии идентифицирован с Нергалом, богом войны и внезапной смерти и правителем царства мертвых.
Эпос повествует о том, как Эрру и его жену пробудили от праздности своим оружием «семь богов», вознамерившись отправиться в поход. Ему удалось уговорить Мардука, изображенного старым ворчуном, поручить ему управление вселенной на время, пока Мардук удалится, для того чтобы ему почистили драгоценные камни в тиаре. И тогда Эрра переворачивает мироздание сверху донизу. Приняв человеческий облик подстрекателя, он принимается разжигать мятеж в Вавилоне, заставляя жителей города, неискушенных в битвах, взяться за оружие по-настоящему:
Жители Вавилона, которые, словно тростинки, ничьей не ведали над собой опеки, собрались вокруг тебя. Тот, кто не знал, как (владеть боевым) оружием, кинжал вынул из ножен; тот, кто не знал, (как сгибать) большой лук, держит наготове свой (обычный) лук, возложив стрелу; тот, кто не знал, (как начать) битву, сражается в рукопашной схватке; тот, кто не знал, (как переплыть) реку, летает, как птица. Немощные обогнали проворных, калека одолел силача; о правителе, опоре своего города, они слышали грубую хулу[457].Затем Эрра склоняет предводителя выстроить войско для осуществления жестоких репрессивных действий:
Богов не страшись! Не бойся людей! Смерти предавай и молодых и старых, детей и грудных младенцев — не оставляй никого в живых![458]Вскоре по воле Эрры беспорядок и войны распространяются по всему подлунному миру. Одержимый свирепостью, Эрра опустошил бы мир совершенно, однако его советник Ишум сумел утихомирить его и убедить не уничтожать всех до последнего. Но Эрра не испытывает раскаяния и может вновь поддаться страсти к истреблению людей. К богам он обращается со словами, едва ли свидетельствующими об угрызениях совести:
Слушайте все, памятуйте мое слово! (Итак), может быть, я замышляю злое из-за былых грехов — Мое сердце во мне распалилось, и я людей зарыл в землю, как наемный пастух, я забрал» вожака из стада, как плохой садовник, я срезал ветви небрежно, как захватчик из чужой страны, не отличал я от добрых злых, истребил (всех), из пасти разъяренного льва нельзя вырвать добычу, и, когда один впадает в бешенство, может ли другой его утихомирить![459]Вездесущность сил смерти, подстерегающей в любой момент, естественно вызывала все возрастающий интерес к ним и к области их обитания, подземному миру. Рассказы обо всем этом получили широкое распостранение. Подземный мир издревле представлялся городом, надежно обнесенным семью стенами: поэтому в него вели семь ворот, следующих друг за другом. Правителями подземного мира были Нергал (именуемый также Месламтаеа, Угур или Эрра) и его супруга Эрешкигаль. Древние предания упоминают вместо Нергала, «Великого быка небес», Гугальанну, или бога Ниназу, как супруга Эрешкигаль. В подземном мире имелась судейская коллегия Ануннаков; иногда на ней председательствовали боги, являвшиеся из верхнего мира: например, бог солнца (по ночам) или бог луны (в период новолуния), а иногда Эрешкигаль или Гильгамеш. Главным стражем был Нингишзида, которому подчинялось множество исполнителей. Советником и посланником Эрешкигаль был Намтар («судьба»). Привратник Неду (или Нети) держал ворота на запоре: отчасти для того, чтобы не впускать нежелательных посетителей, но главным образом для того, чтобы никто из обитателей не мог покинуть подземный мир и напасть на живущих.
О повышенном интересе к подземному миру в начале I тысячелетия свидетельствует механическое добавление к эпосу о Гильгамеше аккадского перевода второй половины шумерской былины «Гильгамеш, Энкиду и Подземный Мир» в качестве двенадцатой таблички. Это добавление, как уже говорилось выше (см. с. 238), не имеет никакой связи с сюжетом эпоса и выполнено столь неумело, что первые строки совершенно лишены смысла. Только очень острый интерес к предмету повествования — подробному описанию посмертной участи людей — может объяснить подобное присоединение.
Встреча, сватовство, в котором любовь перемешивается с ненавистью, и брак четы, правящей подземным миром, составляют сюжет мифа «Нергал и Эрешкигаль», краткая версия которого сохранилась на табличке из Амарны[460](ок. 1350 г. до н. э.); версия гораздо более подробная относится к началу первой половины I тысячелетия[461].
В поэме повествуется о том, как однажды боги собрались на пир и отправили к Эрешкигаль гонца с просьбой послать Намтара на небо за ее долей яств. Когда Намтар явился, все боги встали в знак почтения к его госпоже. И только один бог, Нергал, грубо отказался сделать это. Вернувшись, Намтар доложил о проявленном небрежении, и разгневанная Эрешкигаль велела ему привести обидчика к ней на расправу. Намтар повиновался, однако Эйя переменил внешность Нергала и сделал его плешивым. Поэтому Намтар не узнал его и поневоле вернулся с пустыми руками. Эйя, однако, обладал сверхъестественным знанием человеческого (и божественного) сердца: он изготовил кресло и велел Нергалу отнести его Эрешкигаль с тем, чтобы доставить ей приятное. Нергал, понятно, воспротивился приказанию, думая, что она непременно убьет его, но Эйя ободрил его и отрядил ему в помощь семь демонов. Прибыв в подземный мир, Нергал поместил этих демонов у семи ворот и велел им держать ворота открытыми на случай поспешного бегства. Эта мера предосторожности оказалась, впрочем, излишней. Явившись в дом, где восседала Эрешкигаль, он не встретил ни малейшего сопротивления. Нергал схватил ее за волосы, стащил с трона и швырнул на землю, чтобы было удобно отрубить ей голову. Эрешкигаль, однако, взмолилась о пощаде и предложила ему разделить брачное ложе, а заодно и власть над подземным царством. Выслушав эту речь, Нергал поднял Эрешкигаль с земли, поцеловал, осушил ее слезы и произнес, озаренный внезапным просветлением: «Любовь — вот чего ты хотела от меня так давно![462]»
Сюжет поэмы нетрудно интерпретировать как историю сексуального влечения — юношеского заигрывания с попытками привлечь к себе внимание вызывающей грубостью, когда желание убить любимого и стремление к безоглядному подчинению разделяет тонкая черта. С точки зрения мифа дикарский способ ухаживания, о котором здесь рассказывается, в какой-то мере соотносим с грозным божеством смерти, однако попытки найти в произведении более глубокий смысл сопряжены с определенными трудностями, и мы не решаемся высказать на этот счет какие-либо предположения.
Позднейшая версия поэмы разработана гораздо более подробно. Вслед за отказом встать Нергал посещает подземный мир и, презрев совет Эйи, восходит на ложе с Эрешкигаль. По прошествии семи дней он покидает ее. Безутешная Эрешкигаль обращается к великим богам с требованием возвратить Нергала и заставить его жениться на ней, поскольку теперь она осквернена и неспособна исполнять свои обязанности — судить суд великих богов. Мольба богини, трогательная и в то же время угрожающая, звучит следующим образом:
С младенчества я, твоя дочь, и по сей день не ведала девических игр, не знала детских забав. Этот бог, которого ты послал, овладел мной, пусть он со мной возляжет! Пошли мне этого бога: да будет он моим женихом и возьмет меня в супруги! Я осквернена, нечиста, не могу судить дела великих богов, великих богов подземного царства. Если ты не пошлешь мне этого бога, я выпущу мертвых, чтобы они пожрали живущих, умножатся мертвые более живых[463].По-видимому, желание ее удовлетворяется, и Нергал возвращается к ней со страстными объятиями.
Последнее произведение, связанное с подземным миром, — любопытный рассказ об ассирийском принце[464], который, движимый жгучим любопытством, получает дозволение посетить подземное царство. Нергала, сначала угрожавшего ему смертью, удается убедить, чтобы он отпустил гостя обратно, однако тому приходится выслушать свирепое внушение, содержащее явственный политический подтекст. Однако автор явно старается дать прежде всего как можно более обстоятельное и внушающее страх описание каждой из различных демонических фигур, составляющих придворное окружение Нергала.
Возрастающая брутализация
То, что полная опасностей жизнь в начале I тысячелетия[465] неизбежно должна была вызвать повышенный интерес к смерти и ее могуществу, вполне понятно. Также понятно, к сожалению, и то, что обстановка непрерывных войн, мятежей и смут не могла не приучить людей (медленно и незаметно) к страданиям других, привести к брутализации и выявить все скрытые до того жестокие наклонности. Религиозное мировоззрение и письменные памятники эпохи свидетельствуют об этом более чем наглядно.
Образ бога временами становится на редкость жестоким. Мы упоминали описание Эрры как беспощадного убийцы, но еще более жестокими изображены боги старших поколений, чьи деяния запечатлены в мифе, которому мы дали название «Династия Дуннума»[466]. Фактически этот миф возвращается к довольно примитивной и неуклюжей пастушеской космогонии начала II тысячелетия, с тех пор ставшей популярной и распространившейся за пределами Месопотамии в середине этого тысячелетия. Копии этого повествования продолжали создаваться на протяжении всего I тысячелетия. Здесь рассказывается жутковатая история о сменяющих друг друга поколениях богов, каждое из которых приходит к власти в результате убийства родителей и вступает в кровосмесительную связь с матерью, сестрой или обеими. Окончание мифа не сохранилось, однако возможно, что он фиксировал постепенное облагораживание божественных нравов по мере приближения к позднейшему, современному поколению богов. Такая тенденция в целом согласуется с известными нам версиями сюжета в финикийской, греческой и хурритской мифологии; но даже с учетом этого нарисованная картина остается исключительно мрачной.
Но брутальны не только такие мифы, как «Эпос Эрры» и «Династия Дуннума». Сам ритуал в значительной мере утратил тонкость чувства в I тысячелетии. Жестокой смерти обрекают Мардук и Нинурта не только таких божественных противников, как Тиамат, Кингу, Асаг и Анзу, чьи смерти ритуально празднуются; самому жестокому обращению подвергаются и верховные боги — Ан и Энлиль. С Ана, например, заживо сдирают кожу и отрубают ему голову; у Энлиля вырывают глаза[467]. В рассказе о царском обряде сообщается о «царе, жрец которого преломляет хлеб, запеченный им в золе: это Мардук и Набу. Мардук связал Ану и преломил его: хлеб, испеченный в золе, что они делят, — это сердце Ану, которое он (т. е. Мардук) вытащил собственными руками». Можно предположить, что такая брутализация происходила наряду с растущей политизацией богов, которые становятся воплощением политических интересов своих городов и стран. Энлиль из Ниппура, как и его город, стоял на стороне Приморья, земли Тиамат, и был, следовательно, врагом вавилонского Мардука. То же самое справедливо и относительно Ану из Урука. Когда поэма «Энума элиш» читалась в Новый год в Вавилоне, лица этих двух божеств находились под покрывалом, тогда как в Борсиппе жрец-заклинатель, проходя мимо, победно ударял черенком кедра по голове статую Ану, символизируя этим жестом его убийство, а статуя Набу была установлена в саду Ану в знак того, что Набу взял у него царский титул. Боги политических врагов сами становились врагами, и с ними обращались соответственно, со всей жестокостью того времени. Неудивительно, что боги наделялись соответственной бессердечностью и свирепостью, когда дело касалось врагов смертных. Асархаддона, например, воодушевляет в своем прорицании богиня Иштар: «Я — Иштар из Арбелы. Я освежую твоих врагов и предоставлю их тебе»[468]; Ашшурбанапал описывает, как он утешил сердце великих богов, разгневанных неуважением, выказанным по отношению к ним Вавилоном и другими главными городами в Вавилонии:
... (что касается) остальных людей: ведомый охраняющими духами, (ведомый кем) мой дед Синаххериб был закопан, так я ныне — как погребальное жертвоприношение ему — закопал этих людей живыми. Их плоть я скормил псам, свиньям, воронам, орлам — птицам небесным и рыбам глубин. Совершив эти дела (и так) умиротворив сердца великих богов, моих владык, я взял трупы людей, которых сразил Эрра, и тех, кто сложил жизни от голода и нужды, и остатки пищи собак и свиней, что загромоздили улицы и заполнили широкие проходы; эти кости (я вынес) из Вавилона, Куты, Сиппара и сложил их в груды. Посредством очистительных обрядов я очистил их (святые) помосты и очистил их загрязненные улицы. Их разъяренных богов и разгневанных богинь я успокоил гимнами и покаянными плачами[469].
Поскольку боги часто отождествлялись с основными местами их поклонения, превращаясь в местных и всенародных божеств, они, разумеется, неизбежно оказались вовлеченными в политические конфликты как участники их. Боги, их статуи и храмы ощущались преданными на милость победителя. Синаххериб, например, следующим образом рассказывает о том, как он послал свою армию в мятежную Южную Вавилонию:
Они дошли до самого Урука. Шамаша из Ларсы... Белту из Урука, Нану, Уссур-амассу, Белет-балати, Куруннама, Кашшиту и Нергала — богов, обитающих в Уруке, так же, как и их бесчисленные пожитки и принадлежности, они взяли с собой как трофеи[470].
Сходным образом, когда он завоевал Вавилон после долгого и отчаянного сопротивления, царь совершенно безжалостен:
Я не оставил (ни единого человека), старого или молодого, их трупами я заполнил широкие улицы города… Имущество города — серебро, золото, драгоценные камни, пожитки и принадлежности — я посчитал долей моего народа, и они забрали все это себе. Богов, живших посреди города, руки моих людей схватили и сокрушили и взяли себе их пожитки и принадлежности[471]
Наиболее язвительным было поношение богов в политико-религиозных памфлетах. В одном из таких памфлетов (очевидно, имевших целью опорочить праздник Нового года в Вавилоне в глазах ассирийского гарнизона) содержатся ритуальные указания относительно суда над богом Мардуком за его прегрешения против Ашшура[472]; другой памфлет опускается до богохульства самого низкопробного свойства, нагромождая непристойную хулу на богиню Иштар из Вавилона[473].
Наследие
Первое, что бросается в глаза при переходе от религиозных материалов предыдущих периодов к религиозным материалам I тысячелетия, — это такие новые черты, как сосредоточенность на смерти и притупление чувств. Полную и исчерпывающую картину, разумеется, нельзя составить без учета множества других сложных и в определенном смысле весьма гибких тенденций развития — например, устойчивого стремления отождествлять богов со звездами. Необходимо принимать во внимание и огромную массу сохранившихся представлений, хотя она и очерчивается достаточно смутно.
Мы ограничимся кратким рассмотрением некоторых из модификаций, которым подвергаются основные религиозные метафоры предшествующих эпох, перешедшие и в I тысячелетие до н. э., продолжая служить как средства религиозного выражения.
Наиболее ранняя из таких метафор — метафора даятеля — в целом в значительной степени уступила место метафоре правителя с ее социальными и политическими задачами. Перемена эта происходила, вероятно, главным образом на протяжении III и II тысячелетий. Метафора даятеля в том виде, в каком она дошла до I тысячелетия, тяготеет к изображению нуминозной силы — бога — как должностного лица, отвечающего за явления природы, от которых зависело процветание человека. Примером могут служить две молитвы Саргона II из Ассирии: одна обращена к Эйе, которого он называет его шумерским эпитетом Nin-igi-kug, a другая — к Ададу. Первая молитва звучит так:
О Нин-иги-куг, всеведущий, создатель всего сущего, для Саргона, владыки мира, царя Ассирии, правителя Вавилона, царя Шумера и Аккада, строителя твоего святилища, отвори свой источник (из пучины), пусть твои ключи, принесут воды изобилия и плодородия, оросят его поля!Во второй молитве говорится следующее:
О Адад, блюститель орошения земли и небес, вспышка (чьей молнии) освещает тронные возвышения; для Саргона, владыки мира, царя Ассирии, правителя Вавилона, царя Шумера и Аккада, строителя твоего святилища, пошли ему в нужную пору дожди с неба, паводок из источника (глубин), нагромозди ему горы ячменя и лука-порея в поле, пусть его подданные возлежат покойно посреди избытка и изобилия[474].Гораздо труднее дать оценку тому, что произошло с метафорой правителя, и объяснить происшедшую с ней перемену, которая в основном свелась к смещению акцентов. Подобное смещение не так легко зафиксировать, поскольку оно могло разниться от одного человека к другому и от ситуации к ситуации. Любое возможное толкование, неизбежно будет условным и субъективным.
Памятуя об этом обстоятельстве, мы тем не менее рискнем выдвинуть следующее предположение: тенденция к абсолютизму царской власти, преобладавшая уже в III тысячелетии, со временем, весьма вероятно, повлияла на представление о правителе и соответственно сместила акценты в религиозной метафоре. В результате власть, сосредоточенная в руках земного абсолютного монарха, приписывалась в метафоре божеству. Подобная тенценция хорошо отвечает представлению о безграничной власти, нуминозного в его устрашающем аспекте, однако идет вразрез с догмами политеистической системы, в которой власть щедро и разнообразно распределена между многими божествами. Чтобы утвердиться, эта тенденция должна была искать способы унификации и консолидации власти. И действительно, различные объединяющие и консолидирующие тенденции реально засвидетельствованы во многих из рассмотренных нами материалов.
Один достаточно очевидный способ консолидации власти, вполне совместимый со взглядом на богов как на должностных лиц в космическом государстве, — это передача власти какому-то одному божеству. Такая передача власти описана еще в поэме «Энума элиш», где все главные боги передают свои различные прерогативы Мардуку, и в двуязычном сказании «Возвышение Инанны»[475], где Ан, Энлиль и Эйя по очереди передают свою власть Инанне. Оба эти произведения восходят ко II тысячелетию до н. э. Примером, относящимся к I тысячелетию, может служить хвалебный гимн Ашшурбанапала Мардуку, который гласит:
Ты наделен божественностью Ану, Энлиля и Эйи, царственностью и величьем, ты сосредоточил всю (добрую) мудрость. О ты, всемогущий![476]Сходный пример — попытку найти формулу для примирения соперников Мардука и Ашшура, притязавших на власть над вселенной, — дает отрывок надписи Саргона II из Ассирии, в которой он заставляет Мардука передать власть Ашшуру и требовать для него дани от всех других богов:
Ашшур, отец богов, владыка (всех) земель, царь небес и всей земли, зачинатель, владыка владык, кому издавна Энлиль богов — Мардук повелел богам низин и гор четырех сторон (света) платить дань ему и — всем без исключения — повелел явиться в Эхурсаггаль[477] с грудами сокровищ[478].
Более радикальный способ консолидации власти заключался в объединении разных божеств путем их отождествления с разными аспектами одного и того же божества. Это не являлось чем-то новым: во все периоды граница между эпитетами и именами божества была зыбкой, и решение вопроса в каждом отдельном случае о том, шла ли речь об одном или нескольких богах, представляло, должно быть, трудность уже в древности. Новой в I тысячелетии тем не менее стала примечательная готовность приписать расплывчатость индивидуализации главным, хорошо определенным, ясно обозначенным божествам. Возьмем в качестве примера текст, в котором прямо заявляется:
Нинурта — это Мардук мотыги, Нергал — это Мардук натиска, Забаба — это Мардук рукопашной схватки, Энлиль — это Мардук царственности и совета, Набиум — это Мардук счета. Син — это Мардук, осветитель ночи, Шамаш — это Мардук справедливости, Адад — это Мардук дождей...[479]Как явствует даже из этого отрывка, значительное число главных богов здесь просто идентифицируется с аспектами Мардука — т. е. с его функциями, в соответствии с их собственной природой, функциями и характером власти.
Сходный набор идентификаций, в определенном смысле еще более причудливый, представлен в гимне[480] богу Нинурте, где в длинном перечне главные боги прямо идентифицируются с частями тела Нинурты:
О владыка, твой лик — это бог солнца, твои волосы, Айа, твои глаза, о владыка, — это Энлиль и Нинлиль. Зрачки твоих глаз — это Гула и Белет-или, радужная оболочка твоих глаз — близнецы, Син и Шамаш, ресницы твои — лучи бога солнца, который... Очертания твоего рта, о владыка, это — Иштар звезд, Ану и Антум — твои губы, твои повеления... Твой язык (?) — это Пабилсаг неба... Нёбо твоего рта, о владыка, — это свод земли и неба, твое божественное обиталище. твои зубы — это семь богов, которые повергают злых.Гимн совершает путешествие вниз по телу Нинурты неспешно, со всеми подробностями. Как и в предыдущем тексте, здесь наблюдается определенное функциональное соответствие между частью тела Нинурты и божеством, отождествляемым с ним: его ресницы — лучи; его губы, которыми от отдает приказания, идентифицируются с воплощениями власти, Ану и Атумом; его нёбо — это свод неба, который, поскольку он опирается на землю, также есть «свод земли», и т. д. Какой вывод можно сделать относительно характера того единства, которое пытаются выразить данный текст и другие, ему подобные? Это вовсе не так ясно, как может показаться вначале. Если мы поймем все сказанное в буквальном смысле, нам, по-видимому, придется предположить, что эти тексты отражают склад ума лишь весьма немногих индивидуумов. Нигде больше нет указаний на то, что боги, идентифицированные здесь с аспектами Мардука или частями тела Нинурты, перестали быть изображаемыми, (описываемыми, почитаемыми и т. д.) в каком-либо другом образе, помимо их собственного. Более правдоподобно, следовательно, иное соображение: единство, которое провозглашают эти тексты, другого рода; это — единство сущности, как бы признание тождества одной и той же воли и власти в головокружительном разнообразии божественных персонажей, а равным образом и упоение бесконечной разносторонностью и многогранностью дарований избранного божества. В пользу такого истолкования «идентификации» говорит, вероятно, и склонность аккадцев, нам не свойственная, использовать собственные имена метафорически — как имена нарицательные, свободно пересекая границу между личным и безличным. Если мы с легкостью можем именовать финансиста «Наполеоном Уолл-стрит», то нам никак нельзя идиоматически обозначить изощренный характер его сделок по купле-продаже, называя их «Наполеонами». Аккадец, в отличие от англичанина, не видел здесь существенной разницы и мог определить категоричность приказаний Мардука, заявив, что «твой приказ есть Ану»[481]. Здесь имеется в виду, вероятно, что немедленная и инстинктивная реакция на слово Мардука — желание полного и безоговорочного подчинения — та же самая, что и реакция, которую вызывает в богах и людях Ану. Сказать, например, что Мардук в роли помощника в сражениях для царей Вавилона — это Нинурта, — то же самое, что сказать, будто он и его воинская доблесть вызывают у врагов ту же реакцию, что и Нинурта. Утверждение, что губы Нинурты — это Ану и Антум, значит почти то же, что слова в поэме «Энума элиш»: «приказ Мардука — это Ану».
Необходимо призвать к осторожности при выявлении скрытого смысла идентификаций в этих текстах. Представляется вероятным, что развитие абсолютной монархии в III и II тысячелетиях наделило термины «царь» и «правитель» значением верховной и всеобщей власти и что этот смысл явственно ощущался и тогда, когда эти термины использовались в качестве религиозных метафор. Избранных божеств, обладавших какой-то специфической обязанностью, наделяли все более широкой, порой всемогущей, властью посредством либо передачи им власти от других божественных властелинов, либо изображения того, как избранное божество разделяет (наравне с главными богами) специфические области их компетенции. Ни в том, ни в другом случае, однако, ни передающие, ни разделяющие власть боги не претерпевали никакого сколько-нибудь заметного уменьшения собственной власти; не менялся и их прежний образ.
Последний вопрос, который мы затронем, — это судьба метафоры родителя в I тысячелетии. В первоначальной своей сфере — в жанре покаянного плача — она продолжала существовать на протяжении I тысячелетия в обрядах раскаяния равно среди царей и простых смертных и была по-прежнему сосредоточена на дилемме невинного страдальца, еще неспособного заявить: «Тем не менее да будет не моя, но Твоя воля». Подобную же установку можно увидеть не только там, где ощутимо влияние ритуала, но и в непосредственном отношении Даря к богам. Они дают ему советы, подбадривают его, являясь во снах и предсказаниях. Асархаддону, например, Иштар из Арбелы поведала в пророчестве[482], как она заступалась за него на протяжении многих дней и долгих лет. Описывая себя, она создает почти что материнский образ: «Я была старшей повитухой (при) твоем (рождении)» и «Я твоя добрая кормилица». Сходным образом, когда Ашшурбанапал обращается к ней в слезах, потому что Теумман, царь Элама, угрожает напасть на него, Иштар поступает совсем как мать, оберегающая дитя. «В глазах у нее, полных слез, сочувствие»[483]; как свидетельствует провидец, увидевший этой ночью новый сон, она говорила с ним, как если бы была матерью, родившей его[484]:
Оставайся (лучше) там, где ты сейчас, ешь яства, пей темное пиво, веселись и восхваляй мою божественность, покуда я пойду и совершу это деянье и исполню желание твоего сердца; твое лицо не побледнеет, ноги не задрожат, тебе (не придется) утирать пот в гуще сражения[485].
Она обращается с ним, как с ребенком:
Она нянчила тебя на уютном сгибе руки, защитив все твое тело[486].Детская беспомощность Ашшурбанапала, когда он плачет перед Иштар, очевидно, высоко ценилась и считалась поистине достохвальным и благочестивым выражением добродетели — полной веры и отсутствия уверенности в себе и в собственных силах. Подобная позиция может быть названа квиетизмом, так как она утверждает, что только полным воздержанием от всякого самостоятельного действия, демонстрируя этим неколебимую веру в божественную помощь, можно эту помощь заслужить.
Такая позиция (знакомая по Ветхому Завету, где она составляет подоплеку аксиомы «Священной Войны») обычно требует, чтобы для отпора врагу не делалось никаких или почти никаких приготовлений: следовало полагаться только на божественную помощь. Помимо только что процитированного эпизода с Ашшурбанапалом и Теумманом есть сходный эпизод, касающийся Уртаку, рассказанный Ашшурбанапалом следующим образом[487]:
Они (т. е. боги) судили мой иск против Уртаку, царя Элама, на которого я не нападал, (однако) он напал на меня... За меня они нанесли ему поражение, разбили его передовой отряд и выдворили (обратно) к границам его земель. В том же году они погубили его жизнь, подвергнув злой смерти, и поручили его ведению «Страну, откуда нет возврата», из которой никто не приходит назад. Сердце великих богов, моих властителей, не успокоилось, их властительный гневный нрав не смирился. Они свергли его правление (царственность), устранили его династию и позволили другому принять владение Эламом.
Возможно, наиболее поразительным из всех является рассказ Асархаддона о поражении, которое он нанес своим враждебно настроенным братьям после того, как они умертвили Синаххериба и захватили власть[488]:
Я воздел руки (в молитве) к Ашшуру, Сину, Шамашу, Белу, Набу и Нергалу, Иштар из Ниневии и Иштар из Арбелы — и они согласились с тем, что я сказал. В (знак) своего твердого «Да!» они неоднократно посылали мне достоверные предзнаменования, (означающие): «Иди! Не отступай! Мы будем стоять на твоей стороне и уничтожим твоих врагов!» Я не промедлил и одного (не то что) двух дней, не дожидался войска, не осматривал тыловые отряды, не следил за подготовкой колесниц и воинским снаряжением, не запасал провизии для похода; снегов и холодов месяца Шабата, тягот зимы не опасался; парящим орлом я простер крылья, нацелившись на свержение моих врагов; неутомимо я спешил по дороге к Ниневии — когда, впереди меня, в области Ханигалбат, все их рослые воины, преградив мне путь, точили свое оружие.
Страх перед великими богами, моими властителями, охватил их: они увидели мои мощные ударные отряды и обезумели (от ужаса). Иштар, царица нападения и рукопашной схватки, которая любит мое священство, вступила на мою сторону, сломала их луки и рассеяла их военные построения — так, что они воскликнули: «Вот наш царь!» По ее величественному приказу они перешли один за другим на мою сторону, заняли места позади меня, веселились как ягнята и взывали ко мне как к повелителю.
Перенесение квиетистской набожности в сферу войны, беспощадной и жестокой, представляет собой, разумеется, крайность. Квиетизм в мирной жизни более приемлем: он способствует развитию таких подлинно религиозных проявлений, как искреннее смирение перед божественным и вера не только в чудодейственное вмешательство, но и в неисповедимую божественную мудрость. В этом отношении его, пожалуй, можно считать единственным реальным духовным прозрением, которым может похвалиться Месопотамия в I тысячелетии до н. э. Однако, как свидетельствуют надписи нововавилонских правителей, относящиеся приблизительно к середине тысячелетия, эта тенденция является не столько наследием месопотамской религиозной традиции, сколько новым импульсом, полученным от незамысловатой набожности арамейских кочевых племен, к которым нововавилонские правители возводили свою родословную. Аналогично и возвышенная вера их преемников Ахеменидов тоже была новым импульсом, пришедшим от верований иранских пастушеских племен. В качестве иллюстрации этой заимствованной у других народов нововавилонской набожности в ее наиболее привлекательной форме можно привести молитву Мардуку Навуходоносора, относящуюся к началу VI столетия до н. э.[489]. Тем самым наш обзор истории древнемесопотамской религии получает некое позитивное заключение. Молитва гласит:
Без Тебя, Владыка, кто существует? Ради царя, которого Ты любишь, чье имя Ты называешь, кто угождает Тебе, Ты распространяешь его славу, Ты предписываешь ему прямой путь. Я — князь, которому Ты благоволишь, создание Твоих рук. Ты создал меня, вверил мне царственность надо всем народом. Милостью Твоей, о Владыка, пекущийся обо всех, побуди меня любить Твою вышнюю волю. Вложи страх пред Тобой в мое сердце, даруй мне то, что Ты полагаешь добром. Воистину Ты творишь мне благо.СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
AGH — Ebeling E. Die akkadische Gebetsserie «Handerhebung» von neuen gesammelt und herausgegeben. В., 1953.
AHw — Soden W. von. Akkadisches Handwцrterbuch. Wiesbaden, 1959.
AJA — American Journal of Archaeology.
AKA — Budge and King. Annals of the Kings of Assyria. L., 1902.
ANET — Ancient Near Eastern Texts. Ed. by J. B. Pritchard.
AnOr — Analecta Orientalia. Rome, 1931 —
AOF — Archiv fьr Orientforschung. Edited by E. Weidner.
AS — The Oriental Institute of the University of Chicago. Assyriological Studies. Chicago, 1931 —
ASKT — Haupt P. Akkadische und sumerische Keilschrifttexte. Lpz., 1882.
BA — Beitrдge zur Assyriologie und semitischen Sprachwissenschaft.
BASOR — Bulletin of the American Schools of Oriental Research.
BE — The Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania. Series A: Cuneiform Texts. Philadelphia, 1896 —
BL — Langdon S. Babylonian Liturgies. P., 1913.
BRM — Babylonian Records in the Library of J. Pierpont Morgan. I — IV. New Haven, 1912 — 1923.
BWL — _ Lambert W. G. Babylonian Wisdom Literature. Oxf., 1960.
CAD — The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago. Chicago — Gl ь ckstadt, 1956 —
CBS — Таблички из собрания Университетского Музея (Пенсильванский университет).
CNMA — Таблички из собрания древностей Национального музея (Копенгаген).
Corpus — Sollberger F. Corpus des inscriptions «royales» presargoniques de Lagaљ. Geneve, 1956.
СТ — Cuneiform Texts from Babylonian Tablets, etc., in the British Museum. L., 1896 — .
CyS — Frankfort H. Cylinder Seals. A Documentery Essay on the Art and Religion of the Ancient Near East. L., 1939.
DT — Таблички из собрания газеты «Дейли телеграф» (Британский Музей).
EI — Hallo W. W. and van Dijk J. J. A. The Exaltation of Inanna. New Haven, 1968.
FTS — Kramer S. N. From the Tablets of Sumer. Indian Hills. Colorado, 1956.
Gudea, Cylinder — Thureau-Dangin F. Les Cylindres de Goudйa dйcouverts par E. de Sarzec а Tello. TLC VIII. P., 1925.
Gudea, St. — Statues of Gudea, F. Thureau-Ďangin, VAB. I, с 66 — 88 — о St. 0 St. L-P (&Q), см. библиогр.: Falkenstein A. — AnOr.28, с 5.
HRET — Nies and Keiser. Historical, Religious and Economic Texts and Antiquities. New Haven, 1920.
IM — Таблички из собрания Музея Ирака (Багдад).
IV R2 — Rawlinson H. С. The Cuneiform Inscriptions of Western Asia, 4; 2nd Edition. Ed. by T. G. Pinches. L., 1891.
JCS — _ Journal of Cuneiform Studies.
JNES — _ Journal of Near Eastern Studies.
JRAS — Journal of the Royal Asiatic Society.
К — Таблички из Куюнджикского собрания (Британский Музей).
KAR — Ebeling E. Keilinschriften aus Assur religiцsen Inhalts. WVDOG, 28 and 34 (Lpz., 1915 — 1923).
KAV — Schroeder O. Keilinschrifttexte aus Assur verschiedenen Inhalts. WVDOG, XXXV (Lpz., 1920).
KK — Landsberger B. Der kultische Kalender der Babylonier u. Assyrer. Erste Hдlfte. Lpz., 1915.
LE — Claus Wilcke. Das Lugalbandaepos. Wiesbaden, 1969.
LKU — _ Falkenstein A. Literarische Keilschrifttexte aus Uruk. В., 1931.
Lugal-е — «Lugаl-е ud me-lбm-bi nir-gбl». Издание покойного Э. Бергманна и Й. ван Дийка (готовится к печати).
MBI — Barton G. A. Miscellaneous Babylonian Inscriptions. New Haven, 1918.
MNS — xke Sjцberg. Der Mondgott Nanna-Suen in der sumerischen Ьberlieferung, l. Teil: Texte. Stockholm, 1960.
Ni — Таблички из Ниппура из собрания Музея Древнего Востока (Стамбул).
OECT — Oxford Editions of Cuneiform Texts.
OIP — _ Oriental Institute Publications. Chicago.
PAPS — Proceedings of the American Philosophical Society Held at Philadelphia for Promoting Useful Knowledge. Philadelphia, 1838 —
PBS — Publications of the Babylonian Section. University Museum, University of Pennsylvania.
PRAK — Genouillac H. de. Premieres recherches archйologiques a Kich. I — II. P., 1924 — 1925.
PSBA — Proceedings of the Society of Biblical Archaeology.
R — Rawlinson H. C. The Cuneiform Inscriptions of Western Asia. Vol. I — V. L., 1861 — 1909.
RA — Revue d'assyriologie et d'archйologie orientale.
SAHG — Falkenstein A. and Soden W. von. Sumerische und akkadische Hymnen und Gebete. Zьrich/Stuttgart, 1953.
SBH — Reisner G. A. Sumerisch-babylonische Hymnen nach Thontafeln griechischer Zeit. В., 1896.
Sculptures — Wallis Budge W. A. Assyrian Sculptures in the British Museum. Reign of Ashur-nasir-pal, 885 — 860 В. С. L., 1914.
SEM — _ Chiera E. Sumerian Epics and Myths. OIP XV (Chicago, 1934).
SETP — Muazzez Зiğ and Hatice Kizilyay. Sumer Edebо Tablet ve Parзalari I. Ankara, 1969.
SGL — Sumerische Gцtterlieder. Vol. I — II. Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften phill.-hist. Klasse. 1959 — 1960.
SK — Zimmern H. Sumerische Kultlieder aus altbabylonischer Zeit I — II, VS II, X (Lpz., 1912 — 1913).
SLTN — Kramer S. N. Sumerian Literary Texts from Nippur. — Annual of the American Schools of Oriental Research. 23. New Haven, 1944.
SM — Kramer S. N. Sumerian Mythology. — Memoirs of the American Philosophical Society. Vol. XXI. Philadelphia, 1944.
SRT — Chiera E. Sumerian Religious Texts. Upland, Pa., 1924.
Stones — Gadd С. J. The Stones of Assyria, the Surviving Remains of Assyrian Sculpture, Their Recovery and Their Original Positions. L., 1936.
STVC — Chiera E. Sumerian Texts of Varied Contents. OIP XVI (Chicago, 1934).
Surpu — Reiner E. Љurpu. A Collection of Sumerian and Akkadian Incantations. AOF, Supplement Z (Graz, 1958).
TCL — Textes cunйiformes. Musйe du Louvre.
TH — Sjцberg Д. and Bergmann E. (+). The Collection of the Sumerian Temple Hymns. N. Y., 1969.
TIT — Jacobsen T. Toward the Image of Tammuz. Ed. by W.L. Moran. Cambridge, Mass., 1970.
Tr. D — Genouillac H. de. La trouvaille de Drehern. P., 1911.
TRS — Genouillac H. de. Textes religieux sumйriens du Louvre. TCL XV — XVI (P., 1930).
TuMnF — Texte und Materialen der Frau-Professor-Hilprecht-Sammlung Vorderasiatischer Altertьmer im Eigentum der Friedrich-Schiller-Universitдt Jena. Neue Folge. Lpz/B., 1937 — .
UE(T) — Ur Excavations (Texts) I — VIII. L., 1928 — .
VAB — Vorderasiatische Bibliothek. Lpz., 1907 — 1916.
VAT — — Текст, находящийся в отделе Ближнего Востока (Музей императора Фридриха-Вильгельма, Берлин).
VS — Vorderasiatische Schriftdenkmдler der Koniglichen Museen zu Berlin.
«Weltordnung» — Bernhard I. and Kramer S. N. «Enki und die Weltordnung». Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Ьniversitдt Jena, gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe IX (1959/60), с 231 и сл.
WVDOG — Wissenschaftliche Verцffentlichungen der Deutschen Orient Gesellschaft.
WZKM — Wiener Zeitschrift fьr die Kunde des Morgenlandes.
YOS — Yale Oriental Series, Babylonian Texts.
ZA — Zeitschrift fьr Assyriologie.
3N-T — Полевой каталог табличек, найденных в Ниппуре совместной экспедицией Восточного Института (Чикагский университет) и Университетского Музея (Пенсильванский университет), третий сезон.
О ПРИМЕЧАНИЯХ
В примечаниях, сведенных к минимуму, даются в основном ссылки на произведения, фрагменты из которых приведены в тексте. По возможности указываются издания, содержащие дополнительную литературу, без малейшей претензии на исчерпывающее библиографическое описание. Надеемся, что ряд изданий, снабженных пометой «готовится к печати», могут по опубликовании быть идентифицированы по настоящим ссылкам.
Широкий читатель найдет английские переводы многих текстов в ANET, ANET Suppl., BWL и в различных работах С. Н. Крамера. Особенно ценно собрание переводов на немецкий язык B SAHG. Сведения о переводах основных произведений (таких, как «Сказание об Атрахасисе», «Энума элиш» и «Эпос о Гильгамеше») даны в примеч. 169[224 в файле], 326[392 в файле] и 339[416 в файле][490]. Все цитируемые переводы выполнены с оригинальных текстов. Они не всегда согласуются с существующими толкованиями, и я надеюсь, что в свое время мне представится возможность научно обосновать их.
Примечания
1
Кроме познания в религии существует также и ощущение нашей связи с непознанным, поскольку это не просто любое непознанное, а такое, которое оказывает жизненно важное влияние на существование человека — прочее не вызывает желания познавать его. Эта связь четко ощущалась в древности — недаром по-латыни «вера» называется «re-ligio», буквально «обратная связь»: кажущийся модернизм!
(обратно)2
Т. Якобсен, при всем его глубочайшем ведении секретов шумерского языка, все же нет-нет да и допускает абстрактное понятие в переводе, где его нет в оригинале. Та же тенденция абстрагировать проявляется в гл. 4, где с обобщениями сущностей перечисленных богов иной раз трудно согласиться. Ср. примеч. к этой главе. В частности, решительно неверна трактовка богини Инанны как первоначально «хранительницы фиников в закромах». Иероглиф дверного столба с пустой петлей для засова, используемый в древнейшей письменности для передачи имени Инанны, по-видимому, связан с неоднократно упоминаемой автором метафорой любовного соединения как открывания двери. Связывать имя Инанны с «финиками», по-видимому, тоже неверно. Финики — не исконно шумерская культура, они почти не упоминаются в шумерских хозяйственных текстах, хранящихся десятками тысяч в музеях мира; эта культура была распространена на малых участках, которые мы назвали бы «приусадебными».
(обратно)3
В древности имени придавалось исключительно важное значение — в нем была заложена самая суть называемого предмета, явления или лица; оно воспринималось как нечто объективное, почти вещное.
(обратно)4
Otto R. The Idea of the Holy (L., 1943).
(обратно)5
Тайна грозная и завораживающая (лат.).
(обратно)6
«Gilgamesh Epic». Tablet VII, iii 33—34.
(обратно)7
Здесь и далее латиницей в разрядку передаются шумерские слова, курсивом — аккадские (семитские).
(обратно)8
IV R2, pl. 9. Ср.: MNS, с 165—179. Цитируются стк. 7—14.
(обратно)9
OECT. I, pl. 36—39 i. 3—15, 21—26 и дубликаты (см.: Kramer. — SETP, с. 31). Выражаем благодарность Д. Райзману за предоставление его рукописи.
(обратно)10
SGL. I, с. 5—79. Цитируются стк. 129—140.
(обратно)11
«Gilgamesh Epic», Tablet IV, iv 10—12.
(обратно)12
HRET. No. 22, i. 31—35.
(обратно)13
СТ. XVI, pl. 15, v. 37—46.
(обратно)14
Там же, pl. 12, i. 1—43.
(обратно)15
Pallis S. A. The Babylonian Akîtu Festival (Copenhagen, 1926).
(обратно)16
Жрец - каlûm был — всегда или обычно — евнухом.
(обратно)17
É-su-ši-huš-ri-a в неопубликованном издании храмового списка, любезно предоставленном нам У. Л. Мораном.
(обратно)18
SGL. I, с. 15, стк. 77—79.
(обратно)19
Ср., например, SGL. I, с. 14, стк. 74: dEn-lil-ib (так с разночтениями) -kug hi-li-du8-du8-a-zu («О ЭНЛИЛЬ, ТВОЯ священная (культовая) ниша наполнена притягательностью»); также [Кá] — mah hi-li d [u8-du8-a], «возвышенные ворота, нагруженные притягательностью» — в описании Экура: PBS, I i, No. 8, i. 18 и дубликаты: SK. No. 8, i. 17.
(обратно)20
é-hal-la - bît piristi. См. отрывки, цитируемые в AHw, с. 134, section 19; ср.: JNES. 16 (1957), с. 252, стк. 20 (Nêribtum Gilgamesh fragment) and Ashurbanipal. Annals vi. 30—31.
(обратно)21
«Падение Аккаде», стк. 131. TuMnF III. Nos. 27 rev. 14; 31 obv. 18; 32 obv. 14. Ср.: PBSi, No. 8. i. 16 и дубликаты SK, no. 8. i. 16, and BL, no. 44.
(обратно)22
«Плач о разрушении Шумера и Ура», стк. 450. См.: UE(T). VI2, Nos. 133 obv. 26 и 133 obv. 26. Ср.: ANET Suppl., с. 182.
(обратно)23
TH, с. 26, стк. 150, 158, 163.
(обратно)24
Gudea. Cylinder A, x. 24—26.
(обратно)25
Там же, х. 19—23.
(обратно)26
«Падение Аккаде», стк. 120—121, 125—126 и 127— 128. Ср.: Falkenstein.-ТА. 51 (1965), с. 43—124; Kramer. - ANET Suppl., с. 210—215.
(обратно)27
nimin-u, ninnu означает по-шумерски «пятьдесят». Хотя храм этот, построенный Гудеей, правителем г. Лагаша, был посвящен главному локальному богу Нингирсу, однако в него были перенесены и святилища других божеств («пятидесяти»). Значения «божество» слово ninnu не имеет.
(обратно)28
О формах этих имен см., например: Gudea, Cylinder A, vii. 28 and xi. 3.
(обратно)29
Эта этимология имени богини представляется нам необоснованной, и само имя ее, вероятно, дошумерское.
(обратно)30
Это не совсем точно. Так, к древнемесопотамской цивилизации восходят некоторые понятия и приемы математики (например, деление круга на 360°); хотя наша письменность восходит не к древнемесопотамской, а к западносемитской, но сама идея письма заимствована из Месопотамии (и Египта): к ним же восходят и некоторые формы организации общества, например система бюрократической администрации.
(обратно)31
Forster E. M. Anonmity, An Enquiry. L., 1925, с. 13—14.
(обратно)32
«Жизненный порыв» (франц.) — внутренняя энергия всего живого в философии Анри Бергсона.
(обратно)33
Начало III тысячелетия до н. э.
(обратно)34
XXVI—XXIII вв. до н. э.
(обратно)35
В ранних текстах e n означает скорее владыку — верховного жреца, чем владыку — царя.
(обратно)36
Первая половина II тысячелетия до н. э.
(обратно)37
Заметим, что культ умирающего и воскресающего божества, так же как обряд «священного брака», сохраняется в этот период.
(обратно)38
Это толкование функции богини Инанны представляется нам спорным. Нам более известна Инанна — богиня любви и распри.
(обратно)39
Нам, напротив, кажется, что эти песни (и танцы), безусловно, тоже имели ритуальный характер.
(обратно)40
См.: Kramer - PAPS. 107 (1963), с. 509—510 (толкование Крамера отличается от данного здесь) и мою статью в: The Gaster Festschrift. Journal of the Ancient Near Eastern Society of Columbia University. 5 (1973). Неизданная табличка-дубликат в Йельском собрании, любезно предоставленная мне проф. У. Халло, свидетельствует, что текст начинается именно так — вопреки нашему предположению, высказанному в «The Gaster Festschrift».
(обратно)41
Жест огорчения или отчаяния.
(обратно)42
TuMnF. III, no. 25.
(обратно)43
Главным образом, по преимуществу (франц.).
(обратно)44
BE. XXX, no. 4 и дубликаты.
(обратно)45
Прочтением этого слова мы обязаны устному сообщению Б. Алстера.
(обратно)46
Как уже упоминалось, все песни цикла Думузи—Инанны представляются нам ритуальными. Ритуал этот — не обязательно храмовый: он может быть и домашним.
(обратно)47
SLTN, no. 35.
(обратно)48
Точнее — с мыльным корнем: мыла древние месопотамцы не знали.
(обратно)49
По-видимому, согласно древнемесопотамскому обычаю, за небольшой стол садился только хозяин дома и — с его разрешения — хозяйка, но не остальные домочадцы.
(обратно)50
TRS, no. 70.
(обратно)51
Судя по аналогии библейской «Песни песней» (тоже древнего свадебного сборника песен), пальма — это образ самой невесты.
(обратно)52
Гипар — собственно, «скотный загон», метафорически — брачный покой.
(обратно)53
Происходит ли имя Инанна от Нин-анна — не доказано. Множество имен шумерских божеств начинается с нин, что означает «госпожа», в наиболее архаичных текстах также «господин», но отпадение начального Н для этих имен не характерно. Наиболее очевидным переводом для предположительного имени Нин-анна было бы «Госпожа небес». В культе города Урука Инанна соседствует с верховным богом Аном, чье имя означает «Небо», но отнюдь не «финики». О культе Инанны см. также: Дьяконов И. М. Архаические мифы Востока и Запада. М., 1990.
(обратно)54
Ср. Предисловие.
(обратно)55
Перевод имени представляется спорным. Альтернативный перевод: «единый великий дракон небес». Собирание фиников в общинные склады хозяйственными документами как будто не засвидетельствовано, и, по-видимому, небольшие имевшиеся в Месопотамии плантации по большей части были в частном владении.
(обратно)56
SRT, no. 1 и дубликаты. Ср.: Falkenstein and von Soden. - SAHG, no. 18, с. 90—99, 367—368 и приведенную там библиографию.
(обратно)57
Трава альфа (эспарто) — Stipa tenacissima.
(обратно)58
Как мы видели, брачный обряд уже свершился и ничто не указывало на его связь с кладовой.
(обратно)59
СТ. XLII, no. 4.
(обратно)60
По-видимому, род тополя. Растет на влажном юге вдоль воды, в то время как кедр (и другие деревья, сходившие у шумеров за кедр) — в горах за пределами Месопотамии.
(обратно)61
Выражения «сазаний поток» (carp-flood) в английском языке, понятно, не существует. Это буквальный перевод шумерского термина, обозначавшего ранний паводок, который получил такое название потому, что сазаны в эту пору (весной) поднимаются вверх по течению рек, попадая в руки шумерских рыбаков, к их великой радости (см. выше, с. 42). Мы используем это выражение, поскольку оно красочно и очень емко.
(обратно)62
Но главным образом — земледельцев, производителей хлеба.
(обратно)63
Kramer. - PAPS. 107 (1963), с. 505—508. Ni 9602.
(обратно)64
Дикий Бык, шумерск. am — животное неприрученное и символизирует здесь скорее всеобщую силу сексуальности, чем промысел волопаса или доильщика.
(обратно)65
Ниппур — город в древней Месопотамии, культовый центр страны и место почитания главного бога Энлиля.
(обратно)66
Это не подтверждается шумерскими хозяйственными текстами.
(обратно)67
Alster В. Dumuzi's Dream. Copenhagen, 1972.
(обратно)68
Это не обязательно кеннинг (иносказание) битвы; вероятнее, что погоня и хватание Думузи действительно разыгрывались на праздничном ритуале юношей.
(обратно)69
RA. VIII (1911), с 161 и сл. и дубликаты: TRS, no. 78 и SK, no. 2.
(обратно)70
SK, no. 123, ii. 10—21.
(обратно)71
В английском тексте — throw-stick, что-то типа палки, которую бросают друг в друга воины в бою.
(обратно)72
СТ. XV, pl. 18 и частичный дубликат CBS 45 (не опубликовано).
(обратно)73
BE. XXX, no. 1, ii 3 к iii.. 4 и его дубликаты: HRET, no. 26 и SEM, no. 91.
(обратно)74
Edited by Kramer, JCS. V (1951), с. 1—17 с дополнительными материалами. — PAPS. 107 (1963), с. 491—493, 510—516. См. также: Kilmer A. D. How Was Queen Ereshkigal Tricked? — Ugarit Forschungen. 3 (1971), с. 299—309. Мы склонны полагать, что мотив принудительного угощения гостей более характерен для сказания об Адапе, нежели для «Сошествия Инанны».
(обратно)75
Kalaturru — «малый певчий» — предположительно маленький евнух; kurgaru — возможно, шут.
(обратно)76
Куллаб и Урук были первоначально двумя отдельными, соседними городами; затем они срослись в один город Урук, а первоначальный Куллаб был частично заброшен.
(обратно)77
СТ. XV, pl. 19.
(обратно)78
Напомним, что Гештинанна — богиня растительности (лозы) и, следовательно, зимнего, «зеленого» времени года, а Думузи — бог скота.
(обратно)79
Эме-саль — особый диалект шумерского языка, может быть, изначально урукский, но впоследствии употреблявшийся в текстах главным образом для речей женских персонажей, а также певчих — возможно, евнухов.
(обратно)80
В оные времена (лат.).
(обратно)81
Следует заметить, что хотя «Нин-Гештинанна» действительно означает «Госпожа—лоза небес», однако виноград в Шумере не рос (лишь на склонах окрестных гор). Скорее, чередование Думузи и Гештинанны в преисподней является метафорой смены времен года — сухого и влажного. Последующее объяснение мифа о сошествии Инанны представляется нам слишком рационалистичным.
(обратно)82
IV. R2, pl. 27, no. 1, стк. 3—13.
(обратно)83
OECT. VI, pl. 15, К 5208, rev. 3—11.
(обратно)84
TCL. VI, no. 54, rev. 1—6. Ср. частичный дубликат: LKU, no. II.
(обратно)85
TCL. VI, no. 54, 12—17 и дубликат: Macmillan К. D. - BA V 5, no. XXXIV.
(обратно)86
ASKT, no. 16 obv. 13—14 и дубликат: Frank. - ZA (1931), с. 86.
(обратно)87
ASKT, no. 16, rev. 1—16 и дубликат: Frank. — ZA (1931), с. 86 и К 4954 (неопубликованная копия Ф. Гирса).
(обратно)88
К 4954 obv. 1—12. Неопубликованная копия Ф. Гирса.
(обратно)89
SK, no. 26, iv. 1—7 — относящийся по времени к Старовавилонскому периоду. Текст был сильно искажен в традиционной передаче, и многое в нем было неверно понято и превратно истолковано. Позднейшую версию (первое тысячелетие) в том виде, в каком она дана в: IV R2 pl. 30 no. 2, стк. 11—31, можно пересказать (опуская длинный каталог эпитетов и титулов в стк. 12—20 и включая две следующие за ним строки) следующим образом:
Если так надо, пусть мой (юный) мальчик идет по дороге, откуда не возвращаются!
............................................
Он шел, он шел к гребню холмов (смерти) с утра до ночи, с утра до ночи, к стране своих мертвых; полный скорби об этом дне, он упал, скорби о (тебе), Месяц, что он завершил благополучно твой год, скорби о (тебе), Дорога, приведшая к концу твой народ, скорби о печальных возгласах над господином — (юным) смельчаком, идущим вдаль, в неизведанную область.
(обратно)90
SK, no. 26, vi. 14'—20' и его дубликаты. PRAK. 11 pl. 44 D 41 стк. 10'—17'.
(обратно)91
SK, no. 27, v. 7—10.
(обратно)92
Там же, стк. 11—15.
(обратно)93
TRS, no. 8 и его дубликаты: СТ XV pls. 26—27 и pl. 30.
(обратно)94
«Яблоневые горы».
(обратно)95
Напомним, что все приводившиеся выше тексты относятся к самому концу III и первой половине II тысячелетия до н. э.
(обратно)96
СТ. XV. pl. 24.14—25.11 и его дубликаты: BL, no. 71 (К 2485 и 3898). Pinches, PSBA XVII (1895), pl. I—II.
(обратно)97
Сообщено устно Робертом М. Адамсом.
(обратно)98
«Gilgamesh and Agga», edited by Kramer. — AJA. 53 (1949), с 1—18, стк. 30—39 — ср. 107—111.
(обратно)99
«Гильгамеш, Энкиду и Подземное царство» (Gilgamesh, Enkidu, and the Netherworld»). Издание готовится к печати А. Шаффером (A. Shaffer). В настоящее время см.: S. N. Kramer. «Gilgamesh and the Hulupputree». - AS. X; SM, с 30—37; SLTN, c. 13; TuMnF. III, с 11 к nos. 13—14; UE(T). VI, с. 7 к nos. 55—59.
(обратно)100
Шумерская версия (SK, no. 196) и неопубликованный дубликат из Ниппура (3N-T 152). Аккадская версия составляет шестую таблицу эпоса о Гильгамеше.
(обратно)101
Издание А. Шаффера (А. Schaffer) готовится к печати. В настоящее время см.: Kramer S. N. Gilgamesh and the Land of the Living. - JCS. I (1947), с 3—46.
(обратно)102
Kramer S. N. Enmerkar and the Lord of Aratta (Philadelphia, 1952).
(обратно)103
«Падение Аккаде» — см.: Falkenstein. ZA. 57 (1965), с. 43—124; Kramer. - ANET Suppl., с. 210—215.
(обратно)104
Gudea, Cylinder A, viii. 15 k ix. 4.
(обратно)105
Общие сведения см. в: Deimel A. Sumerische Tempelwirtschaft zur Zeit Urukaginas und seine Vorgänger. — AnOr. 2.
(обратно)106
Gudea, Cylinder A, viii. 15 k ix. 4.
(обратно)107
Ливни в Месопотамии были зимой, а основной период пахоты падал на осень, после окончания летней засухи.
(обратно)108
Нинурта скорее божество, аналогичное лагашскому Нингирсу, чем сам Нингирсу; их отождествление следует относить к более позднему периоду создания общего единого пантеона для всей страны.
(обратно)109
Временно (лат.).
(обратно)110
Uruinimgina, Cone В + С, xii. 23—28.
(обратно)111
Gudea, St. В, vii 36—46.
(обратно)112
Gudea, Cylinder A, cols. i—xii.
(обратно)113
Ср., например, миф «Lugal-e».
(обратно)114
СТ. XXI, pls. 31 и сл.
(обратно)115
Me — в шумерской мифологии божественная сущность или судьба любого явления природы или общества.
(обратно)116
«Weltodnung».
(обратно)117
Corpus. Entemena, Cone A.
(обратно)118
См.: Hirsch Hans. Die Inschriften der Könige von Akkade. — AOF. ХХ (1963), с 44 obv. 10 X 1—7.
(обратно)119
Thureau-Dangin. La fin de la domination Gutienne. — RA. IX (1912), с. 111 и сл. col. ii. 29 to iii. 3 и дубликат RA X (1913), с. 99 10'—11'.
(обратно)120
Ebeling E. Tod und Leben nach den Vorstellungen der Babylonier. В., 1931, с. 86, 127—133.
(обратно)121
Laessoe J. Studies on the Assyrian Ritual and Series bît rimku. Copenhagen, 1955.
(обратно)122
См. миф «Энлиль и Нинлиль» — MBI, no. 4; SEM, no. 76 и 77; SLTN, no. 19; Pinches. The Legend of the Divine Lovers. — JRAS. 1919, с 185 и сл., 575 и сл.; и 3N-T 294 (не опубликовано).
(обратно)123
ХХ—XVIII вв. до н. э.
(обратно)124
Более дословный перевод:««Я не смог бежать в тот день в положенное время». «Фатальность того дня» относится к «предопределенности события». Сходным образом ниже: «Я не смог бежать в ту ночь в положенное время».
(обратно)125
Перевод этой и предыдущей строки может быть только предположительным.
(обратно)126
Заметим, что хотя во главе собрания — небесные боги Ан и Энлиль, но в собрании заседают и Ануннаки — боги земли и подземного царства.
(обратно)127
Там же, с. 32, стк. 152—164.
(обратно)128
Бог огня.
(обратно)129
Там же, с. 34, стк. 173—189.
(обратно)130
Там же, с. 38, стк. 203—204.
(обратно)131
Там же, с. 38—40, стк. 208—218.
(обратно)132
UE(T) VI 2, no. 131 rev. 45—59.
(обратно)133
Там же, nos. 131 rev. 63 и 132 obv. 1—13.
(обратно)134
Ан не являлся богом дождя, игравшего весьма незначительную роль в древнемесопотамском хозяйстве;
(обратно)135
ZA. 32 (1918/19), с. 174, стк. 58.
(обратно)136
«Lugal-e»: Tablet 1, стк. 26—27. Издание этого мифа готовится к печати Э. Бергманн(т)ом и Дж. ван Дийком. В настоящее время см.: Kramer S. N. — SM, с. 117, примеч. 76; UE(T) VI, с. 2 к nos. 3—7; SETP, с. 39 V. (5); а также литературу, указанную в кн.: Borger R. Handbuch der Keilschriftliteratur I. В., 1967, с. 147—148.
(обратно)137
Мы рассматриваем urāš как purāš — результативную форму от erēšu «пахать».
(обратно)138
An = Anum Table i стк. 25—26. См.: СТ XXIV pl. 1.
(обратно)139
An = Anum СТ. XXIV, pl. I. 1—2. Ср.: Deimel A. Pantheon Babylonicum. Rome, 1914, no. 263.
(обратно)140
Ср.: Лугальзагеси, надпись на вазе III, 27—28 ubur-An-na-ke4 si-ha-mu-da-sá «Пусть он, т. е. Ан, поправит груди Антум (т. е. неба)», ср. также: CAD, vol. 26 (S), с. 135, section 4а — что мы объединяем с şirtu А (там же, с. 209) — «вымя, сосок».
(обратно)141
Например, SK, по. 199, abov. I. 4.
(обратно)142
SK, no. 196. См. также: Gilhamesh Epic Tablet VI.
(обратно)143
Kramer S. N. Inanna's Descent to the Netherworld Continued and Revised. - JCS. V (1951), с 5, стк. 85—88.
(обратно)144
СТ. XXXVI, pl. 31.6.
(обратно)145
Цит. по: Otto R. The Idea of the Holy, с 227.
(обратно)146
James W. The Varieties of Religious Experience (N. Y., 1958), с 67.
(обратно)147
Thureau-Dangin. L'elevation d'Inanna. — RA. XI (1914), c. 144, obv. 3—5.
(обратно)148
См. данную нами сходную, несколько более детализованную характеристику в: Frankfort H. et al. Before Philosophy (Harmondsworth, Middlesex, 1954), с 150— 153.
(обратно)149
SK, no. 199, obv. 1—28.
(обратно)150
В Месопотамии — зимних: весна — начало периода засухи.
(обратно)151
Ср.: The Creation of the Hoe (TRS, no. 72) и дубликаты.
(обратно)152
Представляется, что Ду-куг (или Дуль-ку) — нечто вроде Олимпа, горное обиталище богов, где, конечно, как и при земном храме, могут быть овцы и скот. Но представление о местонахождении богов как о куче зерна или шерсти кажется необоснованным.
(обратно)153
Отметим строку: «Овцы и Зерно находятся в изобилии в их доме Дукуг» (MBI, по. 8 obv. 26) и ее двуязычный дубликат (СТ. XVI, pl. 14.30).
(обратно)154
UE(T). VI, no. 101, в особенности стк. 12-13 и 32—33.
(обратно)155
СТ. XV, pl. 10. 18—22.
(обратно)156
MBI, no. 4. iv. 23—31 и дубликат SLTN, no. 19 rev.
(обратно)157
SGL. I, с. 16, стк. 96—128.
(обратно)158
Там же, с. 17. 129—40.
(обратно)159
SBH, по. 4, стк. 100—105.
(обратно)160
KAR, no. 375, ii. 1—8.
(обратно)161
CNMA. 10051; JCS. VIII (1954), с. 82 и сл., col. i. 1—3 и дубликаты. См.: Kutscher R. Oh Angry Sea (a-ab-ba hu-luh-ha): The History of a Sumerian Congregational Lament (New Haven, 1975).
(обратно)162
SBH, с 130 и сл. стк. 1—21.
(обратно)163
Там же, по. 4, стк. 1—21.
(обратно)164
TRS, no. 72 и дубликаты.
(обратно)165
Готовится издание под редакцией М. Сивила. В настоящее время см.: Gordon E. I. A New Look at the Wisdom Sumer. - Bibliotheca Orientalis. XVII (1960), с. 145, section A. 1 и примеч. 207 и 208; а также: Kramer. — UE(T). VI, с. 6 nos. 36—37. Данный отрывок см. частично b: UE(T) no. 36 obv. 11—13; SLTN, no. 17 obv. 11—13; также: SEM, no. 46 obv.
(обратно)166
См. примеч. 74 [См. миф «Энлиль и Нинлиль» — MBI, no. 4; SEM, no. 76 и 77; SLTN, no. 19; Pinches. The Legend of the Divine Lovers. — JRAS. 1919, с 185 и сл., 575 и сл.; и 3N-T 294 (не опубликовано)].
(обратно)167
Civil and Reiner. Another Volume of Sultantepe Tablets. - JNES. 26 (1967), с 200—205.
(обратно)168
PBS. V, no. 1.
(обратно)169
Lambert W. G. and Miliard A. R. Atra-hasîs: The Babylonian Story of the Flood (Oxf., 1969).
(обратно)170
«Gilgamesh Epic» Tablet XI.
(обратно)171
См.: An=Anum Tablet II. Ср.: Deimel. Pantheon Babylonicum, no. 365; см. также наше исследование: Notes on Nintur. - Orientalia, n. s. 42 (1973), с 274—305.
(обратно)172
Отметим названия местностей [Hur-sag] [...] (obv. i. 8), An-za-gár-hur-sag-ga (i. 20—21) и Hur-sag (ii. 16—18) в Казаллу и Абиаке на западной границе Аккада, приведенные в: Kraus. Provinzen der neusumerischen Reiches von Ur. — ZA. 51 (1955), с 46.
(обратно)173
См. примеч. 113 [Готовится издание под редакцией М. Сивила. В настоящее время см.: Gordon E. I. A New Look at the Wisdom Sumer. - Bibliotheca Orientalis. XVII (1960), с. 145, section A. 1 и примеч. 207 и 208; а также: Kramer. — UE(T). VI, с. 6 nos. 36—37. Данный отрывок см. частично b : UE(T) no. 36 obv. 11—13; SLTN, no. 17 obv. 11—13; также: SEM, no. 46 obv.].
(обратно)174
«Lugal-e» Tablets VIII—IX. См. примеч. 85 [«Lugal-e»: Tablet 1, стк. 26—27. Издание этого мифа готовится к печати Э. Бергманн(т)ом и Дж. ван Дийком. В настоящее время см.: Kramer S. N. — SM, с. 117, примеч. 76; UE(T) VI, с. 2 к nos. 3—7; SETP, с. 39 V. (5); а также литературу, указанную в кн.: Borger R. Handbuch der Keilschriftliteratur I. В., 1967, с. 147—148.]; цитируемый отрывок см. в особенности: Borger. Handbuch der Keilschriftliteratur. I, с. 148.
(обратно)175
SK, no. 198 obv. 12—13.
(обратно)176
Там же, стк. 18—27.
(обратно)177
UE(T). VI2, no. 144 obv. 8—14.
(обратно)178
Там же, стк. 28—33.
(обратно)179
BL, no. 75 rev. 1—4.
(обратно)180
Gudea, St. A, i. 3. Эпитет прилагается к богине, выступающей под именем Нинхурсаг; Гудеа, однако, относит это имя и имя Нинтур к одной и той же богине. См.: там же, III, 5.
(обратно)181
TU, т. e. tur5. В своей ранней форме знак изображает, по-видимому, хижину, украшенную одной или несколькими связками тростника на крыше. (О ее форме ср.: Labat. Manuel d'epigraphie akkadienne. P., 1948, с. 60). Хижины, подобные хижинам на каменном желобе (British Museum Quarterly. III (1928), pl. XXII), П. Делугаз называет родильными хижинами в своей статье: Delougaz P. Animals Emerging from a Hut. — JNES. 27 (1968), с. 186 и 196, также fig. 2—11.
(обратно)182
См. заклинание VAT 8381. 1—3, опубликованное Дж. ван Дийком (VS. XVII, по. 33) и цитируемое Халло и ван Дийком в кн.: Hallo and van Dijk. The Exaltation of Inanna (New Haven, 1968), с 53, п. 22. Наше прочтение и перевод: munus-e 'e-tur amaš-kü-ga im-da-an-zé-eb-ba-na / é-tu-ud-gál é-tur amaš-ku-ga im-da-an-zé-eb-ba-na / numun-zinam-lú-uxša-ga ba-ni-in-ri — «женщина, благословляющая им (т. е. мужским семенем) родильную хижину священной овчарни; благословляющая им дом, побуждающий к деторождению; родильная хижина священной овчарни, зачатая (от) доброго мужского семени во чреве».
(обратно)183
См.: Lambert and Miliard. Atra-hasîs, с. 56, стк. 1, 189 и др.
(обратно)184
KAR, no. 196 obv. i. 65.
(обратно)185
Frankfort H. A Note on the Lady of Birth. - JNES. 3 (1944), с 198 и сл.
(обратно)186
TH, с. 46, стк. 500—503.
(обратно)187
An = Anum Tablet И. См.: СТ. XXV, pl. 12; ср.: Там же, pl. 25.
(обратно)188
Этимология спорная; возможно, это имя — дошумерское.
(обратно)189
TH, с. 172, стк. 77—78. Наше прочтение: šag4 im-mi-in-dab 5 в стк. 77, которое мы связываем с ˇsаg 4 ...dаb5=sерēru («щипать», «заставить сокращаться»).
(обратно)190
PBS Х2 no. 16 obv. i. 25—27 и его дубликаты — ср.: SM, с. 51 и сл.
(обратно)191
An = Anum. Ср.: СТ XXIV, pl. 12 стк. 20 и pl. 25, стк. 84.
(обратно)192
TH, с. 22, стк. 96-98.
(обратно)193
An = Anum. СТ. XXIV, pl. 13, стк. 33—35 и pl. 25, стк. 92—93.
(обратно)194
Kocher F. Der babylonische Göttertypentext. — Mitteilungen des Instituts für Orientforschung. I (В., 1953), с. 57—107 obv. iii. 38'—51'.
(обратно)195
An = Anum. СТ. XXIV, pl. 25, стк. 88. Отметим также ее эпитет sag4-zu-an-ki («Повитуха Неба и Земли») в TH, с. 47, стк. 504. Нинхурсаг и Нинтур в этом гимне идентичны.
(обратно)196
Weltordnung, с. 238, стк. 393—399.
(обратно)197
Gudea, St. A, ii. 1—2. Отметим, что знак DUB используется здесь как вариант URUDU.
(обратно)198
Weltordnung, с. 400—410.
(обратно)199
См. примеч. 134 [TH, с. 46, стк. 500—503.]. Цитируются стк. 50—503.
(обратно)200
Weltordnung, с. 239, стк. 408—409.
(обратно)201
PBS Х2, по. 16 obv. i. 25—26.
(обратно)202
PBS. V, no. 76 vii. 10'—14'.
(обратно)203
Ungnad A. Datenlisten. — Ebeling et al. Reallexikon der Assyriologie. II, с. 164, no. 281.
(обратно)204
Апсу (шумерск. абзу) — пресноводная бездна, на которой плавает земной мир и из которой выступают воды источников, рек и колодцев; царство Энки-Эйи — Эреду, древний центр поклонения ему.
(обратно)205
Weltordnung, с. 233, стк. 61—70.
(обратно)206
Там же, стк. 87—92.
(обратно)207
СТ XXXVI, pl. 31.8—10.
(обратно)208
См., например, в: Frankfort H. Cylinder Seals (L., 1939), pl. xix a. цилиндрическую печать, которая принадлежала писцу Адде, жившему во время правления династии Аккаде. На ней изображен вид с восточных гор в пору восхода солнца. Посредине бог солнца поднимается между двумя горами. За горным пиком справа от него стоит крылатая богиня утренней звезды — Инанна. Направо от нее — бог грозовых ливней и паводков, Нинурта, со своим луком, в сопровождении льва. Энки взбирается на вершину по левую руку от бога солнца, за ним стоит его двуликий советник — Усму.
(обратно)209
Аn = Anum Tablet II. См.: СТ XXIV, pl. 14, стк. 23—24, 26—27, 48.
(обратно)210
Weltordnung, стк. 52—57.
(обратно)211
An = Anum Tablet II. См.: СТ XXIV, pl. 14.19.
(обратно)212
См. в целом: СТ XXV, pl. 48.
(обратно)213
Ср. AHw, с. 672.
(обратно)214
Frankfort et al. Before Philosophy, с. 159—160.
(обратно)215
Ср.: Kramer S. N. — ANET, с. 37—41 и приведенные там источники.
(обратно)216
SM, с. 69-72 и приведенные там источники. См. также: СТ XLII, no. 28.
(обратно)217
PBS V, по. 1. Ср.: AS XI, с. 58—60.
(обратно)218
Ср.: SM, с. 64—68 и приведенные там источники.
(обратно)219
Weltordnung, стк. 385—466.
(обратно)220
См. примеч. 38 [Edited by Kramer, JCS. V (1951), с. 1—17 с дополнительными материалами. — PAPS. 107 (1963), с. 491—493, 510—516. См. также: Kilmer A. D. How Was Queen Ereshkigal Tricked? — Ugarit Forschungen. 3 (1971), с. 299—309. Мы склонны полагать, что мотив принудительного угощения гостей более характерен для сказания об Адапе, нежели для «Сошествия Инанны».].
(обратно)221
Название «Меллухха» лишь в I тысячелетии до н. э. означало Эфиопию; в ранний период оно, видимо, обозначало Индию.
(обратно)222
См. SM, с. 62—63 и приведенные там источники.
(обратно)223
Ср.: Speiser E. A. Adapa. - ANET, с. 101—103 и приведенные там источники. См. также: TIT, с. 48—51; ср. примеч. 38.
(обратно)224
Lambert and Miliard. Atra-hasīs. Особо важны в этом плане статьи: Moran W. L. The Creation of Man in Atrahasīs I 192—248. - BASOR, no. 200 (1970), с 48—56, и Atrahasīs: The Babylonian Story of the Flood. — Biblica, 52 (1971), с 51—61. Ценный анализ сказания в переводе на английский язык содержится в статье: Kilmer A. D. The Mesopotamian Concept of Overpopulation. — Orientalia, n. s. 41 (1972), с 160—177 (есть библиография).
(обратно)225
Ану — более поздний вариант аккадской древнейшей формы «Анум». Ср. также ниже.
(обратно)226
AGH, с. 6. 1—3.
(обратно)227
UE(T) I, no. 300. 1-11.
(обратно)228
Это божество, имя которого означает «Владыка Земля» (en-ki), является хтоническим божеством, отличным от бога пресных вод Энки, имя которого означает «Владыка (т. е. «распоряжающийся плодородием) земли» (en-ki(-ak)).
(обратно)229
SETP, pl. 96 (исправление к 38). Ni 2781, obv. 17—24.
(обратно)230
Ni 2781, obv. 25—28. Kramer S. N. Two Elegies on a Pushkin Museum Tablet. A New Sumerian Literary Genre (Moscow, 1960), с 54, стк. 90.
(обратно)231
Ср.: Jacobsen Thorkild. The Reign of Ibbi-Suen. — JCS. VII (1953), с 45 и сл. (перепеч.: TIT, с. 182 и сл.). [Во все другие эпохи жрицей Нанны в Уре была дочь царя. (Примеч. отв. ред.) ].
(обратно)232
Ср.: AGH, с. 6.
(обратно)233
CT XVI, pls 19-21, стк. 1—188.
(обратно)234
UE(T) I, no. 289, i. 23-26.
(обратно)235
См.: UE(T) VI, no. 133, obv. 25—26 и 134 obv. 3'—4'. Ср.: ANET Suppl. с. 182, стк. 449—450.
(обратно)236
Ср.: UE(T) VI, no. 67, особенно стк. 45 и сл.
(обратно)237
MNS, с. 167, стк. 11.
(обратно)238
Там же, с. 166, стк. 10.
(обратно)239
Там же, с. 44, стк. 1 ff.
(обратно)240
TuMnF IV2, no. 7.88; ср. СТ XXIV, pl. 15.57.
(обратно)241
TuMnF IV2; no. 7.83; ср. CAD, vol. 21, с. 136: zirru А и zirru В.
(обратно)242
СT XV, рl.5, ii. 5—9.
(обратно)243
TuMnF IV2, no. 7. 67—104.
(обратно)244
См., например: CAD, vol. 21, с. 136: zirru В.
(обратно)245
См.: Gadd. «En-an-е-du».-Irak, vol. XIII (1951), pl. XIV. 7. Первый знак в строке, как нам представляется, — úr.
(обратно)246
Tr. D, по. 16; ср.: КК, с. 79. .
(обратно)247
PAPS 10 (1963), с. 505, rev. iv. 17 и сл.
(обратно)248
MNS, с. 44-46.
(обратно)249
Kramer S. N. — SM, с. 47 и сл. и 114, п. 50, и UE(T) VI, р. 5 к по. 25. См. также: Sjöberg. — MNS, с. 148—165; Ferrara A. J. Nanna-Suen's Journey to Nippur (Rome, 1973).
(обратно)250
См., например: UE(T) VI 2, no. 131, rev. 47—48. Ср.: ANET Suppl. с 181, стк. 343—344. Первый месяц в ниппурском календаре назван, по-видимому, в честь этого обряда.
(обратно)251
MNS, с. 44—46.
(обратно)252
MNS, с. 13—15.
(обратно)253
CAD, vol. I2, с. 348 s. v. assukku.
(обратно)254
Ср.: LE, с. 90—111. См. в особенности стк. 100— 104.
(обратно)255
Середина III тысячелетия до н. э.
(обратно)256
Ср.: JNES 12 (1963), с. 167, примеч. 27 (перепеч.: TIT, с. 339).
(обратно)257
См.: Sculptures, pls. XXXVI—XXXVII and Stones, pl. 138.
(обратно)258
Ср., например: «Lugal-e», в конце таблички III (SEM, nos. 44, obv. 13, and 45 obv. 11), где птица упоминается в числе врагов, убитых Нинуртой в горах.
(обратно)259
CyS, pl. XXII а. На изображении птица-лев крылата и обладает и когтями на задних лапах.
(обратно)260
Ср. подобные молитвы, обращенные к нему (АКА, с. 254 и сл), на плите, изображающей его битву с птицей-львом, и AGH, с. 24—26 (ср.: SAGH, с. 314—316).
(обратно)261
Можно также перевести: «созданный подобным Ану».
(обратно)262
Издание готовится к печати Дж. С. Купером (J. S. Cooper). См.: S. N. Kramer. -PAPS 85 (1942), с. 321.
(обратно)263
Слово me-l'am не вполне соответствует русскому «слава»: подобно английскому «glory», употребленному здесь автором, оно значит «блеск величия, божественное сияние».
(обратно)264
См. примеч. 85 [«Lugal-e»: Tablet 1, стк. 26—27. Издание этого мифа готовится к печати Э. Бергманн(т)ом и Дж. ван Дийком. В настоящее время см.: Kramer S. N. — SM, с. 117, примеч. 76; UE(T) VI, с. 2 к nos. 3—7; SETP, с. 39 V. (5); а также литературу, указанную в кн.: Borger R. Handbuch der Keilschriftliteratur I. В., 1967, с. 147—148.].
(обратно)265
«Lugal-e». Tablet VIII, стк. 1—12. См.: BE XXIX, nos. 2 и 3; SRT, no. 18.
(обратно)266
«Lugal-e». Tablet VIII, стк. 13—25. См.: BE XXIX, nos. 2 и 3; SRT, no. 18; SEM, no. 35.
(обратно)267
Gudea, Cylinder A, iv. 14—18.
(обратно)268
В отличие от kur — пустынных гор и нагорий на западе, hursag — это лесистые или покрытые кустарниками нагорья.
(обратно)269
Там же, viii. 15—16.
(обратно)270
Там же, 23—26.
(обратно)271
UE(T) VI, no. 2.
(обратно)272
См. библиографию, приведенную Грейсоном в: ANET Suppl. с. 78.
(обратно)273
UE(T) VI, no. 2. 48—54.
(обратно)274
Gudea, Cylinder В, iii. 9 and 13—16. Ср.: Falkenstein. — AnOr 30, с. 91, примеч. 5.
(обратно)275
STVC, no. 34, i. 8—25.
(обратно)276
Недвусмысленное, однако, весьма позднее сообщение см.: VAB IV, с. 260. 33—35 (Nabonidus). Старовавилонский отрывок, в котором описывается упряжка Уту, приведен в: Castellino G. R. Incantation to Utu. — Oriens Antiqvus VIII (1969), c. 6—27, стк. 89—102. К сожалению, смысл его не вполне ясен.
(обратно)277
Kramer. Two Elegies on a Pushkin Museum Tablet, с 54, стк. 88—89, и с. 57, стк. 174.
(обратно)278
«Гильгамеш, Энкиду и Подземный Мир» — см. примеч. 55 [«Гильгамеш, Энкиду и Подземное царство» (Gilgamesh, Enkidu, and the Netherworld»). Издание готовится к печати А. Шаффером (A. Shaffer). В настоящее время см.: S. N. Kramer. «Gilgamesh and the Hulupputree». - AS. X; SM, с 30—37; SLTN, c. 13; TuMnF. III, с 11 к nos. 13—14; UE(T). VI, с. 7 к nos. 55—59.].
(обратно)279
СТ XV, pls. 15—16.
(обратно)280
An = Anum. См.: KAV 172 rev. iii. 10' и 12'; СТ XXV, pl. 20, 21, pl. 21 rev. 3, 5 и 6.
(обратно)281
FTS, с. 106, fig. 6a.
(обратно)282
СТ XV, pl. 15.18—20.
(обратно)283
Там же, pl. 15.12.
(обратно)284
Там же, pl. 15.3 и 6.
(обратно)285
SBH, no. 56, rev. 77—78.
(обратно)286
Kramer. Enmerkar and the Lord of Aratta, стк. 244—248. Наше прочтение:
Основание Аратты, дома, возросшего (т. е. одновременно) с небом,
это пень (буквально: «срубленное дерево»),
его верхушка — расщепленное дерево,
внутри его — орлиный коготь орла Имдугуда —
окованные на колене и клюве оковами Инанны —
заставляет кровь стекать с горы, со склона Курмуш
(обратно)287
[примечание отсутствует]
(обратно)288
[примечание отсутствует]
(обратно)289
[примечание отсутствует]
(обратно)290
[примечание отсутствует]
(обратно)291
[примечание отсутствует]
(обратно)292
[примечание отсутствует]
(обратно)293
[примечание отсутствует]
(обратно)294
[примечание отсутствует]
(обратно)295
[примечание отсутствует]
(обратно)296
[примечание отсутствует]
(обратно)297
[примечание отсутствует]
(обратно)298
[примечание отсутствует]
(обратно)299
SBH, no. 56, obv. 16—36.
(обратно)300
SK, no. 199, rev. i. 8—24.
(обратно)301
SRT, no. 1 и дубликаты.
(обратно)302
Там же, i. 1—16.
(обратно)303
Там же, iii. 31—36.
(обратно)304
TuMnF III, no. 10, 169—175 и дубликат - Там же, no. 11, rev. 11—14.
(обратно)305
Представляется, что образ Инанны-блудницы не может быть объяснен случайным обстоятельством выхода блудниц «на работу» при свете вечерней звезды; этот образ имеет гораздо более глубокие корни. К тому же древняя блудница — это не то, что современная проститутка; ее занятие имеет свою божественную защиту.
(обратно)306
BE XXXI, no. 12.10—20 и дубликаты - 3N-T 339 iii и SEM, no. 87, obv. 21 к rev. 4.
(обратно)307
Pope M. H. (Haussig H. W. ed.). Wörterbuch der Mythologie I (Stuttgart), с 249.
(обратно)308
Там же, с. 250—252.
(обратно)309
Шумерское m e означает не столько «обязанность», сколько «предназначение» или «сущность» любого явления или действия.
(обратно)310
EI, с. 14 i. I.
(обратно)311
PBS V, no. 25 rev. vi 8—9, v 57—58, и v 54—55.
(обратно)312
van Dijk J. J. A. Sumer XIII, с. 73; IM 51176 obv. 1-6.
(обратно)313
BE XXX, no. 4 и дубликаты.
(обратно)314
PBS I i no. 1; PBS V, no. 25. Ср.: SM, с 116, n. 67.
(обратно)315
«Inanna's Descent». См. примеч. 89 [Ср.: Лугальзагеси, надпись на вазе III, 27—28 ubur-An-na-ke 4 si-ha-mu-da-sá «Пусть он, т. е. Ан, поправит груди Антум (т. е. неба)», ср. также: CAD, vol. 26 (S), с. 135, section 4а — что мы объединяем с şirtu А (там же, с. 209) — «вымя, сосок».].
(обратно)316
«Gilgamesh Epic». Tablet VI.
(обратно)317
TRS, no. 95 obv. 1—9. Ср. дубликаты - SBH, no. 53 obv. 1—4; Там же, no. 55 на с. 155, rev. 28—30. Текст поврежден и, кроме того, труден во всех отношениях, поэтому перевод, особенно перевод заключительной части, дается с оговорками.
(обратно)318
См.: Speiser. Descent of Ishtar to the Nether World. - ANET, с. 106—109 и приведенные там источники. Анализируемый отрывок — стк. 12—20. Ср. соответствующий пассаж в шумерском сказании «Сошествие Инанны» (JCS V, 1951, с. 4, стк. 72—76), где богиня столь же нетерпелива, однако менее страшна.
(обратно)319
«Gilgamesh Epic». Tablet VI.
(обратно)320
Wilson J. A. The Burden of Egypt. Chicago, 1951, с 301.
(обратно)321
King L. W. The Seven Tablets of Creation II (L., 1902), pls. 75—84, стк. 42—50.
(обратно)322
Там же, стк. 67—78.
(обратно)323
IV R2 pl. 10.
(обратно)324
Там же, obv. 58, rev. 8.
(обратно)325
Там же, rev. 35—45.
(обратно)326
SGL I, c. 17—18, стк. 129—140.
(обратно)327
Goeíze. - ANET, с. 400—401.
(обратно)328
Wilson. The Burden of Egypt, с 297—301.
(обратно)329
PBSI2, nos. 94 и 134; UE(T) VI, no. 173 i. 1'—4', 174с, и 180.
(обратно)330
Подробнее об этом жанре см.: Hallo W. Individual Prayer in Sumerian: The Continuity of a Tradition. — Journal of the American Oriental Society. 88 (1968), с 71— 89.
(обратно)331
Kramer S. N. Man and His God. — Supplements to Vetus Testamentum III (Leiden, 1955), с 170—182.
(обратно)332
Там же, с. 173, стк. 26—30.
(обратно)333
Там же, с. 174, стк. 35—39.
(обратно)334
Там же, с. 175, стк. 98.
(обратно)335
Там же, с. 176, стк. 101—102.
(обратно)336
Там же, стк. 111—113.
(обратно)337
Hallo. - JAOS. (1968), 88 с. 82—84.
(обратно)338
Там же, с. 83, стк. 19.
(обратно)339
Там же, стк. 20—21.
(обратно)340
Там же, стк. 25—27.
(обратно)341
Там же, с. 84, стк. 46—50.
(обратно)342
TCL I, по. 9. Ср.: Ungnad А. - VAB VI, с. 80-81, по. 89; также von Soden. — AHG, с. 269, no. 16.
(обратно)343
PBS I, no. 2 ii. 35'-40'.
(обратно)344
С самого начала (лат.).
(обратно)345
Ср. материалы, приведенные в: CAD, vol. 7, с. 101, sec. 5.
(обратно)346
СТ XXXVIII, pl. 30, стк. 23.
(обратно)347
СТ XXXVIII, pl. 17, стк. 95.
(обратно)348
VS XVI, no. 140. 23—24.
(обратно)349
YOS 2, no. 15.
(обратно)350
Кузнечики (или саранча) были в Месопотамии излюбленной пищей.
(обратно)351
BWL, с. 227, стк. 23—26.
(обратно)352
BRM IV, no. 22, r. 19.
(обратно)353
Gudea, Cylinder A, v. 19-20.
(обратно)354
Из Индии.
(обратно)355
Там же, ххх. 2—5.
(обратно)356
Датировка Т. Якобсена всюду древнее общепринятых; так, Ур-Нанше обычно датируется не раньше чем 2500 г. до н. э.
(обратно)357
Corpus, с. 7, Urn. 49 iv. 1 к v. 2.
(обратно)358
Gudea, St. B, iii. 3—5.
(обратно)359
Gudea, St. E, vii. 22 к vii. 10.
(обратно)360
Corpus, с 25, Ean. 62 Mortier V 3—7.
(обратно)361
Там же, с. 58, vii. 10 к ix. 3.
(обратно)362
TCL I, no. 40 20—22. Ср.: VAB VI, с. 154 no. 186.
(обратно)363
Ср.: CAD, vol. 7, с. 100, 4'.
(обратно)364
digir sag-du-gu10 =ilu ba-ni-i и ama im-dim-en-na-gu10 = um-mi ba-ni-ti. О ссылках см.: CAD, vol. 2, с. 94, s. v. bānū A.
(обратно)365
Šupru Tablets V—VI, стк. 11—12.
(обратно)366
Более существенно, что человек, не имевший детей, лишался посмертных жертвоприношений и тем самым был обречен на голод в подземном мире.
(обратно)367
Лугальзагеси, надпись на вазе. — BE I, no. 87 i. 26—27; ср.: VAB I, с. 154.
(обратно)368
VAB I, с. 60а. i. 7—8. См. также: там же, с. 62, с. 7—8, е. 6—7, и f. i. 8 (ср.: iii. 8—9).
(обратно)369
TRS, no. 12 112—113.
(обратно)370
Shulgi, Hymn А, стк. 7. См.: Falkenstein A. Ein Šulgi-Lied. - ZA. 50 (1952), с. 61—81. Ср.: Kramer. -ANET Suppl. с. 149 и сл.
(обратно)371
STVC, no. 51, rev. 35. Там же, no. 50, obv. 22; SLTN, no. 79, стк. 50.
(обратно)372
SLTN, no. 80. 22—25.
(обратно)373
Gudea, Cylinder В, xxiii. 18—21.
(обратно)374
Šurpu, с. 50, коммент. В i. 19.
(обратно)375
Ср. трактовку источников в: CAD, vol. 7, с. 95, sec, 4'.
(обратно)376
Kramer. Man and His God, с 173, стк. 9.
(обратно)377
Corpus, с. 41, Ent. 36, Brique BI iii. 6 к iv. 4.
(обратно)378
KAR, no. 3, стк. 17.
(обратно)379
Например: KAR, no. 148, ii. 22.
(обратно)380
TCL VI, no. 3, стк. 17.
(обратно)381
YOS 2, no. 141.
(обратно)382
BWL, с 229, стк. 24—26.
(обратно)383
Там же, с. 104, стк. 135—141.
(обратно)384
Там же, с. 21—62.
(обратно)385
Landsberger В.-ZA. 43 (1936), с. 32—76. Также: BWL, с. 63—91.
(обратно)386
BWL, с. 42, стк. 71—75.
(обратно)387
Там же, с. 46, стк. 112—113.
(обратно)388
Там же, с. 40, стк. 34—38.
(обратно)389
Там же, с. 86, стк. 256—257.
(обратно)390
Uob 42: 1—6.
(обратно)391
AS XII, с. 68—70, стк. 418—435 и UE(T) VI 2, no. 139.59.
(обратно)392
Издание под редакцией У. Дж. Лэмберта (W. G. Lambert) готовится к печати. В настоящее время доступен предварительный компилятивный текст, изданный У. Дж. Лэмбертом и С. В. Паркером: Lambert W. G. and Parker S. В. (ed.). Enûma eliš. The Babylonian Epic of Creation. The Cuneiform Text (Oxf., 1966). Переводы на английский язык см.: Heidel A. The Babylonian Genesis. The Story of Creation. 2nd ed. (Chicago, 1951); Speiser. — ANET, с. 60—72, с дополнениями Грейсона (Grayson) - ANET Suppl., с. 65—67.
(обратно)393
С этим трудно согласиться. Язык поэмы — намеренно и довольно неуклюже архаизируемый, но несомненно поздний.
(обратно)394
An=Anum Tablet I. СТ XXIV pl. I. 1—21; ср.: Там же, pl. 20.1—13.
(обратно)395
См. выше с. 150 и примеч. 206 [«Lugal-e»: Tablet 1, стк. 26—27. Издание этого мифа готовится к печати Э. Бергманн(т)ом и Дж. ван Дийком. В настоящее время см.: Kramer S. N. — SM, с. 117, примеч. 76; UE(T) VI, с. 2 к nos. 3—7; SETP, с. 39 V. (5); а также литературу, указанную в кн.: Borger R. Handbuch der Keilschriftliteratur I. В., 1967, с. 147—148.].
(обратно)396
См. выше с. 132 и примеч. 169 [Lambert and Miliard. Atra-hasīs. Особо важны в этом плане статьи: Moran W. L. The Creation of Man in Atrahasīs I 192—248. - BASOR, no. 200 (1970), с 48—56, и Atrahasīs: The Babylonian Story of the Flood. — Biblica, 52 (1971), с 51—61. Ценный анализ сказания в переводе на английский язык содержится в статье: Kilmer A. D. The Mesopotamian Concept of Overpopulation. — Orientalia, n. s. 41 (1972), с 160—177 (есть библиография).].
(обратно)397
СТ XLVI no. 43.
(обратно)398
Ср.: Jacobsen Thorkild. The Battle between Marduk and Tiāmat. - JAOS. 88 (1968), с 104—108.
(обратно)399
Мы связываем Lahmu — причастие прошедшего времени и Lahāmu — инфинитив с корнем 1-h-m в словах luhāmum, luhummu и luhmu — «ил, грязь», означающих, возможно, «делать мягким, скользким». В паре Lahmu-Lahāmu, как и в паре Dûri=Dâri, повсюду в той же самой генеалогии, инфинитивы (Lahāmu и Dâri) первоначально, по-видимому, обозначали порождающий аспект, матерей, а причастия прошедшего времени (Lahmu, Duri) — порожденный аспект, сыновей (рассматриваемых божеств). В генеалогии Ана, однако, пары явно должны обозначать скорее супругов, нежели (или, возможно, также) союзы «мать—сын».
(обратно)400
См. в особенности начало мифа «Сотворение Мотыги» (см. выше; см. также примеч. 112 [TRS, no. 72 и дубликаты.]).
(обратно)401
На случай, для данного случая (лат.)
(обратно)402
Заметим, что mummu — «архетип», «форма» — в тех случаях, когда встречается без детерминатива, является эпитетом. В написании с детерминативом «бог» слово обозначает «форму», персонифицированную в фигуре советника Абзу.
(обратно)403
Игиги — небесные, а Ануннаки — земные божества.
(обратно)404
parak rufûdim значит «престол со ступенями и балдахином, подобающий власти (княжества)».
(обратно)405
«Созвездие» здесь — толкование автора; в тексте «некое одеяние (ткань)».
(обратно)406
В действительности это значит «дом (храм) круга».
(обратно)407
Слово lullu означает примерно «дикарь», но также и «могучий древний человек».
(обратно)408
Эсагила—храм Мардука в городе Вавилоне.
(обратно)409
В религиозно-политическом отношении это было очень важно: в шумерские времена считалось, что царственность дается поочередно городам и их божествам на срок.
(обратно)410
Разработка, объяснение сущности (фр.).
(обратно)411
Таков традиционный перевод этой строки, ибо Ану — царь Игигов, а не Ануннаков. Клинописные знаки позволяют, однако, прочесть и «когда возвышенный бог, царь Ануннаков — Энлиль, владыка земли и неба… и т. д.».
(обратно)412
Bergmann E. Codex Hammurabi, textus primigenius, editio tertia (Rome, 1953), obv. 1—22.
(обратно)413
UE(T) VI2 no. 132 obv. 7—11; ср.: STVC, no. 25 obv. 18—21.
(обратно)414
Вопрос о том, можно ли поэтому считать, что имя супруга Тиамат Кингу связано с письменной формой Ki-en-giki вместо шумерского Kengi(r) «Шумер», мы вынуждены оставить нерешенным.
(обратно)415
См.: Landsberger В. - JCS. VIII (1954), с. 69.
(обратно)416
Campbell Thomson R. The Epic of Gilgamesh (Oxf., 1930). Перевод и современную библиографию см. в кн.: Schott A. and Soden W. von. Das Gilgamesch-Epos. Reclam Universal-Bibliothek no. 7235/35a (Stuttgart, 1970). См. также: Speiser E. A. The Epic of Gilgamesh. — ANET, с 72—99; Heidel A. The Gilgamesh Epic and Old Testament Parallels (Chicago, 1946).
(обратно)417
Ряд обстоятельств убедительно говорят в пользу предположения о том, что старовавилонский эпос действительно существовал как целое, а не просто как цикл разрозненных сказаний. В этой связи отметим, что колофон старовавилонской Пенсильванской таблицы свидетельствует о том, что она являлась частью серии из трех или более таблиц (каждая примерно по 240 строк). Если все таблицы были равного объема, это указывает на композиционную форму весьма значительных размеров. Выражаю признательность профессору Аарону Шафферу за то, что он обратил мое внимание на это обстоятельство.
(обратно)418
The Odyssey of Homer. S. H. Butcher and A. Lang. The Harvard Classics (N. Y., 1909), с 9.
(обратно)419
Здесь Т. Якобсен цитирует английский перевод «Одиссеи»; ср. на русском языке перевод В. А. Жуковского (примеч. ред.).
(обратно)420
Ср. каменную табличку из - Анама (SAK, с. 222.2.b), датируемую старовавилонским периодом.
(обратно)421
Мы следуем здесь интерпретации: Landsberger В. Jungfräulichkeit: Ein Beitrag zum Thema «Beilager und Eheschliessung». — Symbolae iuridicae et historicae Martino David Dedicatae (Leiden, 1968), с 83—84.
(обратно)422
Заметим, что невеста — богиня Ишхара и предстоящий брак — священный брак.
(обратно)423
Данной трактовкой снов и толкования их Энкиду мы обязаны У. Л. Морану.
(обратно)424
См.: Kramer S. N. Gilgamesh and the Land of the Living («Гильгамеш и Страна Живущих»; мы предпочитаем переводить: «Гильгамеш и Гора, где Человек Обитал» — «Gilgamesh and the Mountain where the Man Dwelt»).-JCS I (1947), с 3—46.
(обратно)425
Это Сидури — виночерпий богов, которые дали ей золотую чашу. Слово sab ī lu, конечно, означает и «корчемница», но буквальное значение — «женщина-виночерпий», «возливательница вина». Корчма на краю света выглядела бы странно, да о ней в оригинале и нет речи.
(обратно)426
Гильгамеш говорит, что снесет растение в Урук и сначала даст его попробовать народу: если оно подействует, тогда «я съем его и возвратится моя юность».
(обратно)427
В подлиннике буквально «лев земли».
(обратно)428
Dryden John. Palamon and Arcite. Book III, стк. 883 и сл.
(обратно)429
Edzard Dietz. Enme baragisi von Kiš. — ZA. 53 (1959), с. 9 и сл.
(обратно)430
В настоящее время см. следующее издание: Deimel A. Die Listen über den Ahnenkult aus der Zeit Lugalandas und Urukaginas. — Orientalia. 2 (1920), с 32 и сл.
(обратно)431
Kramer S. N. - JCS, XXI (1967), с. 115, стк. 142— 143. Мы предпочитаем восстановить [-gim] в конце стк. 142.
(обратно)432
Ebeling E. Tod und Leben nach den Vorstellung. der Babylonier (B.-Lpz.), 1931, с 131—133.
(обратно)433
Langdon S. H. - BE. XXXI, no. 43, obv. II и «Babylonian Liturgies» (P., 1913), pl. VIII rev., стк. 3—4.
(обратно)434
RA. IX (1912), с. 111 f. ii. 29 к iii. 3.
(обратно)435
SLTN, no. 79. 41—61.
(обратно)436
Относительно этих первых письменных источников см. также: Kramer S. N. The Epic of Gilgamesh and Its Sumerian Sources. — JAOS. 64 (1944), с 7—23.
(обратно)437
SAK с 222 2 b
(обратно)438
Kramer S. N. The Death of Gilgamesh. - BASOR, no. 94. (1944). Ср.: ANET, с. 50—52.
(обратно)439
См. примеч. 55 [«Гильгамеш, Энкиду и Подземное царство» (Gilgamesh, Enkidu, and the Netherworld»). Издание готовится к печати А. Шаффером (A. Shaffer). В настоящее время см.: S. N. Kramer. «Gilgamesh and the Hulupputree». - AS. X; SM, с 30—37; SLTN, c. 13; TuMnF. III, с 11 к nos. 13—14; UE(T). VI, с. 7 к nos. 55—59.].
(обратно)440
По другому толкованию — барабан и палочки, чтобы сзывать народ на работу.
(обратно)441
Издание готовится к печати под редакцией А. Шаффера. См.: Kramer. Gilgamesh and Agga, с. 1 и сл. Ср.: ANET, с. 44—47.
(обратно)442
Kramer. Gilgamesh and the Land of Living, с 3—46. Ср.: TuMnF III, с 11 к no. 12 и UE(T) VI j, с. 7 к nos. 49—54.
(обратно)443
SK, no. 196 и неопубликованный дубликат из Ниппура 3N-T 152.
(обратно)444
Gilgamesh Epic. Tablet VI.
(обратно)445
BASOR, no. 94 (1944), с 7, стк. 42.
(обратно)446
Ср.: Gilgamesh Epic. Tablet XII 90—92.
(обратно)447
В зародыше (лат.).
(обратно)448
См.: Harry Stack Sullivan. The International Theory of Psychiatry (N.Y., 1953, с 245): «Начало пред-юношества наглядно обозначается в моей схеме развития возникновением нового типа интереса к другой личности. ...Этот новый интерес в эру пред-юношества является... специфическим новым типом интереса к какому-то определенному представителю того же пола, который становится «приятелем» или же близким другом. Эта перемена знаменует зарождение чувства, весьма сходного с тем полностью расцветшим чувством, которое в психологии определяется как „любовь". Иными словами, другой юноша вступает в совершенно новые взаимоотношения с интересующей его персоной, которая приобретает для него практически равную важность во всех ценностных областях». И далее (там же, с. 264): «...переход от пред-юношества к юности выражается в растущем интересе к возможностям достижения определенной меры близости с представителем противоположного пола; здесь схема отношений иная, нежели та, что наблюдалась в доюношеском периоде с представителем того же пола». Появление Энкиду обеспечивает Гильгамешу «приятеля» и позволяет ему остаться в пред-юношестве — вместо продвижения к гетеросексуальным отношениям, какие характерны для юношества и взрослого периода. Заметим, что в истолковании сна Гильгамеша о прибытии Энкиду его мать говорит (см.: Эпос о Гильгамеше, табличка I, VI, 17—20; ср. Пенсильванскую Табличку I.39—II, I): «Тот топор, что ты видел, — это человек, ты полюбишь его, как полюбил бы жену, и потому я уравняю его с тобой». По прибытии Энкиду предотвращает женитьбу Гильгамеша на Ишаре (Пенсильванская Табличка, V; ср. Landsberg. J ü ngfräulichkeit, с. 83—84). И далее, когда Гильгамеш отвергает идеал зрелости — женитьбу и деторождение, к которому его склоняет хозяйка корчмы, он делает это в терминах своей привязанности к Энкиду: «Зачем, (добрая) хозяйка, ты говоришь так? / Сердце мое тоскует о друге. / Зачем, (добрая) хозяйка, ты говоришь так? / Сердце мое тоскует об Энкиду!» На всем протяжении эпоса привязанность к Энкиду соревнуется с потенциальной возможностью женитьбы и оттесняет ее на задний план.
(обратно)449
Leeuw G. van der. Religion in Essence and Manifestation. Gloucester, Mass., 1967, с 48
(обратно)450
Palamon and Arcite. Book III, стк. 885.
(обратно)451
Wolff H. N. Gilgamesh, Enkidu, and the Heroic Life. — Journal of the American Oriental Society. 89 (1969), с 392—398.
(обратно)452
Sapir Edward. Culture, Language and Personality. Berkeley, 1960, с 122.
(обратно)453
Roux Georges. Ancient Iraq. Cleveland, 1964, с 231.
(обратно)454
Эрра был прежде всего богом чумы, и в вавилонской мифологии, за исключением цитируемого ниже единичного произведения, никогда не выдвигался на первое по значению место.
(обратно)455
См.: Gössmann F. Das Era-Epos. Würzburg, 1955. См. также: Gagni L. Das Erra-Epos. Studia Pohl 5. Dissertationes scientificae de rebus orientis antiqui (Rome, 1970).
(обратно)456
Roberts J. Erra - Scorched Earth.-JCS XXIV (1971), с. 11—16; он же. The Eartliest Semitic Pantheon. Baltimore, 1972, с 21—29.
(обратно)457
Erra Epic. Tablet IV, стк. 6—12.
(обратно)458
Там же, стк. 27—29.
(обратно)459
Там же, Tablet V, стк. 5—12.
(обратно)460
VAB II, no. 357.
(обратно)461
См.: Gurney О. R. — Anatolian Studies X, с. 105 и сл.
(обратно)462
VAB II, no. 357, стк. 85—86.
(обратно)463
Gurney О. R. and Finkelstein J. The Sultantepe. Tablets I (L., 1957), no. 28 rev. v 2'—12' and 18'—27'.
(обратно)464
Soden W. von. Die Unterweltvision eines assyrischen Kronprinzen. - ZA. 43 (1936), с. 1 ff.
(обратно)465
Заметим, что жизнь в Месопотамии была столь же полна опасностей и во II, и в III, и в IV тысячелетиях до н. э. Причины общего пессимизма и скептицизма, проявляющихся с I тысячелетия до н. э., связаны скорее с разрушением крепких общинных связей и чувством общей несправедливости существования.
(обратно)466
СТ. XLVI, no. 43.
(обратно)467
Ebeling and Köcher. Literarische Keilschrifttexte aus Assur (В., 1953), no. 73 obv. 8—9, 13 and 7; van Dijk. Sumer XIII, p. 117, стк. 16—18. См.: СТ XV pls. 43—44 and К 3476 стк. 24 — отрывок, в котором описывается то, как играют с вырванным сердцем Ану. Ср.: KAR, no. 307, rev. 11, где говорится о явлении призраков Энлиля и Ану.
(обратно)468
IV R2 pl. 61, i. 19—20 — с исправлением последнего знака в строке 20 на sa.
(обратно)469
Ashurbanipal, Annals iv. 70—89.
(обратно)470
OIP II, с. 87, 31—33.
(обратно)471
Там же, с. 83, 45—48.
(обратно)472
Soden W. von. Gibt es ein Zeugnis dafür daß die Babylonier an die Wiederauferstehung Marduks geglaubt haben. — ZA. 51 (1955), с 130 и сл.
(обратно)473
Lambert W. G. Divine Love Lyrics from Babylon. — Journal of Semitic Studies IV (1959), с. 10—11; он же. The Problem of the Love Lyrics. — Unity and Diversity. Ed. H. Goedicke and J. J. M. Roberts (Baltimore, 1975), с 98—135.
(обратно)474
OIP. XXXVIII, с 132—133; там же, с. 130—131.
(обратно)475
См. выше с. 158; также см. примеч. 237 [отсутствует].
(обратно)476
Brünnow R. Assyrian Hymns. — ZA. 4 (1889), с. 246; К 8717 plus DT 363, стк. 2.
(обратно)477
Эхурсаггаль — храм бога. Ашшура в городе Ашшуре, культовом центре Ассирии.
(обратно)478
TCL III, с. 48, стк. 314—316.
(обратно)479
СТ XXIV pl. 50, no. 47406 obv. 3—10.
(обратно)480
KAR, no. 102, стк. 10—19.
(обратно)481
См., например: Enuma elish. Tablet IV стк. 4, 6.
(обратно)482
IV R2 pl. 61. iii. 15-26.
(обратно)483
Ashurbanipal, Annals v. 48—49.
(обратно)484
Там же, 56—57.
(обратно)485
Там же, 63—70.
(обратно)486
Там же, 71—72.
(обратно)487
VAB VII part 2, с. 210—212; К 2867 obv. 15—19.
(обратно)488
Borger R. Die Inschriften Asarhaddons Königs von Assyrien. — AOF supplement 9 (Graz, 1956), c. 43—44, стк. 59—79.
(обратно)489
VAB IV, с 122—123, стк. 57—72.
(обратно)490
На русском языке можно рекомендовать переводы памятников вавилоно-ассирийской поэзии II—I тысячелетий до н. э: Я скажу тебе сокровенное слово. Сост. В. К. Афанасьева, И. М. Дьяконов. М., 1981; Эпос о Гильгамеше. — (Серия «Литературные памятники»). М.-Л., 1961.
(обратно)
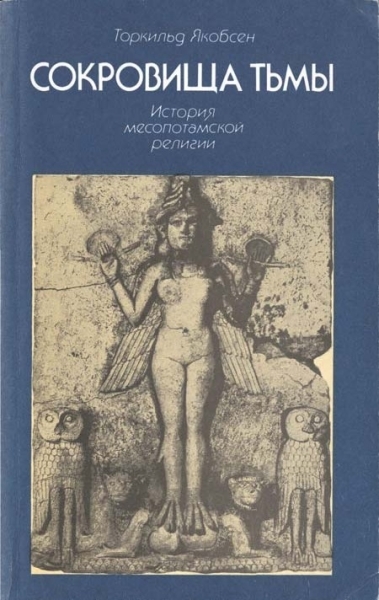



Комментарии к книге «Сокровища тьмы. История месопотамской религии», Торкильд Якобсен
Всего 0 комментариев