Гарольд Блум ЗАПАДНЫЙ КАНОН Книги и школа всех времен
Посвящается Энн Фридгуд
Слова благодарности
Мои редакторы, Энн Фридгуд и Пэт Стрэкен, и мои литературные агенты, Глен Хартли и Линн Чу, внесли в эту книгу огромный вклад. Ричард Поарье, Джон Холландер, Перри Мейсел и Роберто Гонсалес Эчеваррья поддерживали меня и давали мне советы во время ее составления. Мой референт, Марта Серпас, сделала возможным весь процесс внесения исправлений и помогла придать изданию его окончательный вид. Библиотеки Йельского университета, мой неисчерпаемый источник на протяжении сорока с лишним лет, стоически терпели мои рабочие привычки.
Гарольд Блум
Тимоти Дуайт-колледж
Йельский университет
Предисловие и прелюдия
В этой книге говорится о двадцати шести писателях — с неизбежной примесью ностальгического чувства, так как я стремлюсь выделить качества, сделавшие этих авторов каноническими, то есть исключительно авторитетными в нашей культуре. «Эстетическая ценность» порой воспринимается как концепция Иммануила Канта, а не как нечто существующее на самом деле — но мне, проведшему жизнь за чтением, так никогда не казалось. Все, впрочем, рухнуло, основа, расшатавшись, ушла из-под ног, и волны беззаконья накрывают то, что прежде называлось «ученым миром»[1]. Потешные культурные войны[2] не слишком меня интересуют; то, что я имею сказать о наших нынешних мерзостях запустения, содержится в первой и последних главах. Здесь же я хочу растолковать, как выстроена эта книга, и объяснить, почему я выбрал двадцать шесть этих писателей из многих сотен, составляющих то, что некогда считалось Западным каноном.
Джамбаттиста Вико в «Основаниях новой науки об общей природе наций» задал цикл из трех стадий — Теократической, Аристократической и Демократической, — за которым следует хаос, из которого в итоге возникнет новая Теократическая эпоха[3]. Джойс — наполовину в шутку, наполовину всерьез — во многом опирался на Вико, выстраивая «Поминки по Финнегану»[4], и я решил помянуть «Поминки…», только обошелся без литературы Теократической эпохи. Мой исторический ряд открывается Данте и кончается Сэмюэлом Беккетом, но иной раз я несколько отклонялся от хронологии. Так, я открыл Аристократическую эпоху Шекспиром, потому что он — центральная фигура Западного канона, и далее обращался к нему в связи с практически всеми прочими, от Чосера и Монтеня, которые оказали на него воздействие, до многих, на кого повлиял он, — в частности, Мильтона, доктора Джонсона, Гёте, Ибсена, Джойса и Беккета, — и тех, кто силился его отвергнуть: главным образом Толстого, а также Фрейда, который присвоил Шекспира и при этом утверждал, что за «человека из Стратфорда»[5] писал граф Оксфорд.
Выбор авторов не столь произволен, как может показаться. Они были отобраны в силу их возвышенности[6] и репрезентативности: книгу о двадцати шести писателях написать возможно, книгу о четырех сотнях — нет. Разумеется, здесь есть главные западные писатели после Данте — Чосер, Сервантес, Монтень, Шекспир, Гёте, Вордсворт, Диккенс, Толстой, Джойс и Пруст. Но где же Петрарка, Рабле, Ариосто, Спенсер, Бен Джонсон, Расин, Свифт, Руссо, Блейк, Пушкин, Мелвилл, Джакомо Леопарди, Генри Джеймс, Достоевский, Гюго, Бальзак, Ницше, Флобер, Бодлер, Браунинг, Чехов, Йейтс, Д. Г. Лоуренс и великое множество других? Я попытался представить каноны разных стран важнейшими их фигурами: Чосером, Шекспиром, Мильтоном, Вордсвортом, Диккенсом — английский; Монтенем и Мольером — французский; Данте — итальянский; Сервантесом — испанский; Толстым — русский; Гёте — немецкий; Борхесом и Нерудой — латиноамериканский; Уитменом и Дикинсон — Соединенных Штатов.
В наличии ряд первостепенных драматургов — Шекспир, Мольер, Ибсен и Беккет — и романистов: Остен, Диккенс, Джордж Элиот, Толстой, Пруст, Джойс и Вулф. В качестве величайшего западного литературоведа и критика наличествует доктор Джонсон; найти ему соперника было бы трудно.
У Вико ricorso, или возвращению Теократической эпохи, не предшествует Хаотическая эпоха; но наш век, хотя он и выдает себя за продолжение Демократической эпохи, не может быть охарактеризован точнее, чем Хаотический. Ключевые для него писатели — Фрейд, Пруст, Джойс, Кафка: в них воплощен литературный дух эпохи, какой ни есть. Фрейд называл себя ученым, но уцелеет он в качестве великого эссеиста наподобие Монтеня или Эмерсона, а не в качестве создателя терапевтического метода, уже низведенного (а может, возвышенного) до очередной вехи длинной истории шаманизма. Мне бы хотелось уместить сюда больше современных поэтов, не только Неруду и Пессоа, но ни один поэт нашего века не написал ничего сопоставимого с «В поисках утраченного времени», «Улиссом», «Поминками по Финнегану», эссе Фрейда, притчами и новеллами Кафки.
Говоря о большинстве из этих двадцати шести писателей, я попытался подступиться к величию напрямую: поставить вопрос о том, что делает автора или сочинение каноническим. Ответ, как правило, был — странность, такая форма самобытности, которая либо не поддается усвоению, либо сама усваивает нас и перестает казаться нам странной. Уолтер Пейтер определил романтизм как прибавление странности к красоте[7], но мне думается, что он тем самым охарактеризовал всю каноническую литературу, а не только написанное романтиками. Цикл свершений идет от «Божественной комедии» к «Эндшпилю», от странности к странности. Когда впервые читаешь каноническое сочинение, то встречаешься с незнакомцем, с диковинным ощущением неожиданности, а не с оправданием своих ожиданий. Единственная общая черта, которую обнаружат «свежепрочтенные» «Божественная комедия», «Потерянный рай», вторая часть «Фауста», «Хаджи-Мурат», «Пер Гюнт», «Улисс» и «Всеобщая песнь», — это наличие в них той самой тревожащей диковинности, их способность заставить нас почувствовать себя в родных стенах не как дома.
Шекспир, крупнейший писатель из всех, что нам довелось и доведется знать, зачастую вызывает обратное впечатление: такое, словно мы — дома, даже когда находимся вне его стен, в незнакомом месте, за рубежом. Его дар ассимиляции и «заражения» уникален, он представляет собою вечный вызов театральным деятелям и исследователям всего мира. Я нахожу абсурдным и досадным то, что авторы современных исследований о Шекспире — «культурно-материалистических» (или неомарксистских), «новоистористских» (фукианских), «феминистских» — отнюдь не пытаются на этот вызов ответить. Шекспироведение со всех ног бежит от эстетического верховенства Шекспира и старается свести его к «социальным энергиям» английского Возрождения[8], словно между создателем Лира, Гамлета, Яго, Фальстафа и его последователями вроде Джона Уэбстера и Томаса Миддлтона нет никакой подлинной разницы в том, что касается эстетических достоинств. Лучший из ныне живущих английских литературоведов, сэр Фрэнк Кермоуд, высказал в «Формах внимания» (1985) самое вразумительное из известных мне предостережений относительно судьбы канона, то есть, прежде всего, судьбы Шекспира:
Каноны, которые стирают границы между знанием и мнением, которые суть орудия выживания, созданные неподвластными времени, но не разуму, разумеется, можно разъять; если люди решат, что их быть не должно, то с легкостью найдут средства их уничтожить. Их больше не может взять под защиту центральная институциональная власть; они больше не могут быть обязательными, хотя и не очень ясно, как нормальное функционирование академических институций, в том числе набор кадров, будет налажено без них[9].
За средствами уничтожить каноны, как показывает Кермоуд, стоит только протянуть руку, и процесс уничтожения зашел уже довольно далеко. Меня, как я многократно даю понять в этой книге, не заботят текущие прения между консервативными защитниками Канона, которые желают сохранить его ради предположительно (и мнимо) присущих ему моральных ценностей, и академическо-журналистской сетью, окрещенной мною Школой ресентимента[10], которая желает ниспровергнуть Канон во имя продвижения предположительно (и мнимо) имеющихся у нее программ социальных перемен. Я надеюсь, что эта книга не станет плачем по Западному канону, что рано или поздно, глядишь, случится разворот и стада леммингов прекратят кидаться с обрывов. Книга заканчивается перечнем канонических авторов, с особым упором на наш век: я отважился на скромное пророчество по поводу перспектив выживания.
Один из признаков самобытности, благодаря которой литературное произведение может снискать канонический статус, — странность, которая либо никогда не усваивается нами целиком, либо делается такой данностью, что мы уже не замечаем ее специфических особенностей. Нагляднейший пример первого случая — Данте, а лучший образчик второго — Шекспир. Неизменно противоречивый Уолт Уитмен сочетает в себе обе стороны этого парадокса. Величайший представитель данности после Шекспира — первый из авторов Танаха, фигура, которую библеисты XIX века назвали Яхвистом, или J (от немецкого написания ивритского слова Yahweh, по-английски — Jehovah, вследствие сделанной некогда орфографической ошибки). J — подобно Гомеру, человек или ряд людей, затерянный в тайниках времен, — похоже, жил в Иерусалиме или поблизости от него примерно три тысячи лет назад, задолго до того, как Гомер либо родился, либо был придуман. Кто был «исходным» J, мы едва ли когда-нибудь узнаем. Я предполагаю, основываясь на своих сугубо внутренних и субъективных доводах литературоведческого характера, что J вполне могла быть некая женщина при дворе царя Соломона — среде высокой культуры, изрядного религиозного скептицизма и внушительной психологической изощренности.
Проницательный рецензент моей «Книги J» упрекнул меня в том, что мне не достало дерзости пойти до конца и опознать в J Вирсавию, царицу-мать — хеттеянку, которую взял в жены царь Давид, предварительно подстроивший гибель в бою ее мужа Урии. Я с радостью следую этому совету задним числом: Вирсавия, мать Соломона — превосходная кандидатура. Тогда легко объяснить и мрачное отношение к злосчастному сыну и преемнику Соломона, Ровоаму, подразумеваемое всем текстом Яхвиста, и весьма ироническое изображение иудейских патриархов, и приязнь к иным из их жен, а также к иноземкам Агари и Фамари. Опять же, в том обстоятельстве, что первоначальное авторство будущей Торы вообще принадлежит не израильтянину, а хеттеянке, есть отменная, совершенно в духе J, ирония. Далее я называю Яхвиста попеременно J или Вирсавией.
J — первый автор того, что сейчас называется Бытие, Исход и Числа, но в течение пяти веков написанное ею подвергалось цензуре, переработке, многочисленным сокращениям и искажениям со стороны ряда редакторов, последним из которых был Ездра или кто-то из его последователей, в эпоху возвращения из Вавилонского пленения. Эти ревизионисты были священниками и писцами, и их, видимо, возмутили те иронические вольности, которые Вирсавия позволила себе в изображении Яхве. В Яхве J много человеческого — слишком человеческого: он ест и пьет, часто выходит из себя, радуется, причиняя вред, он ревнив и мстителен, декларирует беспристрастность, при этом постоянно оказывая кому-то предпочтение, и обнаруживает изрядную невротическую тревожность, решившись распространить свое благословение с элиты на весь народ Израилев. Когда он ведет эту обезумевшую и измученную толпу через Синайскую пустыню, он уже так маловменяем, так опасен для себя и для других, что J следует признать первейшим богохульником среди писателей всех времен и народов.
Сага J, насколько можно судить, заканчивается тем, что Яхве своими руками кладет Моисея в безымянную могилу, дав перед этим многострадальному вождю израильтян всего раз взглянуть на землю обетованную. Шедевр Вирсавии — это история отношений Яхве и Моисея, повествование по ту сторону иронии или трагизма о том, как Яхве избрал не слишком к тому расположенного пророка, о том, как он без причины пытался убить Моисея, и о последующих неприятностях, заставляющих страдать и Бога, и его орудие.
Амбивалентность во взаимоотношениях божественного и человеческого — одно из величайших изобретений J, еще один признак самобытности столь устойчивой, что мы едва ее осознаем, так как рассказы Вирсавии «поглотили» нас. Главное потрясение, неотъемлемое от этой канонотворческой самобытности, приходит с пониманием того, что поклонение Богу на Западе — у евреев, христиан и мусульман — это поклонение литературному персонажу, Яхве J, пусть и разжиженному набожными ревизионистами. Сопоставимое потрясение приходит еще лишь в двух известных мне случаях: когда мы понимаем, что возлюбленный христианами Христос — это литературный персонаж, во многом созданный автором Евангелия от Марка, и когда читаем Коран и слышим один-единственный голос, голос Аллаха, чьи слова подробно и долго запоминал его дерзновенный пророк Мухаммед. Возможно, однажды, уже далеко в XXI веке, когда мормонизм станет господствующей религией по крайней мере американского Запада, те, кто придет нам на смену, испытают четвертое потрясение такого рода — от встречи с дерзкими откровениями подлинного американского пророка Джозефа Смита «Драгоценная жемчужина» и «Учение и заветы».
Каноническая странность бывает и без этой потрясающей дерзости, но всякое произведение, одержавшее бесспорную победу в борьбе с традицией и вошедшее в Канон, непременно овеяно духом самобытности. Сегодня наши образовательные учреждения наводнены идеалистами от ресентимента, которые осуждают соперничество в литературе и в жизни, но эстетическое и агонистическое[11] едины — так полагали все древние греки, а также Буркхардт с Ницше, вернувшие эту истину в мир. Урок, который дает Гомер, — это урок поэтики конфликта, и первым этот урок усвоил его соперник Гесиод. Весь Платон, как увидел Лонгин, — в непрестанном конфликте философа с Гомером, которого он выслал из своего государства, но вотще: греки учились на сочинениях Гомера, а не Платона. «Божественная комедия» Данте, по словам Стефана Георге, была «книгой и школой всех времен» — впрочем, скорее для поэтов, чем для человечества в целом; как будет показано в этой книге, с большим основанием так можно назвать пьесы Шекспира.
Современным писателям не нравится, когда им говорят, что они должны соревноваться с Шекспиром и Данте, однако эта борьба подтолкнула Джойса к величию, к признанию, которого, кроме него, из современных западных писателей достигли только Беккет, Пруст и Кафка. Основополагающим олицетворением литературного достижения всегда будет Пиндар, который, воспевая победы своих высокородных атлетов, чуть ли не равняющие их с богами, подразумевает, что его победные гимны сами суть победы над всяким возможным соперником. Данте, Мильтон и Вордсворт повторяют ключевую для Пиндара метафору: состязание в беге, победителя которого ждет пальмовая ветвь, то есть мирское бессмертие, странным образом конфликтующее со всякого рода благочестивым идеализмом. «Идеализм», в отношении которого непросто удержаться от иронии, нынче моден в наших школах и университетах, где все эстетические и большинство интеллектуальных стандартов отбрасываются во имя социальной гармонии и борьбы с исторической несправедливостью. «Расширение Канона» на практике стало уничтожением Канона, потому что в учебные программы сейчас входят вовсе не лучшие писатели, которым случилось быть женщинами и лицами африканского, латиноамериканского или азиатского происхождения, а писатели, способные предложить читателю немногое, кроме ресентимента, сделанного ими частью своей идентичности. В этом ресентименте нет ни странности, ни самобытности; а если бы и были, то их оказалось бы недостаточно для создания преемников Яхвиста и Гомера, Данте и Шекспира, Сервантеса и Джойса.
Сформулировав однажды исследовательскую концепцию под названием «страх влияния»[12], я затем не раз имел удовольствие слышать заявления Школы ресентимента о том, что это понятие применимо к Мертвым Белым Мужчинам-Европейцам, но никак не к женщинам и тем, кого мы затейливо именуем «мультикультуралистами». Болельщики феминизма провозглашают, что писательницы полюбовно помогают одна другой наподобие одеяльщиц, а литературные общественники из афроамериканцев и чиканос идут еще дальше в утверждении своей свободы от каких бы то ни было мучений, связанных с «заражением»: каждый из них — Адам на рассвете[13]. Они времени не ведают, когда их не было таких, какими они есть сейчас; они самосозданы, саморождены, вся их мощь лишь им принадлежит[14]. В устах поэтов, драматургов и прозаиков эти утверждения здравы и понятны, хотя и являются самообманом. Но когда такое заявляют люди, называющие себя литературоведами и критиками, эти оптимистические заявления неверны, неинтересны и противоречат как человеческой природе, так и природе художественной литературы. Сильное, каноническое творчество невозможно вне процесса литературного влияния — процесса, который тягостно испытывать на себе и который трудно понять. Я вообще не узнаю свою теорию влияния, когда на нее нападают: то, на что нападают, никогда не сойдет даже за пристойную пародию на мои идеи. Как видно из посвященной Фрейду главы этой книги, я выступаю за чтение Фрейда «по Шекспиру», а не за чтение Шекспира или любого другого писателя «по Фрейду». Страх влияния — это не тревожность в связи с отцом, настоящим или литературным, но тревожность, созидаемая посредством и внутри стихотворения, романа или пьесы. Всякое сильное литературное произведение творчески искажает[15] и, соответственно, искаженно истолковывает предшествующий текст или тексты. Усваивает подлинно канонический писатель тревогу, присущую своему произведению, или нет, едва ли имеет значение: сильное произведение — само по себе тревога. Этот тезис хорошо изложил Питер де Болла в книге «К исторической риторике»:
Тот, кто считает Фрейдов «семейный роман» описанием влияния, демонстрирует крайне слабое прочтение. По Блуму, «влияние» — это одновременно тропологическая категория, фигура речи, обуславливающая поэтическую традицию, и комплекс психических, исторических и художественных отношений <…> Влияние характеризует отношения между текстами, это феномен интертекстуальный <…> Как внутренняя психическая защитная реакция — переживание поэтом тревоги, — так и внешние исторические соотношения текстов суть результат неверного прочтения, или поэтического недонесения[16], а не его причина.
Безусловно, тем, кто не знаком с моими попытками вникнуть в проблему литературного влияния, это точное краткое изложение их результатов покажется замысловатым, и все же де Болла обеспечил мне удобную точку отсчета — отсюда мы можем начать рассматривать находящийся сейчас под угрозой Западный канон. Чтобы достигнуть существенной самобытности внутри изобильной западной литературной традиции, должно нести бремя влияния. Традиция — это не только переход и процесс благостной трансляции; это также распря между гением прошлого и устремлениями настоящего, и ставка здесь — литературное выживание, то есть включение в канон. Эту распрю не уладят ни социальная озабоченность, ни суд того или иного поколения беспокойных идеалистов, ни марксисты, провозглашающие: «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов», ни софисты, пытающиеся заменить Канон библиотекой, а дух взыскательности — архивом. Стихотворения, рассказы, романы, пьесы появляются в ответ на предшествующие им стихотворения, рассказы, романы и пьесы, и ответ этот определяется актами чтения и истолкования со стороны писателей-потомков — актами, идентичными новым произведениям.
Прочтения предшествующих текстов обязательно носят отчасти оборонительный характер; будь они исключительно одобрительными, свежее творчество угасло бы, и не только по причинам психологического свойства. Дело тут не в Эдиповом соперничестве, но в самой природе сильного, самобытного литературного вымысла: образном языке с его превратностями. Свежая метафора, или тропотворчество, всегда предполагает отход от предыдущей метафоры, и отход этот определяется по крайней мере частичным отклонением или отказом от предшествующей образной системы. Для Шекспира Марло был точкой отсчета, и такие ранние героические злодеи Шекспира, как мавр Арон из «Тита Андроника» и Ричард III, слишком похожи на Варавву, мальтийского еврея Марло. Когда Шекспир создает Шейлока, своего венецианского еврея, метафорическая основа речевого поведения фарсового злодея коренным образом меняется, и Шейлок оказывается результатом сильного творческого искажения, или творческого неверного истолкования, Вараввы, тогда как мавр Арон скорее повторяет Варавву — в первую очередь на уровне образного языка. Ко времени создания «Отелло» от Марло не остается и следа: самоупоенное злодейство Яго гораздо тоньше с когнитивной точки зрения и несказанно изящнее с художественной, чем кичливые бесчинства буйного Вараввы. Отношение Яго к Варавве — это полная победа творческого искажения Шекспиром своего предшественника Марло. Шекспир — уникальный случай: любой предшественник неизменно оказывается умален. «Ричард III» выказывает страх влияния в отношении «Мальтийского еврея» и «Тамерлана Великого», но в то время Шекспир еще только искал свой путь. С пришествием Фальстафа из первой части «Короля Генриха IV» поиск завершился, и после этого Марло знаменовал собою единственно тот путь, которым идти не следует — ни на театре, ни в жизни.
Кроме Шекспира, лишь немногие добились относительной свободы от страха влияния: Мильтон, Мольер, Гёте, Толстой, Ибсен, Фрейд, Джойс; и, как я попытаюсь продемонстрировать в этой книге, для каждого из них, за исключением Мольера, составлял проблему один Шекспир. Величие узнает величие и затеняется им. Писать после Шекспира, который создал и лучшую прозу, и лучшие стихи в западной традиции, — нелегкая участь, поскольку самобытность делается особенно труднодостижима в том, что важнее всего: это изображение людей, когнитивная роль памяти, диапазон метафоры в расширении возможностей языка. Тут Шекспир наиболее силен, и никто не сравнился с ним в качестве психолога, мыслителя и ритора. Витгенштейн, негодовавший на Фрейда, тем не менее напоминает Фрейда своим подозрительным и оборонительным отношением к Шекспиру, чьи произведения оскорбляют и философа, и психоаналитика. Вся история философии не знает когнитивной самобытности, сопоставимой с Шекспировой; и забавно, и поразительно слышать, как Витгенштейн гадает — есть ли подлинное различие между изображением мышления у Шекспира и мышлением как таковым. Австралийский поэт и литературовед Кевин Харт верно говорит, что «западная культура заимствовала лексикон интеллигибельности из греческой философии, и все наши рассуждения о жизни и смерти, форме и замысле отмечены связью с этой традицией». Однако интеллигибельность не ограничивается своим лексиконом, и нам следует помнить, что Шекспир, который едва ли зависит от философии, значимее для западной культуры, чем Платон и Аристотель, Кант и Гегель, Хайдеггер и Витгенштейн.
Нынче я, кажется, одинок в попытках отстаивать автономность эстетики, но лучший аргумент в пользу ее автономности — это чтение «Короля Лира» и последующий просмотр хорошей постановки этой пьесы. «Король Лир» не происходит из кризиса в философии, и нельзя отделаться объяснением его силы как мистификации, которую каким-то образом навязали нам буржуазные институции. То, что человека, полагающего литературу независимой от философии, а эстетику — несводимой к идеологии с метафизикой, держат за эксцентрика, — признак вырождения литературоведения. Эстетический метод возвращает нас к автономности художественной литературы и суверенитету обособленной души, к читателю не в социальном его измерении, но в его глубинной сущности, к нашей окончательной самоуглубленности. У сильного писателя глубокая погруженность в себя — это сила, ограждающая его от гнета свершений прошлого, который в противном случае подавлял бы всякую самобытность, не давая ей проявиться. Великая словесность — это всегда переписывание или пересмотр, и основывается она на чтении, расчищающем в ней место для нового «я» или заново открывающем старые произведения свежим переживаниям. Самобытность не самобытна — но Эмерсонова ирония уступает место Эмерсонову же практическому наблюдению: изобретатель умеет заимствовать[17].
Страх влияния калечит слабые таланты, но подзадоривает канонический гений. Трех самых ярких американских писателей Хаотической эпохи — Хемингуэя, Фицджеральда и Фолкнера — тесно объединяет то, что все они возникли из влияния Джозефа Конрада, но хитроумно умерили его, совместив Конрада с предшественником-американцем: Хемингуэй — с Марком Твеном, Фицджеральд — с Генри Джеймсом, Фолкнер — с Германом Мелвиллом. Частица того же хитроумия видна и в том, как Т. С. Элиот скрестил Уитмена с Теннисоном, Эзра Паунд сплавил Уитмена с Браунингом, а Харт Крейн, вновь обратившись к Уитмену, лишился зависимости от Элиота. Сильные писатели не выбирают своих главных предшественников: это те их выбирают, но у сильных писателей достает разумения, чтобы превратить предшественников в составные и, следовательно, отчасти воображаемые сущности.
В этой книге я не занимаюсь собственно интертекстуальными связями между двадцатью шестью писателями, о которых говорю; мое намерение — рассмотреть их как представителей всего Западного канона, но, несомненно, мой интерес к проблемам влияния проявляется почти что на каждом шагу, и, наверное, я не всегда отдаю себе в этом полный отчет. Сильные литературные произведения — агонистичные вне зависимости от того, хотят они таковыми быть или нет, — нельзя отделить от их тревог, вызванных сочинениями, предшествующими им и над ними главенствующими. Хотя большинство исследователей противятся пониманию процессов литературного влияния или идеализируют эти процессы, изображая их как сугубо безвозмездные и благостные, мрачные истины касательно соперничества и «заражения» крепнут по мере удлинения истории Канона. Стихотворения, пьесы и романы возникают исключительно как следствие предшествующих сочинений, как бы ни было сильно их желание непосредственно служить общественным нуждам. Обусловленность правит литературой так же, как и любым когнитивным занятием, и обусловленность, установленная Западным литературным каноном, проявляется в первую очередь в страхе влияния, который формирует и деформирует всякое новое произведение, стремящееся к долговечности. Литература — это не только язык; это и воля к образности, мотив для метафоры[18], который Ницше однажды определил как желание отличаться, желание быть не здесь[19]. Это означает, среди прочего, — отличаться от самого себя, но в первую очередь, мне кажется, — отличаться от наследуемых нами метафор и образов предшествующих сочинений: желание написать нечто великое — это желание быть не здесь, а в своих собственных времени и месте, в самобытности, которая должна соединяться с наследованием, со страхом влияния.
Часть I О КАНОНЕ
I. Плач по канону
Изначально Канон был обязательным чтением в наших учебных заведениях, и, несмотря на современную политику мультикультурализма, истинный вопрос, связанный с Каноном, остается прежним: за какие книги на нынешнем, довольно позднем историческом этапе следует браться человеку, все еще желающему читать? Библейских семидесяти лет[20] теперь хватит лишь на то, чтобы прочесть некую подборку из написанного великими писателями, принадлежащими к тому, что можно назвать западной традицией; обо всех мировых традициях и говорить не приходится. Читающий должен выбирать, ибо на то, чтобы прочесть все, буквально не хватит времени, даже если только и делать, что читать. Великолепная строчка Малларме — «Томится плоть, увы! Прочитаны все книги»[21] — стала гиперболой. Перенаселение, насыщение по Мальтусу, — подлинный контекст тревог из-за канона. Нынче ни мгновения не проходит без того, чтобы очередные лемминги из академической среды не бросились с обрывов, которые они провозгласили политическими обязательствами литературоведа[22], но со временем все это морализаторство уймется. В каждом образовательном учреждении будет по кафедре культурных исследований — этим ничего не грозит, — эстетическое подполье процветет, и романтика чтения в какой-то степени возродится.
Рецензирование плохих книг, заметил как-то У. Х. Оден, портит характер[23]. Подобно всем одаренным моралистам, Оден идеализировал наперекор себе; дожить бы ему до наших дней, когда новые комиссары говорят, что чтение хороших книг портит характер; вероятно, это действительно так. Чтение самых лучших авторов — скажем, Гомера, Данте, Шекспира, Толстого — не сделает нас лучше как граждан. Искусство абсолютно бесполезно, по мысли возвышенного Оскара Уайльда[24], который был прав во всем. Он также сообщил нам, что плохая поэзия всегда искренна[25]. Будь моя воля, я бы приказал высечь эти слова на вратах каждого университета, дабы всякий студент мог поразмышлять над величием этого прозрения.
Стихотворению, прочитанному Майей Анджелу на церемонии инаугурации президента Клинтона, в восторженной редакционной статье «Нью-Йорк таймс» приписали уитменовскую мощь — и его искренность, натурально, чрезвычайна; оно встает в ряд всех прочих немедленно канонизированных творений, наводняющих наши учебные заведения. Но беда в том, что с этим ничего не поделаешь; сопротивляться мы можем лишь до известного предела: если его перейти, то даже наши родные университеты будут вынуждены обвинить нас в расизме и сексизме. Я вспоминаю, как один из нас, несомненно, с иронией, сказал интервьюеру из «Нью-Йорк таймс», что «все мы — литературоведы-феминисты». Такая риторика подходит оккупированной стране, стране, которая не ждет освобождения от освобождения. Образовательным учреждениям остается надеяться на совет князя из «Леопарда» Лампедузы, который наставляет свое окружение: «Слегка все изменить, чтобы все осталось по-старому»[26].
К сожалению, по-старому ничего уже не будет, потому что внимательное и вдумчивое чтение как искусство и страсть, легшее в основу нашего дела, держалось на людях, которые с младых ногтей были фанатичными читателями. Самые истовые и обособленные читатели сегодня загнаны в угол, так как не могут быть уверены, что новые поколения дорастут до предпочтения Шекспира и Данте всем прочим писателям. Тени распростираются по нашей вечерней земле[27], и мы близимся ко второму тысячелетию, предчувствуя, что еще потемнеет.
Все это не вызывает у меня негодования; эстетика, на мой взгляд, относится к сфере частного, а не общественного. Так или иначе, винить тут некого — хотя иные из нас были бы признательны, если бы им не говорили, что у нас нет тех независимых, благородных и широких социальных воззрений, которыми обладают идущие нам на смену. Литературоведение — древнее искусство; его зачинателем, по Бруно Снеллю, был Аристофан, и я, пожалуй, соглашусь с Генрихом Гейне в том, что «Бог есть, и имя ему — Аристофан». Культурология — это очередная унылая общественная наука, но литературоведение как искусство всегда было и всегда будет феноменом элитарным. Ошибкой было считать, что литературоведение может сделаться фундаментом демократического образования или социального благоустройства. Когда наши кафедры англоязычной и прочих литератур усохнут до размеров наших нынешних кафедр классической филологии и уступят свои основные функции легионам культурологов, тогда, возможно, нам удастся вернуться к изучению неминуемого, к Шекспиру и немногим равным ему, которые, в конце концов, всех нас создали.
Канон, если смотреть на него в ракурсе отношения частного читателя или писателя к тому, что было сохранено из написанного, и позабыть о каноне как о списке рекомендованных к прочтению книг, тождествен Искусству Памяти в его литературном аспекте, а не канону в церковном смысле этого слова. Память — всегда искусство, даже когда действует помимо нашей воли. Эмерсон противопоставлял партию Памяти партии Надежды[28], но то было в совсем другой Америке. Сегодня партия Памяти и есть партия Надежды, хотя надежд и поубавилось. Но институциализировать надежду всегда было опасно, а институциализировать память нам уже не позволит общество, в котором мы живем. Мы должны подходить к обучению более избирательно, искать немногих, способных сделаться по-настоящему своеобразными читателями и писателями. Остальных, уступчивых к требованиям политизированных учебных программ, можно и оставить на их произвол. С прагматической точки зрения эстетическую ценность можно опознавать и чувствовать, но ее нельзя внушить тем, кто не в состоянии ее ощутить и воспринять. Пререкаться о ней нелепо.
Меня больше интересует бегство от эстетики столь многочисленных представителей моей профессии, часть которых хотя бы поначалу умели прочувствовать эстетическую ценность. У Фрейда бегство — это метафора вытеснения[29], бессознательного, но целенаправленного забывания. В случае моей профессии цель бегства, в общем, понятна: смягчить смещенное на эстетику чувство вины. Когда дело касается эстетики, забывание губительно: в соответствующих исследованиях познание всегда зависит от памяти. Лонгин сказал бы, что удовольствие есть то, что люди ресентимента забыли. Ницше назвал бы его болью[30]; но они имели бы в виду один и тот же горний опыт. Те же, кто обрушивается — на манер леммингов — с этих высот, причитают, будто литературу вернее всего трактовать как мистификацию, насажденную буржуазными институциями.
Эстетика таким образом сводится к идеологии, в лучшем случае — к метафизике. Стихотворение нельзя читать как стихотворение у потому что оно в первую очередь есть социальный документ или — редко, но случается — попытка совладать с философией. Этому подходу я призываю упорно сопротивляться — с одной-единственной целью: сохранить поэзию во всей возможной полноте и чистоте. Изменившие нам легионы представляют те направления в наших традициях, которые всегда бежали эстетики: платонический морализм и аристотелианскую социологию. Те, кто нападает на поэзию, либо гонят ее прочь из общества за то, что она подрывает его благополучие, либо готовы терпеть ее, если она будет служить делу социального катарсиса под знаменами нового мультикультурализма. Под поверхностью академического марксизма, феминизма и «нового историзма» по-прежнему протекает древняя полемика между платонизмом и столь же архаичной аристотелианской социальной медициной. Я думаю, что раздор между сторонниками этих подходов и извечно находящимися в тяжком положении поборниками эстетики не прекратится никогда. Нынче мы проигрываем, будем, несомненно, проигрывать и впредь, и это прискорбно, потому что многие из лучших учеников оставят нас ради других дисциплин и профессий и уже вовсю оставляют. Они имеют на это полное право, потому что мы не сумели оградить их от утраты интеллектуальных и эстетических стандартов успеха и ценности, которую понесла наша профессия. Единственное, что мы можем, — это по мере сил держаться эстетики и не поддаваться на ложь, гласящую, что мы противостоим дерзанию и новым истолкованиям.
По известному определению Фрейда, тревога — это Angst vor etwas, или тревожные ожидания[31]. Нас всегда что-то загодя тревожит, пусть это «что-то» — не более чем ожидания, соответствовать которым от нас потребуется. Эрос — вероятно, самое приятное ожидание — приносит рефлексивному сознанию специфические тревоги, на которых Фрейд и сосредоточен. Литературное произведение также порождает ожидания, которым должно соответствовать, — иначе его перестанут читать. Глубочайшие тревоги литературы — литературны; они, как мне кажется, определяют собою «литературное» и делаются чуть ли не тождественны ему. Стихотворение, роман, пьеса приобретают все свойственные человечеству расстройства, в том числе страх смерти, который в литературном искусстве преобразуется в поиск каноничности, запечатления в коллективной или общественной памяти. Это навязчивое желание, или влечение, проглядывает в сильнейших сонетах самого Шекспира. Поэтика бессмертия — это также психология выживания и космология.
Откуда возникла сама идея — задумать такое литературное произведение, которому мир не даст умереть? Иудеи не прилагали ее к Писанию, полагая, что канонические сочинения пачкают руки тех, кто к ним прикасается (видимо, оттого что смертные руки не могут держать священных сочинений). Христианам Тору заменил Иисус, а Иисус — это прежде всего Воскресение. Когда в истории светской словесности люди заговорили о «бессмертных» стихотворениях и повествованиях? Эта находка есть у Петрарки, и ее великолепно развивает в своих сонетах Шекспир. В скрытом виде она присутствует уже в хвале, которую Данте произносит своей «Божественной комедии». Нельзя сказать, что Данте обмирщил эту идею, потому что он все вобрал в себя и, соответственно, в каком-то смысле ничего не обмирщил. Для него его поэма была пророчеством, таким же пророчеством, как книга пророка Исайи, так что, наверное, можно сказать, что Данте создал наше современное представление о каноническом. Выдающийся специалист по Средневековью Эрнст Роберт Курциус особо отмечает, что Данте признавал лишь два путешествия в потусторонний мир, кроме своего собственного: Энея у Вергилия в VI книге его эпической поэмы и апостола Павла, описанного во 2 послании коринфянам (12:2). Благодаря Энею возник Рим; благодаря Павлу возникло христианство; благодаря Данте — если бы он дожил до восьмидесяти одного года — должно было сбыться скрытое в «Комедии» эзотерическое пророчество, но Данте умер в пятьдесят шесть лет.
Курциус, неизменно внимательный к судьбе канонических метафор, совершает экскурс на тему «Поэзия как увековечение»[32], в котором возводит идею поэтического прославления к «Илиаде» (VI, 357–358)[33] и «Одам» Горация (IV, 8, 28)[34], где утверждается, что вечную жизнь герою даруют красноречие и благосклонность Музы. В разделе о литературном прославлении, который Курциус цитирует, Якоб Буркхардт отмечает, что Данте, поэт-филолог итальянского Возрождения, «вполне сознавал, что раздача „славы“, бессмертия… — в его руках»[35]; Курциус показывает, что латиноязычные поэты во Франции сознавали это уже в 1100 году. Но в какой-то момент это сознание сомкнулось с представлением о светской каноничности и в результате не воспеваемый герой, но его воспевание стало объявляться бессмертным. Светский канон — «канон» тут значит «список одобренных авторов» — появляется, по сути, лишь в середине XVIII века, в эпоху Чувствительности, Сентиментализма и Возвышенного. «Оды» Уильяма Коллинза возводят Возвышенный канон к героическим предшественникам Чувствительности от древних греков до Мильтона и суть одни из первых стихотворений на английском языке, в которых выдвигается идея светской канонической традиции.
Теперь Канон — слово по происхождению своему церковное — это выборка из текстов, борющихся друг с другом за выживание; ее можно относить на счет господствующих социальных групп, образовательных институций, литературоведческих традиций или, как делаю я, — на счет писателей-«наследников», ощущающих себя избранными теми или иными прародительскими фигурами. Некоторые современные приверженцы того, что считается академическим радикализмом, доходят до предположения, будто произведения входят в Канон вследствие удачных рекламных и пропагандистских кампаний. Сотоварищи этих скептиков иной раз заходят еще дальше и выражают сомнения относительно самого Шекспира, чье признание им кажется навязанным. Если поклоняешься составному богу исторического процесса, то тебе предопределено отрицать явное эстетическое превосходство Шекспира, поистине вопиющую самобытность его пьес. Самобытность делается литературным эквивалентом таких понятий, как частное предпринимательство, самостоятельность и конкуренция, которые не греют души феминистам, афроцентристам, марксистам, вдохновленным Фуко «новым истористам» и деконструктивистам — всем тем, кого я причислил к Школе ресентимента.
Вразумляющую теорию формирования канона изложил в своей книге «Виды литературы» (1982) Алистер Фаулер. В главе «Иерархии литературных жанров и канонов» Фаулер отмечает, что «изменения в литературных вкусах зачастую могут объясняться переоценкой жанров, представленных каноническими сочинениями». Во всякую эпоху некоторые жанры считаются более каноническими, чем другие. В наше время, несколько десятилетий назад, в великом почете был американский романтический роман, что способствовало утверждению Фолкнера, Хемингуэя и Фицджеральда в качестве наших главных прозаиков XX века, достойных наследников Готорна, Мелвилла, Марка Твена и той ипостаси Генри Джеймса, которая восторжествовала в «Золотой чаше» и «Крыльях голубки». В результате этого превозношения романтического романа над «реалистическим» визионерские повествования вроде «Когда я умирала» Фолкнера, «Подруги скорбящих» Натанаэла Уэста и «Выкрикивается лот 49» Томаса Пинчона были приняты критиками лучше, чем «Сестра Керри» и «Американская трагедия» Теодора Драйзера. С подъемом журналистского романа — «Хладнокровное убийство» Трумена Капоте, «Песня палача» Нормана Мейлера, «Костры амбиций» Тома Вулфа — жанры снова подверглись пересмотру; в свете этих сочинений к «Американской трагедии» вернулась немалая доля ее блеска.
Исторический роман, похоже, обесценился навеки. Гор Видал как-то раз горько и пространно жаловался мне, что его сексуальная ориентация, которой он не скрывал, стоила ему канонического статуса. Но дело тут скорее в том, что лучшая проза Видала (за вычетом возвышенно возмутительной «Майры Брекенридж») — это почтенные исторические романы: «Линкольн», «Бэрр» и ряд других, а этот поджанр больше не подлежит канонизации. Это обстоятельство помогает объяснить мрачную судьбу буйно-изобретательных «Вечеров в древности» Нормана Мейлера — блистательного анатомирования плутовства и блудовства, не пережившего помещения в Древний Египет «Книги мертвых». Историческое повествование и повествовательная проза разъединились, и нашему мироощущению, похоже, уже не под силу приладить их друг к другу.
Фаулер существенно проясняет вопрос о том, отчего все жанры не бывают доступны единовременно:
…следует учитывать то обстоятельство, что ни в какой период времени весь диапазон жанров не бывает доступен в одинаковой и уж подавно — в полной мере. Всякий век знает довольно узкий репертуар жанров, способных вызвать воодушевленный отклик читателей и критиков-современников, а репертуар, легко доступный писателям-современникам, еще уже: временный канон обязателен для всех, за исключением лишь величайших, сильнейших или самых сложных писателей. Каждый век что-то из этого репертуара удаляет. В каком-то слабом смысле все жанры, возможно, существуют всегда, призрачно воплощаясь в странных, причудливых исключениях… Но репертуар действующих жанров всегда узок и подвержен пропорционально значительным сокращениям и добавлениям. <…>…некоторых исследователей соблазнила мысль о какой-то общей системе почти гидростатического характера — количество содержимого не меняется, но оно подвержено перераспределению.
Но прочных оснований для такого допущения нет. Правильнее будет трактовать жанровые сдвиги попросту в терминах эстетического выбора.
Отчасти руководствуясь мыслью Фаулера, я бы утверждал, что эстетический выбор всегда направлял весь процесс формирования светского канона, но сейчас, когда защита литературного канона, как и наступление на него, так сильно политизировалась, с таким утверждением выступать нелегко. Идеологические аргументы в защиту Западного канона вредят эстетическим ценностям не меньше, чем натиски нападающих, стремящихся уничтожить Канон — или, как они провозглашают, «вскрыть» его[36]. Для Западного канона нет ничего важнее принципов избирательности, в которых от элитизма — лишь то, что они базируются на строго художественных критериях. Те, кто противостоит Канону, настаивают, что в формировании канона всегда задействована идеология; собственно, они идут еще дальше и говорят об идеологии формирования канона, подразумевая тем самым, что создание канона (или упрочение его) — действие само по себе идеологическое.
Герой этих антиканонизаторов — Антонио Грамши, который в своих «Тюремных тетрадях» говорит, что интеллигент не может быть свободен от господствующей социальной группы, если полагается лишь на «особые качества», присущие ему и его собратьям по ремеслу (например, другим литературоведам): «Так как эти различные категории традиционной интеллигенции, объединенные „корпоративным духом“, чувствуют свою непрерывную историческую преемственность и свои „особые качества“, то они и считают себя самостоятельными и не зависимыми от господствующей социальной группы»[37].
Как литературоведу, живущему в наихудшие, как я теперь думаю, для литературоведения времена, мне упрек Грамши состоятельным не кажется. Профессиональный корпоративный дух, столь загадочно милый сердцу многих верховных жрецов антиканонизаторов, мне решительно неинтересен, и я отрекся бы от всякой «непрерывной исторической преемственности» с западным академическим миром. Я желаю — и заявляю о — преемственности с горсткой литературоведов, живших до этого века, и еще с одной — из трех минувших поколений. Что же касается «особых качеств», то мои, вопреки словам Грамши, чисто индивидуальны. Даже если «господствующей социальной группой» считать Йельскую корпорацию, или попечителей Нью-Йоркского университета или американских университетов в целом, то я не могу отыскать внутренней связи между какой бы то ни было социальной группой и тем, как я прожил жизнь, читая, вспоминая, оценивая и истолковывая то, что мы когда-то называли «художественной литературой». Литературоведов на службе общественной идеологии следует искать исключительно среди тех, кто хочет разоблачить или «вскрыть» Канон, а также среди их противников, не уберегшихся от превращения в то, что они наблюдали[38]. Но ни одна из этих групп не является по-настоящему литературной.
Вытеснение эстетики или бегство от нее — повсеместное явление в наших заведениях, все еще выдающих себя за высшие учебные. Шекспир, чье эстетическое первенство было подтверждено всеобщим судом четырех столетий, теперь «историзируется» до умаления — как раз потому, что его диковинная эстетическая сила скандализирует любого идеолога. Основополагающий принцип Школы ресентимента укладывается в самую бесхитростную формулировку: то, что называется эстетической ценностью, происходит из классовой борьбы. Принцип этот настолько общий, что целиком его опровергнуть нельзя. Я лично настаиваю на том, что единственное средство и главный критерий постижения эстетической ценности — это индивидуальная личность. Но я с неохотой признаю, что «индивидуальная личность» определяется лишь на фоне общества и доля ее борьбы с коллективным неизбежно вбирает в себя что-то от конфликта социальных и экономических классов. Мне, сыну портного, было предоставлено неограниченное время на чтение и размышление о прочитанном. Совершенно очевидно, что институция, которая меня протежировала, Йельский университет, есть часть Американского истеблишмента, следовательно, мои протяженные размышления о литературе уязвимы для традиционнейшего марксистского анализа классового интереса. Все свои страстные заявления об отдельной личности и эстетической ценности я обязательно делю мысленно на то обстоятельство, что досуг для размышлений должен быть куплен у общества.
Ни один литературовед (пишущий эти строки — не исключение) не есть герметический Просперо, практикующий белую магию на зачарованном острове. Литературоведение, подобно поэзии, — это (в герметическом смысле) своего рода кража обыкновенных акций. И если в дни моей молодости правящий класс делал человека жрецом эстетики, освобождая его тем самым от каких-то других обязательств, то он, безусловно, был в этом жречестве заинтересован. Но то, что я это признаю, не значит, что я признаю свою неправоту. Может быть, свобода постигать эстетическую ценность и берется из классового конфликта, но ценность не тождественна свободе, хотя и недоступна без этого постижения. Эстетическая ценность по определению возникает из взаимодействия между художниками, из влияния, которое всегда — истолкование. Свобода быть художником или исследователем непременно проистекает из социального конфликта. Но источник, происхождение свободы воспринимать, хотя и имеют к эстетической ценности известное касательство, ей не тождественны. Обретение индивидуальности всегда вызывает чувство вины; это разновидность чувства вины, которое испытывает переживший кого-то, и эстетической ценности оно не производит.
Без ответа на тройной вопрос агона — больше, меньше, равно? — эстетической ценности быть не может. Этот вопрос выражен на образном языке Экономики, но для ответа на него не нужен Фрейдов Экономический Принцип. Стихотворение не может быть «само по себе», и все-таки в эстетике обретается нечто нередуцируемое. Не поддающаяся полной редукции ценность образуется посредством «межхудожественного» влияния. Это влияние включает психологические, духовные и социальные компоненты, но главная его составляющая — эстетическая. Марксист или вдохновленный Фуко «новый историст» может бесконечно настаивать на том, что производство эстетического — это вопрос исторических сил, но речь сейчас не о производстве как таковом. Я охотно соглашусь с девизом доктора Джонсона — «Только болван будет писать не для денег», и все же неоспоримая экономика литературы, от Пиндара до наших дней, не обуславливает вопросов эстетического первенства. Приверженцы «вскрытия Канона», в общем, соглашаются с традиционалистами насчет того, кому это первенство принадлежит: Шекспиру. Шекспир и есть светский канон, или даже светское Писание; он один придает и предшественникам, и наследникам вид, соответствующий задачам канона. Дилемма, стоящая перед приверженцами ресентимента, такова: либо отрицать Шекспирово уникальное признание (неблагодарный и тяжкий труд), либо разъяснить, почему и как история и классовая борьба произвели именно те аспекты его пьес, которые поместили его в центр Западного канона.
Тут они сталкиваются с непреодолимой трудностью, стоящей за самой отличительной силой Шекспира: он всегда впереди тебя — и в том, что касается идей, и в том, что касается образов, — кем бы ты ни был и когда бы ни жил. В сравнении с ним ты устарел, потому что он содержит тебя в себе; тебе его не вобрать. На него не прольет света никакая новая доктрина, будь то марксизм, фрейдизм или лингвистический скептицизм де Мана. Это он прольет на эту доктрину свет — не потому, что предвосхитил ее, а потому, что, так сказать, послевосхитит: у Шекспира уже есть все, что важнее всего у Фрейда, — и убедительная критика Фрейда в придачу. Фрейдова карта сознания принадлежит Шекспиру; Фрейд лишь перевел ее в прозу. Иными словами, прочтение Фрейда «по Шекспиру» проливает свет на тексты Фрейда и подавляет их; прочтение Шекспира «по Фрейду» умаляет Шекспира — вернее, умаляло бы, если бы мы могли снести умаление, переходящее в нелепость утраты. «Кориолан» — это такое сильное прочтение «Восемнадцатого брюмера Луи Бонапарта», каким никогда не будет ни одно марксистское прочтение «Кориолана».
Я уверен, что в конце концов признание Шекспира станет для Школы ресентимента камнем преткновения. Как тут скажешь, что одно другому не мешает? Если то обстоятельство, что Шекспир находится в центре Канона, — произвольно, то они должны разъяснить, почему господствующий социальный класс выбрал на эту произвольную роль его, а не, скажем, Бена Джонсона. Если же Шекспира возвеличила история, а не правящие круги, то что же в Шекспире так пленило этого могучего Демиурга — экономическую и социальную историю? Конечно, эти вопросы граничат с областью невероятного; куда как проще признать, что существует качественное различие, различие по существу[39], между Шекспиром и любым другим писателем — даже Чосером, даже Толстым, кем угодно. Самобытность — огромный скандал, с которым ресентименту не сжиться, а Шекспир остается самобытнейшим писателем из всех, что нам доведется знать.
Всякая сильная литературная самобытность становится канонической. Несколько лет назад, вечером во время грозы в Нью-Хейвене, я сел в очередной раз перечитать «Потерянный рай» Джона Мильтона. Мне нужно было написать лекцию о Мильтоне для курса, который я читал в Гарвардском университете, но я хотел взяться за поэму сызнова: прочесть ее так, как будто никогда прежде ее не читал, более того — так, как будто никто до меня ее не читал. Это означало — выбросить из головы целую библиотеку посвященных Мильтону исследований, что было практически невозможно. И все-таки я пытался это сделать, потому что мне нужен был такой опыт чтения «Потерянного рая», каким он был для меня примерно сорок лет назад, когда я прочел его впервые. Я читал, покуда не уснул среди ночи, — и исходная «знакомость» поэмы начала уходить. Она уходила в течение нескольких последующих дней, пока я дочитывал, и в итоге я был причудливым образом потрясен, слегка отвращен и в то же время пугающе поглощен. Что же такое я читал?
Хотя эта поэма представляет собою классическую эпопею на библейский сюжет, она произвела на меня то своеобразное впечатление, которое я привык соотносить с фэнтези и научной фантастикой, а не с героическим эпосом. Всеподавляющее чувство, которое она во мне вызвала, было чуднóе. Меня ошеломили два связанных между собою, но отличных друг от друга ощущения: наступательной и победительной силы автора, блистательно проявленной в борьбе — и неявной, и явной — со всеми прочими авторами и текстами, включая Библию, и подчас ужасающей странности изображаемого. Лишь дочитав до конца, я вспомнил (во всяком случае, сознательно) яростную книгу Уильяма Эмпсона «Бог Мильтона»: критик с осуждением пишет, что в «Потерянном рае» ему видится варварское великолепие иных африканских примитивных скульптур. В Мильтоновом варварстве Эмпсон винил христианство, доктрину, которую находил омерзительной. Хотя в политическом плане Эмпсон был марксист, глубоко сочувствовавший китайским коммунистам, он отнюдь не был предшественником Школы ресентимента. Он историзировал в вольном стиле, обнаруживая поразительную к этому склонность, и неизменно принимал в расчет конфликт между социальными классами, но искушения свести «Потерянный рай» к взаимоотношениям экономических сил у него не было. Он был занят прежде всего эстетическим, как и подобает литературоведу, и сумел не перенести свою моральную неприязнь к христианству (и Богу Мильтона) на эстетическое суждение о поэме. Варварский элемент впечатлил меня так же, как Эмпсона; агонистическая победительность заинтересовала меня больше.
Я думаю, что лишь немногие произведения еще важнее для Западного канона, чем «Потерянный рай»: это великие трагедии Шекспира, «Кентерберийские рассказы» Чосера, «Божественная комедия» Данте, Тора, Евангелие, «Дон Кихот» Сервантеса, поэмы Гомера. За возможным исключением поэмы Данте, ни одно из них не проникнуто такой воинственностью, как мрачное сочинение Мильтона. Шекспира определенно раззадорили соперники-драматурги; Чосер обаятельно сослался на вымышленные авторитеты и скрыл свой подлинный долг перед Данте и Боккаччо. Танах и греческий Новый Завет переделывались до их нынешнего вида «редукторами», у которых могло быть очень мало общего с авторами, которых они редактировали. Сервантес с непревзойденной веселостью убил пародией своих рыцарственных предшественников, а текстов тех, кто был до Гомера, у нас нет.
Мильтон и Данте — самые запальчивые из величайших западных писателей. Исследователям как-то удается обходить стороной свирепость этих поэтов и даже приписывать им набожность. Так, К. С. Льюис сумел обнаружить в «Потерянном рае» свое «просто христианство»[40], а Джон Фреччеро считает Данте верным последователем Блаженного Августина, удовольствовавшимся подражанием «Исповеди» в своем романе о себе. Данте, как я только начинаю понимать, творчески правил Вергилия (среди многих прочих) так же основательно, как Мильтон в своем творении правил абсолютно всех, кто был до него (включая Данте). Но в игровой ли манере писатель ведет борьбу, как Чосер, Сервантес и Шекспир, или в агрессивной, как Данте и Мильтон, соревновательный момент есть всегда. Эта толика марксистского метода кажется мне ценной: в сильной литературе всегда есть конфликт, амбивалентность, противоречие между предметом и структурой. Расхожусь же я с марксистами в вопросе происхождения этого конфликта. С Пиндара до наших дней писатель, сражающийся за канонический статус, может выступать на стороне того или иного социального класса, как Пиндар за аристократов, но всякий честолюбивый писатель преследует в первую очередь свою выгоду и нередко предает свой класс или пренебрегает его интересами ради своих собственных, которые сосредоточены исключительно на индивидуации. И Данте, и Мильтон многим пожертвовали во имя политических курсов, которые казались им глубоко одухотворенными и справедливыми, но ни тот, ни другой не пожелал бы пожертвовать своим главным произведением во имя какого бы то ни было дела. Они поступили так: приравняли дело к произведению, а не произведение к делу. Таким образом они создали прецедент, которым нынче нечасто руководствуется академическое сборище, стремящееся соединить изучение литературы с борьбой за социальные перемены. В современной Америке наследников этой ипостаси Данте и Мильтона обнаруживаешь там, где их и следует искать, — в наших сильнейших поэтах после Уитмена и Дикинсон: Уоллесе Стивенсе и Роберте Фросте, реакционерах по убеждениям.
Тем, кто способен создавать канонические вещи, их писания непременно видятся чем-то большим, чем самая образцовая социальная программа. Это вопрос вмещения, и великая литература будет настаивать на своей самодостаточности перед лицом достойнейших дел: феминизма, афроамериканского культурализма и всех прочих политически корректных начинаний нашего времени. Вмещаемое разнится; сильная поэма по определению отказывается быть вобранной кем-либо, даже Богом Данте или Мильтона. Доктор Сэмюэл Джонсон, проницательнейший из критиков, сделал верное заключение о том, что благоговейная поэзия, в отличие от благоговения перед поэзией, невозможна: «Извечные добро и зло слишком тяжки для крыл ума». «Тяжкий» — это метафора «невмещаемого», что в свою очередь — метафора. Наши современные приверженцы «вскрытия» Канона клеймят открытые проявления религиозности, но призывают к благоговейным стихам (и благоговейному литературоведению!), пусть предмет благоговения и поменялся на содействие женщинам, чернокожим и этому неведомейшему из всех неведомых богов, классовой борьбе в Соединенных Штатах. Все зависит от нашей системы ценностей, но я не перестаю удивляться тому, что марксисты умеют отыскать конкуренцию где угодно и при этом никак не увидят, что она неотделима от высокого искусства. Тут имеет место причудливая смесь сверхидеализации и недооценки художественной литературы, всегда решавшей свои собственные корыстные задачи.
«Потерянный рай» вошел в светский Канон прежде, чем этот Канон утвердился, в веке, следующем за тем, в котором Мильтон жил. Ответом на вопрос «Кто канонизировал Мильтона?» будет: в первую очередь сам Джон Мильтон, но почти в первую — другие сильные поэты, от его друга Эндрю Марвелла и Джона Драйдена до практически каждого важного поэта XVIII века и эпохи романтизма: Поупа, Томсона, Купера, Коллинза, Блейка, Вордсворта, Кольриджа, Байрона, Шелли, Китса. Разумеется, в канонизации поучаствовали литературоведы и критики — доктор Джонсон и Хэзлитт; но Мильтон, подобно Чосеру, Спенсеру, Шекспиру до него и Вордсворту — после, попросту подавил традицию и вобрал ее в себя. Вот — решающее испытание на каноничность. Лишь немногие смогли подавить и вобрать в себя традицию, а сделать это сейчас, быть может, не сможет никто. Поэтому вопрос сегодня таков: сумеешь ли ты вынудить традицию дать тебе место, отворив ее, так сказать, изнутри, а не извне, как бы хотелось мультикультуралистам?
Движение изнутри традиции не может иметь идеологического характера или служить какой бы то ни было общественной задаче, даже самой достойной с этической точки зрения. Пробиться в канон позволяет одна лишь эстетическая сила, которая есть прежде всего амальгама: владение образным языком, самобытность, когнитивная сила, эрудиция, яркость стиля. Итоговая несправедливость исторической несправедливости состоит в том, что она вовсе не обязательно наделяет своих жертв чем-то, кроме ощущения жертвы. Чем бы ни был Западный канон, программой социального спасения он не является.
Самое глупое, что можно предпринять для защиты Западного канона, — это настаивать на том, что он воплощает все семь смертных нравственных добродетелей, на которых зиждется наш предполагаемый диапазон нормативных ценностей и демократических принципов. Это явно не так. «Илиада» учит, что нет ничего славнее победы в бою, а Данте упивается вечными муками, на которые обрекает своих личных врагов. Толстовская частная версия христианства отметает практически все, на чем каждый из нас стоит, а Достоевский проповедует антисемитизм, обскурантизм и необходимость закрепощения. Политические взгляды Шекспира — насколько их можно установить — предстают не слишком отличными от политических взглядов его Кориолана, а Мильтоновы идеи свободы слова и печати не предполагают отказа от всевозможных социальных ограничений. Спенсер упивается расправой над ирландскими мятежниками, а маниакальный эгоцентрик Вордсворт превозносит свой поэтический дар над всяким прочим источником благолепия.
Величайшие западные писатели опрокидывают все системы ценностей — и наши, и свои собственные. Ученые, призывающие нас черпать моральные и политические представления у Платона или Исайи, оторваны от социальной действительности, в которой мы живем. Я твердо убежден, что, если мы будем читать Западный канон с тем, чтобы сформировать для себя систему социальных, политических или индивидуальных ценностей, то превратимся в чудовищных себялюбцев-угнетателей. Чтение в пользу какой бы то ни было идеологии — это, по-моему, вообще не чтение. Восприятие эстетической силы позволяет нам научиться разговаривать с самими собою и терпеть самих себя. Истинное назначение Шекспира и Сервантеса, Гомера и Данте, Чосера и Рабле — способствовать развитию глубинной сущности человека. Вдумчивое чтение Канона не сделает человека лучше или хуже, не сделает его более полезным или более вредоносным членом общества. Диалог рассудка с самим собою — не социальное в первую очередь явление. Западный канон дает человеку одно: возможность должным образом распорядиться своим уединением — уединением, итоговая форма которого есть столкновение человека со своей смертностью.
Канон у нас есть оттого, что мы смертны и за временем нам не угнаться. Время идет и кончается, а чтения сейчас больше, чем когда-либо прежде. Фрейда, Кафку и Беккета отделяет от Яхвиста и Гомера дорога почти в три тысячелетия. Ввиду того что на этом пути встречаются такие необъятные гавани, как Данте, Чосер, Монтень, Шекспир и Толстой, каждого из которых можно перечитывать всю жизнь, перед нами — практическая дилемма: интенсивно читая или перечитывая что-нибудь, мы всякий раз от чего-то отказываемся. Одно древнее испытание на каноничность остается безжалостно надежным: произведение может стать каноничным только в том случае, если требует перечитывания. Эротическая параллель тут неизбежна. Если вы — Дон Жуан и Лепорелло ведет учет, то вам будет достаточно и одной короткой встречи.
Вопреки мнению некоторых парижан, текст существует для того, чтобы доставлять не удовольствие, а сильное неудовольствие, или удовольствие более сложное, какого малозначительный текст не принесет[41]. Я не готов оспаривать поклонников «Меридиана» Элис Уокер, романа, который я заставил себя прочесть дважды, но второе чтение было одним из самых моих примечательных опытов, связанных с литературой. Наступило прозрение, и мне ясно увиделся новый принцип, подразумевающийся в лозунгах тех, кто провозглашает «вскрытие» Канона. Правильная проверка на новую каноничность проста, очевидна и чудесно способствует социальным переменам: произведение не должно и не может перечитываться, потому что его вклад в социальный прогресс — та готовность, с которой оно отдается на стремительное проглатывание и забвение. С Пиндара до Гёльдерлина и Йейтса великая ода, канонизирующая сама себя, провозглашала свое агонистическое бессмертие. Социально приемлемая ода будущего, безусловно, избавит нас от таких претензий и обратится к надлежащему смирению совокупного сестринства, к новой возвышенности лоскутного одеяла — излюбленной метафоры феминистского литературоведения.
И все же нам приходится выбирать: раз время идет, Элизабет Бишоп нам перечитать или Эдриен Рич? Отправиться мне снова на поиски утраченного времени с Марселем Прустом — или попытаться еще раз перечитать волнующее обличение Элис Уокер всех мужчин, и черных, и белых? Мои бывшие студенты, многие из которых сейчас — звезды Школы ресентимента, провозглашают, что учат устранять из социальных отношений свое «я», для чего сперва нужно научиться устранять свое «я» из чтения. У автора нет «я», у литературного персонажа нет «я» и нет «я» у читателя. Должны ли мы собраться на берегу реки с этими щедрыми призраками, освобожденными от вины в былом самоутверждении, креститься ли в водах Леты? Что нам делать, чтобы спастись?
Исследование литературы, как им ни занимайся, не спасет ни одного отдельно взятого человека и не улучшит ни одно общество. Шекспир не сделает нас лучше и хуже тоже не сделает — но он может научить нас слышать себя, когда мы разговариваем с собою. Следовательно, он может научить нас принимать перемену — в себе и в других — и, возможно, даже итоговую форму перемены. Гамлет — это посол смерти в нашем мире, возможно, один из немногих направленных смертью послов, который не лжет нам о наших неизбежных отношениях с этим безвестным краем[42]. Отношения эти всецело обособлены, несмотря на все непотребные попытки традиции их обобществить.
Мой покойный друг Поль де Ман любил провести аналогию между обособленностью каждого литературного текста и каждой человеческой смерти; на эту аналогию я однажды возразил. Я предположил, что более ироническим тропом была бы параллель между человеческим рождением и появлением на свет стихотворения; эта аналогия объединила бы тексты так, как объединены дети: немотой, сомкнутой с былыми голосами, невозможностью говорить, сомкнутой с тем, что говорили — как говорили каждому из нас — мертвецы. Я не выиграл этого методологического спора, не сумел убедить его своей более пространной «человеческой» параллелью; он предпочел диалектическую властность иронии более хайдеггерианского толка. Единственное, что текст, скажем, трагедия «Гамлет», имеет общего со смертью, — это обособленность. Но, сообщаясь с нами, являет ли он властность смерти? Каков бы ни был ответ, я бы хотел отметить, что властность смерти — что в литературе, что в жизни — это не совсем социальная властность. Канон — отнюдь не слуга господствующего социального класса, он — служитель смерти. Чтобы «вскрыть» его, нужно убедить читателя в том, что в пространстве, заполоненном мертвецами, образовалось свободное местечко. Пусть мертвые поэты посторонятся, взывал Арто; но вот этого-то они никогда и не сделают.
Будь мы бессмертны в буквальном смысле слова, или удлинись наш срок, скажем, до ста сорока лет, все споры о каноне можно было бы оставить. Но нам отпущен некий срок, а затем наше место пустеет[43], и заполнение этого срока дурной литературой, пусть и во имя любой социальной справедливости, не представляется мне обязательством литературоведа. Профессор Фрэнк Лентриккия, проповедник социального преобразования путем идеологизации академической сферы, умудрился прочесть «Анекдот с банкой» Уоллеса Стивенса как стихотворение «политическое», выражающее программу господствующего социального класса. Искусство водружения банки[44] связано у Стивенса с искусством составления букета, и я не понимаю, отчего бы Лентриккии не опубликовать скромный том о политике составления букетов под названием «Ариэль и цветы нашего климата»[45]. Я еще помню, как был потрясен лет тридцать пять тому назад, когда впервые попал на футбольный матч в Иерусалиме; зрители-сефарды поддерживали гостей, команду из Хайфы, правую в политическом отношении, — иерусалимская же команда была связана с рабочей партией. Зачем останавливаться на политизации литературоведения? Давайте заменим спортивных обозревателей на политических и положим начало реорганизации бейсбола, итогом которой будет встреча Республиканской лиги с Демократической в рамках Мировой серии. Так мы получим бейсбол, в котором, в отличие от нынешнего, не сможем искать пасторального отдохновения. Политические обязательства бейсболиста окажутся таким же — не более и не менее — естественным делом, как провозглашенные нынче политические обязательства литературоведа.
Культурная запоздалость, которая нынче есть едва ли не всемирное состояние, в Соединенных Штатах Америки ощущается особенно остро. Мы — последние наследники Западной традиции. Образование, зиждущееся на «Илиаде», Библии, Платоне и Шекспире, остается — с некоторой натяжкой — нашим идеалом, хотя к жизни в наших краях эти монументы культуры по неизбежности имеют довольно отдаленное отношение. Те, кого возмущает любой канон, страдают от чувства элитистской вины, основанного на вполне верном осознании того, что каноны всегда служат социальным, политическим и, собственно говоря, духовным интересам и задачам имущих классов каждого поколения западного общества. Кажется очевидным, что для «культивирования» эстетических ценностей необходим капитал. Пиндар, последний великий герой архаической лирики, вложил свое искусство в торжественный процесс обмена од на большие деньги, таким образом превознося богачей за щедрую поддержку его щедрых славословий их божественному происхождению. Этот союз возвышенного с финансовой и политической властью никогда не расторгался и, скорее всего, нерасторжим.
Есть, разумеется, пророки — от Амоса[46] до Блейка и далее до Уитмена, которые возвышают голос против этого союза, и, безусловно, равная Блейку великая личность однажды еще явится; но все равно каноническая норма — это Пиндар, а не Блейк. Даже такие пророки, как Данте и Мильтон, шли на компромиссы, на которые Блейк и не мог бы пойти — в той мере, в которой творцы «Божественной комедии» и «Потерянного рая» уступали культурно-прагматическим соображениям. Лишь на всю жизнь погрузившись в изучение поэзии, я сумел понять, почему Блейку и Уитмену пришлось сделаться настолько герметичными, поистине эзотерическими поэтами. Если ты разрываешь союз между богатством и культурой — а этим разрывом ознаменовано различие между Мильтоном и Блейком, между Данте и Уитменом, — то платишь дорогую, парадоксальную цену, взимаемую со всякого, кто пытается уничтожить преемственность внутри канона. Ты становишься запоздалым гностиком, который воюет с Гомером, Платоном и Библией, мифологизируя свое искажение традиции. В такой войне можно одерживать только неполные победы; я называю «Четыре Зоа» или «Песню о себе» неполными триумфами, потому что они вызывают в своих наследниках совершенно отчаянные искажения творческой воли. Проторенный Уитменом путь лучше всего давался поэтам, чье сходство с ним лежит в глубине, но никак не на поверхности — это поэты, державшиеся ярого формализма, такие как Уоллес Стивенс, Т. С. Элиот и Харт Крейн. Все те, кто тщится подражать его на первый взгляд открытой форме, умирают в пустыне[47] — недоделанные рапсоды и академические самозванцы, множащиеся за спиной своего изящно-герметического отца. Ничто не приносит ничего[48], и Уитмен за вас дела не сделает. Третьестепенный блэйкеанец или уитменианец-подмастерье — всегда лжепророк, который никому не укажет верного пути.
Меня вовсе не радуют эти истины касательно зависимости поэзии от властей предержащих; я просто руководствуюсь мыслью Уильяма Хэзлитта, настоящего левака среди великих литературоведов. В начале своих прекрасных рассуждений о Кориолане в «Персонажах Шекспировых пьес» Хэзлитт с сожалением признает, что «дело народа весьма редко считается предметом поэзии: из него выходит риторика, разделяющаяся на спор и разъяснение, но оно не являет уму готовых, определенных образов». Такие образы Хэзлитт в изобилии обнаруживает на стороне тиранов и их приспешников.
Ясное представление Хэзлитта о непростой взаимосвязи между властью риторики и риторикой власти может стать светочем в нашей модной тьме. Политические взгляды Шекспира могут совпадать, а могут и не совпадать со взглядами Кориолана, так же как тревоги Шекспира могут совпадать, а могут и не совпадать с тревогами Гамлета или Лира. И Шекспир — не трагический Кристофер Марло, чьи творчество и жизнь научили Шекспира, каким путем идти не следует. Шекспир знает то, что Хэзлитт саркастически проговаривает: Муза, что трагическая, что комическая, принимает сторону элиты. На каждого Шелли или Брехта приходится по два десятка еще более сильных поэтов, естественным образом устремляющихся к партии господствующих классов любого общества. Художественное воображение «заражено» пылом и эксцессами социального соревнования, ибо на протяжении всей истории Запада творческое воображение мыслилось в самом соревновательном ключе, уподобляясь одинокому бегуну, стремящемуся прославить лишь себя самого.
Сильнейшие женщины из великих поэтов, Сапфо и Эмили Дикинсон, — еще более яростные борцы, чем мужчины. Мисс Дикинсон из Амхерста не намеревалась помогать миссис Элизабет Барретт Браунинг дошить лоскутное одеяло. Вместо этого Дикинсон разбила миссис Браунинг в пух и прах, хотя ее триумф и нашел более тонкое выражение, чем победа Уитмена над Теннисоном в стихотворении «Когда во дворе перед домом цвела этой весною сирень»[49], в котором явно отзывается лауреатова «Ода на смерть герцога Веллингтона» — это сделано для того, чтобы внимательный читатель уразумел, насколько элегия на смерть Линкольна превосходит плач по Железному герцогу. Не знаю, преуспеют ли литературоведы-феминисты в изменении человеческой природы, которого они взыскуют, но я очень сомневаюсь, что какой бы то ни было идеализм, каким бы запоздалым он ни был, изменит всю основу западной психологии творчества, мужского и женского, от соперничества Гесиода с Гомером до борьбы между Дикинсон и Элизабет Бишоп.
Когда я писал эти слова, то взглянул на газету и обратил внимание на статью о мучениях феминистов, вынужденных выбирать, кого выдвинуть в Сенат — Элизабет Хольтцман или Джеральдин Ферраро; это выбор того же рода, перед которым стоит критик, выбирающий между покойной Мэй Свенсон, без малого сильным поэтом, и пламенной Эдриен Рич. Тенденциозное стихотворение может выражать самые образцовые чувства, самые достойные политические взгляды и при этом быть не бог весть каким стихотворением. У литературоведа могут быть политические обязательства, но первая его обязанность — вновь и вновь поднимать древний и довольно жуткий вопрос борца: больше, меньше, равно? Мы разрушаем все интеллектуальные и эстетические стандарты гуманитарных и общественных наук во имя социальной справедливости. Тут наши институции проявляют недобросовестность: на нейрохирургов или математиков никаких квот не налагается. Обесценилось знание как таковое, словно в сферах верного и неверного суждений эрудиция не нужна.
Пусть идеализм желающих «вскрыть» Западный канон безграничен — Западный канон существует как раз для того, чтобы устанавливать границы и задавать стандарты измерения, стандарты, отнюдь не политические или моральные. Мне известно, что сейчас в силе своего рода тайный союз между популярной культурой и тем, что называется «культурной критикой», и во имя этого союза на само познание вполне может быть поставлено клеймо неправильности. Познание не может осуществляться без памяти, а Канон — это настоящее искусство памяти, подлинное основание культурного мышления. Проще говоря, Канон — это Платон и Шекспир; это образ индивидуального мышления, будь то Сократ, умирающий, размышляя, или Гамлет, вникающий в этот безвестный край. Смертность соединяется с памятью в ощущении проверки реальности[50], которое создает Канон. Самая природа Западного канона такова, что он никогда не закроется, но он также не может быть взломан нынешними чирлидерами. Вскрыть его может только сила, сила Фрейда и Кафки, упорствующих в своих когнитивных негациях[51].
Чирлидерство — это сила позитивного мышления, примененная к академической сфере. Легитимный исследователь Западного канона уважает силу негации, неотъемлемой от познания, радуется трудным наслаждениям эстетического восприятия, познает тайные пути, на которые наставляет нас эрудиция, когда мы отвергаем наслаждения попроще, в том числе — бесконечные призывы тех, кто выступает за политическую добродетель, которая должна превзойти все то, что мы помним об индивидуальном эстетическом опыте.
Легкое бессмертие нынче не дает нам покоя оттого, что опора популярной культуры сегодня — уже не рок-концерт, а рок-видеоклип, сущность которого — мгновенное бессмертие, вернее возможность такового. Отношения между религиозной и литературной концепциями бессмертия всегда были сложными, даже у древних греков и римлян, когда поэтическая и олимпийская вечности вступали друг с другом в достаточно беспорядочные связи. Классическая литература эту сложность допускала и даже приветствовала, но в христианской Европе в ней стали видеть угрозу. Католическое различение божественного бессмертия и людской славы, прочно основанное на богословских догмах, оставалось вполне четким до пришествия Данте, который видел себя пророком и имплицитно придал своей «Божественной Комедии» статус нового Писания. Данте стер различие между формированием светского и церковного канонов, и различие это так никогда полностью и не восстановилось; это еще одна причина тех сложностей, которые представляют для нас понятие силы и власти.
Термины «сила» и «власть» имеют противоположные значения в сферах политики и того, что мы по-прежнему обязаны называть «художественной литературой». Если нам бывает трудно увидеть их противоположность, то это, возможно, из-за промежуточной сферы, называющейся «духовным». «Духовная» сила и «духовная» власть отбрасывают пресловутую тень и на политику, и на поэзию. Поэтому мы должны разграничивать эстетическую силу и власть Западного канона и любые духовные, политические, даже моральные производные от него. Несмотря на то что чтение, письмо и преподавание — непременно социальные акты, даже в преподавании есть некая обособленность, одиночество, разделить которое можно лишь вдвоем, как сказал Уоллес Стивенс[52]. Гертруда Стайн утверждала, что пишут для себя и для тех, кого не знают; я бы развил эту блистательную мысль в аналогичную апофегму: читают для себя и для тех, кого не знают. Западный канон существует не для того, чтобы укреплять положение существующих социальных элит. Он нужен для того, чтобы его читал ты и те, кого ты не знаешь, дабы ты и те, кого ты никогда не увидишь, могли соприкоснуться с подлинной эстетической силой и властью того, что Бодлер (и впоследствии Эрих Ауэрбах) называл «эстетическим достоинством». Один из неизбежных стигматов канонического — эстетическое достоинство; напрокат его не возьмешь.
Эстетическая власть, как и эстетическая сила, — это троп, метафора энергии, которая в сущности своей обособленна, а не социальна. Хейден Уайт давным-давно усмотрел великую слабость Фуко в том, что тот не видел своих же метафор — слабость, забавная для человека, называвшего себя последователем Ницше. Фуко заменил тропы лавджоевской истории идей своими тропами и потом иногда забывал, что его «архивы» — это ирония, намеренная и ненамеренная. То же — с «социальными энергиями» «нового историста», который все норовит забыть, что «социальная энергия» так же не поддается измерению, как Фрейдово либидо. Эстетическая власть и творческая сила — тоже тропы, но понятие, которое они заменяют, — назовем его «каноническое» — можно измерить хотя бы приблизительно, то есть: Уильям Шекспир написал тридцать восемь пьес, из них двадцать четыре — шедевры, а социальная энергия в жизни не написала ни единой сцены. Смерть автора — это троп, причем довольно вредный; жизнь автора — измеряемая величина.
Все каноны, включая модные у нас нынче контрканоны, элитарны, и, поскольку ни один светский канон не может закрыться, то, что сейчас приветствуется как «вскрытие канона», — это совершенно лишняя операция. Притом что каноны, подобно всем перечням и каталогам, тяготеют к инклюзивности, а не к эксклюзивности, мы достигли такого этапа, на котором человека, читающего и перечитывающего всю жизнь, вряд ли хватит на весь Западный канон. Освоить Западный канон сейчас практически невозможно. Не только потому, что для этого требуется усвоить три с лишним тысячи книг, многие из которых (если не все) по-настоящему трудны в когнитивном и художественном смыслах, но и потому, что по мере углубления ракурса, с которого мы наблюдаем, отношения между этими книгами делаются только более, а не менее, сложными. Из сложностей и противоречий состоит также самая сущность Западного канона, который никак не является единством, стабильной структурой. Никто не властен говорить нам, что такое Западный канон, во всяком случае в интервале с 1800 года до наших дней. Он не является и не может являться в точности тем перечнем, который привожу я, или тем, который приведет кто-нибудь другой. В противном случае этот перечень превратился бы в обыкновенный фетиш, очередной предмет потребления. Но я не готов согласиться с марксистами в том, что Западный канон — это лишь частный случай того, что они именуют «культурным капиталом»[53]. Я не уверен, что в такой противоречивой стране, как Соединенные Штаты Америки, в принципе возможен «культурный капитал» — если не считать тех щепочек высокой культуры, которые становятся частью культуры массовой. В нашей стране официальной высокой культуры нет где-то с 1800 года, с первого поколения после Американской революции. Культурное единство — это французский феномен и до некоторой степени немецкий сюжет, но едва ли примета американской действительности что XIX века, что ХХ-го. В наших обстоятельствах и в нашем ракурсе Западный канон — это что-то вроде перечня уцелевших. По мысли поэта Чарльза Олсона, в Америке главное — пространство, но Олсон начал с этих слов книгу о Мелвилле и, соответственно, о XIX веке. На исходе XX века главное у нас — время, ибо в вечерней стране сейчас вечернее по Западу время. Разве перечень уцелевших в трехтысячелетней космологической войне можно назвать фетишем?
Речь идет о смертности и бессмертии литературных произведений. Те, что сделались каноническими, выжили в суровейшей борьбе в контексте социальных отношений, но эти отношения имеют мало общего с классовой борьбой. Эстетическая ценность происходит из борьбы между текстами: в читателе, в языке, в аудитории, в спорах внутри общества. Очень немногие читатели из рабочего класса играют роль в спасении текстов от смерти, а левые исследователи за рабочий класс читать не могут. Эстетическая ценность происходит из памяти и, следовательно, из боли (как увидел Ницше), боли, вызванной отказом от простых наслаждений ради куда более трудных. Рабочим хватает тревог, и освобождения от них они ищут, например, в религии. Их убежденность в том, что эстетика — лишь очередной источник тревог, помогает нам уяснить, что удавшиеся литературные произведения суть претворенные в жизнь тревоги, а не средства против тревог. Каноны тоже суть претворенные в жизнь тревоги, а не цельная бутафория морали, западной или восточной. Если мы вообразим всеобщий канон, мультикультурный и мультивалентный, то его главной книгой окажется не Писание, будь то Библия, Коран или какой-нибудь восточный текст, но сочинения Шекспира, которого играют и читают повсюду, на всех языках и при любых обстоятельствах. Какими бы ни были убеждения наших «новых истористов», для которых Шекспир — не более чем знак социальных энергий английского Возрождения, для сотен миллионов людей, не являющихся белыми европейцами, Шекспир — знак их собственного пафоса, их самоотождествления с персонажами, которых Шекспир воплотил своими словами. Для них его всечеловечность не исторически обусловлена, но фундаментальна; он выносит на сцену их жизни. В его персонажах они встречаются лицом к лицу и сталкиваются со своей болью и своими фантазиями, а не с проявлениями социальных энергий раннебуржуазного Лондона.
Искусство памяти со своими риторическими корнями и волшебными плодами в большой степени имеет дело с воображаемыми местами, или со всамделишными местами, преобразованными в визуальные образы. С детства у меня была диковинная память на литературу, но память чисто вербальная, вовсе без визуальной составляющей. Лишь недавно, когда мне уже было за шестьдесят, я понял, что моя литературная память держится на Каноне как на мнемонической системе. Если мой случай — особый, то лишь в том смысле, что в моем опыте в несколько крайней форме применилась главная, по моему мнению, функция Канона: способствовать тому, чтобы прочитанное за жизнь помнилось и пребывало в системе. Величайшие писатели исполняют в устроенном Каноном театре памяти роли «мест», а их шедевры занимают положение, в искусстве памяти отведенное «образам». Шекспир и «Гамлет», центральный автор и всечеловеческая драма, не дают нам забыть не только о том, что происходит в «Гамлете», но также — и это еще более важно — о том, чтó из происходящего в литературе заставляет нас помнить ту или иную вещь и тем самым продлевает жизнь ее автора.
Смерть автора, провозглашенная Фуко, Бартом[54] и затем множеством их клонов, — это очередной антиканонический миф в духе боевого клича людей ресентимента, желающих отставить от дел «всех мертвых белых мужчин-европейцев», то есть такую вот чертову дюжину: Гомера, Вергилия, Данте, Чосера, Шекспира, Сервантеса, Монтеня, Мильтона, Гёте, Толстого, Ибсена, Кафку и Пруста. Эти авторы — живее вас, кем бы вы ни были, — были, несомненно, мужчины и, надо думать, «белые». Но они не мертвы — по сравнению с любым из ныне живущих авторов. Среди нас — Гарсиа Маркес, Пинчон, Эшбери и другие, которые, вероятно, станут такими же каноническими фигурами, как недавно умершие Борхес и Беккет, но Сервантес и Шекспир принадлежат иному порядку жизненности. Собственно говоря, Канон — это счетчик жизненности, мера, призванная разметить ни с чем не соизмеримое. Древняя метафора бессмертия писателя тут уместна и восстанавливает в наших глазах силу Канона. В экскурсе на тему «Поэзия и увековечение» Курциус цитирует мечтательные размышления Буркхардта о том, как «Литература распределяет „славу“»[55], — слава у него приравнивается к бессмертию. Но Буркхардт и Курциус жили и умерли прежде, чем наступил Век Уорхола, когда столь многие обретают славу на пятнадцать минут. Бессмертие на четверть часа теперь даруется без всяких ограничений и может считаться одним из уморительных следствий «вскрытия канона».
Защита Западного канона — это ни в коем случае не защита Запада или националистического проекта. Если бы мультикультурализм означал Сервантеса, то кто бы на него нападал? Главные враги эстетических и когнитивных стандартов — это как раз их предполагаемые защитники, трещящие о моральных и политических ценностях в литературе. Мы не живем в соответствии с этической картиной «Илиады» или политическими взглядами Платона. Те, кто учит интерпретации, ближе к софистам, чем к Сократу. Что может сделать для нашего полуразрушенного общества Шекспир — ведь функция Шекспировой драматургии имеет так мало общего с гражданской добродетелью и социальной справедливостью? Наши новые истористы, их странная смесь Фуко и Маркса — лишь незначительный эпизод бесконечной истории платонизма. Платон надеялся, что, изгнав поэта, он изгонит и тирана. Изгнание Шекспира — вернее, сведение Шекспира к его контекстам — не избавит нас от наших тиранов. Как бы то ни было, нам не избавиться от Шекспира и от Канона, в центре которого он находится. Мы все забываем, что Шекспир во многом нас создал; прибавьте остальной Канон — и получится, что Шекспир и Канон создали нас полностью. Эмерсон совершенно точно отразил это в «Представителях человечества»: «Шекспир настолько же выходит из ряда выдающихся писателей, насколько он возвышается над толпой. Он непостижимо мудр; мудрость других можно себе представить. Солидный, вдумчивый читатель в состоянии, если можно так выразиться, свить себе гнездо или водвориться в мозгу Платона и оттуда черпать свои мысли, но уж никак не в мозгу Шекспира. Здесь мы всегда остаемся в преддверии, святая святых перед нами закрыта. В искусстве выполнения, в творчестве Шекспир является единственным, недосягаемым образцом»[56].
Ничего из того, что мы можем сказать о Шекспире сегодня, не будет и вполовину так важно, как то, что осознал Эмерсон. Без Шекспира нет канона, потому что без Шекспира нет нас как опознаваемых личностей — кем бы мы ни были. Мы обязаны Шекспиру не только тем, как изображаем познание, но и большой долей нашей способности к познанию. Между Шекспиром и его ближайшими соперниками существует различие и в степени, и по существу, и двойным этим различием определяются сущность и необходимость Канона. Без Канона мы прекратим думать. Можно бесконечно идеалистически фантазировать о замене эстетических стандартов энтоцентрическими и гендерными соображениями и ставить себе самые достойные социальные цели. Однако лишь сила может присоединиться к силе, как неизменно свидетельствовал Ницше.
Часть II АРИСТОКРАТИЧЕСКАЯ ЭПОХА
2. Шекспир, центр Канона
Законы елизаветинской Англии роднили актеров с нищими и прочими отбросами общества, что, несомненно, угнетало Шекспира, который положил немало сил на то, чтобы вернуться в Стратфорд дворянином. Кроме этого желания, нам практически нечего больше отметить в социальной физиономии Шекспира — не считая того, что можно наскрести по его пьесам, в которых все сведения неоднозначны. Будучи актером и драматургом, Шекспир не мог не зависеть от аристократов, которые его обеспечивали и защищали, а его политические взгляды — если таковые у него вообще были — приличествовали моменту расцвета долгой Аристократической эпохи (в смысле Вико), которая у меня начинается с Данте, захватывает Возрождение с Просвещением и заканчивается на Гёте. Политические взгляды молодого Вордсворта и Уильяма Блейка принадлежат Французской революции и возвещают следующую эпоху, Демократическую, которая достигает вершины в Уитмене с американским каноном и находит окончательное выражение в Толстом и Ибсене. У истоков творчества Шекспира мы обнаруживаем фундаментальный принцип — аристократическое представление о культуре. Но Шекспир не исчерпывается этим представлением, как не исчерпывается вообще ничем.
Шекспир и Данте находятся в центре Канона потому, что превосходят всех прочих западных писателей остротой ума, стилистической мощью и изобретательностью. Возможно, эти три свойства сливаются в онтологическую страсть, способность к радости, то, о чем говорит в одной из своих «Пословиц Ада» Блейк: «В Излишестве — Красота»[57]. Социальные энергии существуют в каждом веке, но они не могут сочинять пьес, стихотворений и прозы. Созидательная сила — это индивидуальный дар, она существует во все времена, но ей явным образом благоприятствуют определенные контексты, локальные подъемы, которые мы изучаем порознь: внутреннее единство великой эпохи, как правило, иллюзорно. Случайность ли Шекспир? Является ли литературное воображение и способы его воплощения такими же причудливыми явлениями, как возникновение Моцарта? Шекспир — не из тех поэтов, которым не требуется развиваться, которые кажутся сложившимися изначально: они редки и малочисленны — это, например, Марло, Блейк, Рембо, Крейн. Они, кажется, даже не раскрываются: первая часть «Тамерлана Великого», «Поэтические наброски», «Озарения», «Белые здания» — уже на высоте. Но в Шекспире — авторе ранних хроник, фарсов и «Тита Андроника» мало что предвещает автора «Гамлета», «Отелло», «Короля Лира» и «Макбета». Читая параллельно «Ромео и Джульетту» и «Антония и Клеопатру», я подчас с большим трудом могу убедить себя, что лирик, написавший первую пьесу, создал и космологические красоты второй.
Когда Шекспир сделался Шекспиром? Какие пьесы каноничны с самого начала? К 1592 году, когда Шекспиру исполнилось двадцать восемь лет, он написал три части «Генриха VI» и его продолжение, «Ричард III», а также «Комедию ошибок». «Тит Андроник», «Укрощение строптивой» и «Два веронца» написаны не более чем годом позже. Его первое абсолютное достижение — потрясающая пьеса «Бесплодные усилия любви», написанная, вероятно, в 1594 году. Марло, полугодом старше Шекспира, был убит в таверне 30 мая 1593 года в возрасте двадцати девяти лет. Умри Шекспир в этом возрасте, сравнение с Марло было бы отнюдь не в его пользу. «Мальтийский еврей», две части «Тамерлана» и «Эдуард II», даже фрагментарная «Трагическая история доктора Фауста» — достижения куда существеннее тех, что были на счету Шекспира до «Бесплодных усилий любви». В течение пяти лет после смерти Марло Шекспир обошел своего предшественника и соперника благодаря великолепной череде пьес — «Сну в летнюю ночь», «Венецианскому купцу» и двум частям «Короля Генриха IV». Основа, Шейлок и Фальстаф — вкупе с Фоконбриджем из «Короля Иоанна» и Меркуцио из «Ромео и Джульетты» — это новый вид сценического характера, бесконечно далеко отстоящий от пределов таланта и интересов Марло. Что бы ни говорили формалисты, эти пятеро выходят из своих пьес в область того, что Энтони Наттол[58]верно называет «новым мимесисом».
За тринадцать-четырнадцать лет после создания Фальстафа возникает достойная его компания: Розалинда, Гамлет, Отелло, Яго, Лир, Эдмунд, Макбет, Клеопатра, Антоний, Кориолан, Тимон, Имогена и многие другие. В 1598 году Шекспир помазан на служение, и Фальстаф — ангел, засвидетельствовавший помазание. Ни один писатель не располагает такими богатствами языка, как Шекспир: в «Бесплодных усилиях любви» они столь изобильны, что возникает такое ощущение, будто не один предел языка достигнут там в первый и последний раз. Впрочем, самобытность Шекспира выражается в первую очередь в том, как он изображает характер: Основа — победа без радости; Шейлок — неизменно двусмысленная проблема, стоящая перед каждым из нас; но сэр Джон Фальстаф столь самобытен и столь подавляющ, что меняет самое представление о том, что такое человек, сделанный из слов[59].
В случае с Фальстафом Шекспир по-настоящему обязан в литературном отношении лишь единожды — и отнюдь не Марло, не Пороку из средневековых моралите и не хвастливому воину из античных комедий, но своему подлинному — иными словами, наиболее «глубинному» — предшественнику: Чосеру, автору «Кентерберийских рассказов». Есть непрочная, но живая связь между Фальстафом и столь же возмутительной Алисон, Батской ткачихой, куда более достойной того, чтобы миловаться с сэром Джоном Фальстафом, чем Доль Тершит или Мистрис Куикли. Батская ткачиха укатала пятерых мужей, но кто может укатать Фальстафа? В связи с Фальстафом исследователи отмечали любопытные полуаллюзии к Чосеру: в начале пьесы сэра Джона тоже видят на дороге в Кентербери[60], и они с Алисон иронически обыгрывают стих из Первого послания коринфянам, в котором апостол Павел вменяет верующим в Христа не отступаться от своего призвания[61]. Батская ткачиха заявляет о своем призвании к супружеству: «Какою было господу угодно / Меня создать, такой и остаюсь; / Прослыть же совершенной я не тщусь»[62].
Фальстаф вторит ей, отстаивая свое право на разбой: «Ну что же, таково мое призвание. Каждый трудится на своем поприще»[63]. Оба великих ирониста-жизнелюбца проповедуют всепобеждающую имманентность, оправдание жизни жизнью — здесь и сейчас. Отчаянные индивидуалисты и гедонисты, они сходятся в отрицании общепринятой морали и предвосхищают Блейкову великолепную Пословицу Ада: «Томление — общий закон для Льва и Вола»[64]. Львы страсти и, очевидно, солипсистской силы, они никому не делают зла, кроме честных людей, как Фальстаф говорит об участниках мятежа против Генриха IV[65]. Сэр Джон и Алисон являют нам примеры дикого ума, усмиряемого шальным остроумием. Фальстаф, который не только каламбурит все время сам, но дает еще пищу чужим шуткам[66], не отстает от Ткачихи, которая борется с мужским главенством и словом, и телом. Тэлбот Дональдсон, автор книги «Лебедь у колодца: Шекспир читает Чосера», подметил самую поразительную параллель между этими неугомонными говорунами, свойство, которое они делят с Дон Кихотом, — детскую погруженность в состояние игры[67]: «Ткачиха говорит, что только играет, и эти слова, возможно, по большей части справедливы и в отношении Фальстафа. Но, как и в случае с ткачихой, мы зачастую не знаем наверняка, когда он начинает свою игру и когда он ее прекращает». Да, мы не знаем наверняка — но Алисон и сэр Джон знают. Фальстаф мог бы повторить за нею: «Был и мой черед»[68], но он настолько художественно совершеннее, чем (даже) она, что Шекспиру не пришлось впадать в избыточность. Цветущий секрет изобразительности Чосера, сделавшей Батскую ткачиху предшественницей Фальстафа, а Продавца индульгенций — главным предтечей Яго и Эдмунда, — в том, что он относит состояние игры и к персонажу, и к языку. Мы видим, как Алисон и Продавец индульгенций слышат себя со стороны и, под влиянием услышанного, постепенно выпадают из состояния игры и притворства. Шекспир ловко воспользовался этой подсказкой и, начиная с Фальстафа, широко применял эффект «подслушивания самого себя» к своим сильнейшим персонажам, что в первую очередь сказывалось на их способности изменяться.
Тут я усматриваю объяснение того центрального положения, которое Шекспир занимает в Каноне. Данте, как ни один другой писатель до или после него, подчеркивает нашу окончательную неизменность, то обстоятельство, что каждому из нас отведено свое место в вечности, с которого нам не сойти, — Шекспир же, как никто другой, показывает психологию изменчивости. Это — лишь часть Шекспирова великолепия; он не только одолевает любого соперника, но и дает начало изображению самоизменения на основе самоподслушивания, и подтолкнула его к этому замечательнейшему из всех литературных нововведений одна только Чосерова подсказка. Можно предположить, что Шекспир, несомненно, хорошо знавший Чосера, вспомнил о Батской ткачихе в тот необыкновенный момент, когда задумал Фальстафа. Гамлет, главный самоподслушиватель в литературе, обращается к себе немногим чаще, чем Фальстаф. Сегодня каждый из нас бесконечно разговаривает сам с собою, слышит свои слова со стороны и принимает их к размышлению и руководству. Это не столько диалог рассудка с самим собою, не столько даже отражение гражданской войны в душе, сколько реакция жизни на то, чем не могла не стать литература. Начав с Фальстафа, Шекспир дополнил функцию драматургии и прозы, обучавших тому, как говорить с другими, уроком поэзии, оказавшимся для нас главным, хотя и невеселым: как говорить с самими собою.
На своем счастливом сценическом пути Фальстаф навлек на себя шквал морализаторства. Иные из лучших исследователей и мыслителей особенно старались: среди их определений Фальстафа — «паразит», «трус», «хвастун», «развратитель», «соблазнитель», а также всего лишь соответствующие действительности «чревоугодник», «пьяница» и «потаскун». Я особенно люблю суждение, которое принадлежит Джорджу Бернарду Шоу: «Пьяный, отвратительный старый негодяй». Я великодушно списываю этот отзыв на то, что втайне Шоу осознавал: он не может сравниться с Фальстафом в остроумии и, следовательно, все-таки не может ставить свой ум выше ума Шекспира так легко и уверенно, как часто делал это на словах. Шоу, как и никто из нас, не мог подступиться к Шекспиру без противоречивого чувства — одновременного ощущения странности и знакомости.
Придя к Шекспиру после изучения поэтов эпох романтизма и модернизма и после размышлений о проблемах влияния и самобытности, я был потрясен тем, как Шекспир отличается от всех остальных, отличается и в степени, и по существу, и такое отличие характеризует его одного. Отличие это мало касается собственно драматургии. Плохая постановка Шекспира, с кошмарной режиссурой и актерами, не умеющими читать стихов, тоже отличается в степени и по существу как от хороших, так и от плохих постановок Ибсена и Мольера. В ней потрясает сила словесного искусства, превосходящая и затмевающая все в своем роде, — она настолько убедительна, что перед нами как бы и не искусство, а нечто, существующее испокон веков.
Дело, конечно же, в письме: Шекспир — это Канон. Он установил стандарт и пределы литературы. Но где его собственные пределы? Можем ли мы заметить за ним слепоту, вытеснение, слабину воображения или мысли? Границ поэтических возможностей Данте, ближайшего, наверное, соперника Шекспира, мы не найдем, но очертить его человеческий контур, безусловно, можем. У поэта Данте не вызывают приступов великодушия другие поэты — ни современники, ни те, кто жил до него. «Божественная комедия» наводнена поэтами, и все они расставлены по местам, которые Данте им назначает. Странным образом, Гвидо Кавальканти — во цвете лет они были лучшими друзьями, но Данте изгнал его из Флоренции, горько предвосхитив тем самым собственное изгнание, — присутствует там лишь заочно. В Десятой песни «Ада» живо описаны его отец и тесть, внушительный Фарината; отец тужит о том, что не его Гвидо, а Данте удостоился стать Пилигримом вечности. В Одиннадцатой песни «Чистилища» Данте намекает, что достигнул в слове еще высшей чести, чем Гвидо[69]. Шекспирова Гвидо Кавальканти можно приблизительно представить себе как сочетание Кристофера Марло и Бена Джонсона. Вряд ли Шекспир мог прямо изобразить их в своей земной комедии, но, поскольку я не шекспировед, мне ничто не воспрещает предположить, что в Мальволио из «Двенадцатой ночи» сатирически выведены некоторые моральные установки Джонсона, а в основе образа нигилиста Эдмунда из «Короля Лира» есть черты не только героев Марло, но и самого Марло. И тот и другой по-своему привлекательны; Мальволио в «Двенадцатой ночи» — комическая жертва, но возникает такое ощущение, что он забрел не в ту пьесу. В другой он бы процвел и не утратил достоинства и самоуважения. Эдмунд — на своем месте: «переягивает» Яго в бездне сокрушенного космоса Лира. Чтобы полюбить его, нужно быть Гонерильей или Реганой, но каждый из нас может увидеть в нем опасное обаяние, свободу от лицемерия и пример ответственности за все, чем становишься.
У Эдмунда есть целеустремленность, громадный ум и ледяной юмор, благодаря которому он сохраняет веселость до гроба[70]. Еще он чужд всякого теплого чувства и, вероятно, является первой в литературе фигурой, проявляющей свойства нигилистов Достоевского — Свидригайлова из «Преступления и наказания» и Ставрогина из «Бесов». Оставляя далеко позади Варавву из «Мальтийского еврея», Эдмунд поднимает макиавеллизм Марло на новый уровень возвышенности и представляет собою разом ироническую дань Марло и триумф над этим великим нарушителем границ.
Как и Мальволио, Эдмунд — дань двусмысленная, но в конечном счете он свидетельствует о Шекспировом великодушии, пусть и ироническом.
Мы не знаем почти никаких фактов «внутренней жизни» Шекспира, но, если бесконечно перечитывать его на протяжении многих лет, начинаешь понимать, чем он не был. Кальдерон — это религиозный драматург, а Джордж Герберт — духовный поэт; Шекспир — ни то, ни другое. Нигилист Марло от противного обнаруживает религиозное мироощущение, и «Трагическую историю доктора Фауста» можно прочесть «наоборот». Мрачнейшие трагедии Шекспира, «Король Лир» и «Макбет», не поддаются христианизации — как и великие двусмысленные пьесы «Гамлет» и «Мера за меру». Нортроп Фрай считал, что «Венецианского купца» следует понимать как серьезную иллюстрацию к христианскому спору — новозаветное милосердие против предполагаемого ветхозаветного упорства в верности долгу и мести. Шейлок, Еврей из «Венецианского купца», был задуман как комический злодей, так как Шекспир, похоже, разделял антисемитизм, присущий своему времени; но я не вижу в этой пьесе ничего от богословской аллегории, о которой говорит Фрай. Ведь это Антонио, чья подлинная христианская сущность выказывается в оплевывании и поношении Шейлока, ставит условием сохранения ему жизни немедленное принятие христианства — насильственное обращение, на которое Шейлок неубедительно соглашается. Условие, поставленное Антонио, — это находка Шекспира, а не составляющая традиции «фунта мяса». Как бы ни трактовать этот эпизод, даже я затруднюсь назвать его христианским спором. В самых неочевидных в моральном плане ситуациях Шекспир одновременно обманывает наши ожидания и остается верен своей всечеловечности — и в этом, безусловно, есть некоторая опасность.
Одна моя подруга — преподавательница Еврейского университета в Иерусалиме, родом из Болгарии — рассказывала мне о спектакле по «Буре» в переводе Петрова, который она недавно видела в Софии. Пьесу сыграли как фарс, на ее взгляд — удачно, но публика осталась недовольна, потому что, по ее словам, у болгар Шекспир ассоциируется с классикой, с каноном. Мои студенты и друзья описывали мне Шекспира, которого видели в переводах на японский, русский, испанский, индонезийский и итальянский, и общее мнение гласило: зрители неизменно обнаруживали, что Шекспир изобразил на сцене именно их, Данте был поэт для поэтов, Шекспир — поэт для людей; и тот и другой — всечеловечны, но Данте — не для партера. Я не знаю такой культурной критики, такой материалистической диалектики, которая бы объяснила внеклассовую всечеловечность Шекспира или элитистскую всечеловечность Данте. Тут не случайность и не предопределенный евроцентризм. Такие феномены, как исключительные литературные достоинства, сила мысли, умение создать характер и владение метафорой, которым перевод и перенесение на другую почву не помеха и которые приковывают к себе внимание практически в любой культуре, положительно существуют.
Данте так же стремился исполнить свое поэтическое предназначение, как и Мильтон; оба хотели оставить по себе пророческое творение, которому будущие поколения по своей воле не дадут умереть. Шекспир озадачивает нас своим кажущимся безразличием к судьбе «Короля Лира»; существуют два довольно сильно различающихся текста этой пьесы, и соединение их в ту общность, которую мы, как правило, читаем и смотрим, не слишком удачно. Шекспир проверял на предмет ошибок и особо выделял всего лишь две свои вещи — «Венеру и Адониса» и «Обесчещенную Лукрецию»; ни та, ни другая не достойна создателя Сонетов, не говоря уж о «Короле Лире», «Гамлете», «Отелло», «Макбете». Можно ли вообразить писателя, для которого окончательный вид «Короля Лира» был бы предметом нестоящим, пустячным? Шекспир подобен арабской луне из стихотворения Уоллеса Стивенса, которая «разбрасывает свои звезды по полу»[71]: он словно одарен с такой изобильной щедростью, что может позволить себе беспечность. Шекспирова чрезмерность, его задор составляют часть того, что пробивает всякие языковые и культурные барьеры. Шекспира невозможно заточить в английское Возрождение — точно так же как невозможно удержать Фальстафа в пределах «Короля Генриха IV», а принца датского — внутри действия пьесы о нем.
Для мировой литературы Шекспир — то же, что для воображаемого царства литературных персонажей Гамлет: дух, который веет, где хочет, который нельзя сковать. Свобода от доктрин и упрощенных моральных представлений, безусловно, служит свободному перемещению этого духа подспорьем — хотя его свобода нервировала доктора Джонсона и возмущала Толстого. Шекспир вмещает в себя все, подобно самой природе, и, все вместив, ощущает безразличие природы. Ничто по-настоящему важное из вмещенного им не детерминировано культурой и не привязано к гендерной проблематике. Если бесконечно читать и перечитывать Шекспира, то свойств его характера и примет его личности, может быть, и не узнаешь, зато мнение о его темпераменте, чувствах, о том, как работает его ум, безусловно, составишь.
Догмы Школы ресентимента вынуждают ее расценивать эстетическое превосходство, особенно в случае Шекспира, как порождение затяжного культурного заговора, составленного с целью защиты политических и экономических интересов буржуазной Великобритании — с XVIII века и по сей день. В современном американском изводе этой полемики Шекспир предстает евроцентристским центром силы, призванным противостоять культурным устремлениям всевозможных меньшинств, в том числе ученых-феминистов, которых и меньшинством-то уже не назовешь. Понятно, почему апостолов ресентимента так расположил к себе Фуко: он метафорически заменяет канон библиотекой, отменяющей любую иерархию. Но если бы не было канона, то вместо Шекспира можно было бы читать, скажем, Джона Уэбстера, всегда находившегося в его тени; сам Уэбстер очень бы удивился такой замене.
Шекспиру замены нет — даже среди тех немногочисленных драматургов, прежних и современных, которых можно поставить в один с ним ряд или противопоставить ему. Что сравнится с четырьмя великими трагедиями Шекспира? Джойс, например, признавался в том, что даже у Данте не находит Шекспирова богатства — это значит, что Шекспировы характеры бесконечно разнообразны, а также наводит на мысль о том, что его тридцать восемь пьес и прилегающие к ним Сонеты образуют прерывистую «Земную комедию», куда более содержательную, чем «Комедия» Данте, и, что приятно, лишенную Дантовых богословских аллегорий. Шекспир куда разнообразнее Данте или Чосера. Создатель Гамлета и Фальстафа, Розалинды и Клеопатры, Яго и Лира отличается от всех прочих в степени и по существу. Если прояснить это различие, то будет проще понять, почему Шекспир оказался центром Западного канона и останется его центром, как бы дурно ни сказывались на Каноне политические соображения.
Первое стихотворение Мильтона, написанное, когда ему было чуть за двадцать, было анонимно опубликовано в составе введения ко Второму фолио Шекспира (1632). Шекспир уже шестнадцать лет как умер, и, хотя его никто не затмил, ему еще предстояло пройти канонизацию, творившуюся на протяжении XVIII века Драйденом, Поупом и доктором Джонсоном, а затем представителями раннего романтизма— течения, которое Шекспира обожествило. Юный Мильтон несколько собственническим тоном говорит о своем предшественнике «мой Шекспир», определяет его как Музу мужского пола, «возлюбленного сына Памяти»[72], и тонко намекает на то, что Шекспир, «наследник славы»[73], в известном смысле станет частью наследия самого Мильтона. Мильтон говорит:
Hath from the heavens of thy unvalued book, These Delphic lines with deep impression took, Then thou our fancy of itself bereaving, Dost make us marble with too much conceiving. Твой стих нам так пленил воображенье, Чудесно так дельфийских строк движенье, Что пред тобой в восторге цепенеем — Вот памятник, что временем лелеем И никогда не рухнет[74]…Эти строки двусмысленны, амбивалентны. Мильтон и прочие прозорливые читатели делаются памятником Шекспиру. На этот памятник они отдали свое воображенье, плененное Шекспировым стихом. Но, по хитроумной мысли Мильтона, Шекспир сделал то же самое. Мильтон предвосхищает Борхеса в изображении такого Шекспира, который стал каждым и, таким образом, сам по себе — никто, безлик, как природа[75]. Когда твои читатели и зрители, персонажи и актеры становятся твоим творчеством, твоей книгой, ты живешь в них одних. Художник самой природы, Шекспир становится безымянным дарованием Мильтона, его способностью — настолько собственноличной, что ссылаться на него нужды нет. Шекспир — вот сила Мильтона, и он, в свою очередь, великодушно завещает ее Шекспиру, который был до него, но также некоторым образом явится после него. Уже в своем печатном дебюте Мильтон возвещает о своем каноническом уделе — тоже сделаться памятником без могилы, живущим в читателе. Шекспир, впрочем, сподобился великого множества слушателей, как достойных, так и недостойных, — Мильтон же с тревогой намекает на то, что его слушатели будут достойными, но их будет немного, во всяком случае, по сравнению со слушателями Шекспира[76]. Это «внутриканоническое» послание к Шекспиру — еще и попытка самоканонизации.
В каком-то смысле «каноническое» всегда означает «внутриканоническое», потому что Канон не только возникает из состязания, но и сам по себе является непрерывным состязанием. Литературная власть дается частичными победами в этом состязании, и, даже если речь идет о таком мощном поэте, как Мильтон, очевидно, что его сила имеет соревновательный характер и, следовательно, нельзя сказать, что она — целиком и полностью его, Мильтона. Крайние случаи более полной самостоятельности — это, на мой взгляд, Данте и еще в большей мере — Шекспир. Данте — это в некотором роде более сильный вариант Мильтона, и его победа над всеми соперниками — и теми, кто был до него, и современниками, — еще более убедительна, чем триумф Мильтона, хотя бы потому, что в Мильтоне все-таки очень чувствуется Шекспир. Данте влияет на то, как мы читаем Вергилия, а Шекспир может коренным образом изменить наш подход к Мильтону. Но Вергилий не сильно влияет на наше понимание Данте, поскольку настоящего Вергилия-эпикурейца Данте упразднил. Мильтон не поможет нам разобраться в Шекспире, поскольку обезличение Мильтоном Шекспира лишь повторяет и искажает тактику самого Шекспира — растворяться в своих сочинениях.
Эта Шекспирова метода, более действенная, чем всякое открытое самоканонизирование, возвращает нас к тому нейтральному положению, которое занимает Шекспир в качестве центра канона. В биографической литературе устоялась традиция изображения Уильяма Шекспира вовсе без отличительных качеств, как бы по контрасту с такими яркими личностями, как Данте, Мильтон или Толстой. Его друзья и знакомые оставили свидетельства о добродушном, довольно заурядном на вид человеке: открытом, дружелюбном, остроумном, благовоспитанном, свободном в обращении — с таким хорошо выпить по рюмке. Все сходятся на том, что он был приветлив и скромен, при этом в деловых вопросах — не промах. Это совершенно в духе Борхеса: такое впечатление, что создатель десятков первостепенных характеров и сотен не менее колоритных персонажей помельче решил не расходовать энергии воображения на то, чтобы придумать образ себе самому. В самом центре Канона находится наименее сосредоточенный на себе и наименее агрессивный из всех известных нам первостепенных писателей.
Внешняя бесцветность Шекспира обратно пропорциональна его сверхъестественным драматургическим способностям, и для понимания этого соотношения наших аналитических способностей не хватает. Два его квазисоперника из числа современников были люди невероятно яркие: неистовый дюжий Бен Джонсон и Кристофер Марло, двойной агент и фаустовского типа нарушитель границ. Они были великие поэты и сегодня не менее, наверное, славны своей жизнью, чем своими стихами. Шекспира кое-что роднит с тихим Сервантесом, но Сервантес против своей воли вел жизнь, состоявшую из экстравагантных поступков и катастрофических несчастий. Есть у Шекспира общие черты с Монтенем, но творческое уединение Монтеня перемежалось высокой политикой и гражданской войной. Мольер — быть может, близнец Шекспира в плане темперамента и комического гения, но Шекспир был небольшой актер, а Мольер — большой, и Мольер, несмотря на «Дон Жуана», избегал трагедии, как Расин за версту обходил комедию. Таким образом, Шекспир, при всей своей явной открытости, странным образом обособлен среди величайших писателей. Он постиг больше любого другого писателя, мыслил глубже и самобытнее всех остальных и владел языком гораздо непринужденнее и лучше, чем кто бы то ни было, в том числе Данте.
Разгадка тайны центрального положения Шекспира в Каноне отчасти кроется в его беспристрастности; как бы его ни бичевали «новые истористы» и прочие люди ресентимента, Шекспир почти так же свободен от всякой идеологии, как его героические умы: Гамлет, Розалинда, Фальстаф. У него нет ни богословской, ни метафизической, ни этической программы, да и политической теории куда меньше, чем полагают современные исследователи его творчества. По сонетам Шекспира видно, что он едва ли был свободен от «Сверх-Я», в отличие от Фальстафа; едва ли был отрешен от земного, в отличие от Гамлета в преддверии конца; едва ли полностью управлял всеми аспектами своей жизни, в отличие от Розалинды. Но, поскольку он вообразил их всех, можно предположить, что он просто не пожелал помыслить себя вне своих границ. Что приятно, он, не будучи Ницше или королем Лиром, отказался сойти с ума, хотя мог вообразить безумие, равно как и все остальное. Его мудрость бесконечно преображается в наших мудрецах, от Гёте до Фрейда, — притом что сам Шекспир отказался выставить себя мудрецом.
У Ницше есть достопамятное высказывание: «Для чего у нас есть слова, с тем мы уже и покончили. Во всяком говорении есть гран презрения»[77]. Противоречивый афорист наверняка сознавал, что перефразирует разом Гамлета и Актера-короля — так же как Эмерсон наверняка понимал, что вторит Лиру, когда формулировал свой закон Компенсации: «Ничто не приносит ничего». Кьеркегор тоже обнаружил, что не быть постшекспирианцем невозможно: его преследовал неподражаемый предшественник, датский меланхолик, чьи отношения с Офелией предзнаменовали отношения Кьеркегора с Региной. «Среди наших оригинальных умов он производит большой переполох»[78] — сказал Эмерсон о Платоне, но Эмерсон бы признал, что грянуть «Пощады нет!»[79] в разговоре об оригинальности его научил Шекспир.
Из всех уязвленных Шекспиром самый знаменитый — граф Лев Николаевич Толстой, один из непризнанных предков Школы ресентимента. Вот что он пишет в статье «О Шекспире и о драме» (1904), резком послесловии к печально знаменитому трактату «Что такое искусство?» (1898):
Содержание пьес Шекспира, как это видно по разъяснению его наибольших хвалителей, есть самое низменное, пошлое миросозерцание, считающее внешнюю высоту сильных мира действительным преимуществом людей, презирающее толпу, то есть рабочий класс, отрицающее всякие, не только религиозные, но и гуманитарные стремления, направленные к изменению существующего строя. <…>…основная же, внутренняя причина славы Шекспира была и есть та, что драмы его пришлись pro capite lectoris, то есть соответствовали тому арелигиозному и безнравственному настроению людей высшего сословия нашего мира. <…>…люди, освободившись от этого гипноза, поймут, что ничтожные и безнравственные произведения Шекспира и его подражателей, имеющие целью только развлечение и забаву зрителей, никак не могут быть учителями жизни и что учение о жизни, покуда нет настоящей религиозной драмы, надо искать в других источниках[80].
Большая часть статьи Толстого посвящена высмеиванию «Короля Лира» — в этом есть грустная ирония, потому что на последней остановке своего крестного пути Толстой сам невольно превратился в короля Лира. Искушенный человек ресентимента не выставит Брехта автором истинно марксистских драм, а Клоделя — автором драм истинно христианских, чтобы обосновать их предпочтение Шекспиру. Тем не менее подлинное нравственное негодование Толстого придает его ропоту пронзительности, а его художественное великолепие — весу.
Эта статья Толстого — как и «Что такое искусство?» — чистой воды провал; впору всерьез задуматься — как такой великий писатель мог так заблуждаться? Толстой неодобрительно цитирует шекспиропоклонников, составляющих блестящее общество: Гёте, Шелли, Виктор Гюго, Тургенев. Он мог бы прибавить сюда Гегеля, Стендаля, Пушкина, Мандзони, Гейне и десятки других — в общем, практически любого первостепенного писателя, способного к чтению, за немногими непригожими исключениями вроде Вольтера. Наименее интересный аспект бунта Толстого против эстетики — творческая зависть. Толстой с особой яростью отрицает высокое соседство Шекспира с Гомером — это соседство Толстой отводил «Войне и миру». Куда интереснее — духовное омерзение Толстого к безнравственной и арелигиозной трагедии «Король Лир». Это омерзение мне ближе, чем любая попытка христианизировать эту намеренно дохристианскую пьесу; Толстой вполне правильно понял, что, как драматург, Шекспир — ни христианин, ни моралист.
Я помню, как стоял перед только что привезенной в Вашингтон картиной Тициана, на которой Аполлон сдирает кожу с Марсия. Охваченный страхом, ошеломленный, я мог лишь кивнуть в знак согласия своему спутнику, американскому художнику Ларри Дэю, который заметил, что эта картина по силе и воздействию похожа на последнее действие «Короля Лира». Толстой мог видеть это полотно Тициана в Петербурге; я не помню, чтобы он специально о нем высказывался, но допускаю, что ему тоже мог представиться ужасный образ конца мира[81] в исполнении Тициана. В трактате «Что такое искусство?» достается не только Шекспиру, но и Данте, Бетховену и Рафаэлю. Если ты — Толстой, то ты, может быть, и можешь обойтись без Шекспира; и все-таки мы отчасти обязаны Толстому тем, что точно знаем, в чем сила и оскорбительность Шекспира: в его свободе от моральных и религиозных установок. Толстой явно опирался не на общепринятый смысл этих понятий, так как греческие трагики, Мильтон и Бах тоже не выдержали толстовской проверки на общедоступность, которую прошли некоторые вещи Виктора Гюго и Диккенса, прошла Гарриет Бичер-Стоу, прошло кое-что малозначительное из Достоевского и «Адам Бид» Джордж Элиот[82]. Это — образцы христианского, нравственного искусства; «хорошее всемирное искусство», впрочем, тоже приемлемо; на то есть причудливая группа второго рода, включающая Сервантеса и Мольера[83]. Толстой требует «истины», и, с точки зрения Толстого, Шекспир плох тем, что истина его не заботила[84].
Это, понятно, тоже к вопросу об уместности претензий Толстого. Содержится ли в центре Западного канона превозношение лжи? Джордж Бернард Шоу восхищался трактатом «Что такое искусство?» и, надо думать, предпочитал Шекспиру Беньянов «Путь паломника» из более или менее тех же соображений, из которых Толстой ставил «Хижину дяди Тома» выше «Короля Лира». Но, к сожалению, этот образ мысли нам уже слишком знаком; одна моя младшая коллега говорила мне, что больше ценит «Меридиан» Элис Уокер, чем «Радугу тяготения» Томаса Пинчона потому, что Пинчон лгал, а Уокер воплощала правду. Религиозную правоту заменила политическая корректность, и мы вернулись к возражениям Толстого против трудного искусства. Но Толстой не пожелал увидеть, что Шекспир — чуть ли не единственный, кто одновременно представляет и трудное, и доступное искусство. Я подозреваю, что именно в этом — оскорбительность Шекспира и основное объяснение тому, отчего и как Шекспир оказался центром Канона. По сей день Шекспир может «мультикультурно» захватить почти любую публику — вне зависимости от того, к какому классу она принадлежит. Путь в центр канона ему проторил способ изображения, внятный, насколько я могу судить, всем и каждому — кроме, быть может, нескольких французских отрицателей.
Правдив ли этот способ изображения мужчин и женщин? Искреннее ли «Хижина дядя Тома», чем «Божественная комедия» — что бы такая постановка вопроса ни предполагала? Возможно, «Меридиан» Уокер искреннее, чем «Радуга тяготения». Несомненно, поздний Толстой искреннее, чем Шекспир или кто бы то ни было другой. Искренность не ведет легким путем к правде, а художественная литература располагается где-то между правдой и смыслом; это «где-то» я однажды сравнил с тем, что древние гностики называли кеномой — космологической пустотой, в которой мы блуждаем и рыдаем, как писал Уильям Блейк[85].
Шекспир изображает кеному убедительнее, чем кто-либо, особенно когда создает фон для событий «Короля Лира» и «Макбета». Тут Шекспир вновь в центре Канона, поскольку нам придется как следует потрудиться, чтобы вспомнить хотя бы одно изображение, которое было бы правдоподобнее всего не у Шекспира, а у кого-нибудь еще, будь то Гомер, Данте или Толстой. Стилистика Шекспира не имеет себе равных; не существует более впечатляющего собрания метафор, чем у него. Если вам нужна правда, которая выше стилистики, то вам, возможно, стоит заняться политэкономией или системным анализом и отдать Шекспира на откуп эстетам и партеру, которые совместно и вознесли его до небес.
Я все хожу вокруг тайны Шекспирова гения, хорошо понимая, что для представителей Школы ресентимента сами слова «Шекспиров гений» означают, что я не в себе. Но вот в чем загвоздка с фукианской Смертью Автора[86]: она всего лишь видоизменяет риторику, а не создает новый метод. Если «Короля Лира» и «Гамлета» написали «социальные энергии», то по какой именно причине социальные энергии плодотворнее проявились в сыне стратфордского ремесленника, чем в дюжем каменщике Бене Джонсоне? Озлобленность «нового историста» или феминиста странно сродни той озлобленности, что продолжает порождать приверженцев идеи, согласно которой подлинный автор «Короля Лира» — это сэр Фрэнсис Бэкон или граф Оксфорд. Зигмунд Фрейд, учитель всех, кто знает[87], умер в убеждении, что Моисей был египтянином, а за Шекспира все написал Оксфорд. Родоначальник оксфордианцев с отменно идущей к нему фамилией Луни[88] обрел последователя в авторе «Толкования сновидений» и «Трех очерков по психологии сексуальности». Присоединись Фрейд к Обществу плоской земли, все равно было бы не так обидно; с другой стороны, под всякой бездной есть бездна поглубже — спасибо и на том, что Фрейд посвятил гипотезе Луни всего несколько строк.
Фрейду было как-то бесконечно отрадно верить, что его предшественник Шекспир был не какой-то заурядной личностью из Стратфорда, а таинственным и могущественным дворянином. Тут больше, чем снобизм. Для Фрейда, как и для Гёте, сочинения Шекспира были средоточием светской культуры, источником надежды на грядущее торжество разума в человечестве. Но для Фрейда дело не ограничивалось и этим. В глубине души Фрейд понимал, что Шекспир изобрел психоанализ, изобретя психику, — насколько Фрейд мог ее уразуметь и описать. Приятным это понимание быть не могло, так как опровергало заявление Фрейда: «Я изобрел психоанализ, поскольку о нем не было литературы». Отмщение пришло в виде предполагаемого выявления самозванства Шекспира — уязвленное самолюбие Фрейда утешилось, хотя, если судить рационально, пьесы Шекспира от этого не перестали упреждать написанное им. Шекспир переполошил оригинальный ум Фрейда; теперь Шекспир был изобличен и посрамлен. Спасибо, что к многообразной классике новоистористского, марксистского, феминистского шекспироведения и «Моисею и монотеизму» на наших полках Фрейд не присоседил «Оксфорд и шекспиризм». Уже французский Фрейд был довольно глупой затеей; теперь у нас есть еще и французский Джойс[89] — это совсем тяжко. Но нет более явного оксюморона, чем «французский Шекспир», а новый историзм следует называть именно так.
Настоящий стратфордианец за двадцать четыре года написал тридцать восемь пьес, вернулся домой и умер. В сорок девять лет он сочинил — в соавторстве с Джоном Флетчером — свою последнюю пьесу, «Два знатных родича». Он умер три года спустя, на пороге пятидесятидвухлетия. Создатель Лира и Гамлета прожил лишенную особо ярких событий жизнь и тихо скончался в своей постели. Великой биографии Шекспира не написано не оттого, что мы чего-то о нем не знаем, но оттого, что о нем, в сущности, нечего знать. Из писателей первого ряда, современных нам, один Уоллес Стивенс, похоже, жил такой же бедной на события и душевные порывы жизнью, как Шекспир. Мы знаем, что Стивенс ненавидел прогрессивный подоходный налог, а Шекспир не забывал обращаться в Канцлерский суд ради защиты своих вкладов в недвижимость. Мы более или менее знаем, что браки Шекспира и Стивенса были не слишком страстными — разве только поначалу. На этом мы приступаем к познанию пьес или замысловатых стивенсовских вариаций на тему созерцательных восторгов умопостижения.
Воображение с удовольствием вынуждает обратиться к творчеству, когда над творчеством не бушует ураганом личность автора. В случае с Кристофером Марло меня поглощают мысли об этом человеке — о нем можно размышлять бесконечно, а о его пьесах — нельзя; в случае с Рембо меня поглощают мысли и о нем, и о его стихотворениях, хотя сам юноша еще загадочней своих стихов. Стивенс как человек так ловко ушел от самого себя, что нам едва ли следует его искать; Шекспира мы вряд ли можем назвать человеком неуловимым — но мы вообще вряд ли можем назвать его каким бы то ни было человеком. В его пьесах никто не говорит от его лица: ни Гамлет, ни Просперо и уж никак не призрак отца Гамлета, которого он, сколько нам известно, играл. Даже самые добросовестные исследователи не могут провести четкой границы между конвенциональным и личным в его сонетах. Пытаясь понять его творчество или его личность, мы всегда будем возвращаться к неоспоримому высокому значению его величайших пьес, очевидному практически со времени их первых постановок.
Есть такой способ иметь дело с признанием верховенства Шекспира: отрицать его. Примечательно, сколь немногие — со времен Драйдена до наших дней — избирали этот путь. Новизна намеренной скандальности «нового историзма» на словах не связана с этим отрицанием, но на деле она состоит именно в нем — обычно подразумеваемом, но подчас открытом. Если социальные энергии (при условии что они суть нечто большее, чем метафора, применяемая для удобства историков, — в чем я сомневаюсь) английского Возрождения каким-то образом написали «Короля Лира», то уникальность Шекспира может быть поставлена под сомнение. Может статься, одно или два поколения спустя идея «социальных энергий», написавших «Короля Лира», будет казаться примерно такой же светлой, как предположение, согласно которому эту трагедию написал граф Оксфорд или сэр Фрэнсис Бэкон. Мотивация тут практически та же самая. Но свести Шекспира к его контексту — какому бы то ни было — не проще, чем свести Данте к Флоренции и Италии его времен. Никто — ни здесь, ни в Италии — не провозгласит, что Кавальканти в художественном отношении равен Данте, и столь же тщетной была бы попытка выставить подлинным соперником Шекспира даже Бена Джонсона или Кристофера Марло. Джонсон и Марло — каждый очень по-своему — были великие поэты и подчас замечательные драматурги, но читатель или актер, встретившийся с «Королем Лиром», соприкасается с искусством иного порядка.
В чем же то отличие Шекспира от всех остальных, благодаря которому лишь немногие, кроме Данте, Сервантеса и Толстого, могут считаться — в художественном отношении — его товарищами? Задать этот вопрос — значит задаться главной целью литературоведения: поиском ценности, преодолевающей предрассудки и потребности того или иного общества в определенный момент времени. Согласно всем нашим нынешним идеологиям, эта цель иллюзорна; но назначение этой книги отчасти состоит в том, чтобы дать бой культурной политике — и левой, и правой, — которая уничтожает литературоведение и, следовательно, может уничтожить саму литературу. В творчестве Шекспира есть некая стойкая сущность, доказавшая свою «мультикультурность» — передаваясь любым языком, она была усвоена повсеместно и установила во всем мире практический мультикультурализм, уже далеко превосходящий наши неуклюжие политизированные попытки приблизиться к этому идеалу. Шекспир — это центр зачаточного мирового канона: ни Западного, ни Восточного, утрачивающего евроцентричность; и мне вновь приходится задаваться великим вопросом: в чем же состоят неповторимые достоинства Шекспира, что отличает его в степени и по существу от всех прочих писателей?
Шекспирово владение словом ошеломительно, но не уникально, оно поддается имитации. «Заразительность» его высокого стиля подтверждается тем, что очень часто написанные по-английски стихи звучат «по-шекспировски». Своеобразное великолепие Шекспира заключается в его способности изображения человеческого характера и человеческой личности в их изменчивости. Первым каноническое похвальное слово этому великолепию — одновременно вносящее ясность и вводящее в заблуждение — произнес Сэмюэл Джонсон в предисловии к собранию сочинений Шекспира 1765 года: «Шекспир, в отличие от всех писателей, по меньшей мере от современных писателей, является поэтом натуры; поэтом, который предлагает читателю достоверное зеркало нравов и жизни»[90].
Джонсон, отдавая дань Шекспиру, перефразировал наставление Гамлета актерам[91]. Словам последнего можно противопоставить слова Оскара Уайльда: «Нелепый афоризм о том, что искусство держит перед природой зеркало, Гамлет произносит нарочно, дабы убедить, что он совершенно безумен во всем, что касается искусства».
Вообще-то Гамлет говорил, что зеркало перед природой должны держать актеры, но Джонсон и Уайльд уравняли актеров с поэтом-драматургом. По Уайльду, «природа» — это заслон, напрасно пытающийся помешать искусству, а Джонсон видел в «натуре» принцип реальности, растапливающий специфическое в общем, «в потомстве всего рода человеческого». Шекспир, будучи мудрее этих поистине мудрых критиков, показывал «природу» в несовместных ракурсах — Лира и Эдмунда в одной из самых возвышенных своих трагедий, Гамлета и Клавдия в другой, Отелло и Яго в третьей. Вам не удастся держать зеркало ни перед одной из этих природ, не удастся убедить себя в том, что ваше чувство реальности глубже того, что есть в трагедиях Шекспира. Нет таких литературных произведений, которые лучше Шекспировых напоминали бы о том, что похожа на пьесу может быть только другая пьеса, — и подсказывали бы при этом мысль о том, что трагическая идея похожа не только на другую трагическую идею (хотя так может быть), но и на человека, или на перемену в человеке, или на итоговую форму личностной перемены, то есть смерть.
Значение слова — это всегда другое слово, так как слова больше похожи на другие слова, чем на людей или предметы, но Шекспир часто намекает, что слова больше похожи на людей, чем на предметы. Живость изображения характера у Шекспира сверхъестественна: ни один писатель — ни до него, ни после — не создал более прочной иллюзии того, что каждый его персонаж говорит своим собственным голосом. Отметив эту особенность, Джонсон объяснил ее тем, что Шекспир точно описывал природу, но сам Шекспир мог бы усомниться в реальности этой общей природы. Его диковинная способность являть нам «поставленные», отличные один от другого, звучащие, как живые, голоса вымышленных сущностей отчасти происходит из самого многообъемлющего чувства реальности, когда-либо вторгавшегося в литературу.
Пытаясь выделить Шекспирово восприятие действительности (или, если угодно, разновидность действительности, данную в его пьесах), мы, скорее всего, испытаем недоумение.
Когда вы смотрите со стороны на «Божественную комедию», странность этой поэмы вас потрясает, но пьеса Шекспира кажется всецело знакомой и в то же время слишком обильной, чтобы всю ее можно было усвоить разом. Данте растолковывает вам своих персонажей; если вы не можете принять его суждений, то его поэма для вас закрывается. Шекспир открывает своих персонажей взглядам со множества точек зрения, делая из них аналитические инструменты для вынесения суждений о вас самих. Если вы — моралист, то Фальстаф вас возмутит; если вы — дурной человек, то Розалинда выведет вас на чистую воду; если вы — догматик, то Гамлет ускользнет от вас раз и навсегда. Если же вы — любитель все объяснять, то великие Шекспировы злодеи приведут вас в отчаяние. Нельзя сказать, что Яго, Эдмунд и Макбет действуют без мотивировок; их переполняют мотивировки, большую часть которых они сами себе находят, выдумывают. Подобно великим умам — Фальстафу, Розалинде, Гамлету — эти чудовищные злоумышленники суть художники, творящие сами себя, или свободные художники, как сказал Гегель. Самого плодовитого из них, Гамлета, Шекспир наделил чем-то очень похожим на авторское сознание, причем не свое, не Шекспирово. Истолковать Гамлета — задача не менее трудная, чем истолковать таких афористов, как Эмерсон, Ницше и Кьеркегор. Подмывает возразить: «Они ведь жили и писали», — но Шекспир сумел сделать так, чтобы Гамлет дописал «Убийство Гонзаго» и получилась «Мышеловка». Из всех достижений Шекспира сильнейшее удивление вызывает следующее: он предлагает больше средств для толкования нас самих, чем мы можем обеспечить для толкования его персонажей.
Для многих читателей границы подвластного человеку искусства достигнуты в «Короле Лире», который наряду с «Гамлетом» представляется вершиной шекспировского канона. Лично я предпочитаю «Макбета»; в этой пьесе меня всякий раз наново потрясает ее безжалостная лапидарность — в ней нет ни единого лишнего монолога, ни единой лишней фразы. Но все-таки в «Макбете» есть лишь один колоссальный персонаж, и даже в «Гамлете» главный герой занимает такое исключительное положение, что остальные действующие лица (и мы вместе с ними) ослеплены его запредельным блеском. Шекспирова способность к индивидуализации более всего проявилась в «Короле Лире» и, как ни странно, в «Мере за меру», двух пьесах, в которых незначительных персонажей просто нет. «Король Лир» переносит нас в святую святых канонического совершенства — так же как некоторые песни «Ада» или «Чистилища» или иная проза Толстого вроде «Хаджи-Мурата». Где, если не там, пламя изобретательности сжигает все контексты и дарует нам возможность приобщиться к тому, что можно назвать первичной эстетической ценностью, свободной от истории с идеологией и доступной каждому, кто способен научиться читать и видеть ее?
Приверженцы ресентимента могут сделать упор на то, что научиться этому способна только элита. Как подсказывают нам самые правдивые минуты, чем ближе конец этого века, тем труднее становится вдумчиво читать. В чем бы ни была причина — в СМИ или в прочих отвлекающих факторах Хаотической эпохи, — даже элита уже читает не так внимательно. Может быть, пристальное чтение и не закончилось на моем поколении, но после нас оно определенно пришло в упадок. Не существенно ли, что мне было почти сорок лет, когда я впервые купил телевизор? Иногда мне кажется — уверенности у меня нет, — что предпочтение исследователями и критиками тексту контекста есть признак того, что поколение устало от вдумчивого чтения. Разъяснить трагедию Лира и Корделии можно даже самым поверхностным зрителям и читателям, так как Шекспир, по странности своей, привлекает к себе внимание практически на всех уровнях. Но, должным образом поставленная, должным образом прочитанная, трагедия эта требует большего, чем может дать отдельно взятое человеческое сознание.
Известно, что для доктора Джонсона смерть Корделии была непереносима: «Много лет назад я был так потрясен смертью Корделии, что не знаю, смог бы я еще хоть раз перечитать последние сцены этой пьесы, не возьмись я готовить их к печати».
Джонсон указывает на ощущение страшной опустошенности, которое есть в последней сцене «Короля Лира» — оно превосходит все в этом роде и у Шекспира, и у любого другого писателя. Наверное, смерть Корделии для Джонсона — синекдоха этой опустошенности, явления старого короля, вновь утратившего от горя рассудок, который входит, неся на руках мертвую Корделию. Как образ, это зрелище опровергает все естественные ожидания; Фрейд дал ему известное искаженное истолкование в «Мотиве выбора ларца» (1913):
…Лир выносит на сцену мертвое тело Корделии. Корделия олицетворяет смерть. Если переиначить эту ситуацию, она станет нам понятнее и ближе. Ведь это же богиня смерти, выносящая павшего в бою героя с поля битвы, как Валькирия в германской мифологии. Вечная мудрость в облачении древнего мифа советует старику отказаться от любви, выбрать смерть, примириться с неизбежностью ухода[92].
Пятидесятисемилетнему Фрейду оставалось жить еще двадцать шесть лет, но он все равно не мог говорить о «герое», не ставя на его место себя. Отказаться от любви, выбрать смерть и примириться с неизбежностью ухода — все это в духе принца Гамлета, но не подобает королю Лиру. Короли так просто не сдаются, что у Шекспира, что в жизни, а Лир — величайший из образов королей. Его предшественник — не какой-нибудь литературный монарх, но эталон правителя: Яхве, сам Господь — если не считать Яхве литературным персонажем, который встретился Шекспиру в Женевской Библии. Яхве J, господствующий в первоначалах — книгах Бытия, Исхода и Чисел, так же вспыльчив и подчас так же безумен, как Лир. Лир, образ отеческой власти, не пользуется любовью у исследователей-феминистов, которые, недолго думая, определяют его как архетипического патриархального тирана. Они не могут простить ему его силы, которую он сохраняет и после падения, потому что для них он — воплощение бога, короля и отца в одной нетерпимой натуре. Но они пренебрегают тем, что в пьесе «дано»: Лира не только боятся и чтут все, кто в этой пьесе находится на стороне добра, — его неподдельно любят Корделия, Шут, Глостер, Эдгар, Кент, Альбани и, судя по всему, весь его народ. В его личности есть многое от Яхве, но он гораздо добросердечнее. Его главная вина перед Корделией — в том, что его любовь к ней не знает меры и непомерно многого требует в ответ. Из всех многочисленных Шекспировых персонажей Лир — самый страстный; возможно, это свойство само по себе и привлекательно, но оно не приличествует ни его возрасту, ни его положению.
Даже те трактовки Лира, в которых слышно самое сильное негодование, те, которые разоблачают предположительно присущую королю способность к социальному состраданию, не покушаются на его страстность; это свойство присуще и его дочерям, Гонерилье и Регане, но в них нет его слепой тяги к любви. Они суть то, чем был бы их отец, не обладай он также свойствами своей дочери Корделии. Шекспир не пытается дать прямого объяснения отличию Корделии от своих сестер — как и столь же поразительному контрасту между Эдгаром и Эдмундом. Зато он искусно наделяет Корделию с Эдгаром своенравием, которое куда сильнее присущей им обоим сдержанности. В этих подлинно любящих персонажах есть какая-то неподатливость, какое-то упрямство, сила, за которой кроется самоволие. Корделия, хорошо знающая и своего отца, и своих сестер, может предупредить трагедию, проявив в самом начале чуточку дипломатичности, но не делает этого. Эдгар, карая себя, принимает обличье гораздо ничтожнее и много унизительнее, чем требуется, и пребывает в этом обличье еще долгое время после того, как его стало можно сбросить. Его нежелание открыться Глостеру почти до тех пор, пока он не выходит неузнанным на победный бой с Эдмундом, так же удивительно, как нежелание Шекспира изобразить сцену откровения и примирения отца с сыном. Мы слышим рассказ Эдгара об этой сцене, но в самой сцене нам отказано. Мне кажется, мы чувствуем, что Эдгар, возможно, есть личный представитель Шекспира в этой пьесе — в противовес марловианцу-Эдмунду. Эдмунд — гений, он так же блестящ, как Яго, только холоднее, самый холодный Шекспиров персонаж. В противоположении Эдмунда Лиру мне видится один из источников непреходящей эстетической силы этой пьесы. В этом противоположении есть что-то от самой Шекспировой сути, что-то, чего душе зрителя или читателя в этой пьесе не хватает, и что-то, отчего эта пьеса и сама лишена благодати, и нам ее не дает. В центре сильнейшего известного мне литературного произведения зияет ужасная, умышленная бездна, космологическая пустота, в которую мы ввергаемся. Чуткое восприятие «Короля Лира» вселяет в нас такое ощущение, будто мы рухнули куда-то и падали, пока не очутились вне ценностей, обездоленными начисто.
Финал «Короля Лира» не предполагает того отрешения от земного, которое кажется возможным, когда умирает Гамлет. Смерть Лира приносит облегчение ему, но не тем, кто его переживет: Эдгару, герцогу Альбании, Кенту. Не приносит она облегчения и нам. Слишком многое воплощено в Лире, чтобы его подданные смирились с тем, как он умирает, и слишком велик наш собственный вклад в страдания Лира, чтобы осуществить Фрейдово «примирение с уходом». Возможно, Шекспир не стал показывать смерть Глостера специально, чтобы контраст между умирающим Лиром и умирающим Эдмундом не потерял в резкости. Эдмунд делает прекрасную попытку избежать бессмысленной смерти, отменяя свой приказ убить Корделию и Лира. Но слишком поздно — и, когда Эдмунда уносят умирать, ни читатель, ни он сам не понимает, что же он такое.
Величие этой пьесы всячески связано с патриархальным величием Лира — тем аспектом человека, который страшно обесценился в век феминизма, литературоведческого марксизма и разных родственных им методов, завезенных к нам из Парижа вместе с крестовым походом против буржуазии. Впрочем, Шекспир был слишком дальновиден, чтобы посвятить свое творчество патриархальной идеологии, христианству, даже монаршему абсолютизму своего патрона, короля Якова I, и то негодование, которое сегодня вызывает Лир, в основном беспочвенно. Растерявшийся старый король занимает сторону природы — совсем не той природы, которую называет своей богиней нигилист Эдмунд. В этой пространной пьесе Лир и Эдмунд не обмениваются ни единым словом, хотя они вместе оказываются на сцене в двух важных эпизодах. Что бы они друг другу сказали, какой разговор возможен между самым страстным Шекспировым персонажем и самым холодным, между тем, кто все принимает слишком близко к сердцу, и тем, кто не принимает к сердцу ничего?
В Лировом представлении о природе Гонерилья с Реганой— противные природе ведьмы[93], чудища морские — и на самом деле так оно и есть. Согласно Эдмундовой идее природы, его демонические возлюбленные чрезвычайно естественны. Третьего в этой Шекспировой драме не дано. Отвергать Лира на эстетических основаниях нельзя, как бы ни удручали вас его бесчинства и его пугающая сила. Тут Шекспир встает рядом с J, чей «слишком человеческий» Яхве одновременно несоизмерим с нами и при этом от него никуда не деться. Если мы не хотим, чтобы люди пожирали друг друга[94], то наша опора — Лир, как бы небезупречен он ни был, как бы неразумно он ни распоряжался своей силой. Лир не может излечить ни нас, ни себя, и он не может пережить смерти Корделии. Но мало что в пьесе может пережить его смерть: Кент желает одного — умереть вслед за своим господином; Альбани повторяет Лиров уход от дел; апокалиптический уцелевший Эдгар заканчивает пьесу словами, которые мог бы сказать и сам Шекспир, и любой зритель[95]:
Склонимся мы под тяжестью судьбы, Не что хотим, сказав, а что должны. Старейший — претерпел; кто в цвете лет, Ни лет таких не будет знать, ни бед.Природа и королевство ранены едва ли не смертельно, и трое уцелевших персонажей уходят под похоронный марш. Самое тут важное — то, что изувечены природа и наше представление о том, что в нашей жизни естественно, а что — нет. Финал пьесы производит такое ошеломительное впечатление, что все словно встает с ног на голову. Почему же смерть Лира так сильно и так амбивалентно на нас действует?
В 1815 году пятидесятишестилетний Гёте написал о Шекспире статью, в которой пытался согласовать между собою свои противоречивые взгляды на величайшего западного поэта[96]. Поначалу он преклонялся перед Шекспиром, затем пришел к своеобразному «классицизму», требованиям которого Шекспир не вполне удовлетворял, и «исправил» Шекспира, сделав довольно радикальное переложение «Ромео и Джульетты». Несмотря на то что окончательное суждение Гёте выносит в пользу Шекспира, его статья сдержанна и уклончива. Она помогла упрочить власть Шекспира в Германии, но амбивалентное отношение Гёте к поэту и драматургу, чей гений превосходил его собственный, не позволило ему четко сформулировать, почему Шекспир представляет для нас исключительный и неизменный интерес. Идею о Шекспировом изображении характера — идею, которую нам еще нужно развить, чтобы когда-нибудь выработать достойный Шекспира исследовательский подход, — случилось высказать Гегелю в опубликованных посмертно «Лекциях по эстетике».
Если вкратце, то Гегель проводит различия между Шекспировыми героями и героями Софокла, Расина и Кальдерона. Герой античной трагедии противопоставляет высшей нравственной силе свою индивидуальность, свой нравственный пафос, который сливается с тем, что ему противостоит, потому что уже является частью этого высшего пафоса. У Расина Гегель находит абстрактное изображение характеров, которые оказываются простыми персонификациями определенных страстей, поэтому противопоставление индивидуальности высшей силе тяготеет к абстракции. Лопе де Вегу и Кальдерона Гегель оценивает немного выше, так как видит у них не только абстрактное изображение характеров, но также известную целостность и чувство индивидуальности, пусть и довольно ригидное. Немецкие трагедии не заслужили и такой оценки: Гёте, несмотря на свое былое шекспирианство, отходит от изображения характеров и впадает в экзальтацию страстей, а Шиллер отвергается за то, что подменил действительность жестокостью. На недосягаемую для них высоту Гегель ставит Шекспира — и это до сих пор лучшее из написанного о Шекспировой изобразительности:
Чем дальше в бесконечности своего театрального мира Шекспир направляется к пределам зла и глупости, тем в большей степени… он не то, что ограничивает свои образы, не используя богатства поэтической обработки, в этих наиболее внешних границах, а придает им одухотворенность и фантазию, превращает их самих в свободных художников посредством образа, в котором эти фигуры созерцаются объективно в теоретическом аспекте (курсив мой. — Г. Б.); благодаря этому, доставляя полную мощности и верности характеристику, Шекспир умеет совершенно одинаково вызвать интерес как к преступнику, так и к обыкновеннейшим, пошлейшим невежам и глупцам[97].
Яго, Эдмунд и Гамлет объективно созерцают себя в образах, ими самими созданных, и видят себя в качестве драматических персонажей, художественных изделий. Они, таким образом, становятся свободными художниками, то есть они вольны писать себя, мыслить перемены в себе. Они слышат свои слова со стороны, обдумывают сказанное, меняются и далее размышляют над инаковостью в себе или над возможностью этой инаковости.
Гегель увидел и понял в творчестве Шекспира то, что нужно в нем увидеть и понять, но темный стиль гегелевских лекций требует некоторых пояснений. Возьмем для примера бастарда Эдмунда, марловианского Макиавелли трагедии о Лире. Эдмунд — предел зла, первое — и до сих пор непревзойденное — совершенное изображение нигилиста в западной литературе. Скорее из Эдмунда, чем из Яго, вышли нигилисты Мелвилла и Достоевского. Как пишет Гегель, Эдмунду приданы редкостные одухотворенность и фантазия; он куда в большей мере, чем Яго, — чуть ли не ровня величайшему контр-Макиавелли, Гамлету. Могучий ум Эдмунда — бесконечно плодовитый, стремительный, холодный и точный — рождает образ незаконнорожденного последователя богини Природы, и в этом образе он объективно созерцает себя. Яго делает это первым, но Яго воображает отрицательные эмоции и затем испытывает эти эмоции, даже страдает из-за них. Эдмунд как художник обладает большей свободой: он не испытывает ничего.
Я уже отмечал, что трагический герой, Лир, и главный злодей, Эдмунд, не обращаются друг к другу ни разу. Они делят сцену в двух важнейших сценах, в начале и ближе к концу, но им нечего друг другу сказать. Они, собственно, не могут и словом перемолвиться, потому что ни один не смог бы увлечь другого ни на секунду. Лир — весь чувство, Эдмунд — его отсутствие. Когда Лир гневается на своих «противных природе» дочерей, Эдмунд, при всем своем уме, не может этого понять, потому что для Эдмунда его поведение по отношению к Глостеру, как и поведение Гонерильи и Реганы по отношению к Лиру, «естественно». Естественнейший из бастардов, Эдмунд неизбежно становится предметом губительной, хищной страсти Гонерильи и Реганы; он потрафляет обеим, и ни та, ни другая не задевает его за живое до тех пор, пока он не видит, как их тела выносят на сцену — на которой лежит он сам, медленно умирая от раны, нанесенной ему его братом Эдгаром.
Размышляя о погибших морских чудищах, Эдмунд встречается лицом к лицу со своим истинным образом и тот освобождает его, превращая в совершенного художника, творца самого себя: «С обеими помолвлен был я. Нынче / Все трое вступим в брак». Его тон изумительно бесстрастен, ирония почти уникальна, хотя Уэбстер и другие яковианцы пытались ее имитировать. Размышляя, Эдвард переходит от иронии к такой тональности, которую я вполне могу почувствовать, но лишь очень условно классифицировать: «Так любим был Эдмунд! / Из-за меня сестра сестру сгубила, / Потом себя». Он не столько обращается к Альбани и Эдгару, сколько говорит вслух, чтобы услышать себя. Шекспир показывает, как этот блистательнейший из злодеев изъясняет себе свою боль, «оттачивает» свой образ, чтобы расширить свободу своего самотворчества. Мы не слышим в его словах ни гордыни, ни изумления, но все же в них звучит удивление чувству близости, пусть лишь с этими ужасными сестрами.
Хэзлитт, с которым я разделяю опасливую симпатию к Эдмунду, подчеркивал в нем отрадное отсутствие всякого лицемерия. В этой сцене, как и в других, в Эдмунде нет никакого притворства, никакой рисовки. Он слышит свои слова и отвечает на них желанием измениться; он понимает, что в моральном плане это будет некая перемена к лучшему, пусть при этом и утверждает, что его природа все равно не меняется: «Уходит жизнь. Хочу добро я сделать, / Хоть это мне несвойственно». По трагической иронии Шекспира, эта перемена происходит слишком поздно, чтобы спасти Корделию. Мы остаемся с вопросом: зачем же тогда Шекспир изображает эту незаурядную метаморфозу в Эдмунде? Есть ли на этот вопрос ответ, нет ли — задумаемся над переменой как таковой: не имеет значения, что, когда Эдмунда уносят, он остается в убеждении, что Природа — ему богиня.
Что имеется в виду, что может иметься в виду, когда литературный персонаж по праву называется «свободным художником»? Ничего подобного в западной литературе до Шекспира я не знаю. Ахиллес, Эней, пилигрим Данте, Дон Кихот не меняются, слыша сказанные ими слова со стороны и совершая на основании услышанного внутренний переворот посредством своих ума и воображения. Наше наивное, но существенное в эстетическом отношении ощущение, что Эдмунд, Гамлет, Фальстаф и десятки других персонажей могут, так сказать, взять и выйти из своих пьес, может быть, даже вопреки желанию самого Шекспира, связано с тем, что они суть свободные художники. Создать такую драматургическую и литературную иллюзию, такой эффект образного языка оказалось по силам одному Шекспиру — тут с ним не сравнился никто, хотя подражают ему по всему миру на протяжении уже почти четырех столетий. Шекспиру это оказалось по силам благодаря «внутренним» монологам — Расину, скажем, они воспрещались доктриной классицизма, не позволявшей трагическому герою напрямую обращаться ни к самому себе, ни к зрителю. Испанские драматурги Золотого века, в первую очередь Лопе де Вега, придают такому монологу вид сонета — барочная эстетика берет верх над самоуглублением. Но нельзя сделать персонаж свободным художником, отказав ему в самоуглублении. В рамках барочной эстетики Шекспир невозможен, но в таком случае трагическая свобода — это Шекспиров оксюморон, а не непременное условие в пьесах Лопе де Веги, Расина или Гёте.
Понятно, почему Сервантес не достиг успеха как драматург, а «Дон Кихот» оказался шедевром. Между Сервантесом и Шекспиром есть герметическое родство: ни Дон Кихот, ни Санчо не являются свободными художниками; они целиком находятся в состоянии игры. Уникальная сила Шекспира в том, что его трагические протагонисты, как герои, так и злодеи, размывают разграничения между естественным состоянием и состоянием игры. Своеобразная власть Гамлета, убедительное наличие у него своего собственного авторского сознания, проявляется не только в перелицовке «Убийства Гонзаго» в «Мышеловку». Рассудок Гамлета — в каждый миг пьеса внутри пьесы, потому что Гамлет — первый среди Шекспировых свободных художников. И его экзальтация, и его муки происходят от постоянного размышления над своим образом. Шекспир находится в центре Канона по меньшей мере отчасти потому, что там находится Гамлет. Интроспективное сознание, способное размышлять над самим собою, есть самый элитистский образ во всей западной культуре, но без него невозможен ни Западный канон, ни, скажем прямо, мы сами.
Мольер, родившийся спустя всего шесть лет после смерти Шекспира, писал и играл во Франции, еще не испытавшей Шекспирова влияния. Разноречивые отзывы о Шекспире во Франции начали складываться в единую картину где-то в середине XVIII века, почти через три поколения после Мольера. Тем не менее между Мольером и Шекспиром есть подлинное сродство, хотя Мольер вряд ли даже слышал о Шекспире. Их объединяет темперамент и свобода от всякой идеологии, притом что комедийные традиции, к которым они формально принадлежат, не слишком друг с другом согласуются. От Вольтера пошла традиция противостояния Шекспиру во имя классицизма и трагедий Расина. В эпоху запоздалого французского романтизма французская литература пережила сильное Шекспирово влияние, особенно сказавшееся в творчестве Стендаля и Виктора Гюго; но к последней трети XIX века повальная мода на Шекспира в целом сошла на нет. Хотя сейчас во Франции его играют немногим меньше, чем Мольера и Расина, можно сказать, что картезианская традиция возобладала и французская литературная культура остается относительно нешекспировской.
Трудно переоценить длительное воздействие Шекспира на немцев, включая Гёте, который так остерегался влияний. Мандзони, главный итальянский романист XIX века, — в огромной степени шекспирианец, как и Леопарди. И, как бы яростно ни спорил с Шекспиром Толстой, два его великих романа и поздний шедевр, повесть «Хаджи-Мурат», выстроены на шекспировском представлении о характере. Достоевский явно обязан своими грандиозными нигилистами их Шекспировым предшественникам, Яго с Эдмундом, а Пушкину и Тургеневу принадлежат одни из важнейших суждений о Шекспире в XIX веке. Ибсен делал все возможное и невозможное, чтобы уйти от Шекспира, но, к счастью для себя самого, не преуспел. Возможно, единственное, что есть общего у Пер Гюнта и Гедды Габлер, — это их Шекспирова энергичность, их вдохновенная способность меняться, слыша себя со стороны.
Испания до недавних пор не слишком нуждалось в Шекспире. Главные величины испанского Золотого века — Сервантес, Лопе де Вега, Кальдерон, Тирсо де Молина, Рохас, Гонгора — сообщили испанской литературе барочную чрезмерность, в которой уже было нечто шекспировское и романтическое. Первые значимые тексты — это знаменитое эссе Ортеги-и-Гассета о Шейлоке и книга Мадарьяги о Гамлете; оба автора заключают, что эпоха Шекспира — это и эпоха Испании. К сожалению, до нас не дошла пьеса «Карденио», в которой Шекспир и Флетчер пересказали для английского зрителя один сюжет из Сервантеса; но многие исследователи чувствовали, что между Сервантесом и Шекспиром есть родство — и мне отчаянно не хватает нового гениального драматурга, который смог бы вывести на одну сцену Дон Кихота, Санчо Пансу и Фальстафа.
Влияние Шекспира на нашу Хаотическую эпоху — прежде всего на Джойса и Беккета — по-прежнему убедительно. И «Улисс», и «Эндшпиль» — по сути, шекспирианские вещи: в обеих по-разному является Гамлет. В эпоху американского Возрождения[98] Шекспир заметнее всего присутствует в «Моби Дике» и «Представителях человечества» Эмерсона, но тоньше подействовал на Готорна. Пределов влиянию Шекспира поставить нельзя, но не влияние причиной тому, что он поместился в центре Западного канона. Если Сервантеса можно назвать изобретателем литературной иронии двусмысленности, восторжествовавшей затем у Кафки, то в Шекспире можно с тем же основанием увидеть изобретателя эмотивной и когнитивной иронии амбивалентности, задавшей тон работ Фрейда. Я испытываю с каждым разом все более сильное потрясение, когда вижу, как оригинальность Фрейда улетучивается в присутствии Шекспира, но Шекспира это не потрясло бы: он понимал, что литература и плагиат почти неотличимы друг от друга. Плагиат — понятие юридическое, а не литературное; точно так же понятия «священного» и «светского» относятся к религиозной и политической сферам и в качестве литературных категорий не существуют.
Подлинная универсальность — черта очень немногих западных писателей: Шекспира, Данте, Сервантеса, возможно, Толстого. Гёте и Мильтон потускнели из-за культурных перемен; такой доступный на поверхностном уровне Уитмен в глубине своей герметичен; Мольера и Ибсена все еще играют, но первым всегда идет Шекспир. Дикинсон необычайно сложна из-за своей когнитивной самобытности, а Неруда — не совсем тот брехтианско-шекспирианский популист, каким, возможно, намеревался стать. Аристократическая универсальность Данте положила начало эпохе величайших западных писателей, от Петрарки до Гёльдерлина; но полной всечеловечности достигли лишь Сервантес с Шекспиром — популисты в величайшую из аристократических эпох. В Демократическую эпоху ближе всего к универсальности было несовершенное чудо — творчество Толстого, одновременно аристократа и популиста. В наше хаотическое время Джойс и Беккет подошли к универсальности ближе других, но первому препятствуют его барочные изыски, а второму — его барочные лакуны. В мироощущении Пруста и Кафки есть странность Данте. Я соглашаюсь с Антонио Гарсиа-Беррио, который считает универсальность фундаментальным свойством поэтической ценности. Служить центром Канона для поэтов было и остается задачей Данте. Шекспир и «Дон Кихот» служат центром Канона для широкого читателя. Вероятно, мы можем пойти дальше; для Шекспира нужен более борхесовский термин, чем «универсальность». Одновременно никто и каждый, ничто и все, Шекспир и есть Западный канон.
3. Странность Данте: Улисс и Беатриче
«Новые истористы» и союзные им люди ресентимента пытались и пытаются принизить и умалить Шекспира — они стремятся ликвидировать Канон, «размыв» его центр. Удивительно, но Данте, второй, так сказать, его центр, не подвергается такому приступу — ни у нас, ни в Италии. Несомненно, штурм еще впереди, так как разномастным мультикультуралистам непросто будет сыскать более предосудительного великого поэта, чем Данте, чей необузданный и могучий дух в высшей степени неполиткорректен. Данте — самый агрессивный и воинственный из главных западных писателей: в этом смысле он умаляет даже Мильтона. Подобно Мильтону, он был сам себе политическая партия и секта. Его еретический пыл был завуалирован учеными толкователями, даже лучшие из которых зачастую подходят к нему так, словно его «Божественная комедия» — это, по сути, «Исповедь» Блаженного Августина в стихах. Но лучше всего будет начать с обозначения его потрясающей дерзости, равной которой нет во всей традиции предположительно христианской литературы, даже считая Мильтона.
В западной литературе на всей ее солидной протяженности, от Яхвиста с Гомером до Джойса с Беккетом, нет ничего столь же возвышенно возмутительного, сколь возвеличение Данте Беатриче — образа вожделения, облагороженного до ангелического качества, в котором она становится важнейшим элементом христианской иерархии спасения. Поскольку поначалу Беатриче имеет значение лишь как инструмент Дантевой воли, ее апофеоз непременно предполагает также божественное избранничество самого Данте. Его поэма — это пророчество, призванное выполнять функцию третьего Завета, ни в коей мере не подчиненного ни Ветхому, ни Новому. Данте не признает «Комедию» вымыслом, своим превосходным вымыслом. Нет, эта поэма — правда, для всех и навеки. То, что пилигрим Данте видит, а поэт Данте описывает, должно раз и навсегда убедить нас в том, что значение Данте для поэзии и религии непреложно. Знаки смирения в поэме — и со стороны пилигрима, и со стороны поэта — впечатляют исследователей творчества Данте, но они гораздо менее убедительны, чем содержащиеся в поэме ниспровержение всех прочих поэтов и настойчивые указания на апокалиптический потенциал самого Данте.
Спешу пояснить: эти соображения направлены против большой части исследований о Данте, отнюдь не против него самого. Я не понимаю, как можно отъединить подавляющую поэтическую силу Данте от его духовных притязаний, которые, разумеется, суть специфическая его черта и не являются кощунственными лишь потому, что Данте выиграл пари у будущего уже через поколение после своей смерти. Не будь «Комедия» единственным подлинным соперником сочинений Шекспира в поэтическом соревновании, Беатриче была бы оскорблением для церкви и даже для писателей-католиков. Эта поэма слишком сильна, чтобы от нее открещиваться; для ново-христианского поэта вроде Т. С. Элиота «Комедия» — это еще одно Писание, Новейший Завет, дополняющий каноническую христианскую Библию. Чарльз Уильямс, гуру для таких неохристиан, как Элиот, К. С. Льюис, У. X. Оден, Дороти Сэйерс, Дж. Р. Р. Толкин и прочие, заявил даже, что Афанасьевский символ веры с его восхождением человеческой сущности к Богу был полностью выражен лишь у Данте. Церкви пришлось дожидаться Данте и образа Беатриче.
В своем страстном исследовании «Образ Беатриче» (1943) Уильямс выводит на первый план невероятную скандальность достижения Данте: самое выдающееся творение поэта — это Беатриче. Ни одного персонажа Шекспира, даже харизматичного Гамлета или богоподобного Лира, нельзя назвать таким неудержимо дерзновенным творением, как ее. Более удивительны и возвышенны только изображения Яхве у J и Иисуса в Евангелии от Марка. Беатриче — эмблема самобытности Данте, и, торжественно водворив ее в структуру христианского представления о спасении души, ее поэт самым дерзким образом преобразовал унаследованную им веру в нечто куда более индивидуальное.
Исследователи творчества Данте, разумеется, отвергают мои утверждения такого рода, но они живут в тени своего предмета и потому часто перестают осознавать всю странность «Божественной комедии». Это — по-прежнему диковиннейшее литературное произведение, с которым только может встретиться притязательный читатель; оно выдерживает и перевод, и груз своей учености. Все то, что позволяет обыкновенному читателю[99] читать «Комедию», проистекает из таких свойств духа Данте, которые никак не отнесешь к благочестию в привычном понимании этого слова. По большому счету, Данте не может сказать ничего действительно хорошего ни об одном поэте-предшественнике или современнике и замечательно обходится почти без Библии, за исключением Псалмов. Такое впечатление, что он считал царя Давида, предка Христа, единственным достойным себя предшественником, единственным, кроме себя, поэтом, способным неуклонно высказывать правду.
Впервые взявшийся за «Божественную комедию» читатель очень быстро поймет, что ни один светский автор, кроме Данте, не убежден так глубоко в том, что его сочинение — правда, самая важная правда. Мильтон и, возможно, поздний Толстой почти достигают дантовской яростной убежденности в своей правоте, но они при этом отражают также «альтернативные» обстоятельства, в их текстах больше напряжения, причина которого — обособленность их картины мира. Данте так силен — риторически, психологически, духовно, — что на его фоне их уверенность в себе оказывается умалена. Теология для него — не повелительница, но средство, одно средство из многих. Никто не может отрицать, что Данте — мистик, христианин и богослов, или по крайней мере аллегорист-богослов. Но у Данте, единственного поэта, чьи самобытность, изобретательность и сверхъестественная плодовитость по-настоящему соперничают с шекспировскими, все общепризнанные понятия и образы проходят необыкновенное преобразование. Читатель, который впервые вчитывается в «Божественную комедию» в переводе терцинами, так удавшемся Лоренсу Биньону, или в ясном прозаическом переводе Джона Синклера, безмерно много теряет оттого, что читает поэму не по-итальянски — и все же ему остается целый космос. Но важнее всего странность и возвышенность того, что ему остается, сила Данте, которая совершенно уникальна, если не считать Шекспира. Как и у Шекспира, у Данте мы видим исключительную когнитивную мощь в сочетании с изобретательностью, практически не имеющей границ.
Когда читаешь Данте или Шекспира, достигаешь границ искусства — а потом обнаруживаешь, что эти границы отодвинуты или преодолены. Данте пробивает все заслоны в гораздо более личной и откровенной манере, чем Шекспир, и, если он «сверхъестественнее» Шекспира, то преодоление природы отличает его так же, как Шекспира — уникальная и специфическая верность ей. Основное соперничество двух поэтов происходит в изображении любви, что возвращает нас туда, где любовь у Данте начинается и кончается — к образу Беатриче.
Место, которое Беатриче «Комедии» занимает в небесной иерархии, труднопостижимо. Нам не дано никаких предписаний о том, как его понимать; доктрина никак не призывает к возвеличению этой флорентийки, которую навеки полюбил Данте. Самый иронический комментарий к этой любви дал Хорхе Луис Борхес во «Встрече во сне»:
Влюбиться — значит создать религию, чей Бог может ошибаться. Невозможно отрицать, что Данте обожествлял Беатриче; то, что она однажды посмеялась над ним, а в другой раз оттолкнула, зафиксировано в «Vita nuova». Некоторые утверждают, будто были и другие подобные вещи, и это укрепляет мою уверенность в том, что любовь была безответной и суеверной[100].
Борхес хотя бы возвращает Беатриче к ее первоисточнику — воображаемой встрече[101] — и к ее таинственной инаковости для каждого читателя Данте: «Беатриче значила для Данте бесконечно много. Он для нее — очень мало, может быть, ничего. Все мы склонны к благоговейному почитанию любви Данте, забывая эту печальную разницу, незабываемую для самого поэта»[102].
Неважно, что это — проекция иронически абсурдной страсти самого Борхеса к Беатрис Витербо (см. его каббалистический рассказ «Алеф»). Он лукаво подчеркивает вопиющую несоразмерность того, что было между Данте и Беатриче в действительности (почти ничего), и Дантовым видением их совместного апофеоза в «Рае». Несоразмерность — это Дантов легкий путь к возвышенному. Как и Шекспиру, ему все сходит с рук, потому что оба поэта переходят границы, положенные другим поэтам. Ирония (или аллегория), которой проникнуто сочинение Данте, состоит в том, что он вроде бы признает границы, а на самом деле их нарушает. Все самое важное и самобытное у Данте произвольно и субъективно; тем не менее оно подается как правда, сообразная традиции, вере и здравому смыслу. Это почти неизбежно искажается и в какой-то момент сливается с нормативными представлениями — и вот перед нами успех, которого сам Данте не приветствовал бы. Богословский Данте современного американского литературоведения — это смесь Августина, Фомы Аквинского и их товарищей. Это доктринальный Данте, такой мудреный и такой набожный, что постигнуть его могут лишь американские специалисты по его творчеству.
Подлинные канонизаторы Данте — его литературные потомки, а это не самая богомольная компания: Петрарка, Боккаччо, Чосер, Шелли, Россетти, Йейтс, Джойс, Паунд, Элиот, Борхес, Стивенс, Беккет. Данте — это, наверное, единственное, что у этих двенадцати есть общего, хотя в своем поэтическом пакибытии он превратился в двенадцать разных Данте. Писателю его силы это вполне приличествует; сколько Шекспиров — примерно столько же и Данте. Мой Данте все сильнее отклоняется от сугубо правоверного Данте, созданного современным американском литературоведением, в данном случае представленным Т. С. Элиотом, Френсисом Фергюсоном, Эрихом Ауэрбахом, Чарльзом Синглтоном и Джоном Фреччеро. От итальянцев идет альтернативная традиция — ее начал неаполитанский мыслитель Вико, продолжили поэт-романтик Фосколо и литературовед-романтик Франческо де Санктис, а кульминации она достигла в лице эстетика начала XX века Бенедетто Кроче. Если соединить эту итальянскую традицию с некоторыми наблюдениями Эрнста Роберта Курциуса, видного современного немецкого историка литературы, то возникнет альтернатива Данте Элиота-Синглтона-Фреччеро — поэт-пророк, а не аллегорист-богослов.
Вико сильно, но и очень удачно преувеличил, когда сказал о Данте: «Не знай он латыни и схоластики, он был бы еще более великим поэтом, и, быть может, тосканский язык дал бы нам нового Гомера». Тем не менее суждение Вико отрадно, когда блуждаешь в темном лесу богословских аллегорий, где самой приметной особенностью «Комедии» оказывается отражение в ней отхода Данте от поэзии и, предположительно под влиянием Августина, обращения к вере — вере, которая вбирает в себя воображение и подчиняет его себе. И для Августина, и для Фомы Аквинского поэзия была детской забавой и заслуживала не больше внимания, чем прочие детские дела. Что бы они подумали о Беатриче из «Комедии»? Курциус проницательно замечает, что Данте изображает ее не только средством своего спасения, но и всеобщим прибежищем всякому доброму человеку. Данте обращается к Беатриче, а не к Августину, и Беатриче дает в проводники Данте Вергилия, а Августина не дает.
Очевидно, что Данте предпочитает Беатриче, свое собственное творение, аллегориям других богословов, и столь же очевидно, что Данте не желает выходить за границы, положенные им своему творчеству. Августин с Аквинатом имеют к богословским представлениям Данте такое же отношение, какое имеют к его поэзии Вергилий и Кавальканти: все предшественники оказываются умалены поэтом-богословом, пророком Данте, автором последнего завета — «Комедии». Если хотите читать «Комедию» как богословскую аллегорию, то начинайте с единственного богослова, по-настоящему важного для Данте: самого Данте. «Комедия», подобно всем величайшим каноническим произведениям, уничтожает различие между религиозной и светской словесностью. И сегодня для нас Беатриче — это аллегория слияния религиозного и светского, союза пророчества и стиха.
Как человек и поэт, Данте выделяется гордыней, а не смирением, самобытностью, а не приверженностью традиции, чрезмерностью, или пылом, а не сдержанностью. Пророческая установка у него — на посвящение, а не на обращение (если воспользоваться соображением Паоло Валезио, выделившего герметические, или эзотерические, аспекты «Комедии»). К Беатриче не обращаешься, она не обращает тебя в истинную веру; путь к ней — это посвящение, потому что она, как первым сказал Курциус, — средоточие частного гнозиса, а не церковного универсума. Помимо всего прочего, Беатриче направляет к Данте Лючия[103], малоизвестная сицилийская святая — настолько загадочная, что исследователи творчества Данте не могут сказать, почему Данте выбрал именно ее. Джон Фреччеро, лучший из ныне живущих специалистов по Данте, пишет, что «в каком-то смысле цель всего путешествия — написать поэму, прийти туда, где Лючия и все, пребывающие в благодати».
Да, но почему же все-таки Лючия? На этот вопрос ни в коем случае нельзя ответить: а почему бы и нет? Лючия Сиракузская жила и приняла мученическую смерть за тысячу лет до Данте и ныне была бы совершенно забыта, не имей она эзотерического значения для Данте и его поэмы. Но нам об этом значении не известно ничего; мы не знаем даже, кто та величайшая женская душа, пославшая Лючию к Беатриче. В этой «Благодатной Жене»[104] обычно видят Деву Марию, но Данте ее не именует. Лючия названа «врагом жестоких»; можно предположить, что это определение применимо ко всем Благодатным Женам. У исследователей повелось приделывать к ней отвлеченное обозначение «просвещающая благодать»; но и оно не кажется единственно применимым к этой сицилийской мученице, чье имя означает «свет». Я вхожу в эти подробности, чтобы подчеркнуть, на каком возвышенном произволе настаивает Данте. В «Комедии» есть тайный предмет; несомненно, поэме присущи герметические аспекты, и их никак не отнесешь к второстепенным, так как они сконцентрированы вокруг Беатриче. Читая «Комедию», мы все время возвращаемся к образу Беатриче, не столько потому, что она — в некотором роде Христос, сколько потому, что она — идеальный предмет сублимированного вожделения Данте. Мы не знаем даже, существовала ли Беатриче Данте в действительности. Если существовала и была дочерью флорентийского банкира, то в контексте поэмы это маловажно. Беатриче «Комедии» важна не потому, что она — намек на Христа, но потому, что она — идеализированная проекция неповторимости самого Данте, точка, с которой он видит свое творение как его автор.
Прошу разрешить мне одно кощунство — сближение Данте с Сервантесом ради сравнения их главных героев: Дон Кихота и пилигрима Данте. Беатриче Дон Кихота — это заколдованная Дульсинея Тобосская, в которую его фантазия превратила крестьянку Альдонсу Лоренцо. Дочь банкира Беатриче Портинари относится к Дантовой Беатриче так же, как Альдонса к Дульсинее. Правда, иерархия Дон Кихота — светская: Дульсинея попадает в космос Амадиса Галльского, Пальмерина Английского, Рыцаря Феба и подобных им славных мифологических рыцарей, тогда как Беатриче возносится в сферы святого Бернарда, святого Франциска и святого Доминика. Если ставить поэзию выше догмы, то различия тут может и не быть. Странствующие рыцари, как и святые, — это метафоры для стихотворений и метафоры, используемые в стихотворениях, и небесная Беатриче в рамках католицизма как исторического института не более и не менее значима и реальна, чем заколдованная Дульсинея. Но триумф Данте и заключается в том, что мое сравнение кажется каким-то кощунственным.
Возможно, Данте действительно был благочестив и правоверен, но Беатриче — это его образ, а не церковный; она — часть частного гнозиса, изменение, внесенное поэтом в схему спасения души. «Обращение» к Беатриче может состояться и под влиянием Августина, но едва ли это — обращение к Святому Августину, так же как служение Дульсинее Тобосской не означает поклонения Изольде Белые Руки. Ни до, ни после Данте не было поэта беззастенчивее, агрессивнее, горделивее и смелее, чем он. Он навязал нам свое видение Вечности и он имеет очень мало общего со своими многочисленными набожными и учеными толкователями. Если все это уже есть у Августина или Фомы Аквинского, то давайте читать Августина или Фому Аквинского. Но Данте хотел, чтобы мы читали Данте. Он писал свою поэму не для того, чтобы пролить свет на унаследованные им истины. «Комедия» сама должна была быть истиной, и мне кажется, что детеологизировать Данте — такое же пустое занятие, как и теологизировать его.
Когда Дон Кихот перед смертью раскаивается в своем героическом безумстве, то превращается в прежнего себя, Алонсо Кихано Доброго, и благодарит милосердного Бога, обратившего его к благочестивому здравомыслию. Всякий читатель присоединится к протесту Санчо Пансы: «…Не умирайте, ваша милость, мой сеньор, а послушайтесь моего совета — живите еще много лет!.. Может быть, за каким-нибудь кустом мы найдем расколдованную сеньору донью Дульсинею, — и тогда нам не останется желать ничего на свете»[105]. В конце поэмы Данте нет Санчо, который присоединился бы к читателю в надежде на то, что сила поэта не изменит высокой фантазии на тему христианского рая. Наверное, есть читатели, которые ищут в «Божественной комедии» проводник к любви, что движет солнце и светила[106], но большинство из нас ищет в ней самого Данте — поэтическую личность и драматический характер, вполне сравниться с которыми не может и сам Джон Мильтон. Никто не хочет превращать «Комедию» в «Дон Кихота», но толика духа Санчо могла бы смягчить сердце даже Пилигрима вечности и, возможно, напомнила бы исследователям его творчества о том, что вымысел есть вымысел, даже если в нем заявлено обратное.
Но что за вымысел — Беатриче? Если она, как утверждал Курциус, — божественная эманация, то получается, что Данте замыслил что-то такое, чего мы не можем разгадать; можем только ощутить этот замысел. Откровение Данте вряд ли можно назвать частным, как откровение Уильяма Блейка — но не потому, что оно менее самобытно, чем у Блейка. Оно более самобытно, а достоянием публики становится только в силу своей успешности. В мировой литературе нет ничего, кроме вершин творчества Шекспира, что было бы выражено с такой ясностью. Данте, своеобразнейшая и неукротимейшая из всех утонченных натур, достиг универсальности, не впитав в себя традицию, но приспособив традицию к себе. По иронии, превосходящей все в своем роде из того, что я знаю, «узурпаторская» сила Данте имела следствием то, что его искажают по-разному, но одинаково слабо. Если «Комедия» — это правдивое пророчество, то исследователи подвергаются искушению читать ее в свете Августиновой традиции. Где еще найдешь подобающее истолкование христианского откровения? Даже такой изощренный толкователь, как Джон Фреччеро, временами берется за обращение поэтики[107], словно один лишь Августин и может предложить нам программу самосовершенствования. Коли так, то «роман о себе» вроде «Комедии» обязательно должен восходить к «Исповеди» Августина. Будучи гораздо сильнее романтиков, преклонявшихся перед ним и ему подражавших, Данте восходит к себе самому и совершенствует себя посредством своего «обратительного» образа, Беатриче, которая совсем не кажется мне сошедшей со страниц Августина. Может ли Беатриче быть предметом вожделения, пусть и облагороженного, в августинианском повествовании об обращении? Фреччеро изящно говорит, что для Августина история — это поэма Бога. Является ли история Беатриче Божьим стихотворением? Лично я склонен слышать голос Бога в сочинениях Шекспира, Эмерсона, Фрейда, — в зависимости от того, что мне нужно, — поэтому мне нетрудно признать «Комедию» Данте божественной. Но говорить о божественной «Исповеди» я бы не стал, и в словах Августина я голоса Бога не слышу. Я также не убежден, что Данте хотя бы раз в жизни слышал Бога в чьем-либо голосе, кроме своего собственного. Если автор ставит свою поэму выше Библии, то можно смело сказать, что он ставит ее и выше сочинения Августина.
Беатриче — это Дантово познание; так полагал Чарльз Уильямс, не питавший симпатий к гностицизму. Под знанием он понимал путь Данте-познающего к Богу-познаваемому.
Но Данте не намеревался делать Беатриче только своим познанием. В его поэме утверждается не то, что каждый должен найти свое обособленное знание, но то, что Беатриче должна сыграть общечеловеческую роль — для всех, кто сможет ее найти, так как ее вмешательство в судьбу Данте через Вергилия есть, предположительно, явление неповторимое. Миф о Беатриче, пусть это и главное творение Данте, существует лишь в пределах его творчества. Мы не видим всей его странности, потому что не знаем образа, сопоставимого с Беатриче. Мильтонова Урания, его небесная муза из «Потерянного рая», — не человек, и он «ограничивает» ее, предупреждая, что суть ее зовет, не имя[108]. Шелли, подражая Данте, воспел в «Эпипсихидионе» Эмилию Вивиани, но высокая романтическая страсть прошла, и со временем синьора Вивиани превратилась в глазах разочарованного влюбленного в бурого бесенка[109].
Для того чтобы хотя бы отчасти «восстановить» странность Данте, нужно обратиться к его трактовке универсального образа. В западной литературе нет персонажа неуемнее, чем Одиссей, герой Гомера, более известный под своим латинским именем Улисс. После Гомера и до Никоса Казандзакиса образ Одиссея/Улисса необыкновенно видоизменялся у Пиндара, Софокла, Еврипида, Горация, Вергилия, Овидия, Сенеки, Данте, Чепмена, Кальдерона, Шекспира, Гёте, Теннисона, Джойса, Паунда, Уоллеса Стивенса и многих других. У. Б. Стэнфорд в хорошем исследовании «Тема Улисса» (1963) противопоставляет сдержанную, но отрицательную трактовку этого образа у Вергилия положительной солидаризации с Улиссом у Овидия; в эту оппозицию сведены два главных подхода, которые, наверное, будут вечно соперничать друг с другом в метаморфозах этого героя, или героя-злодея. Вергилиев Улисс перейдет к Данте, но будет преображен так, что довольно неясное описание у Вергилия померкнет. Не желая порицать Улисса напрямую, Вергилий перекладывает эту задачу на своих персонажей, у которых герой «Одиссеи» ассоциируется с коварством и хитростью. Овидий, изгнанник и любодей, соединяется с Улиссом в составную личность и оставляет нам устоявшееся ныне представление об Улиссе как о первом великом странствующем женолюбе.
В двадцать шестой песни «Ада» Данте создал самого оригинального Улисса из всех, что мы знаем: тот не хочет вернуться на Итаку к жене, но покидает Цирцею, чтобы вырваться за все рубежи и рискнуть встретиться с неведомым. Гамлетов безвестный край, откуда нет возврата земным скитальцам, делается пунктом назначения этого самого впечатляющего из одержимых роком героев. В двадцать шестой песни «Ада» есть необыкновенный пассаж, с трудом поддающийся усвоению. Улисс и Данте соотносятся диалектически, потому что Данте боялся глубинного тождества себя как поэта (не пилигрима) и Улисса как путешественника, нарушающего границы. Возможно, этот страх был не вполне осознан, но Данте должен был на каком-то уровне его чувствовать — ведь Улисс в его изображении движим гордыней, а Данте не превзошел гордыней ни один поэт: ни — даже — Пиндар, ни Мильтон, ни Виктор Гюго, ни Стефан Георге, ни Йейтс. Исследователи хотят слышать Данте в речах Беатриче и всякого рода святых, но у них с ним разный выговор. Голоса Улисса и Данте опасно схожи — быть может, поэтому не слишком убедительно звучат слова Вергилия о том, что грек может побрезговать отозваться на голос итальянского поэта[110]. Также Данте не позволяет себе никакой реакции на великолепный монолог, написанный им для Улисса — голоса, говорящего из огня (здесь и далее я цитирую прозаический перевод Джона Д. Синклера 1961 года)[111]:
Когда я покинул Цирцею, которая больше года удерживала меня вблизи Гаэты, еще не названной так Энеем, ни нежность к сыну, ни обязательства перед престарелым отцом, ни перед Пенелопой долг любви, которая обрадовала бы ее, не смогли смирить во мне страсти изведать мир, человеческие пороки и достоинства; и я пустился в открытое море с одним лишь кораблем и теми немногими спутниками, что не оставили меня. И один берег, и другой видел я — Испании, Марокко, и Сардинии, и других островов, что омывает море. Я и мои спутники были уже стары и медлительны, когда вошли в узкий пролив, где Геркулес поставил свои столпы, чтобы никто не плыл дальше. По правую руку осталась Севилья, по левую оставалась Сеута. «О братья, — сказал я, — пришедшие, невзирая на сотню тысяч опасностей, на запад, не откажите своим чувствам, которым так недолго осталось бодрствовать, в изведании, вслед за Солнцем, безлюдного мира. Задумайтесь, от кого вы произошли. Вы родились не для того, чтобы жить, как животные, но для добродетели и знания». Мои спутники стали так рваться в путь после этого краткого слова, что я едва мог их удержать, и, повернувшись кормой к утру, мы превратили весла в крылья для безумного полета, все время клонясь влево. Затем ночь увидела все звезды другого полюса, а наш был так низко, что не поднимался со дна морского. Пять раз свет загорался и столько же раз гаснул под луной с тех пор, как мы миновали тот длинный проход, когда нам увиделась гора, плохо различимая издалека, и мне показалось, что горы выше я никогда не видел. Нас наполнила радость, но вскоре она обернулась слезами, ибо от новой страны налетел шквал и ударил в нос корабля. Он три раза повернул его в водовороте, на четвертый — поднял корму кверху, а нос бросил вниз, как повелел Некто, и море вновь сомкнулось над нами.
Даже в виде английской прозы, а не сверхъестественно сильных итальянских терцин, — разве может этот необыкновенный монолог вызвать у обыкновенного читателя мысль, хотя бы отчасти сходную с той, что выразил одареннейший из специалистов по Данте? «Дантово крещение в смерть и следующее за ним воскресение отличает от Улиссовой окончательной смерти от воды явление Христа в истории или благодать, явление Христа в отдельной душе».
Понятно, что эту мысль с тем же успехом способен вызвать и бесконечно более слабый пассаж. Есть несоразмерность между доктриной — или набожностью, не признающими никаких разногласий, только приятие, — и поэтическим текстом, практически не имеющим соперников. Читать Данте, во всем полагаясь на христианскую доктрину, попросту неправильно — пусть даже доля ответственности за этот редукционизм и лежит на самом Данте. Согласно плану Дантова Ада, мы находимся в восьмом рве восьмого круга, не так далеко от Сатаны. Улисс — лукавый советчик, во многом благодаря той роли, которую его ловкость и хитрость сыграли в падении Трои, прародительницы Рима и, следовательно, Италии, о чем рассказано у Вергилия. Данте не обращается к Улиссу потому, что в определенном смысле он и есть Улисс; чтобы написать «Комедию», надо было отправиться туда, где по ту пору не бывал никто[112]. И Данте совершенно ясно дает нам понять, о чем его Улисс не расскажет: о смерти Ахиллеса, о троянском коне, о похищении Палладия — обо всем том, что навлекло на странника проклятие[113].
Его последнее путешествие, несмотря на свой итог, к этому не относится. Загоревшись сам, Данте склоняется к огню, в котором горит Улисс, вожделея знания, томясь по нему. Знание, которое он получает, — это знание о чистом поиске, в жертву которому принесены сын, жена и отец. Этот поиск, среди прочего, — метафора изгнания Данте, продленного его гордостью и непреклонностью: он отказывался принять условия, на которых мог бы вернуться к своей семье. Есть горестный устам чужой ломоть, на чужбине сходить по ступеням[114] — это одна цена, которую платишь за поиск. Улисс готов заплатить более высокую цену. Чей опыт по-настоящему ближе к опыту Данте — триумфальное обращение Августина или последнее путешествие Улисса? Легенда гласит, что прохожие показывали на Данте пальцем как на человека, каким-то образом вернувшегося из путешествия в Ад, словно он был некий шаман. Мы можем допустить, что он верил в свои видения; для поэта такой силы, считавшего себя истинным пророком, схождение в Ад не могло быть простой метафорой. Его Улисс говорит с абсолютным достоинством и страшной пронзительностью: тут не пафос проклятого, но гордость и памятованье о том, что гордость и храбрость ему не помогли.
Эней Вергилия — отчасти зануда, и таковым же делают Данте многие дантоведы — вернее, делали бы, если бы могли. Но он — не Эней; он так же необуздан, эгоцентричен и беспокоен, как его Улисс, и, как его Улисс, он горит желанием «быть не здесь», отличаться. Наверное, дистанция между ним и его двойником оказывается максимальной, когда он заставляет Улисса произнести эти волнующие слова о «чувствах, которым так недолго осталось бодрствовать». Надо помнить, что Данте умер в пятьдесят шесть лет, а хотел прожить на четверть века больше: в своем «Пире» он обозначил идеальный возраст — восемьдесят один год. Лишь к этому сроку он осуществился бы полностью и лишь тогда, возможно, сбылось бы его пророчество. Притом что Улисс отправляется в «безлюдный мир», а космические странствования Данте происходят в краях, населенных одними мертвецами, эти два искателя отличаются друг от друга, и Улисс, безусловно, отчаяннее. Созданный Данте искатель — по меньшей мере героический злодей наподобие Мелвиллова Ахава, другого богоподобного безбожника[115]. Гностический или неоплатонический герой — вовсе не то же самое, что герой христианский, но христианский героизм не слишком трогает воображение Данте — если, конечно, он не восхваляет своего крестоносного предка Каччагвиду, который платит своему потомку сторицей, славя его храбрость и дерзость. В том, как Данте видит Улисса, кроется восхищение, солидарность, семейственная гордость. Приветствуется родственный дух — пусть и пребывающий в восьмом кругу Ада. Это ведь сам Улисс называет свое путешествие «безумным полетом», предположительно противопоставляя его полету Данте, который направляет Вергилий.
С точки зрения сугубо поэтической не может быть полета безумнее, чем описанный в «Комедии»; Данте не желал, чтобы мы смотрели на нее исключительно как на поэму. Это привилегия Данте, но не исследователей его творчества; не следует исходить из этого и читателю. Если мы хотим понять, что делает Данте каноническим, то нам нужно почувствовать достигнутую им странность, его устойчивую самобытность. Это свойство почти никак не связано с историей Августина о том, как прежнее «я» умирает и рождается новое «я». Возможно, Улисс — это прежнее «я», а Беатриче — новое, но и Дантов Улисс, и Беатриче принадлежат Данте. Того, что сделал Августин, Данте не мог сделать лучше, и Данте позаботился о том, чтобы в «Комедии» от Августина было не больше, чем от Вергилия. Она такая, как он хотел: все, что в ней есть, — только от Данте.
Бен-Сирах, автор чудесной «Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова», навеки отнесенной к апокрифам, называет себя подбиравшим позади собирателей винограда, славных мужей и отцов нашего рода[116]. Возможно, поэтому он стал первым еврейским автором, настоявшим на том, чтобы авторство его книги было обозначено его именем. Не будет преувеличением сказать, что Данте не подбирал позади собирателей винограда, чтобы восхвалить славных мужей, которые были до него. Руководствуясь своим собственным суждением, он распределяет их по Лимбу, Аду, Чистилищу и Раю, ибо он — истинный пророк и рассчитывает, что время его оправдает. Суждения его окончательны, безжалостны, иногда неприемлемы с моральной точки зрения, во всяком случае для многих из нас. Он оставил за собою последнее слово, и, когда читаешь его, спорить с ним не хочется — прежде всего потому, что хочется его слушать и представлять себе все то, что он увидел. Едва ли с ним легко было вздорить, пока он был жив, да и потом, как оказалось, его пыл не угас.
Мертвый белый мужчина-европеец Данте — самая живая личность на страницах «Комедии»; этим он разительно отличается от того единственного, кто его превосходит, — от Шекспира, чья личность не показывается нам даже в сонетах. Шекспир — это каждый и никто; Данте — это Данте. Присутствие в языке — не иллюзия, хотя все парижские догматы и говорят об обратном. Печать Данте лежит на каждой строке «Комедии». Главный его персонаж — пилигрим Данте, а затем — Беатриче, уже не девочка из «Новой жизни», а важнейшая фигура небесной иерархии. Данте не описал одного — вознесения Беатриче; впору удивиться, отчего он в своем дерзании не пролил заодно света на тайну ее избранничества. Может быть, оттого, что все прецеденты, на которые он мог ориентироваться, не просто являлись ересью, но принадлежали к ереси ересей — гностицизму. Начиная с Симона Волхва, ересиархи отводили своим ближайшим последовательницам места в надмирной иерархии — так, возмутительный Симон, первый из Фаустов, взял Елену, блудницу из Тира, и объявил, что в одной из ее прошлых жизней она была Еленой Прекрасной. Данте, у которого Эрос сублимирован, но при этом присутствует постоянно, не хотел рисковать и делаться объектом сравнения.
Тем не менее в поэтическом, а не богословском смысле Дантов миф о Беатриче ближе к гностицизму, чем к ортодоксальному христианству. Все свидетельства того, что можно назвать обожествлением Беатриче, не просто имеют индивидуальный характер (иначе и быть не может), но происходят из мира видений, напоминающего о гностицизме II века. Беатриче предстает несотворенной искрой божества или эманацией Божественного, оставаясь при этом умершей в двадцать пять лет флорентийкой. Никакой духовный суд не ведет ее к блаженству и святости — она, кажется, сразу после смерти становится частью небесной иерархии. Ни в «Новой жизни», ни в «Комедии» ничто не указывает на то, что Беатриче подвержена греху, даже заблуждению. Нет, она изначально является тем, что означает ее имя: благословенной. Данте говорит, что в девять лет она была «юным ангелом», дочерью бога[117], — а когда она умирает, поэт называет ее «благословенной Беатриче, которая достославно созерцает лик Того, qui est per omnia saecula benedictus»[118].
Нельзя сказать, что Данте слишком увлекается эротической гиперболой: «Комедию» невозможно представить себе без Беатриче, которой сразу был обеспечен радостный прием в наивысших сферах. Петрарка, стремясь дистанцироваться от более чем видного поэта из поколения его отца, изобрел (как ему казалось) поэтическое идолопоклонство, предметом которого была его возлюбленная Лаура — но что, помимо дерзостного авторитета самого Данте, мешает нам видеть в его поклонении Беатриче самое поэтическое из всех идолопоклонств? Своей властью Данте включил Беатриче в христианскую типологию — хотя, возможно, правильнее будет сказать, что он включил христианскую типологию в свое видение Беатриче. Беатриче, а не Христос — вот поэма; Данте, а не Августин — ее создатель. Я не отказываю Данте в духовности, лишь хочу отметить, что самобытность как таковая не есть христианская добродетель и что Данте значим благодаря самобытности. В большей мере, чем у любого поэта, не считая Шекспира, у Данте не было поэтического отца, хотя он и заявляет, что эту роль сыграл Вергилий[119]. Но Вергилия призывает Беатриче, и он исчезает из поэмы, когда Беатриче торжественно возвращается в нее в последних песнях «Чистилища».
Этому возвращению, которое само по себе необычайно, предшествует появление другого великолепного создания Данте — Мательды, собирающей цветы в возрожденном Земном Раю. Образ Мательды был очень важен для поэзии Шелли, и неудивительно, что Шелли перевел соответствующий фрагмент поэмы, сделав, вероятно, лучший перевод из «Комедии» на английский язык. Вот кульминация этого фрагмента в переводе Шелли, который впоследствии дьявольски спародировал его в своей дантовской по духу поэме о смерти, «Триумф жизни»:
I moved not with my feet, but mid the glooms Pierced with my charmed eye, contemplating The mighty multitude of fresh May blossoms Which starred that night, when, even as a thing That suddenly, for blank astonishment, Charms every sense, and makes all thought take wing, — A solitary woman! and she went Singing and gathering flower after flower, With which her way was painted and besprent. «Bright lady, who, if looks had ever power To bear true witness of the heart within, Dost bask under the beams of love, come lower Towards this bank. I prithee let me win This much of thee, to come, that I may hear Thy song: like Proserpine, in Enna’s glen, Thou seemest to my fancy, singing here And gathering flowers, as that fair maiden when, She lost the Spring, and Ceres her, more dear»[120].В предыдущей песни Данте видит во сне «прекрасную и юную жену, собирающую цветы на лугу и поющую», но она называется Лией, первой женой библейского Иакова, и противопоставляет себя своей младшей сестре Рахили, ставшей второй женой родоначальника народа Израильского.
Лия — прообраз Мательды, а Рахиль — предвестница Беатриче, но увидеть в них антитезу деятельной и созерцательной жизни трудновато:
Пусть всякий, кто спросит, как я зовусь, знает — я Лия, и на ходу я плету прекрасными руками венок; чтобы порадоваться своему отражению, я украшаюсь, а сестра моя Рахиль не отходит от зеркала и сидит перед ним целыми днями. Она так же рада любоваться своими прекрасными глазами, как я — украшать себя своими руками. Ей любо глядеть, мне — делать.
Уничтожило ли эти метафоры время? Или они не устояли перед феминистской критикой? А может быть, в постфрейдовскую эпоху мы чураемся восхваления нарциссизма? Определенно, комментарий обычно точного Чарльза Уильямса по нынешним временам вызывает чувство некоторой неловкости: «Данте в последний раз видит сон: о том, как Лия собирает цветы — разве может быть другое деяние? И о том, как Рахиль глядится в зеркало — разве может быть другое созерцание? Ведь теперь душа может по праву радоваться себе, любви и красоте».
Образ собирающей цветы Лии, или Мательды, в качестве символа деяния или созерцания некстати приводит мне на память рисунок Джеймса Тербера, на котором две женщины наблюдают, как третья собирает цветы, и одна говорит другой: «В душе она настоящая Эмили Дикинсон, вот только ей иногда надоедает». Созерцающая себя в зеркале Рахиль, или Беатриче, напоминает о том неудачном месте у Фрейда, где он сравнивает женский нарциссизм с кошачьим[121]. Несомненно, мои ассоциации произвольны, но типологизация, какие бы ученые пояснения ее ни сопровождали, не всегда идет Данте на пользу. В том, что он задумал «Комедию» поэмой о своем обращении, о том, как он стал христианином, я очень сильно сомневаюсь. Если это и так, то «о чем» здесь имеет весьма поверхностное значение. В глубине своей «Комедия» — о том, как Данте был призван на стезю пророка.
Чтобы сделаться христианином, необязательно подбирать милоть Илии[122] — но только если вы не Данте. Образ Мательды, сменяющей Прозерпину в возрожденном Земном Раю, является не новообращенному христианину, но пророку-поэту, чье призвание подтверждено. Шелли, поэта-пророка не от христианства, а от лукрецианства, фрагмент о Мательде преобразил потому, что высветил для него страсть поэтического призвания, восстановление райского начала, оставившего его великого предшественника Вордсворта. Мательда — потому предвестница Беатриче, что возрождение Прозерпины делает возможным возвращение Музы. Беатриче же — не имитация Христа, а творческое начало Данте, силящееся отождествиться с давней любовью, настоящей или во многом воображаемой — неважно.
Идеализация утраченной любви — практически универсальная человеческая практика; мы проносим через годы память об утраченных возможностях для себя, а не для другого человека. Беатриче так удачно ассоциируется с Рахилью не оттого, что они обе представляют собою созерцательную жизнь, но оттого, что они обе суть страстные образы утраченной любви. Для Церкви Рахиль значима потому, что Церковь видит в ней символ созерцательности, но для поэтов и их читателей она значима потому, что великий рассказчик, Яхвист, или J, сделал ее раннюю смерть при родах великим горем жизни Иакова. В поэтической типологии Рахиль предваряет Беатриче в качестве образа ранней смерти возлюбленной, а Лия связана с Мательдой через идею отложенного исполнения обещания. Иаков служил Лавану за Рахиль, но сперва получил Лию. Данте жаждет возвращения Беатриче, но путь к Беатриче через Чистилище сперва приводит его к Мательде. Это час Утренней звезды, планеты Венеры, но он сводит Данте с Мательдой, а не с Беатриче. Мательда поет, как бы объятая любовной негой, и Данте идет с нею, но это — лишь приготовление, так же как Лия была приготовлением к Рахили.
Внезапно перед поэтом словно из-под земли вырастает триумфальная процессия, описание которой основано, к немалому нашему потрясению, на Иезекиилевом видении «колес и устроения их», колесницы и подобия человека на подобии престола. Данте скрадывает это потрясение, отсылая читателя к тексту Иезекииля за неописуемыми подробностями и наследуя Откровению Иоанна Богослова в понимании Иезикиилева человека как Христа. Для Данте колесница — это победа Церкви, не такой, какой она была, но такой, какой она должна быть; эту идеализированную воинственность он окружает книгами обоих Заветов, но опять же не для того, чтобы опереться на них, а для того, чтобы они не стояли у него на пути. Все это, даже символизирующий Христа Грифон, имеет значение единственно благодаря красоте, о которой возвещает, возвращению былой любви, более не утраченной навеки и невозвратно.
Явление Беатриче в XXX песни «Чистилища» предполагает исчезновение Вергилия. Она делает Вергилия лишним — не потому, что в этот момент богословие заменяет поэзию, но потому, что Дантова «Комедия» к этому моменту полностью заменяет Вергилиеву «Энеиду». Вопреки собственным недвусмысленным словам, Данте (в первый и единственный раз в своей поэме называемый — самой Беатриче — по имени)[123], возводя Беатриче на престол, воспевает свою собственную поэтическую силу. Если судить с прагматической точки зрения, то разве он может делать что-нибудь другое? Сам Чарльз Синглтон, главный богослов среди первостепенных толкователей Данте, подчеркивает: о красоте Беатриче «сказано, что она превосходит все, что создали природа и искусство»[124]. Если вы хотите приравнять поэму Данте к богословской аллегории (а Синглтон от этого намерения не отступал), то получится, что только Бог посредством Церкви мог создать и длить благолепие, недоступное природе и искусству. Но мы должны все время помнить о том, что Беатриче создана единолично Данте — точно в том же смысле, в котором Дульсинея создана Дон Кихотом. Если Беатриче красивее всех женщин в литературе или в истории, то это значит, что Данте воспевает свою изобразительную силу.
По явному замыслу Данте, в «Чистилище» рассматривается католический тезис о том, что стремление к Богу, направленное в неподобающее русло, должно быть возвращено к своим истокам посредством искупления. Самое смелое утверждение, которое делает в своей поэме Данте, состоит в том, что его стремление к Беатриче было не ложнонаправленным, а всегда вело к видению Бога. «Комедия» — это триумф, и поэтому, предположительно, должна быть превосходнейшим образцом западной религиозной поэзии. Она, действительно, превосходнейший пример — сугубо личной поэмы, многих читателей убеждающей в том, что перед ними окончательная истина. Поэтому даже Теодолина Баролини в книге, написанной вроде бы с целью детеологизировать Данте, позволяет себе сказать, что «в „Комедии“, возможно, последовательнее, чем в любом другом когда-либо написанном тексте, делаются сознательные попытки подражать жизни, условиям человеческого существования».
Это суждение озадачивает. Разве в «Аде» и «Чистилище», не говоря о «Рае», делаются более сознательные попытки «подражать жизни», чем в «Короле Лире» или даже в написанных под известным влиянием Данте «Кентерберийских рассказах»? Каким бы ни был реализм Данте, в нем нет того, что даруют нам Чосер и Шекспир: персонажей, которые меняются подобно тому, как меняются живые люди. В «Комедии» меняется и развивается один Данте; все остальные неподвижны и неизменны. Иначе и быть не может, потому что им был вынесен окончательный приговор. Беатриче же — как персонаж поэмы, а больше она, собственно, ничем и не может быть — разумеется, еще дальше от подражания жизни: что общего она имеет с условиями человеческого существования? Несмотря на докторальный тон, Чарльз Уильямс тут несравненно более убедителен, чем прочие дантоведы; он говорит о «Комедии»: «Даже эта поэма не чужда ограниченности. В ней Данте не подступается к вопросу спасения самой Беатриче и своей в нем роли».
Мне это заявление кажется несколько безумным, но уж лучше такое безумие, чем драпировка Данте доктриной или ошибочное восприятие его поэмы как подражания жизни. Для Данте-поэта вопроса спасения самой Беатриче вовсе не существовало. Она спасла Данте тем, что дала ему его величайший поэтический образ, а он спас ее от забвения — пусть она, возможно, и мало нуждалась в этом спасении. Уильямс предается мистическим размышлениям о «браке» между Беатриче и Данте, но это Уильямс, а не Данте. Появившись в «Чистилище», она говорит со своим поэтом не как возлюбленная и не как мать, но как божество говорит со смертным — с таким, впрочем, смертным, с которым оно связано особенными отношениями. В суровости, с которой она к нему обращается, — его очередная инвертированная похвала самому себе, так как она есть высший знак его самобытности, глас его пророческой трубы[125]. В сущности, его корит его собственный гений — и от кого другого принял бы укор самый горделивый из поэтов? Вероятно, он не отказался бы и от сошествия Христа, но даже Данте не рискнул бы такое изобразить.
Муза вторгается в его жизнь, но он называет ее «блаженством» и отводит ей роль, способную принести благо всем.
Она не сойдет ради других и не сойдет к другим: она приходит только ради его поэзии; и он — ее пророк; к этой роли он готовился с «Новой жизни». Несмотря на свои непростые отношения со множеством традиций — поэтической, философской, богословской, политической, — Данте не обязан Беатриче ни одной из них. Ее можно отделить от Христа, но не от поэмы, потому что она и есть Дантова поэма, беспримерный образ образов, представляющий не Бога, но само свершение Данте. Я постепенно привыкаю слышать от исследователей, что Дантово свершение интересовало его в качестве пути к Богу, и отказываюсь им верить. Изгнанный из родного города, увидевший падение императора, на которого он возлагал главные свои надежды, Данте в конце концов мог укрепить свои камни[126] только своей поэмой.
Философ Джордж Сантаяна в книге «Три поэта-философа» (1910) проводит различие между Лукрецием, Данте и Гёте на основании их приверженности идеям соответственно эпикурейской натурфилософии, платонического супернатурализма и романтического, или кантианского, идеализма. О Данте Сантаяна говорит, что тот «стал для платонизма и христианства тем, чем Гомер был для язычества», но добавляет, что любовь, которую Данте «испытывает и описывает, не есть нормальная, здоровая любовь». Осуждение страсти Данте к Беатриче как ненормальной и нездоровой лишь на том основании, что она ставит так мало преград мистическому превращению возлюбленной в часть божественной системы спасения, — это, кажется, святотатство. И все же это замечание Сантаяны и проницательно, и отрадно, как и его ироническая хвала Данте за то, что тот в своем стойком эгоизме опередил время.
Добавив, что не было другого такого платоника, как Данте, Сантаяна должен был бы затем сформулировать еще более важную вещь: другого такого христианина, как Данте, тоже не было, и Беатриче — печать его непохожести, знак того, что Данте привнес в церковную веру. На деле — во всяком случае, для исследователей и поэтов — «Комедия» стала третьим Заветом, предсказанным Иоахимом Флорским. Самые тонкие возражения против этого «делового» критерия выдвинули не ученые школы Аэурбаха, Синглтона и Фреччеро, а А. К. Черити в своем исследовании по христианской типологии «События и их загробная жизнь» (1966) и Лео Шпитцер, которого Черити считал своим предшественником. Черити утверждает, что Беатриче — это образ Христа, но не Христос и не Церковь, и цитирует слова Кенелма Фостера о том, что «она не заменяет Христа, а отражает и распространяет его». Это, возможно, и благочестиво, но это не «Комедия», в которой Данте, глядя на Беатриче, видит Беатриче, а не Христа. Она — не зеркало, а человек, и даже Лео Шпитцер в своих «Показательных статьях» (1988) не совсем справляется с трудностью, которую представляют ее индивидуальность, ее уникальность:
То, что Беатриче — это аллегория не просто откровения, но откровения личного, подтверждается как автобиографическим происхождением этого образа, так и ее положением в Загробном мире: она не ангел, но благословенная душа человека, повлиявшего на земную жизнь Данте и призванного сослужить Данте во время его странствий службу, которую никто, кроме нее, не сослужит; она не святая, но Беатриче, не мученица, но умершая молодой женщина, которой было дозволено остаться на земле лишь затем, чтобы Данте уверовал в чудеса. Вольное обращение Данте с доктриной предстанет не столь дерзким, если принять во внимание тот факт, что откровение может явиться христианину в индивидуальной форме, подходящей ему лично… Она есть… подобие… тех исторических личностей, которые родились прежде Спасителя и предвещают его приход.
Как бы Шпитцер ни был находчив, толку от этого чуть, и «дерзости» Данте это не уменьшает. По Данте, Беатриче — это нечто куда большее, чем всего лишь личное, индивидуальное откровение. Сначала она явилась своему поэту, Данте, но через него она является его читателям. В «Аде» Вергилий говорит ей: «О добродетельная, ты одна возвышаешь род людской над всем, что есть под этими малыми небесами»[127]; Курциус поясняет: «Одна Беатриче возвышает человечество над всем земным, что бы это ни означало: Беатриче имеет метафизическое достоинство для всех людей — одна лишь Беатриче». Шпитцер, кроме того, слишком быстро оставляет в стороне разницу между предвосхищением Христа и имитацией Христа. Если бы Беатриче была до Христа, то можно было бы говорить, что она — очередной предтеча, но она, понятно, была после, и то, что Данте полюбил — в ней и как ее самое, — не было имитацией Христа. По меньшей мере она, как отметил Сантаяна, — пример платонизации христианства, которое платонизировали непрестанно — и до Данте, и после. По большей же мере — она есть то, чем называл ее Курциус: средоточие поэтического гнозиса, видения Данте.
Тут мы возвращаемся к Беатриче как знаку Дантовой самобытности, к сердцу его силы и странности. Гордость не является христианской добродетелью, но для величайших поэтов она всегда была добродетелью из самых важных. Возможно, грандиозное исключение — Шекспир, вообще исключительный в столь многих отношениях. Мы никогда не узнаем, что он думал о себе как об авторе «Гамлета», «Короля Лира» или «Антония и Клеопатры». Может быть, ему и не нужно было ничего специально думать, так как он никогда не был обделен признанием и коммерческим успехом. Он не мог не знать вполне определенно, насколько самобытными и громадными были его свершения, но в его пьесах мы не найдем похвал самому себе, да и его сонеты, хотя в них такие похвалы встречаются, выражают изрядную скромность. Мог ли Шекспир без иронии говорить о даре или горизонтах какого-нибудь поэта-соперника, верил ли он в «гордый ход» «великих стихов» Джорджа Чепмена?[128] Данте гордо отправляется в сторону Рая и воспевает себя за то, что воспевает Беатриче. В «Потерянном рае» гордость Сатаны, пусть и соотносящаяся с гордостью самого Мильтона, повергает его в бездну. В «Комедии» гордость Данте возносит его — к Беатриче и выше.
Беатриче — эманация не только гордости Данте, но и его нужды. Исследователи судят о том, что она означает и олицетворяет; я предлагаю задуматься над тем, что Беатриче позволила Данте обойти вниманием в своей поэме. Вико трогательно сожалел о том, что Данте был столь сведущ в богословии. Осведомленность Данте в духовных вопросах — это не проблема; проблема — осведомленность его толкователей. Не будь в «Комедии» Беатриче, Вергилию пришлось бы препоручить Данте кому-нибудь из святых, который бы и провел того из Земного Рая к Райской розе. Читательское сопротивление религиозности, которое и так, возможно, куда существеннее, чем готовы признать англо-американские дантоведы, несомненно, усилилось бы, если бы место Беатриче занял Блаженный Августин. Еще важнее то, что в таком случае усилилось бы и сопротивление Данте общепринятой доктрине. Совпадения между воззрениями Данте и католической верой — скорее видимость, чем реальность, но Данте ставит во главу угла Беатриче отчасти для того, чтобы ему не пришлось расходовать энергию воображения на ненужный конфликт с догмой.
Именно наличие и роль Беатриче превращают субстрат Августина и Фомы Аквинского в нечто куда более художественное, добавляют странности к истине (если считать написанное Данте истиной) или к вымыслу (если воспринимать это как вымысел). Лично я, интересуясь гнозисом, как поэтическим, так и религиозным, считаю эту поэму не истиной и не вымыслом, а Дантевым познанием, которому он решил дать имя Беатриче. Когда твое знание по-настоящему напряженно, ты не обязательно задумываешься над тем, истинно оно или ложно; ты прежде всего знаешь, что это знание по-настоящему твое. Иногда мы зовем такое знание «любовью», почти неизменно с уверенностью, что этот опыт постоянен. Чаще всего оно уходит и оставляет нас в недоумении, но мы не Данте и не можем написать «Комедию», поэтому все, что мы в конце концов знаем, — это утрата. Беатриче — это то, что отличает каноническое бессмертие от утраты, потому что, не будь ее, Данте был бы сейчас еще одним итальянским поэтом — предшественником Петрарки, умершим в изгнании, погубленным своими гордыней и пылом.
И христианское фэнтези Чарльза Уильямса, и его довольно несуразные стихи, и его беззастенчивая христианская апологетика вроде «Он сошел с небес» и «Схождения голубицы» вызывают у меня ощутимую неприязнь. Беспристрастным литературоведом Уильямса тоже не назовешь. Он по-своему не менее идеологизирован, чем неофеминисты, псевдомарксисты и редукционисты-франкофилы, из которых состоит наша Школа ресентимента. Но Уильямс — едва ли не единственный, кого можно отметить за восприятие Данте в первую очередь как создателя образа Беатриче:
Образ Беатриче существовал в его сознании; он не уходил оттуда и был намеренно обновлен. Слово «образ» тут уместно по двум причинам. Во-первых, субъективные воспоминания внутри него имели в основе своей нечто объективно существовавшее вовне, это был образ внешнего явления, а не внутреннего вожделения. Это было видение, а не измышление. Данте утверждает, что измыслить Беатриче ему бы не удалось.
Утверждение поэта — это его стихи, и Данте — не первый и не последний поэт, настаивавший на том, что он не измыслил нечто, а по-настоящему увидел. Пожалуй, Шекспир мог бы сказать то же самое об Имогене из «Цимбелина». Уильямс сравнивает Беатриче с Имогеной, но Беатриче, в отличие от пилигрима Данте и его проводника Вергилия, в отличие от Улисса из «Ада», не совсем литературный персонаж. У нее есть драматические свойства — например, проблескивает высокое негодование; но, будучи скорее целой поэмой, чем ее персонажем, она может быть постигнута читателем лишь после того, как тот прочтет и усвоит всю «Комедию» — чем, вероятно, и объясняется причудливая смутность (и это ни в коей мере не художественный изъян) образа Беатриче. Ее отрешенность, даже от своего поэта-возлюбленного, куда глубже, чем показывает Уильямс; Данте тщательно конструирует эту отрешенность, и она достигает апогея в тот пронзительный момент в «Рае», когда он видит Беатриче издалека:
Я поднял глаза и увидел ее в венце, отражавшем предвечный свет. От высочайшей области, где гремит гром, не бывает так отдален глаз смертного, даже если он затерян в глубинах моря, как был отдален мой взор от Беатриче; но это ничего не значило, ибо ее образ сошел ко мне, и ничто между нами его не затуманило.
«О госпожа, которою крепка моя надежда и которая ради моего спасения оставила свои следы в Аду, во всем, что я видел, я узнаю твои милость и добродетель; ты вывела меня из рабства на свободу всеми средствами и всеми силами, что были в твоей власти. Не оставь меня своею великой щедростью, дабы мой дух, который ты сделала полным, отошедши от тела, был тебе мил». Так я молил; и она, казавшаяся столь далекой, улыбнулась и взглянула на меня, а затем перевела взор на предвечный источник.
Комментируя этот великолепный отрывок в одной из моих предыдущих книг, я заметил, что Данте отказывался принять свое выздоровление от кого бы то ни было, как бы тот ни был свят, кроме своего собственного создания, Беатриче. Один литературовед-католик упрекнул меня в непонимании природы веры и по меньшей мере один дантовед сказал, что мое наблюдение было романтически-сатанинским (уж и не знаю, что это нынче может означать). Я же недвусмысленно отсылал к Фрейдову скорбному и красноречивому подведению итогов, «Анализу конечному и бесконечному», в котором создатель психоанализа сетует на то, что его пациенты не принимают от него свое выздоровление[129]. Данте, с которым никто не сравнится в гордости, не принял бы свое выздоровление ни от кого, кроме Беатриче, и именно к Беатриче обращена Дантова молитва. Его пророческая дерзость — не от Августина, и его имперские политические взгляды противоречат Августинову убеждению, что церковь заместила собою Римскую империю. «Комедия» есть апокалиптическая поэма, а Беатриче — творение, создать которое мог лишь поэт, веривший, что его пророчество сбудется еще при его жизни. Что бы Августин подумал о поэме Данте? Предположу, что больше всего нареканий у него бы вызвала Беатриче, частный миф, который одолевает небеса, когда Данте берет силой Царство Небесное[130].
Была ли у Беатриче предшественница, и если да, то кто? Беатриче — христианская муза, которая, включившись в действие поэмы, настолько с поэмой сливается, что мы уже не можем представить себе эту поэму без нее. Данте назначил себе в предшественники Вергилия, и если в «Энеиде» есть параллель к Беатриче, то это, видимо, Венера. Венера Вергилия, как подчеркивает Курциус, напоминает скорее Артемиду или Диану, чем Афродиту. Она крайне сдержанна, странным образом схожа с Сивиллой; про Амура сразу и не скажешь, что это ее сын (в отличие от полубога Энея). Исторический Вергилий (в противоположность результату Дантова сильного искажения), эпикуреец и стоик, не слишком алкал милости и искупления — лишь отдохновения от картины бесконечного страдания и его бессмысленности. Если бы Данте был точнее, то Вергилий оказался бы рядом с великолепным Фаринатой в шестом круге Ада, отведенном эпикурейцам и прочим еретикам.
Предшественником Вергилия был Лукреций, самый сильный из поэтов-материалистов и натурфилософов, больший эпикуреец, чем сам Эпикур. Данте Лукреция не читал — того вернули к жизни лишь в конце XV столетия. Я бесконечно об этом жалею, потому что в его лице Данте нашел бы по-настоящему достойного оппонента. Ужаснулся бы Данте Лукрецию, мы знать не можем, но он был бы вне себя, узнав, что, если не по мироощущению, то по духу Вергилий гораздо ближе к Лукрецию, чем к нему. Венера Вергилия — явно «ответвление» от Венеры Лукреция, так что ситуация получается ироническая: Лукреций приходится Данте, так сказать, злобным дедом — если, конечно, мое предположение, что Венера Вергилия есть прямой предок Беатриче, хоть в какой-то мере справедливо. Джордж Сантаяна убедительно описывает Венеру из поэмы «О природе вещей» как Эмпедоклову Любовь, между которой и Марсом существует диалектическое напряжение:
У Лукреция Марс и Венера суть не моральные силы, несовместные с механикой атомов; они суть эта механика, которая то созидает, то уничтожает жизнь или то или иное высокое начинание — вроде сочинения Лукрецием своей спасительной поэмы. Слившись в объятьях, Марс и Венера вместе правят вселенной[131]; что-то рождается лишь тогда, когда что-то другое умирает.
Эмпедоклеанско-лукрецианская формула «Смертью друг друга они живут, жизнью друг друга они умирают»[132] восхитила Йейтса, этого языческого мистагога, но Данте отверг бы ее с презрением. Отношение к ней Вергилия, судя по его Венере, было амбивалентным. Он взял у Лукреция, чью поэму он, безусловно, читал очень внимательно, идею о том, что по-настоящему Венера дала жизнь римлянам — через своего сына Энея, их предка и основателя. Но у Вергилия Венера не заключает Марса в вечные объятия. Странным образом — она как-никак богиня любви — Венера Вергилия целомудренна, как Беатриче. В отличие от Данте, Вергилий не питал страсти к женщинам и, возможно (по схеме Данте), должен был бы попасть не только в Десятую песнь «Ада» к эпикурейцу Фаринате, но и в Пятнадцатую к содомиту Брунетто Латини, почтенному учителю Данте.
Есть изысканная ирония в том, что Беатриче, великолепная христианская муза, могла произойти от образа Венеры, которая уподоблена Диане, — отчасти как реактивное образование от любострастной эпикурейской Венеры, отчасти потому, что предшественника Данте не привлекали женщины. Доминантная женская фигура в эпосе Вергилия — это пугающая Юнона, кошмарная богиня, представляющая собою противовес Венере; по отношению к Венере она — контрмуза. Есть ли контрмуза у Данте? Фреччеро находит таковой Медузу из Девятой песни «Ада» и соотносит этот образ с Пьетрой из Дантовых «Стихов о Каменной Даме», в частности из великолепной секстины, которую так сильно перевел Данте Габриэль Россетти: «То the dim light and the large circle of shade»[133]. Фреччеро сравнивает Данте с Петраркой, своевольным последователем Данте в следующем поколении, чья Лаура — это, по сути, одновременно муза и контрмуза, Беатриче и Медуза, Венера и Юнона. Для Фреччеро это сравнение — в пользу Данте, так как Беатриче отсылает к чему-то большему, чем она сама, — предположительно к Христу и Богу, а Лаура не выходит за пределы сонетов. Я бы сказал, что это безразличное различие[134], несмотря на всю августинианскую суровость Фреччеро:
Подобно Пигмалиону, Петрарка влюбляется в собственное создание, которое в свою очередь создает его: игра слов «лавр-Лаура» указывает на этот «замкнутый процесс», самую суть его творения. Своими стихами он создает Лауру, которая в свою очередь создает ему репутацию поэта, увенчанного лаврами. Она, таким образом, не играет роль посредницы, отсылающей к чему-то большему, чем она сама, но оказывается замкнутой внутри его поэтического бытия, то есть стихотворений. Петрарка говорит именно об этом, когда в последней своей молитве сознается в грехе идолопоклонства[135], истовой любви к творению своих рук.
Если в богословском смысле Данте нас не убеждает — а многих он более не убеждает, — то чем же подтверждается мысль Фреччеро о том, что Данте почему-то свободен от неизбежных художественных дилемм Петрарки? В том ли дело, что Петрарка, предок и возрожденческой, и романтической поэзии — и, соответственно, поэзии современной, — с неизбежностью разделяет предполагаемые грехи тех, кто явился на свет после распада средневекового синтеза? Данте, подобно Петрарке, влюбляется в свое собственное создание. Чем еще может быть Беатриче? И, коль скоро она — самое самобытное, что есть в «Комедии», разве она в свою очередь не создает Данте? Один лишь Данте властен внушить нам это заблуждение — будто Беатриче отсылает к чему-то большему, чем она сама, и она, безусловно, ограничена «Комедией» — если не считать, что личный гнозис Данте есть истина и для всех прочих.
Молится ли кто-нибудь Беатриче, кроме Данте, Пилигрима вечности? Петрарка с радостью сознавался в идолопоклонстве, потому что, как блистательно показал сам Фреччеро, это помогало ему дистанцироваться от своего подавляющего предшественника. Но разве Данте не любит истово завершенную «Комедию», поразительное творение своих рук? Идолопоклонство — это богословское понятие и поэтическая метафора; Данте, как и Петрарка, — поэт, а не богослов. То, что Данте — более великий поэт, чем жертва Лауры, Петрарка, безусловно, сознавал; но из них двоих именно Петрарка сильнее повлиял на позднейших поэтов. Данте пропал из виду до XIX века; в эпохи Возрождения и Просвещения его мало ценили. Петрарка занял его место, тем самым реализовав свой хитроумный план по овладению искусством поэтического идолопоклонства, иными словами — изобретению лирики. Данте умер в 1321 году, когда Петрарке было семнадцать лет. Когда около 1349 года Петрарка готовил первое издание своих сонетов, он, кажется, знал, что вводит в оборот способ высказывания, не исчерпывающийся сонетной формой — и не выказывающий признаков увядания шесть с половиной веков спустя. Второй «Комедии» быть не могло, так же как не могло быть трагедии после того, как ее оставил Шекспир. Каноническое величие Данте — скажем об этом в последний раз — никак не связано ни с Блаженным Августином, ни с истинами (если это истины) христианства. В наше дурное время нам в первую очередь нужно восстановить представление о литературной индивидуальности и поэтической автономии. Данте, как и Шекспир, дает нам самый необходимый для этого восстановления материал — но нам придется сперва обойти сирен, поющих нам богословские аллегории.
4. Чосер: Батская ткачиха, Продавец индульгенций и шекспировский характер
Если не считать Шекспира, Чосер — первый среди англоязычных писателей. Это утверждение, всего лишь повторяющее традиционное суждение, предстает совершенно нелишним в канун нового века. Чосер и его немногочисленные литературные соперники после древних — Данте, Сервантес, Шекспир — могут оказать на нас счастливое воздействие, вернув нам точки отсчета, которые все мы рискуем утратить ввиду нашествия сиюминутных шедевров, грозящего нам теперь, когда действует культурная справедливость, гонящая вон эстетические соображения. «Кентерберийские рассказы» — замечательное подспорье для перехода от перехваленного к тому, что перехвалить невозможно. От имен на странице мы переходим к тому, что приходится назвать виртуальной реальностью литературных персонажей, к убедительным и достоверным мужчинам и женщинам. Что дало Чосеру способность изобразить своих героев так, что они сделались вечными?
В отменной биографии 1987 года, написанной ныне покойным Дональдом Р. Ховардом, сделана попытка ответить на этот почти не решаемый вопрос. Ховард признает, что Чосера мы знаем только по его сочинениям, но вслед за этим напоминает нам о том, что за люди его окружали:
В позднее Средневековье собственность и наследство были неизменными заботами, можно сказать, навязчивыми идеями, — особенно для купеческого сословия, к которому принадлежали Чосеры; для того же, чтобы ими завладеть, нередко применялись такие средства, как вооруженный захват, похищение и ложные судебные иски. Англичане времен Чосера не были похожи на стереотипных современных невозмутимых англичан, детей Просвещения и Империи; буйные нравом и склонные к крайностям в обращении с равными (с ниже- или вышестоящими было принято вести себя сдержанно), они больше походили на своих пращуров-норманнов. Они, не обинуясь, рыдали на людях, впадали в гнев, давали многочисленные и изобретательные клятвы, вели друг с другом совершенно оперные кровные распри и бесконечные судебные войны. Смертность в Средние века была высокой, а жизнь — полной опасностей; мы видим там больше безрассудства и ужаса, больше покорности и отчаяния, больше игры с судьбой. И больше насилия — или насилие более мстительного, демонстративного характера: их стиль — отрубленные головы на кольях и виселицы с повешенными, наш — фотографии разыскиваемых преступников в почтовых отделениях.
Наш стиль, увы, стремительно меняется: в университетах взрываются начиненные взрывчаткой бандероли, в Нью-Йорке устраивают теракты исламские фундаменталисты, а прямо сейчас, когда я пишу эти строки, в Нью-Хейвене раздаются выстрелы. Ховард пишет, что Чосер жил во время войн, чумы и мятежей — не сказать, чтобы в нынешней Америке все это было чем-то немыслимым; сам Ховард умер от чумы наших дней перед самым выходом в свет его книги. Но основная его мысль безупречна: Чосерова эпоха не была спокойной, его сограждане не были мирными и его кентерберийским паломникам было о чем молить Бога, достигнув усыпальницы Томаса Бекета[136]. Личность Чосера-человека, не только иронически изображенного Чосера-пилигрима, оставила глубокий след на всех его сочинениях. Как и у его прямых предшественников, Данте и Боккаччо, его огромная самобытность сильнее всего проявилась в персонажах и его собственном «голосе», в том, как он владел интонацией и образностью. Подобно Данте, он изобрел новые способы изображения личности, и он почти так же относится к Шекспиру, как Данте к Петрарке; разница — в невероятной плодовитости Шекспира: она превосходит даже то, что имел в виду Драйден, сказавший о «Кентерберийских рассказах»: «Вот Божье изобилье». Ни один писатель — ни Овидий, ни «английский Овидий» Кристофер Марло — не повлиял на Шекспира так основательно, как Чосер. Самое самобытное у Шекспира, то, как он изображает человеческую личность, начинается с Чосеровых подсказок — с того, что у Чосера намечено, но отнюдь не развито полностью. Но прежде чем мы в общих чертах покажем наследие Чосерова величия у Шекспира, нам следует подчеркнуть и продемонстрировать это величие.
Из всех, кто писал о Чосере, я больше всего люблю Г. К. Честертона, отметившего, что «ирония Чосера подчас столь велика, что ее даже не разглядеть», и подробно рассуждавшего о главном в этой иронии:
В ней есть некий намек на колоссальные и бездонные идеи, соединенные с самой природой созидания и действительности. В ней есть нечто от философского представления о феноменальном мире, от всего того, что подразумевали мудрецы, вовсе не пессимисты, говорившие, что мы пребываем в мире теней… В ней есть вся тайна отношения создателя к своим созданиям.
В своей обычной парадоксальной манере Честертон возводит Чосеров необыкновенный реализм и его психологическую проницательность к ироническому сознанию утраченного времени, вящей действительности, канувшей в небытие и обрекшей тех, кто ее пережил, на печаль и тоску по ней. Доброжелательство у Чосера существует, но оно всегда уязвимо, и примеры отпадения от рыцарственного великодушия встречаются на каждом шагу. Поглощенность исчезнувшим миром рыцарских романов Честертон перенял у Чосера; это подтверждает Дональд Ховард, назвавший эту поглощенность системообразующей «идеей» «Кентерберийских рассказов». Они являют нам «картину разлаженного христианского общества — отживающего свое, пришедшего в упадок, пребывающего в сомнениях; мы не знаем, к чему оно идет». Написать такую картину мог только иронист.
В своей книге Ховард обнаруживает источник Чосеровой отчужденности, или амбивалентности, в резком контрасте между буржуазным воспитанием и аристократическим образованием, которое впоследствии получил юный поэт-придворный. Данте открыл Аристократическую эпоху в литературе — при всей его прочной связи с эпохой Теократической. Но Чосер, в отличие от Данте, не принадлежал даже к мелкому дворянству. Я с неизменным подозрением отношусь к попыткам социального объяснения иронической установки великого поэта, чьи темперамент и кураж противодействуют всякой обусловленности. Сознание Чосера объемлет так много, его ирония проникает так глубоко и она так индивидуальна, что одни внешние обстоятельства едва ли могли играть здесь главную роль. Английским предшественником Чосера был его друг, поэт Джон Гауэр — двенадцатью годами старше и заметно проигрывавший в сравнении со встававшим на ноги сочинителем. По-английски Чосер говорил с детства, но он также говорил на англо-французском (бывшем нормандском), а обучаясь при дворе, научился говорить, читать и писать на парижском французском и итальянском языках.
Рано почувствовав, что достаточно сильных англоязычных предшественников у него нет, он сначала обратился к своему старшему современнику Гийому де Машо, первостепенному французскому поэту (и композитору). Но после того как этот ранний этап увенчался замечательной элегией «Книга о королеве», Чосер отправился с поручением короля в Италию и в феврале 1373 года оказался в предвозрожденческой Флоренции, прощавшейся тогда с великой эпохой своей литературы. Изгнанный Данте умер более полувека назад, а его преемники в следующем поколении, Петрарка и Боккаччо, были стары; в течение двух лет оба скончались. Поэта силы и масштаба Чосера эти сочинители — точнее, двое из них, Данте и Боккаччо — неминуемо должны были вдохновить и, как следствие, ввергнуть в тревогу. Петрарка имел для Чосера некоторое значение как знаковая фигура, но едва ли как собственно сочинитель. В тридцать лет поэт Чосер знал, чего хочет, и у Петрарки от этого не было ничего, а у Данте — самая малость. Первоначалом, в котором нуждался Чосер, стал для него Боккаччо, нигде у Чосера не упоминающийся.
Данте, чья духовная гордость не знала границ, написал третий Завет, запечатлел истину; с ироническим темпераментом Чосера это никак не сочеталось. Различия между Данте, Пилигримом вечности, и Кентерберийским пилигримом Чосером поразительны; Чосер явно проводил эти различия намеренно. «Дом славы» вдохновлен «Божественной комедией», но содержит дружеское над нею подтрунивание, а «Кентерберийские рассказы» на одном из уровней представляют собою скептическую критику Данте, в первую очередь его отношения к запечатленному им. Темперамент Чосера создал дистанцию между ним и Данте; как поэтические личности они несовместны.
То ли дело Боккаччо, страстный ценитель и истолкователь Данте; он не слишком бы обрадовался — там, в раю поэтов, — если бы его прозвали «итальянским Чосером», а Чосер, избегавший самого имени Боккаччо, пришел бы в ужас, если бы его именовали «английским Боккаччо». Но их сродство — даже без учета блистательно совершенных Чосером колоссальных присвоений — подлинно, его как будто не могло не возникнуть. Важнейшую роль тут играет «Декамерон», ни разу Чосером не упомянутый и, возможно, пристально им не прочитанный, но, похоже, ставший моделью для «Кентерберийских рассказов». Ироническое повествование, предмет которого — повествование, было во многом придумано Боккаччо, и этот прорыв был вызван желанием освободить рассказ от нравоучительности и морализаторства, чтобы не рассказчик, а слушатель или читатель решал, как им распорядиться — во благо или во зло. Чосер взял у Боккаччо представление о том, что рассказ не должен быть истиной или иллюстрировать истину; рассказ — это «новое», новинка[137], так сказать. Поскольку Чосер был больший иронист и даже более сильный писатель, чем Боккаччо, его преобразование «Декамерона» в «Кентерберийские рассказы» оказалось радикальным: замысел Боккаччо был пересмотрен от начала и до конца. Если читать эти тексты параллельно, то мы найдем относительно немного пересечений; но без непризнанного посредничества Боккаччо повествовательная манера зрелого Чосера не состоялась бы.
Чосер считал своим шедевром «Троила и Крессиду», одну из малочисленных больших великих поэм на английском языке, которую тем не менее сейчас читают редко — по сравнению с «Кентерберийскими рассказами», сочинением безусловно более самобытным и каноническим. Возможно, Чосер недооценивал самое поразительное свое достижение именно вследствие его самобытности, но что-то во мне яростно протестует против этого допущения. Сочинение это не завершено и с формальной точки зрения состоит из огромных фрагментов; но, когда его читаешь, оно как-то не производит впечатления незавершенного. Может быть, это одна из тех книг, которые их авторы даже не надеются окончить, потому что эти книги и их жизни становятся одним целым. Образ жизни как паломничества — не в Иерусалим, но на последний суд — сливается у Чосера с сюжетообразующим паломничеством в Кентербери, во время которого тридцать паломников рассказывают истории. При этом его поэма — вещь чрезвычайно светская и почти сплошь ироническая.
Повествователь — сам Чосер, доведенный до состояния святой простоты: он оживлен, бесконечно добродушен, верит всему, что говорят, и обладает удивительной способностью восхищаться даже теми ужасными свойствами, что проявляют некоторые из его двадцати девяти спутников. Э. Тэлбот Дональдсон, самый умудренный и гуманный из писавших о Чосере, подчеркивает, что Чосер-паломник, как правило, «не сознает значения того, что видит — как бы ясно он это ни видел» и при этом постоянно выражает «добродушное восхищение умелым воровством». Возможно, Чосер-паломник — это не столько Лемюэль Гулливер (как считает Дональдсон), сколько не самая добрая пародия на пилигрима Данте, яростного, категоричного, зачастую снедаемого ненавистью — апокалиптического нравоучителя, который, как правило, более чем сознает значение того, что он видит с такой ужасающей ясностью. Столь тонко подшутить над поэтом, чья творческая спесь, без сомнения, отталкивала автора «Дома славы», — ирония совершенно чосеровская.
Настоящий Чосер, комический иронист, управляющий внешне невыразительным паломником, выказывает отстраненность и почти шекспировскую приимчивую беспристрастность — насколько вообще можно судить о взглядах Шекспира. Обоим поэтам отстраненность помогает создать искусство умолчания: мы часто затрудняемся объяснить, почему, описывая каждого по отдельности, Чосер-паломник припоминает одни детали и забывает или опускает другие. В случае двух наиболее интересных персонажей, Батской ткачихи и Продавца индульгенций (далее — Продавца), это искусство избирательной памяти дает Шекспиров отзвук. Ховард проницательно замечает, что Чосер пошел дальше Боккаччо, поняв, что «рассказ каждого может многое рассказать о том, кто его рассказывает», и таким образом — допустим — заполнить иные из лакун, оставленных Чосером-паломником. Мы должны — по крайней мере, иногда — верить рассказу, а не рассказчику, особенно когда рассказчик столь впечатляющ, как Батская ткачиха или Продавец. Но, разумеется, Чосер-паломник даже более впечатляющ, чем они, поскольку мы не можем знать наверняка, так ли он наивен, как явно хочет казаться. Некоторые исследователи утверждают, что повествователь пугающе искушен, что он на самом деле Чосер-поэт, скрывающийся от своих спутников за коварной невыразительностью и ничего не упускающий из виду.
Думаю, чтобы читать ирониста столь же последовательного и пленительного, как Чосер, нужно вернуться назад, к Яхвисту, или забежать вперед, к Джонатану Свифту. Одна из моих любимых нападок на «Книгу J» — вопрос одного библеиста: «Отчего профессор Блум полагает, что три тысячи лет назад существовала ирония?» Чосер — не Священное писание, поэтому ученым проще признать непростую истину: у столь универсального рассказчика, как автор «Кентерберийских рассказов», редко встретишь неиронический пассаж. Возможно, законный литературный родитель Чосера — Яхвист, а его законное чадо — Джейн Остен. Три этих автора сделали иронию главным своим инструментом постижения и созидания — и читатель вынужден самостоятельно постигать, что же они такое создали. В отличие от свирепой иронии Свифта, разъедающей все и вся, ирония Чосера редко бывает негуманной, хотя порочность Продавца и вызывает у нас некоторые сомнения в этом, а едва ли не каждый из тех, кто вроде бы совершает паломничество, на самом деле, как выясняется, никакой не паломник. «Честный Яго», жуткий рефрен «Отелло»[138], — это чосеровская ирония, и Шекспир наверняка это понимал. Прямой предок «честного Яго» — «добрый Продавец»[139]. Джил Мэнн — лучшего анализа иронии у Чосера, чем у нее, я не встречал — объясняет неоднозначность этой иронии через ее подвижность, через постоянную комическую смену взгляда на мир, последовательно не дающую нам возможности вынести моральное суждение, так как внутри одной иллюзии кроется другая. Это возвращает меня к гипотезе о том, что Чосерова ирония — это реакция на надменную пророческую позу Данте.
Столкнись Данте с Батской ткачихой, Продавцом и еще несколькими кентерберийскими паломниками, он — если бы ему вообще было до них дело — без колебаний определил бы каждого в подобающий круг Ада. Если бы они представляли для него какой-то интерес, то он был бы связан с тем, какое место они должны занимать в вечности и почему они должны его занимать, ибо Данте заботят только «последние вопросы». Для Чосера вымысел — это не средство отображения или выражения окончательной истины; он лишь чудесно приспособлен для изображения приязни и всего прочего, что имеет отношение к иллюзиям. Возможно, Чосера удивило бы, что его в первую очередь считают иронистом; в отличие от Данте, любившего лишь свое создание, Беатриче, Чосер, похоже, питал опасливую любовь ко всей комедии творения. Наконец, не следует разделять Чосера-человека, Чосера-поэта и Чосера-паломника: все они соединены в любящего ирониста, чье богатейшее наследие — галерея литературных персонажей, в англоязычной литературе уступающая только Шекспиру. В них мы видим ростки того, что составит самую самобытную из Шекспировых художественных сил: изображения перемены в драматических персонажах.
Чосер на века предвосхитил самоуглубление, которое мы связываем с Возрождением и Реформацией: у его мужчин и женщин начинает развиваться самосознание, которое один Шекспир сумел довести до самоподслушивания, за которым следует потрясение и возникает желание измениться. Проглянув в «Кентерберийских рассказах», это предвосхищение того, что после Фрейда стало называться «глубинной психологией» в противовес «моральной психологии», у Шекспира раскрылось до полноты, которую Фрейду, как я уже отмечал, оставалось лишь перевести в прозу и кодифицировать. И тут мы возвращаемся к вопросу Ховарда (хотя его интересовал сюжет, а меня интересуют персонажи): что дало Чосеру возможность выйти за пределы иронии и тем самым сообщить своим персонажам жизненность, превзойденную одним Шекспиром, да и то с Чосеровой помощью? Каким бы умозрительным и трудным ни был этот вопрос, я попытаюсь в общих чертах на него ответить.
В очень разных отношениях, два самых самоуглубленных и своеобразных персонажа Чосера — это Батская ткачиха и Продавец: великая жизнелюбка и практически подлинный нигилист. К Батской ткачихе литературоведы-морализаторы не более расположены, чем к ее единственному ребенку, сэру Джону Фальстафу; Продавец же, подобно своим более отдаленным потомкам, Яго и Эдмунду, для морализаторства недосягаем; в этом с ним схожи и его главные потомки, весьма шекспировского толка нигилисты Достоевского — Свидригайлов и Ставрогин; своими свойствами они особенно обязаны Яго. Мы значительно лучше поймем Батскую ткачиху и Продавца, а также получим от них значительно больше удовольствия, если сравним их с Фальстафом и Яго, а не с возможными прообразами из «Романа о Розе», главной средневековой поэмы до поэмы Чосера. Исследователи возводят Батскую ткачиху к Старухе, дряхлой сводне из этого сочинения, а Продавца видят в Притворстве, лицемере, оживляющем собою «Роман…». Но Старуха — отталкивающая, а не полная жизненной силы, чего не скажешь о Батской ткачихе и Фальстафе, а у Притворства нет и толики того опасного ума, которым отличаются добрый Продавец и честный Яго.
Отчего во множестве ученых исследователей Чосера и Шекспира так безнадежно много склонности к морализаторству — гораздо больше, чем в поэтах, которыми они занимаются? Это прискорбная загадка, связанная, подозреваю, с этой современной болезнью — моральным самодовольством, уничтожающим литературоведение во имя социально-экономической справедливости. И ученые традиционного склада, и писари от ресентимента суть наследники платонизма (даже если они и не ведают о Платоне), стремящиеся изгнать из поэзии поэтическое начало. Батская ткачиха и Продавец — величайшие творения Чосера; Шекспир явно это понял и извлек из этого выгоду, причем в гораздо большем объеме, чем из любого иного однократного литературного импульса. Постичь, что тронуло Шекспира, — значит вернуться на истинный путь канонизации, на котором первостепенные писатели избирают своих неизбежных предшественников. Эдмунд Спенсер назвал Чосера «чистейшим колодцем английской речи», зато Шекспир, как чудесно заметил Тэлбот Дональдсон, стал «лебедем у колодца»: он больше всех почерпнул того, что было у Чосера уникально, — нового типа литературного персонажа, или, возможно, нового способа изображения старого типа, будь то Батская ткачиха с ее морально сомнительной жаждой жизни или Продавец с его аморальной амбивалентной жаждой и обмана, и разоблачения.
О том, что Чосер и сам гордился созданием Ткачихи, мы знаем из его короткого позднего стихотворения, адресованного его другу Бактону, в котором он говорит о «горе и беде, что суть в браке» и ссылается на нее как на авторитет:
The Wyf of Bathe I pray yow that ye rede Of this matere that we have on honde God graunte yow your lyf frely to lede In fredam, for ful hard is to bonde Прошу вас прочесть из <пролога> Батской ткачихи О предмете, который мы сейчас обсуждаем. Дай вам Бог вести привольную жизнь На свободе, ибо связанным быть тяжко.Знакомство с «доброй Ткачихой»[140] в Общем прологе к «Кентерберийским рассказам», конечно, нас впечатляет, но все-таки мы оказываемся не совсем готовы к встрече с той бой-бабой, какой она предстает в прологе к своему рассказу, хотя повествователь сразу намекает нам на ее буйную сексуальность. Она глуховата — почему, мы узнаем позже; чулки на ней красные; лицо наглое, пригожее, под цвет чулок; как всем известно, она недосчитывается зубов и, соответственно, похотлива[141], она пережила пятерых мужей (не считая гурьбы дружков) и пользуется определенной известностью среди паломников и в Англии, и за ее пределами: аналог паломничества в наше грешное время — катания на «корабликах любви». Тем не менее все это лишь косвенно указывает на человека, хорошо «побродившего по свету», доку в «старом танце» любви[142]. Ее фальстафовское остроумие, ее феминистские взгляды (как сказали бы сегодня) и, прежде всего, ее фантастическая воля к жизни еще не совсем очевидны.
Ховард напоминает нам, что Чосер был вдовцом, когда создал Батскую ткачиху, и прозорливо добавляет, что ни один другой писатель после древних не обнаруживал такого понимания женской психологии и не описывал женщины с таким сочувствием. Я согласен с Ховардом в том, что Ткачиха — совершенное чудо, как бы ни ратовали против нее моралисты, хотя надо мной и реет тень самого внушительного ее противника — Уильяма Блейка, увидевшего в ней воплощение Женской Воли (как он это называл). В комментарии к своему изображению Кентерберийских паломников он отозвался о Ткачихе довольно резко, но она явно его пугала: «…она также бич и мор. Боле я ничего о ней не скажу и не раскрою того, что Чосер утаил; пусть юный читатель размышляет над тем, что он сказал о ней: это полезно, как полезно пугало. Рождайся на свет меньше таких особ, в мире было бы покойнее»[143].
Однако без таких персонажей в литературе было бы меньше жизни, а в жизни — меньше литературы. Пролог Батской ткачихи — это своего рода исповедь, но еще в большей мере — победительная защитная речь или апология. И, в отличие от пролога Продавца, ее напоминающая поток сознания речь не говорит нам о ней больше, чем известно ей самой. Ее пролог начинается со слова «опыт»[144], на который она ссылается как на авторитетную инстанцию. Для женщины быть пятикратной вдовой — что шестьсот лет назад, что теперь — значит иметь известную ауру; Ткачиха прекрасно это знает, но тем не менее залихватски объявляет, что с нетерпением ждет шестого замужества[145] и завидует премудрому царю Соломону с его тысячей партнерш (семьсот жен, триста наложниц). В Ткачихе более всего потрясают ее бесконечные задор и живость: сексуальная, словесная, полемическая. Ее жизнелюбие не имело прецедента в литературе, и ничто не могло сравниться с ним, пока Шекспир не создал Фальстафа. Законная литературная фантазия — представить себе встречу Ткачихи с толстым рыцарем. Фальстаф умнее и остроумнее Ткачихи, но даже он, со всем своим задором, не сумел бы ее утихомирить. Поразительным образом, у Чосера ее прерывает зловещий Продавец — но главным образом для того, чтобы поощрить ее к продолжению, и она продолжает. В «Короле Генрихе V» Шекспир описал (не изобразил) смерть Фальстафа; описать смерть Ткачихи не удалось бы даже Чосеру. И вот лучшее, что следует о ней сказать, отмахнувшись от хора исследователей-морализаторов: в ней есть только жизнь, постоянное благословение — больше жизни.
Как говорит Кармелит, вступление Ткачихи получилось длинным; оно состоит из более чем восьмисот строк, тогда как сам рассказ занимает всего четыреста и (увы) в художественном отношении несколько разочаровывает после мощных откровений. Но читатель, если он не настроен самим небом на морализаторство, хочет, чтобы ее пролог длился еще дольше, а рассказ оказался покороче. Чосера она попросту завораживает — так же как на другом уровне его зачаровывает Продавец: он знает, что эти персонажи вырвались на волю и диковинным образом идут своим путем: чудеса искусства, изображающие причуды природы. Я не знаю другого женского персонажа западной литературы, которого было бы труднее оспорить, чем Ткачиху, когда она протестует против последствий того, что почти все книги написаны мужчинами:
Да если бы мы, женщины, свой гнев, Свое презренье к мужу собирали И книгу про мужчину написали, — Мужчин бы мы сумели обвинить В таких грехах, которых не сравнить С грехами нашими ни в коей мере[146].Многих исследователей-мужчин, порочивших Ткачиху, привела в ужас сильнодействующая смесь исповедальной честности и могучей сексуальности. Подразумеваемая ею критика церковных ступеней морального совершенства[147] столь же тонка, сколь и забавна, во многом она предзнаменовывает сегодняшние споры между церковью и католиками-феминистами. Отчасти Ткачиха оскорбила морализаторов уже тем, что она — очень сильная личность, а Чосер, как все великие поэты, верил в личность. Оттого, что Ткачиха еще и нарушает установленную гармонию, многие ссылают ее в область гротескного, где по праву пребывает Продавец. Притом что Ткачиха в целом принимает церковную идею морали, в глубине души она расходится с церковными установлениями. Ступени совершенства, где святой Иероним ставит вдовство выше замужества, ей чужды; не разделяет она и доктрины о том, что сексуальные отношения между супругами освящаются исключительно ради деторождения.
Несмотря на пятерых покойных мужей, детей у нее, похоже, нет, и она ничего на эту тему не говорит. В противоречие с идеологией средневековой церкви она вступает в вопросе главенства в браке. Ее бунт основывается на твердой вере в самовластие женщины, и я не согласен со словами Ховарда о том, что «ее рассказ дезавуирует ее феминистские взгляды, открывает нам в ней нечто такое, о чем мы могли лишь догадываться, нечто, чего она сама за собою не знает». По его мнению, Ткачихе нужно от мужа лишь показное подчинение, подчинение на словах, но думать так — значит недооценивать долю Чосеровой иронии, доставшуюся Ткачихе. Две строки — еще не весь рассказ, и они не отменяют восьмисот строк страстного пролога: «Она ж ему покорно уступала / Во всем, лишь бы порадовать его».
Как я понимаю, словам «во всем» Ткачиха придает сугубо эротическое значение. В строке, непосредственно предшествующей этим, муж целует жену тысячу раз подряд[148], а представление о том, что радует мужчину, Ткачиха имеет вполне непоколебимое. Да, самовластие ей нужно — везде, кроме постели, и ее неизбежный шестой муж в этом убедится. Как мы знаем с ее слов, трое ее мужей были хорошие, старые и богатые, четвертый же с пятым были молодые и жить с ними было непросто. Четвертого, посмевшего завести любовницу, она правомерно свела в могилу; а пятый, вдвое ее моложе, оглушил ее на одно ухо за то, что она вырвала страницы из «антифеминистской» книги, которую он ей в обязательном порядке читал. После того как он в конце концов сдался, сжег эту книгу[149] и уступил ей всю власть, они жили счастливо, но в один день не умерли. Чосер иронически намекает, что безудержно похотливая Ткачиха, выжав все соки из четырех мужей, доконала и пятого, любимого.
Ее спутники-паломники прекрасно понимают, что Ткачиха хочет сказать. Какого бы пола ни был читающий, лишь музыкальная глухота или же отвращение к жизни могут противостоять наиболее возвышенным моментам Ткачихиного томления и самовосхваления. Посреди рассказа о четвертом муже она рассуждает о своей любви к вину и ее тесной связи с ее любовью к любви, а затем вдруг восклицает:
Но, видит бог, как вспомню я про это — И осенью как будто снова лето. Как в юности, все сердце обомрет, И сладко мне, что был и мой черед, Что жизнь свою недаром прожила я. Теперь я что? Матрона пожилая. Украло время красоту, и силу, И все, что встарь ко мне мужчин манило. Прошла пора, а кровь, знай, колобродит. Ко мне теперь муку молоть не ходят. Что ж, отруби я стану продавать, Еще мне рано вовсе унывать[150].Новых откровений тут нет; ничего, что дополнило бы масштаб и строй «Кентерберийских рассказов». В этих двенадцати строчках Ткачиха смешивает свои воспоминания с желаниями и констатирует, что время ее изменило. Если есть у Чосера пассаж, преодолевающий иронию, то это именно он — в нем иронизирует только время, непобедимый враг всех героических жизнелюбцев. Этой иронии все еще героическая Батская ткачиха противопоставляет великолепнейшую свою строчку: «И сладко мне, что был и мой черед». «Мой черед» — это победа; пусть от ее былой живости осталась одна видимость, истинная сила этой женщины — в ее фальстафианской безунывности. Горечь наполняет и удостоверяет ее ощущение утраты: скверна старческой похоти, быть может, уже не за горами — но она понимает, что ей приличествует лишь сознательная жизнерадостность, и это создает светскую, эмпирическую мудрость, дополняющую ее критику идеалов церкви, с позиции которой она подлежит порицанию. Чосер, в свои без малого шестьдесят лет чувствовавший себя глубоким стариком, дал ей красноречие, достойное и персонажа, и создателя.
Меняется ли Батская ткачиха на протяжении своего длинного исповедального пролога? Ирония Чосера не слишком годится для изображения перемены. Мы слышим монолог Батской ткачихи; слышат его и паломники. Слышит ли себя она сама? Нас очень трогают слова о том, что был и ее черед. Разве ее саму они не трогают? У нее нет превосходно натренированного самосознания Продавца, который в целом упускает из виду лишь одно — свое воздействие на самого себя. Ткачиху ближе всего роднит с Фальстафом то, что она в состоянии оценить свою самооценку. Она не желает меняться, и поэтому весь ее пролог выражает энергичное неприятие старения и, соответственно, итоговой формы перемены — смерти. Видоизменяется в ней лишь качество ее безунывности, которая из естественной упоенности превращается в весьма тревожный витализм.
Эту перемену, насколько я могу судить, Чосер подает без иронии — возможно, потому, что, в отличие от множества исследователей, он питает слишком сильную симпатию к своему замечательному творению и позволяет ему обращаться к читателю напрямую. Ее сознательная жизнерадостность — не натужное веселье; она более всего похожа на бодрость духа сэра Джона Фальстафа, которого ученые исследователи очернили еще пуще, чем Ткачиху. Фальстафово остроумие не приходит в упадок во второй части «Короля Генриха IV», но мы видим, как Фальстаф мрачнеет по мере того, как Гарри готовится его отвергнуть. Задор Фальстафа по-прежнему при нем, но его веселость начинает притупляться, словно его воли к жизни коснулась идеология витализма. Батская ткачиха и Фальстаф делаются менее похожи на Панурга Рабле. Благословение не оставляет их, и они оба по-прежнему требуют еще больше жизни, но они узнали, что нет времени без границ, и приняли свою новую роль — борцов, сражающихся за убывающую долю Благословения. Хотя Ткачиха хорошо владеет словом и обладает опасным остроумием, Фальстафу она тут не соперница. Больше всего сходства с величайшим комическим персонажем Шекспира ей придают тягостное сознание того, что полнота жизни потихоньку от нее уходит, и сильная воля к сохранению безунывности.
Ткачиха и Фальстаф — иронисты, ранний и поздний, — и, как отмечает Дональдсон, их власть зиждется на их личностях, которым присуща уверенность в себе. Вместе с Дон Кихотом, Санчо Пансой и Панургом они составляют компанию, или семью, адептов состояния игры, противоположного состояниям «общественности» и упорядоченности. Состояние игры дарует — в своих четких границах — свободу, внутреннюю свободу от нашего затравленного «Сверх-Я». Мне представляется, что ради этого мы и читаем Чосера и Рабле, Шекспира и Сервантеса. «Сверх-Я» ненадолго перестает казнить нас за то, что мы — якобы — копим в себе агрессию. Риторический напор Ткачихи и Фальстафа агрессивен донельзя, но их цель — свобода: от мира, от времени, от государственной и церковной морали, от всего того в себе, что препятствует торжеству самовыражения. Даже иные почитатели Батской ткачихи и Фальстафа упорно называют их солипсистами; но эгоцентризм — это не солипсизм. Ткачиха и Фальстаф прекрасно осознают наличие и окружающих, и Солнца, но весьма немногие из их спутников серьезно нас интересуют — по сравнению с этими очарованными жизнелюбцами.
Многие исследователи указывали на двусмысленность, с которой Батская ткачиха и Фальстаф отсылают к стиху из Первого послания коринфянам, где Павел призывает христиан держаться своего призвания. Ткачихин вариант таков: «Какою было господу угодно / Меня создать, такой и остаюсь; / Прослыть же совершенной я не тщусь»; Фальстаф вторит ей — и ее превосходит: «Ну что же, таково мое призвание. Каждый трудится на своем поприще». Ткачиха с Фальстафом трунят над Павлом не по нечестивости. Их остроумие развеивает иллюзии, но при этом они — верующие люди. Ткачиха не забывает напомнить набожным, что совершенства от нее не требуется, а Фальстафа преследует мысль о судьбе богача из притчи[151]. Фальстаф настроен гораздо тревожнее Ткачихи, но ведь она не имела несчастья считать будущего Генриха V кем-то вроде приемного сына. Созданный Шекспиром, а не Чосером, Фальстаф, усваивая свою тревогу, переживает перемены, недоступные Ткачихе. Оба персонажа слушают себя, но только Фальстаф постоянно себя подслушивает. Я подозреваю, что важнейшим чосеровским персонажем для Шекспира была не Батская ткачиха, а Продавец, предок всех персонажей западной литературы, обреченных на нигилизм. Я с неохотой оставляю Батскую ткачиху и Фальстафа, но перейти от них к Продавцу и его потомкам у Шекспира — значит лишь покинуть позитивный витализм ради негативного. Никто не смог бы полюбить Продавца или Яго; но никто не может сопротивляться их негативной наполненности жизнью.
Связывать Батскую ткачиху с Фальстафом — дело в литературоведении обычное, но рассуждений о весьма вероятном происхождении великих шекспировских злодеев — Яго из «Отелло» и Эдмунда из «Короля Лира» — от Продавца я не встречал. Герои-злодеи Марло — Тамерлан Великий и, еще в большей мере, Варавва, лукавый мальтийский еврей, — явно повлияли на образ мавра Арона в первой шекспировской трагедии, полном трупов «Тите Андронике», и на образ Ричарда III. Но между Ароном и Ричардом (с одной стороны) и Яго и Эдмундом (с другой) вклинивается тень, и принадлежит она, кажется, противоречивому Продавцу, изгою «Кентерберийских рассказов». Даже его пролог и рассказ выпадают из видимой структуры почти завершенной главной поэмы Чосера. Подобный соринке в глазу, рассказ Продавца — мир в себе; он не похож ни на что у Чосера и при этом, на мой взгляд, является его вершиной как поэта; он по-своему бесподобен, он — у одного из пределов искусства. Размышляя об отличии Продавца и его рассказа от остального содержания «Кентерберийских рассказов», Дональд Ховард соотносит вторжение Продавца с «маргинальным миром средневековой эстетики, с непотребством рисунков из обыденной жизни на полях серьезных манускриптов», предтечами Иеронима Босха. Присутствие Продавца и его повествование ощущаются так остро, что у Чосера маргинальное делается центральным и впервые возникает то, что Ницше назовет «самым жутким из всех гостей», — образ европейского нигилизма[152]. Связь между Продавцом и великолепными негациями Шекспира — Яго и Эдмундом — кажется мне такой же прочной, как та опора, которую нашел Достоевский в Шекспировых злодеях-интеллектуалах для своих Свидригайлова и Ставрогина.
Продавец появляется под конец Общего пролога вместе со своим жутким приятелем — гротескным Приставом церковного суда. Пристав — это подобие сотрудника полиции мыслей[153], ныне угнетающей Иран; он — мирянин, чья обязанность — тащить подозреваемых в духовном преступлении на церковный суд. Постельных дел соглядатай, он кладет себе в карман процент с заработка каждой проститутки в своем диоцезе и шантажирует их клиентов. В Общем прологе паломник Чосер одобряет мягкость этого шантажа: всего-то кварта крепкого красного вина в год позволяет связи продолжаться[154]. В виде исключения ирония на сей раз молчит: Чосер попросту не желает реагировать на моральную гнусность Пристава, которая лишь помогает создать контекст для куда более выдающегося Продавца. Пристав — просто беззлобная скотина, и ему самое место рядом с Продавцом, который повергает нас в ад сознания скорее шекспировского, а не дантовского толка, поскольку оно в высшей степени изменчиво. Типы продавца индульгенций и шарлатана достались Чосеру от современных ему литературы и действительности, но замечательная личность его Продавца кажется мне самым незаурядным из всего им созданного.
Разъезжие продавцы индульгенций торговали своим товаром вопреки церковным законам, но церковь им определенно попустительствовала. Как люди светского звания, продавцы не должны были проповедовать, но тем не менее делали это, и Чосеров Продавец — отменный проповедник, превосходящий всякого телеевангелиста, ныне выступающего в Америке. Исследователи расходятся во мнениях насчет сексуальной природы Продавца: евнух ли он, гомосексуал, гермафродит? Рискну предположить, что ни то, ни другое, ни третье; так или иначе, Чосер позаботился о том, чтобы мы этого не знали. Сам Продавец, может быть, и знает; мы и в этом не можем быть уверены. Он гораздо более сомнительная личность, чем любой другой из двадцати девяти паломников, но также гораздо умнее любого другого из них — в этом отношении он почти соперник Чосеру, тридцатому паломнику. Дарования Продавца столь внушительны, что мы невольно задумываемся о его предыстории, о которой он нам ничего не говорит. Злостный лицемер, наживающийся на фальшивых святынях и смеющий сбывать из-под полы искупление во Христе, он тем не менее — обладатель подлинно духовного сознания и мощного религиозного воображения.
Сердце тьмы, метафора обскурантизма у Джозефа Конрада, — образ, как нельзя лучше идущий к демоническому Продавцу, который соперничает со своими литературными потомками; он — нечто вроде бездны, приводящей нас в замешательство; он безнравствен и при этом в высшей степени художествен. Чосеровед Р. А. Шоф прекрасно говорит о Продавце: «Его ремесло — ежедневно продавать себя, свой „номер“; но, судя по картине его одержимости, он это понимает, потому что сожалеет, что не может выкупить себя обратно». Он понимает: какими бы потрясающими ни были его спектакли, своих грехов он ими не искупит, и, размышляя над его увещеваниями и его рассказом, мы начинаем подозревать, что не одни алчность и гордость сильного проповедника сделали его профессиональным обманщиком. Нам никогда не узнать, благодаря чему в себе Чосер сумел создать этого первого — по крайней мере, в литературе — нигилиста, но я вижу подсказку в типическом парадоксе Г. К. Честертона:
Джеффри Чосер был именно то, чем не был «добрый Продавец индульгенций» — он был добрый Продавец индульгенций. Однако мы составим неверное представление обо всех членах этого любопытного и достаточно сложного общества, если не осознаем, что их разнообразная эксцентричность была в каком-то смысле связана с единым центром. Официальное корыстолюбие дурного Продавца индульгенций и весьма неофициальное добродушие хорошего Продавца индульгенций шли от своеобразных искушений и дипломатических тонкостей одной и той же религиозной системы. Это происходило потому, что это была — в пуританском смысле — непростая система. Даже куда более серьезные умы, чем Чосеров, были привычны к тому, чтобы видеть, так сказать, две стороны греха; бывает простительный грех, в своем окончательном направлении разительно и невыразимо отличный от греха смертного. Злоупотребление различиями такого рода породило искажения и коррупцию, что наглядно явлены нам в приятном образе Продавца индульгенций; породило практику индульгенции, выродившуюся из теории индульгенции. Но в то же время употребление подобных различий позволило такому человеку, как Чосер, однажды обрести привычку мыслить взвешенно и тонко, привычку смотреть на вещи со всех сторон; обрести способность сознавать, что даже некое зло имеет право на свое место в иерархии зла, сознавать, по крайней мере, что в бездонной относительности Ада и Чистилища есть что-то еще меньше подлежащее оправданию, чем Продавец индульгенций.
Честертон приписывает Чосеру перспективизм, возможный лишь потому, что средневековая действительность была вся проникнута католической верой. Невзирая на свое происхождение, в поэтическом отношении этот перспективизм важнее веры. Его амбивалентность выпустила на волю Продавца, образ, знаменующий собою предел Чосеровой иронии. В общем, Чосер — настоящий комический поэт в нашем (шекспирианском) понимании комического. Пролог и рассказ Продавца — не комические, а убийственные. Он, по его собственным словам, «развратен и порочен», но он еще и гениален, иначе и не скажешь — как о Продавце, так и потом о Яго. Подобно Яго, Продавец сочетает в себе таланты драматурга (или рассказчика), актера и режиссера; опять же подобно Яго, Продавец — одновременно превосходный специалист по моральной психологии и первопроходец в области психологии глубинной. Продавец, Яго и Эдмунд околдовывают своих жертв, включая нас с вами. Все трое открыто объявляют о своей лживости — но только нам или, в случае Продавца, замещающим нас Кентерберийским паломникам. Их упоение силой своего ума и своей порочностью пленяет нас, как неизменно пленяет возвышенная литературная возмутительность. Негативная наполненность жизнью Продавца, Яго и Эдмунда не менее привлекательна, чем позитивная — Ткачихи, Панурга и Фальстафа. Мы реагируем на энергию, как отметил Хэзлитт в эссе «О поэзии вообще»:
Мы созерцаем происходящее сами и представляем его другим в том свете, в каком видим его, в каком, вопреки своему желанию, вынуждены его видеть. Так воображение, воплощая и определяя очертания окружающего нас мира, облегчает невнятные и неотвязные устремления. Пусть мы не приемлем то или иное положение вещей, однако хотим, чтобы оно предстало в истинном свете; ибо в полноте осведомленности заключена сознательная сила, а она не допускает заблуждений, хотя разум и может оказаться жертвой порока и безрассудства[155].
О Яго Хэзлитт писал: «Ему столь же, или едва ли не столь же, безразлична своя судьба, сколь судьба других; он идет на риск ради малой и сомнительной выгоды; и он сам остается в дураках, делается жертвой владеющей им страсти» — все это в той же мере относится и к Продавцу. Яго и Продавец «заражают» нас, и Шекспир с Чосером хорошо это понимали. Нас восхищают изделия Продавца, его «святые реликвии» — ларцы с лоскутами, костями, чудодейственными рукавицами. Мы разделяем и воодушевление, с которым он открещивается от всяких моральных последствий своего проповедничества:
Руками я и языком болтаю Так быстро, что и поглядеть-то любо. Им скупость, черствость я браню сугубо, Лишь только б их мошну растормошить И мне их денежки заполучить. Мне дела нет, пускай, когда схоронят, Душа иль плоть в мученьях адских стонет[156].Мы радуемся, когда слышим это и, слыша, видим. Еще сильнее мы радуемся, читая блестящий рассказ Продавца, в котором трое гуляк, забубенных головушек — в наши дни это были бы мотоциклисты из «Ангелов Ада», — отправляются убивать саму Смерть; в стране чума, и за Смертью далеко ходить не надо. По дороге они встречают невероятно старого бедняка, который хочет одного — вернуться к своей матери-земле:
Стучу клюкой на гробовом пороге, Но места нет мне и в земле сырой, И обращаюсь я к тебе с мольбой: «Благая мать! Зачем ко мне ты строже, Чем к остальным?..»[157]Детины угрожают ему, и диковинный старик показывает, где им найти Смерть, принявшую вид кучи золотых монет под дубом[158]. Двое, сговорившись, закалывают третьего, но сначала он предусмотрительно отравляет их вино. Пророчество старика сбывается, но нам остается лишь гадать о том, кто же он такой. Чосер явно придумал его сам[159], и это означает, что внутри «Кентерберийских рассказов» тот — порождение гения Продавца. Старый скиталец, который, похоже, заодно со смертью, но при этом сам не может умереть, хотя и хочет этого, направляющий других к богатству, которое сам он то ли презирает, то ли отринул, — исследователи небезосновательно возводят этот образ к легенде о Вечном Жиде. Боится ли Продавец, сознательно обрекающий себя на вечные муки, сделаться таким же скитальцем? В качестве проекции Продавца странный старик выявляет голословность его похвальбы тем, что заниматься обманом его побуждает лишь алчность к деньгам. По-настоящему Продавца влечет к саморазоблачению, самоуничтожению, самообличению. Он одержим роком — и ему нужно отсрочить отчаяние и самосожжение, приняв маленькую смерть от унижения от рук прямодушного Трактирщика на виду у всех паломников.
Продавец переходит от состояния одержимости роком к акту самоуничтожения оттого, что слышит свои слова и это вызывает у него «негативное» желание. Этот момент видится мне особенно захватывающим: мне кажется, что для Шекспира это был важнейший момент поэтического пересмотра, из которого вышло многое самобытное в его изображении характера, познания и личности. Пандар, ловкий посредник из «Троила и Крессиды» Чосера, едва ли может считаться предшественником Яго и Эдмунда; хитрый Пандар слишком добронравен, и намерения у него более чем благие. А вот Продавец, завершив свой потрясающий рассказ, реагирует на свое собственное красноречие и предлагает паломникам свои профессиональные услуги:
Подумайте, какая вам удача, Коль доступ в рай заранее оплачен И рядом с вами, за проводника, С готовым отпущением рука. С таким попутчиком идите смело: Когда б душа ни разлучалась с телом, Очистит он и знатных и простых. Вот вам, хозяин — вам мощей святых Облобызать реликвии бы надо. Их испытать и силу и отраду Всего за грош. Раскройте ж кошелек.Эта речь столь явно возмутительна, что заслуживает резкого отпора и даже требует его, будучи обращена к Трактирщику, который куда больше, чем паломники, склонен отделать одержимого Продавца. В этот момент Продавец входит в безнадежный штопор, делается попросту неуправляем; потеряв голову от силы своего воображения, он неодолимо жаждет наказания. Когда Трактирщик грубо предлагает отрезать Продавцу яички[160], речистый проповедник без сана замолкает: «Он был так зол, что слова не сказал»[161]. Я не могу отделить это от обета молчания, который напоследок дает Яго: «Отныне впредь я не скажу ни слова»[162]. У двух этих великолепных негаций — общая концепция жуткого, которым они «заражают» нас, хотя сами они этого жуткого не сознают. Гений Яго странным образом не подходит к духу, не знающему ничего, кроме войны; не на своем месте и дух Продавца, который упивается обманом, пренебрегая своим гениальным даром вызывать к жизни вечные ужасы. Как и выдающиеся когнитивные способности Эдмунда или Свидригайлова, орудие Продавца и Яго — сверхъестественный интеллект, склонный лишь к одному: обманывать доверие. Каноническое величие Чосера, единственного, кому достало сил посвятить Шекспира в тайны изобразительности, упокоилось на грозном, пророческом портрете Продавца, чье потомство по-прежнему с нами — как в литературе, так и в жизни.
5. Сервантес: мировая игра
«По-человечески» мы знаем Сервантеса лучше, чем Шекспира, и все же, безусловно, нам предстоит еще многое о нем узнать, потому что его жизнь была яркой, трудной и героической. Шекспир добился огромного коммерческого успеха как драматург и умер богатым, удовлетворив свои социальные амбиции (какими бы они ни были). Притом что «Дон Кихот» был популярен, Сервантес не получал авторских отчислений, и с покровителями ему не везло. Практических амбиций — помимо того, чтобы прокормить себя и свою семью, — у него было немного, а как драматург он провалился. Поэтического дара у него не было; его даром был «Дон Кихот». Современника Шекспира (считается, что они умерли в один день)[163], его сближает с Шекспиром универсальность его гения, и он — единственный во всем Западном каноне, кто может сравниться с Шекспиром и Данте.
В нашем сознании он неразрывно связан с Шекспиром и Монтенем — потому что все трое суть писатели-наставники; четвертого столь же здравомыслящего, выдержанного и благожелательного нет — разве только Мольер, который, можно сказать, и был реинкарнацией Монтеня в другом жанре. В известном отношении, высшего признания удостоились лишь Сервантес и Шекспир; их не обогнать, потому что они раз и навсегда нас опередили.
Мощь «Дон Кихота» никогда не умаляет столкнувшегося с нею читателя, лишь укрепляет его. Этого не скажешь о многих местах у Данте, Мильтона и Джонатана Свифта, чья «Сказка бочки» неизменно производит на меня впечатление лучшей прозы на английском языке после Шекспировой и в то же время постоянно меня попрекает. Не скажешь этого и об опыте чтения Кафки, главного писателя нашего хаоса. Ближайшая параллель к Сервантесу — снова Шекспир; практически бесконечная способность этого драматурга к беспристрастности служит нам опорой. Притом что Сервантес прилагал все усилия к тому, чтобы оставаться примерным католиком, «Дон Кихот» для нас — не душеполезное чтение. Предположительно, Сервантес был из исконных христиан, не происходил ни от евреев-конверсо, ни от христиан новых, но мы точно не знаем, какого он был происхождения, и не можем надеяться угадать, каких он держался взглядов. Охарактеризовать его иронию невозможно; невозможно ее и не заметить.
Несмотря на геройскую службу в армии (в морском сражении с турками при Лепанто он получил ранение, обездвижившее его левую руку), Сервантесу приходилось опасаться контрреформации и инквизиции. Дон Кихотовы состояния безумия обеспечили ему — и Сервантесу — своего рода «шутейную неприкосновенность» наподобие той, которой пользуется Шут в «Короле Лире», поставленном одновременно с публикацией первого тома «Дон Кихота». Сервантес почти наверняка был последователем Эразма Роттердамского, голландского гуманиста, чьи мысли о сущности христианина были чрезвычайно привлекательны для конверсо, застрявших между иудаизмом, который их заставили отринуть, и христианской системой, превратившей их в граждан второго сорта. Среди предков Сервантеса было множество врачей, а эта профессия была широко распространена среди испанских евреев до 1492 года, когда их стали изгонять из страны или насильно крестить. Век спустя Сервантеса, похоже, незримо преследовал призрак этого ужасного года, принесшего много бед евреям и маврам — а также испанским экономике и обществу.
Кажется, не найдется двух таких читателей, которые прочли бы одного и того же «Дон Кихота», и самые видные литературоведы по-разному трактуют основополагающие аспекты этой книги. Эрих Ауэрбах полагал, что у нее нет соперников по части изображения повседневной действительности в сплошь светлых тонах. Только что перечитав «Дон Кихота», я, ей-ей, не вижу того, что Ауэрбах назвал «таким светлым и притом столь широким и многослойным, столь свободным от всякой критики и проблемности образом повседневной действительности»[164]. «Символика и трагизм», пусть даже задействованные с тем, чтобы классифицировать безумие героя, показались Ауэрбаху надуманными. Этому утверждению я противопоставлю самого трагического и кихотического[165] из всех борцов-литературоведов, баскского литератора Мигеля де Унамуно, чье «трагическое чувство жизни»[166] основывалось на его глубоко личном отношении к шедевру Сервантеса — подлинному испанскому Писанию, заменившему Унамуно Библию. «Господь мой Дон Кихот», назвал Унамуно[167]этого кафкианца до Кафки: его безумие происходит из веры в то, что Кафка назовет «неразрушимым». Рыцарь Печального Образа в понимании Унамуно стремится уцелеть, и единственное безумное его дело — поход против смерти: «Великим было безумие Дон Кихота, а все потому, что великим был корень, из которого оно произросло; это неутолимое стремление пережить себя, которое является источником и самых нелепых сумасбродств, и самых героических подвигов»[168].
С этой точки зрения безумие Дон Кихота — в его отказе принять то, что Фрейд называет «проверкой реальности» или принципом реальности. Примирившись с неизбежностью ухода, Дон Кихот вскоре и умирает, возвращаясь таким образом к христианству, понимаемому как культ смерти — причем Унамуно был не единственным испанским визионером, так его понимавшим. По Унамуно, все светлое в этой книге сосредоточено в Санчо Пансе, который очищает своего даймона, Дон Кихота, радостно следуя за печальным рыцарем от одного возмутительного злоключения к другому[169]. Это прочтение опять же очень близко к выдающейся притче Кафки «Правда о Санчо Пансе», в которой как раз Санчо до того начитывается рыцарских романов, что придуманный им бес в образе Дон Кихота отправляется на поиски приключений, а Санчо увязывается за ним. Допустим, Кафка превратил «Дон Кихота» в длинный и довольно горький еврейский анекдот, но, может быть, это и вернее, чем вместе с Ауэрбахом видеть в этой книге ничем не омраченный свет.
Возможно, еще только «Гамлет» порождает различные истолкования в таком изобилии, как «Дон Кихот». Никто не может избавить Гамлета от толкователей-романтиков; Дон Кихот вдохновил не менее многочисленную и упорную школу исследователей-романтиков, а также — книги и статьи, в которых оспаривается предполагаемая идеализация Сервантесом своего заглавного персонажа. Романтики (в том числе и я) видят в Дон Кихоте героя, а не глупца, отказываются читать эту книгу как в первую очередь сатиру и обнаруживают в этом сочинении метафизический, или визионерский, подход к исканиям Дон Кихота, ввиду которого влияние Сервантеса на «Моби Дика» кажется совершенно естественным. Начало постоянному возвеличению этих вроде бы тщетных мечтательных странствий положил в 1802 году немецкий философ Шеллинг, а завершилось оно в 1966 году бродвейским мюзиклом «Человек из Ламанчи». Главными ревнителями этого обожествления Дон Кихота были романисты: среди его восторженных почитателей — Филдинг, Смоллетт и Стерн в Англии, Гёте и Томас Манн в Германии, Стендаль и Флобер во Франции, Мелвилл и Марк Твен в Соединенных Штатах, а также практически все современные латиноамериканские писатели. Достоевский, в котором, казалось бы, от Сервантеса меньше, чем в любом другом писателе, утверждал, что Дон Кихот послужил прообразом князя Мышкина из «Идиота»[170]. Оттого что в глазах многих замечательный эксперимент Сервантеса увенчался созданием романной формы — в данном случае противопоставляемой пикареске, — благоговение перед ним столь многих позднейших романистов вполне объяснимо; но могучие страсти, пробужденные этой книгой, особенно в Стендале и Флобере, — незауряднейшая дань ее достижениям.
Лично я, читая «Дон Кихота», естественным образом склоняюсь на сторону Унамуно, так как для меня суть этой книги — в раскрытии и воспевании героической индивидуальности, явленной и в Дон Кихоте, и в Санчо. Унамуно довольно противоестественно предпочитал Дон Кихота Сервантесу, но я с ним не согласен, потому что ни один писатель не устанавливал столь близких отношений со своим главным персонажем, как Сервантес. Мы были бы рады узнать, что думал о Гамлете сам Шекспир; о том, как Дон Кихот подействовал на Сервантеса, мы знаем чуть ли не больше, чем нужно, пусть это знание во многом и косвенно. Сервантес придумал бесчисленные способы нарушения повествования с тем, чтобы вынудить читателя рассказывать историю вместо осторожного автора. Коварные злые волшебники, которые якобы трудятся, не покладая рук, чтобы помешать блистательно несгибаемому Дон Кихоту, тоже нужны, чтобы сделать из нас необычайно деятельных читателей. Дон Кихот верит в колдунов, и Сервантес вводит их в текст, чтобы населить ими речь своего героя. Все преображено волшебством, сетует Дон Кихот, и злой колдун — сам Сервантес. Его герои читали все друг о друге, и вторая часть романа во многом посвящена их реакции на прочтение первой. Читатель обучается изощренному взаимодействию с текстом, даже когда Дон Кихот упрямо отказывается учиться — хотя отказ этот больше связан с его «безумием», чем с вымыслом рыцарских романов, которые свели его с ума. Дон Кихот и Сервантес развиваются в направлении новой литературной диалектики, попеременно утверждающей то силу, то бессилие нарратива в его отношении к действительным событиям. Дон Кихот в первой части постепенно осознает ограниченность вымысла, а Сервантес преисполняется авторской гордостью, особенно радуясь тому, что создал Дон Кихота и Санчо.
Сердечные, зачастую на грани ссоры отношения между Дон Кихотом и Санчо составляют величие книги даже в большей мере, чем тот задор, с которым в ней изображается природная и социальная действительность. Дон Кихота и его оруженосца объединяет как соучастие в «состоянии игры», так и взаимная, хотя и отнюдь не без бранчливости, приязнь. Во всей западной литературе я не найду дружбы, вполне сопоставимой с этой, — определенно ни одной, которая бы так изящно держалась на упоительных диалогах. Энгус Флетчер в «Цветах разума» передал ауру этих разговоров:
Дон Кихота и Санчо объединяет своего рода оживленность, одухотворенность их диалогов. Беседуя, нередко бурно споря, они расширяют мыслительный кругозор друг друга. Ни одна исходящая от одного или другого мысль не остается без проверки или критики. Посредством преимущественно учтивых разногласий, которые чем напряженнее, тем учтивее, они постепенно создают пространство свободной игры, в котором мысли высвобождаются для того, чтобы мы, читатели, их обдумывали.
Из великого множества разговоров между Дон Кихотом и Санчо мой любимый происходит в 28-й главе второй части, после того как рыцарь подражает сэру Джону Фальстафу, мудро считавшему скромность одним из украшений храбрости[171]. К сожалению, вследствие его решения оглушенный Санчо остается в руках разъяренных жителей деревни. После этого происшествия бедный Санчо жалуется, что у него все болит, и получает от рыцаря довольно педантическое утешение:
— Причина этой боли, вне всякого сомнения, такова, — сказал Дон Кихот: — дубинка, которой тебя били, была объемистая и длинная, поэтому она легко прошлась по всем участкам спины, которые у тебя болят; захвати она пошире, и боль оказалась бы еще сильнее.
— Господи, помилуй! — воскликнул Санчо. — Ваша милость разрешила великое сомнение и объяснила мне его в самых ясных выражениях! Черт возьми, да неужто причина боли так таинственна, что вам понадобилось объяснять мне, что болят у меня все те места, по которым погуляла дубинка?[172]
В этом обмене репликами кроется то, что связует эту пару: она подспудно наслаждается близостью, которую дает равенство. Мы можем отложить вопрос о том, кто из них представляет собою более самобытный образ, отметив, что совокупный образ, составленный из них обоих, самобытнее, чем образы одного и другого по отдельности. Любящие друг друга, но сварливые, Санчо и Дон Кихот соединены не только взаимной приязнью и подлинным уважением друг к другу. В лучшем своем виде они — товарищи по состоянию игры, сфере со своими правилами и своей картиной действительности: как специалист по Сервантесу нам тут снова пригодится Унамуно, а как теоретик — Йохан Хёйзинга, автор проницательной книги «Homo Ludens» (1944), в которой Сервантес почти не упоминается. Хёйзинга начинает с утверждения о том, что его предмет, игру, следует отделять от комического и глупости: «Комическое тесно связано с глупостью. Игра, однако, отнюдь не глупа. Она вне противопоставления мудрость — глупость»[173].
Дон Кихот — ни безумец, ни глупец: он играет в странствующего рыцаря. Игра, в отличие от безумия и глупости, — дело добровольное. По Хёйзинге, игра имеет четыре основных признака:[174] свобода, незаинтересованность, замкнутость, она же — отграниченность, и порядок. Дон Кихотово «рыцарство» проходит проверку на все эти свойства, а верная служба Санчо оруженосцем — не совсем, потому что Санчо не так легко отдается игре. Дон Кихот возносится в идеальные время и место, он сохраняет верность своей свободе и незаинтересованности, замкнутости и отграниченности игры, пока наконец не терпит поражение, бросает игру, возвращается к христианскому «здравомыслию» и в нем умирает. Унамуно пишет, что Дон Кихот отправился на поиски своего истинного отечества и нашел его в изгнании. Как обычно, Унамуно проник в самую сущность этой великой книги. Дон Кихот, как и евреи с маврами, — изгнанник, но изгнанник вроде конверсо и, морисков, изгнанник внутренний. Дон Кихот оставляет свое село, чтобы в изгнании искать свой духовный дом, потому что свободен он может быть только в изгнании.
Сервантес ни разу не говорит прямо о том, что толкнуло Алонсо Кихано (в книге есть несколько вариантов написания этого имени) до умопомрачения читать рыцарские романы и в конце концов отправиться бродить по свету, дабы сделаться Дон Кихотом. Алонсо, бедный дворянин из Ламанчи, подвержен лишь одному пороку: он — одержимый читатель популярной литературы своего времени, которая вытесняет из его сознания действительность. Сервантес подает Алонсо как чистый образец несостоявшейся жизни. Он холост, примерно пятидесяти лет, предположительно не имеет сексуального опыта, ограничен обществом экономки, которой за сорок, девятнадцатилетней племянницы, слуги и двоих друзей: сельского священника и цирюльника Николаса. Неподалеку живет молодая крестьянка, дюжая Альдонса Лоренцо — она, сама того не подозревая, становится идеальным предметом его грез, в которых переименовывается в знатную сеньору Дульсинею Тобосскую.
Является ли она взаправду предметом исканий этого доброго человека — неясно. Один литературовед предположил даже, что Кихано вынуждает сделаться Дон Кихотом с трудом подавляемая страсть к родной племяннице: у Сервантеса этой идеи нет, но она отражает то отчаяние, до которого Сервантесу, как известно, случалось доводить исследователей. Сервантес говорит нам одно — что его герой сошел с ума, и не приводит никаких клинических подробностей. Унамуно, на мой взгляд, лучше всех высказался об утрате Дон Кихотом рассудка: «Нам во благо утратил, дабы явить нам вечный пример духовного великодушия»[175]. То есть Дон Кихот сходит с ума во искупление нашей бесцветности, нашей невеликодушной скудости воображения.
Санчо, бедный крестьянин, соглашается состоять при рыцаре оруженосцем во время второго его выезда, который оборачивается славным делом с ветряными мельницами. Добрый и вроде бы глуповатый Санчо соблазняется управлением островом, который рыцарь для него завоюет. Сервантес явно иронизирует, когда знакомит нас с Санчо, чей ум исключителен, а истинные виды на губернаторство заключаются не в том, чтобы разбогатеть, а в том, чтобы прославиться. Еще существеннее то, что часть Санчо желает состояния игры — как бы ни смущали остального Санчо те или иные последствия игры Дон Кихота. Как и Дон Кихот, Санчо ищет новое «я»; кубинский писатель Алехо Карпентьер полагал, что Сервантесу принадлежит сама идея такого поиска. Я бы сказал, что Сервантес пришел к ней одновременно с Шекспиром, а разница между их подходами — в характере перемен, происходящих с их главными персонажами.
Дон Кихот и Санчо Панса — идеальные собеседники; они меняются, слушая друг друга. У Шекспира изменение происходит от того, что герой слышит себя со стороны и размышляет над неявными смыслами услышанного. Ни Дон Кихот, ни Санчо не способны слышать себя; идеализм Дон Кихота и реализм Санчо слишком сильны, чтобы их носители могли в них усомниться, поэтому те не умеют уяснить свои отступления от своих правил. Они могут кощунствовать и не сознавать этого. Трагическое величие героев Шекспира распространяется на комический, исторический и мелодраматический жанры; лишь в кульминационных сценах узнавания оставшиеся в живых могут расслышать слова других. Влияние Шекспира превзошло влияние Сервантеса, и не только в англоговорящих странах. С Шекспира (даже раньше, с Петрарки) начинается современный солипсизм. Данте, Сервантес, Мольер, у которых все — в диалогах между действующими лицами, кажутся менее естественными, чем Шекспир в своем великолепном солипсизме, и, может быть, они и вправду менее естественны.
У Шекспира нет подобия разговоров между Дон Кихотом и Санчо Пансой, поскольку у него друзья и любовники никогда толком друг друга не слушают. Вспомним сцену смерти Антония, в которой Клеопатра слушает и слышит в основном себя, или попытку игры между Фальстафом и Гарри, когда Фальстафу приходится обороняться, потому что принц непрерывно нападает. Есть приятные исключения, вроде Розалинды и Селии из «Как вам это понравится», но это не норма. Индивидуальность у Шекспира не имеет себе равных, но обходится невероятно дорого. Эгоизм Сервантеса, превознесенный Унамуно, смягчается свободными взаимоотношениями Санчо и Дон Кихота, которые уступают друг другу пространство для игры. И Сервантес, и Шекспир создавали превосходные личности, но величайшие личности Шекспира — Гамлет, Лир, Яго, Шейлок, Фальстаф, Клеопатра, Просперо — в конце концов великолепно увядают в атмосфере внутреннего одиночества. Дон Кихота спасает Санчо, а Санчо — Дон Кихот. Их дружба канонична и отчасти меняет «дальнейшую» природу канона.
Что есть безумие, если того, кто им страдает, не может обмануть ни мужчина, ни женщина? Дон Кихота не использует в своих интересах никто, и самого Дон Кихота это тоже касается. Он принимает мельницы за великанов, а кукольное представление — за правду, но насмехаться над ним не стоит, потому что он сам вас высмеет. Его безумие — это безумие литературное; его можно с пользой противопоставить лишь частично литературному безумию героя великой рыцарской сказки[176] «Роланд до Замка черного дошел»[177]. Дон Кихот безумен оттого, что его великий прообраз, Орландо (Роланд) из Ариостова «Неистового Роланда», впал в эротическое помешательство. То же, как сообщает Дон Кихот Санчо, сталось и с Амадисом Галльским, другим его героическим предшественником.
Роланд Браунинга желает лишь «быть достойным потерпеть поражение», как один за другим терпели его предыдущие поэты-рыцари, отправлявшиеся на поиски Черного Замка[178]. Дон Кихот куда здоровее; он хочет победить — сколько бы раз он ни терпел болезненное фиаско. Его безумие, как он ясно дает понять, — это поэтическая стратегия, выработанная другими, а сам он — всего лишь приверженец традиции.
Сервантес остерегался слишком близких предшественников-испанцев; самое близкое родство у него — с конверсо Фернандо де Рохасом, автором великой драматизированной новеллы «Селестина» — сочинения не вполне католического по духу ввиду своего дикого аморализма и отсутствия богословских предпосылок. Сервантес заметил, что это «прямо божественная книга, не будь она такой голой»[179], явно имея в виду то, что человеческая сексуальность не терпит никаких моральных ограничений. Дон Кихот, понятно, накладывает моральные ограничения на свои сексуальные желания до такой степени, что мог бы стать и священником — которым, по Унамуно, он по-настоящему и был: священником настоящей испанской церкви, церкви кихотической. Пыл, с которым Дон Кихот все время рвется в бой, как бы неравны ни были силы, — определенно, результат сублимации сексуального влечения. Смутный объект его желания, зачарованная Дульсинея — символ славы, которой добиваются посредством насилия, неизменно сводимого Сервантесом к абсурду. Уцелевший при Лепанто и в других битвах, а также в плену у мавров и потом — в испанских тюрьмах (где, возможно, был начат «Дон Кихот»), Сервантес не понаслышке знал, что такое битва и неволя. От нас требуется относиться к Дон Кихотову вызывающему героизму одновременно с великим уважением и существенной ироний: эта установка Сервантеса с трудом поддается анализу. Как бы возмутительны ни были проявления храбрости Дон Кихота, в ней с ним не сумеет сравниться ни один другой герой западной литературы.
Чтобы напрямую подступиться к величию «Дон Кихота», исследователю тоже не помешает храбрость. Сервантес, при всей своей иронии, влюблен в Дон Кихота и Санчо Пансу — как и всякий любящий чтение читатель. В жизни объяснение любви — занятие тщетное, поскольку там слово «любовь» означает все и ничего, но в случае величайшей литературы оно должно быть возможно. В этом отношении Сервантес, возможно, подошел к универсальному даже ближе, чем Шекспир, так как я с недоумением вижу, что мою горячую любовь к единственному сопернику Дон Кихота среди странствующих рыцарей, сэру Джону Фальстафу, разделяют не все мои студенты, не говоря уже о большинстве моих коллег-преподавателей. Никому не приходит в голову называть Дон Кихота «пьяным, отвратительным старым негодяем», как заклеймил Фальстафа Бернард Шоу, но всегда найдутся исследователи Сервантеса, которые будут упорно вешать на Дон Кихота ярлык глупца и безумца и говорить нам, что Сервантес высмеивает «неумеренный эгоцентризм» своего героя. Будь это так, не было бы книги — кому охота читать про Алонсо Кихано Доброго? В конце он, разочаровавшись, умирает набожно и здравомысленно, неизменно напоминая мне тех друзей моей юности, которые прошли через десятилетия бесконечного психоанализа[180] и в конце концов сникли и высохли, растратили всю страсть, приготовились умереть аналитически и здравомысленно. Даже первая часть этой великой книги — что угодно, но не сатира на ее героя, вторая же, как принято считать, устроена так, чтобы читатель еще прочнее отождествлял себя с Дон Кихотом и Санчо.
Герман Мелвилл с подлинным американским задором назвал Дон Кихота «мудрейшим мудрецом из когда-либо живших»[181], без колебаний презрев вымышленность этого героя. Мелвилл считал наиболее оригинальными литературными персонажами троих: Гамлета, Дон Кихота и Сатану из «Потерянного рая». Ахав, увы, не стал четвертым — вероятно, оттого, что совместил в себе черты всех троих, — но его команда сподобилась Сервантесовой атмосферы, о которой Мелвилл молит в чудесном заключении одной из глав, достопамятно и безумно помещая Сервантеса между визионером-автором «Пути паломника» и президентом Эндрю Джексоном, героем всех американских демократов:
Заступись за меня, о великий Бог демократии, одаривший даже темноликого узника Бэньяна бледной жемчужиной поэзии; Ты, одевший чеканными листами чистейшего золота обрубленную, нищую руку старого Сервантеса; Ты, подобравший на мостовой Эндрью Джексона и швырнувший его на спину боевого скакуна; Ты, во громе вознесший его превыше трона! Ты, во время земных своих переходов неустанно сбирающий с королевских лугов отборную жатву — лучших борцов за дело Твое; заступись за меня, о Бог![182]
Это — экстаз американской религии, имеющей мало общего с осторожным католицизмом Сервантеса, зато во многом сходной с испанской религией — кихотизмом, описанной Унамуно. Трагическое чувство жизни, обнаруженное Унамуно в «Дон Кихоте», есть также вера «Моби Дика». Ахав — мономан; более добрый, чем он, Дон Кихот — тоже, но оба они — страдающие идеалисты, добивающиеся земной справедливости; не теоцентристы, а богоподобные безбожники. Ахав жаждет одного — уничтожить Моби Дика; слава для этого капитана-квакера — ничто, а месть — все.
Никто, кроме сонма мифических колдунов, не причиняет Дон Кихоту никакого вреда — все взбучки он переносит неизменно стоически. По Унамуно, Дон Кихотом движет жажда вечной славы[183], понимаемой как «призвание человеческой личности… открыть себе новые пути в пространстве и продлить себя во времени»[184]. Я вижу в этом светский эквивалент благословения Яхвиста: еще больше жизни и время без границ. Великодушие и простая доброта — добродетели Дон Кихота. Его порок, если это порок, — свойственная испанскому Золотому веку уверенность в том, что добытая в бою победа — превыше всего; но он так часто терпит поражение, что недостаток этот — в худшем случае преходящий.
Как и я, Унамуно со всею серьезностью воспринял сублимированное вожделение Дон Кихота к Альдонсе Лоренце, следствием которого было возвеличение ее наподобие Беатриче до ангелической, пусть и злостно зачарованной Дульсинеи; все это позволяет нам увидеть рыцаря практически во всей его сложности. Он живет верой, зная (как видно по его проблескам сознания), что верит в вымысел, и зная (по крайней мере, в проблесках), что это — всего лишь вымысел. Дульсинея — превосходный вымысел, а одержимый читатель Дон Кихот — поэт действия, создавший величественный миф. Унамунов Дон Кихот — борец от парадокса, предок искателей помельче, блуждающих по нашему хаосу в книгах Кафки и Беккета. Сам Сервантес, вероятно, не задумывал героя светской «неразрушимости» — но именно такой герой обожествляется в пламенных писаниях Унамуно. Этот Дон Кихот — метафизический актер, готовый выставить себя на посмешище ради того, чтобы не угас идеализм.
Идеалистически настроенному рыцарю эротической по сути веры Сервантес противопоставляет образ трикстера, необыкновенного, вполне шекспировского персонажа — Хинеса де Пасамонте, который впервые появляется в 22-й главе первой части как один из каторжников, ведомых на галеры, и возвращается в 25-й главе второй части как иллюзионист маэсе Педро, который сначала прорицает при помощи таинственной обезьяны, а затем дает такое живое кукольное представление, что Дон Кихот, приняв его за свою действительность, нападает на кукол и громит их. Хинес получился у Сервантеса химерической фигурой, которая чувствовала бы себя в своей тарелке и на Елизаветинском «дне», и в трущобах Испании Золотого века. Когда Дон Кихот и Санчо впервые встречаются с ним, его ведут по дороге вместе с дюжиной других каторжников, приговоренных королем к службе на галерах. На всех прочих преступниках кандалы, а их шеи скованы одной цепью. Хинес, самый из них выдающийся, закован похитрее:
Самый последний был человек лет тридцати, очень привлекательной наружности, хоть и косоглазый. Скован он был не так, как остальные: на ноге у него была длинная цепь, которая обвивала все его тело, а на шее висело два железных ошейника: один был прикреплен к цепи, а другой, называемый «стереги друга» или «подпорка друга», двумя железными палками соединялся у пояса с кандалами, которые обхватывали его руки и запястья, запертые на огромный замок, так что он не мог ни поднести рук ко рту, ни, наклонив голову, коснуться их губами[185].
Хинес, объясняет конвойный, слывет опасным, а еще он так дерзок и хитер, что, даже заковав его во все эти цепи, они боятся, как бы тот не сбежал. Он осужден на десять лет на галерах, что равносильно гражданской смерти. Суровое условие, не дающее рукам и голове Хинеса соприкасаться друг с другом — это, как отметил Роберто Гонсалес Эчеваррья, иронический выпад в адрес авторов пикаресок, ведь плут Хинес сочиняет историю своей жизни; он хвастает:
— …Ежели вам угодно узнать обо мне, так вот: я Хинес де Пасамонте, и жизнеописание свое я написал вот этими самыми пальцами.
— Это он правду говорит, — заметил комиссар. — Он действительно описал свою жизнь, да еще так, что лучше описать невозможно, — только книга осталась в тюрьме, и под залог ее он получил двести реалов.
— Но я ее выкуплю, — сказал Хинес, — хотя бы пришлось заплатить двести дукатов.
— Что ж, она так хороша? — спросил Дон Кихот.
— Так хороша, — ответил Хинес, — что не угнаться за ней «Ласарильо с Тормеса» и всем книжкам в этом роде, которые когда-либо были или будут написаны! Скажу только вашему благородию, что все в ней — правда, и такая увлекательная и забавная, что никакие выдумки с ней не сравнятся.
— А как ее заглавие? — спросил Дон Кихот.
— «Жизнь Хинеса де Пасамонте», — ответил тот.
— И она закончена? — спросил опять Дон Кихот.
— Как же она может быть закончена, — ответил Хинес, — если жизнь моя еще не кончилась?[186]
Возмутительный Хинес сформулировал великий принцип пикарески, принцип, к «Дон Кихоту» неприменимый, хотя это произведение тоже заканчивается смертью главного героя. Но Дон Кихот метафорически умирает прежде, чем Алонсо Кихано Добрый умирает физически. «Жизнь Ласарильо с Тормеса: его невзгоды и злоключения», анонимный архетип испанского плутовского романа, опубликованный в 1553 году, великолепно читается и сейчас; на английский его замечательно перевел поэт У. С. Мервин в 1962 году. Если книга хвастливого Хинеса была лучше, то она была по-настоящему хороша; впрочем, так оно и есть, ведь она — часть «Дон Кихота». Хинес уже успел отбыть четырехлетний срок на галерах, от десятилетнего же его спасает вмешательство возвышенно безумного Дон Кихота. Хинес и остальные каторжники оказываются на свободе, хотя бедный Санчо безуспешно внушает своему господину, что его действия прямо противоречат воле короля. Сервантес, сам проведший пять лет в плену у мавров, а в Испании попавший в тюрьму по обвинению в растрате в бытность сборщиком налогов, явно вложил свою возобладавшую над иронией страсть в величавую речь Дон Кихота: «…Всегда найдутся люди, готовые послужить королю и при более благоприятных обстоятельствах, мне же представляется большой жестокостью делать рабами тех, кого Господь и природа создали свободными»[187].
После рукопашного сражения конвойные бегут, и рыцарь наказывает освобожденным каторжникам предстать перед Дульсинеей, дабы поведать ей об этом приключении. Хинес пытается образумить рыцаря, но тот быстро разъяряется, и тогда Хинес подстрекает каторжников забросать камнями и раздеть своего спасителя и Санчо — и вот
<о>стались только осел и Росинант, Санчо и Дон Кихот. Осел стоял, задумчиво понуря голову и от времени до времени потряхивая ушами, воображая, вероятно, что каменный град еще не прекратился, так как в ушах у него все еще гудело; Росинант лежал на земле рядом со своим хозяином, ибо удары камнями свалили и его; Санчо, лишившийся плаща, трясся от страха перед Санта Эрмандад; а Дон Кихот был глубоко удручен тем, что люди, им облагодетельствованные, так дурно с ним обошлись[188].
Пафос этой сцены кажется мне самым изощренным; это одно из незабываемых впечатлений, производимых на нас Сервантесом. Унамуно, столь же возвышенно безумный, как Господь его Дон Кихот, делает восхитительное замечание: «Из сего нам нужно сделать следующий вывод: долг наш — освобождать галерников именно по той причине, что они нам на это благодарностью не ответят»[189]. Раскаявшийся Дон Кихот не соглашается со своим баскским истолкователем и клянется Санчо, что усвоил урок, а мудрый оруженосец парирует: «Ваша милость научится уму-разуму… когда я сделаюсь турком»[190]. Уму-разуму научился Сервантес — благодаря приязни к своему второстепенному, но превосходному творению, Хинесу де Пасамонте, «отъявленному мошеннику и плуту»[191]. Хинеса, обманщика[192] и шаманского демона извращенности[193], можно назвать каноническим литературным преступником наподобие Бернардина из «Меры за меру» или превосходного бальзаковского Вотрена. Раз Вотрен может явиться аббатом Карлосом Эррера, то и Хинес может предстать перед нами кукловодом маэсе Педро. Следует задать важный вопрос: что, кроме авторской гордости, заставило Сервантеса вернуть Хинеса де Пасамонте во второй части «Дон Кихота»?
Исследователи в основном сходятся на том, что противопоставление друг другу Хинеса и Дон Кихота, плута-трикстера и рыцаря-визионера, есть отчасти противопоставление двух литературных жанров — пикарески и романа, который Сервантес по сути создал, во многом подобно тому, как Шекспир (не знавший греческой трагедии — лишь ее попорченные остатки через римлянина Сенеку), создал современную трагедию заодно с современной трагикомедией. Как и главные герои Шекспира, Дон Кихот — воплощение подлинной обращенности в себя, а пройдоха Пасамонте — весь наружность, несмотря на свои большие способности к двуличию.
Хинес — оборотень; меняться он может лишь внешне. Дон Кихот, подобно великим Шекспировым персонажам, не может перестать меняться: в этом — цель его зачастую грозящих перейти в распрю, но неизменно кончающихся полюбовно споров с верным Санчо. Связанные друг с другом состоянием игры, они связаны также тем, что постоянно все сильнее «очеловечивают» друг друга. Они терпят бесконечные напасти; но разве в царстве кихотического может быть иначе? Иной раз Санчо, кажется, готов разорвать их отношения, но не может этого сделать; он в каком-то смысле приворожен, но по-настоящему им владеет любовь — и Дон Кихотом тоже. Любовь эта, быть может, неотделима от состояния игры, но так и должно быть. Конечно же, одна из причин возвращения Хинеса де Пасамонте во второй части — в том, что он никогда не принимает участия в игре, даже в качестве кукловода.
Всякий читатель понимает, что вторая часть «Дон Кихота» отличается от первой тем, что все, кому во второй части отведены важные роли, или просто-напросто читали первую часть, или знают, что были ее персонажами. Отсюда — новый контекст, в котором плут Хинес возникает вновь, когда в 25-й главе второй части мы видим человека, весь костюм которого — чулки, штаны и куртка — из верблюжьей шерсти, а левый глаз и вся половина лица заклеены зеленой тафтой. Это маэсе Педро, прибывший, по его словам, с обезьяной-прорицательницей и кукольным спектаклем о том, как знаменитый странствующий рыцарь Гайферос, первый вассал Карла Великого, освободил свою жену Мелисендру, дочь Карла Великого, плененную маврами[194].
Хозяин гостиницы, где маэсе Педро присоединяется к Дон Кихоту и Санчо Пансе, говорит, что кукловод «болтает за шестерых и пьет за дюжину»[195]. Узнав Дон Кихота и Санчо, Хи-нес-Педро по совету своей обезьяны-прорицательницы[196] (умеющей прорицать лишь назад, от настоящего к прошлому) дает кукольное представление — безусловно, одно из метафорических чудес Сервантесова шедевра. Классическое его истолкование дал в «Размышлениях о „Дон Кихоте“» Ортега-и-Гассет; он сравнил кукольное представление маэсе Педро с «Менинами» Веласкеса: художник писал короля с королевой и на той же картине изобразил свою мастерскую[197]. Показывать такую картину Дон Кихоту было бы небезопасно, а уж для этого представления худшего зрителя, чем он, и быть не могло:
Увидев перед собой столько мавров и услышав такой грохот, Дон Кихот подумал, что ему следовало бы помочь беглецам, он вскочил и громким голосом сказал:
— Я не допущу, покуда я жив, чтобы в моем присутствии была нанесена такая обида знаменитому рыцарю и неустрашимому любовнику, дону Гайферосу. Стой, подлая сволочь! Не смей гнаться и догонять его, — не то тебе придется иметь дело со мной!
И, перейдя от слов к делу, он обнажил свой меч, одним скачком очутился у сцены и с невиданной яростью и быстротой стал осыпать ударами кукольных мавров; он валил с ног, снимал головы, калечил и рассекал; а один раз ударил наотмашь с такой силой, что, если бы маэсе Педро не присел на корточки, не съежился бы и не притаился, Дон Кихот снес бы ему голову с такой же легкостью, как если бы она была из марципана[198].
Возможно, в этом никак не случайном ударе наотмашь — вся суть этого восхитительного вмешательства. Маэсе Педро вторгся в состояние игры, где ему не место, и оно таким образом мстит мошеннику. Незадолго до этого Дон Кихот говорит Санчо, что кукловод, должно быть, состоит в союзе с дьяволом, потому что «обезьяна гадает только о прошлом и настоящем, чертова же премудрость распространяется только на это»[199]. Рыцарь не доверяет трикстеру — и критикует его за ошибку: тот снабдил мечети колоколами. Оправдание Хинеса-Педро опять же готовит нас к разгрому Дон Кихотом райка:
Сеньор Дон Кихот, не обращайте внимания, ваша милость, на такие пустяки и не гоняйтесь за точностью, которой вы все равно не найдете. Ведь почти каждый день у нас представляют комедии, полные нелепостей и несуразностей, и, несмотря на это, они пользуются величайшим успехом, и зрители не только им хлопают, но восторгаются ими! Продолжай, мальчик, и пускай себе они говорят, что хотят; если даже у меня окажется столько нелепостей, сколько пылинок в солнечном луче, и то не беда; мне бы только набить себе карман[200].
Дон Кихот отвечает лаконически-мрачно: «Что правда, то правда». Тут маэсе Педро становится великим литературным соперником Сервантеса, чудовищно плодовитым и успешным поэтом и драматургом Лопе де Вегой, чьи финансовые триумфы укрепили Сервантеса в мысли, что на драматургическом поприще он — банкрот. Последующее нападение рыцаря на картонный мираж — одновременно критика вкуса широкой публики и проявление кихотической, или визионерской, воли, размывающей границу между искусством и природой. Комический эффект несообразности оказывается приправлен литературной сатирой, которую не слишком смягчает развязка — урезоненный Дон Кихот деньгами исправляет свою великодушную ошибку и по обыкновению винит обманувших его злых волшебников. Затем Хинес де Пасамонте исчезает из повествования: он выполнил свою функцию плута, создающего контрастный фон для рыцаря-визионера. Нам остается не только удовольствие, но и неутихающий отзвук этой притчи об эстетике, всего Дон Кихотова предприятия в миниатюре: здесь видна и его ограниченность, и заложенное в него героическое стремление вырваться за нормативные пределы литературного изображения. Хинес, олицетворение пикарески, не может состязаться с Дон Кихотом, предвестником триумфа романа.
Читатели делятся на тех, кто предпочитает первую часть «Дон Кихота», и тех, кто предпочитает вторую, — возможно, не только оттого, что эти части очень разные, но и оттого, что они причудливым образом отделены друг от друга, не столько авторскими интонацией и установкой, сколько отношением Дон Кихота и Санчо Пансы к миру, в котором они живут. Я не чувствую во второй части (которую предпочитаю) усталости Сервантеса, но и рыцарю, и оруженосцу в ней приходится выносить свое новое самосознание, и иногда, кажется, оно их внутренне тяготит. Знание о том, что ты персонаж пишущейся книги, — не лучшее подспорье в приключениях. Тем не менее и в окружении людей, читавших об их прежних бедствиях, Дон Кихот и Санчо не теряют непринужденности. Санчо даже еще воодушевляется, и еще крепче делается дружба между двумя героями. Всего же лучше то, что Санчо оказывается предоставлен сам себе на десять дней в роли мудрого и делового губернатора, по истечении которых он благоразумно уходит от дел и возвращается к Дон Кихоту и себе самому. Сильнее всего меня трогает то, что случается в этой части с Сервантесом: меняется его отношение к тому, что он пишет. Впереди — смерть, и что-то в нем (он знает это) умрет вместе с Дон Кихотом, а что-то — быть может, более глубокое — останется жить в Санчо Пансе.
Отношение Сервантеса к его грандиозной книге трудно определить. Лео Шпитцер видит в нем попытку облечь писателя новой, пусть и осмотрительно ограниченной властью:
Высоко над сотворенным им миром-космосом… воцаряется художественное «я» Сервантеса, всеобъемлющее творческое «я», подобное Природе, подобное Богу, всемогущее, всемудрое, всеблагое — и милосердное… Этот художник подобен Богу, но не обожествлен… Сервантес всегда склоняет голову перед вышней мудростью Бога, воплощенной в учении католической церкви, в государственном и общественном строе.
Происходил Сервантес от насильно обращенных в христианство евреев или нет — не склонить головы было бы для него самоубийством, и Шпитцер это, безусловно, понимал. Вне зависимости оттого, чем является или не является «Дон Кихот», его вряд ли можно назвать религиозным романом или хвалой «высшему разуму», как предлагает тот же Шпитцер. Неумолчный смех этой книги зачастую печален, даже болезнен, а Дон Кихот — одновременно столп человеческой приязни и горемыка. Возможно ли вообще описать «специфический „сервантесовский“ момент»?[201] Эрих Аэурбах писал, что его «не определить словами», но все равно отважно попытался это сделать:
Это и не философия, и не тенденция, и даже не взволнованность непрочностью человеческого существования или мощью судьбы, как у Монтеня или Шекспира. Это жизненная позиция по отношению к миру, а стало быть, и к предметам своего искусства; мужественный и уравновешенный дух определяет в основном эту позицию. Есть радость от многообразной чувственной игры, а есть еще нечто по-южному терпкое, гордое. И это не позволяет слишком серьезно воспринимать такую игру[202].
Признаюсь, эти красивые слова описывают не того «Дон Кихота», которого я не устаю перечитывать — потому хотя бы, что Сервантес, похоже, воспринимает мировую игру и контригру Дон Кихота и Санчо Пансы не только иронически, но и очень серьезно. «Сервантесовский момент» столь же «поливалентен», сколь и шекспировский: он вмещает в себя нас всех со всеми нашими разительными различиями. Дон Кихоту и Санчо, особенно взятым вместе, мудрость присуща в той же мере, в которой сэру Джону Фальстафу, Гамлету и Розалинде свойственны ум и владение словом. Двое героев Сервантеса — попросту значительнейшие персонажи всего Западного канона, не считая трех с лишним десятков (не больше) равных им у Шекспира. Такой, как у них, сплав безумия и мудрости, такая незаинтересованность есть лишь в самых запоминающихся шекспировских мужчинах и женщинах. Сервантес приучил нас к себе так же, как Шекспир: мы уже не видим того, что делает «Дон Кихота» такой неизменно самобытной, такой пронзительно странной вещью. Если мировую игру все еще можно отыскать в величайшей литературе, то искать следует здесь.
6. Монтень и Мольер: каноническая неуловимость истины
Кажется, во французской литературе нет какой-то одной фигуры, которая находилась бы в центре национального канона: нет Шекспира, Данте, Гёте, Сервантеса, Пушкина, Уитмена. На месте такой фигуры — собрание титанов, каждого из которых можно выдвинуть на эту роль: Рабле, Монтень, Мольер, Расин, Руссо, Гюго, Бодлер, Флобер, Пруст. Может быть, такой фигурой можно назначить составного автора, Монтеня-Мольера, ибо величайший из эссеистов приходится единственному сопернику Шекспира среди комедиографов духовным отцом.
Мольер считал свое занятие — развлекать порядочных людей — делом нелегким[203], Шекспир же со своим всеохватным сознанием так, похоже, не думал. Его публика приветствовала всю его «непорядочность». Королева Елизавета отнюдь не была «королем-солнцем», Людовиком XIV; даже Яков I, самый развитый английский монарх, так до конца и не сделался для Шекспира тем главным зрителем, каким был Людовик XIV для Мольера. Возможно, это обстоятельство Мольера ограничивало, хотя явно не слишком: он почти такой же универсальный драматург, как Шекспир. С Шекспиром он удивительным образом родствен, и связано это может быть с тем, как они оба относятся к Монтеню. Мольеров Гамлет — это Альцест, главный герой «Мизантропа».
Оба персонажа берут начало в некоторых положениях Монтеня и оба подтверждают свирепое, неизменно тревожное изречение Ницше: «Для чего у нас есть слова, с тем мы уже и покончили. Во всяком говорении есть гран презрения»[204]. Гамлет превозмогает это презрение лишь в пятом действии, Альцест не превозмогает вовсе. Пламенное прозрение Ницше относится к говорению, а не к письму, поэтому с творчеством эссеиста Монтеня оно не соотносимо.
Есть известное высказывание Эмерсона — как и Ницше, признанного последователя Монтеня — об «Опытах»: «Разрежьте эти слова, и из них польется кровь, до того они, если можно так выразиться, сосудистые и живые»[205]. Триумф Монтеня в том, что он слился со своей книгой в явном действии, которое следует назвать самобытностью; в английском языке это слово имеет более положительное значение, чем во французском, где «самобытный» значит «с причудами». Возможно, странность радикальной самобытности Монтеня — это наименее французское в нем, и все-таки именно эта странность сделала его канонической фигурой, причем не только для Франции, но и для всего Запада. Меня всякий раз наново поражает эта истина о Западном каноне: то или иное произведение попадает в него потому, что выделяется, а не потому, что легко встраивается в существующий порядок. Подобно всем первостепенным каноническим авторам, Монтень поражает обыкновенного читателя при каждой новой встрече, оттого хотя бы, что не соответствует ни одному «предубеждению» на его счет. В нем можно увидеть скептика, гуманиста, католика, стоика, даже эпикурейца — едва ли не кого угодно.
Его горизонты и глубина иногда приближаются к шекспировским масштабам, и его можно воспринимать — притом что он ничего не знал о Шекспире, тогда как Шекспир о нем знал, — как самого крупного шекспировского персонажа, ищущую личность, которая даст фору самому Гамлету. Монтень меняется, перечитывая и правя свою книгу; возможно, ни о ком другом и не скажешь с большим на то основанием, что книга есть человек, а человек есть книга. Ни один другой писатель не слышит себя так ясно, как непрерывно слышит себя Монтень; ни одну другую книгу нельзя считать длящимся процессом в той же мере, что его книгу. Я не могу близко сойтись с нею, хотя постоянно ее перечитываю, потому что она есть чудо изменчивости. Мне знаком лишь один аналогичный опыт чтения — бесконечное перечитывание записных книжек и дневников Ральфа Уолдо Эмерсона, Монтеня на американский лад. Но дневники Эмерсона, понятно, разрозненны, это не книга, тогда как взятые Монтенем пробы самого себя — книга. Для такого, как я, литературоведа-элегика «Опыты» имеют статус Священного Писания и соперничают с Библией, Кораном, Данте и Шекспиром. Из всех французских писателей, считая даже Рабле с Мольером, Монтень, кажется, наименее ограничен национальной культурой, при этом он парадоксальным образом сыграл важную роль в формировании французского сознания.
Мать Монтеня, которую он почти не упоминает, происходила из семьи конверсо, испанских евреев, обратившихся в христианство, но отказавшихся от статуса испанских граждан второго сорта и поселившихся в Бордо. Монтень остался католиком, но некоторые из его братьев и сестер сделались кальвинистами, и, каким бы писателем Монтень ни стал, называть его писателем религиозным нелепо. В его книге на одно появление Христа приходится дюжина упоминаний Сократа и цитат из него. Даже М. А. Скрич, исследователь, настойчиво представляющий Монтеня либеральным религиозным писателем-католиком, заключает, что у Монтеня «божественное никогда не соприкасается с человеческой жизнью, не нарушая того естественного порядка, при котором человеку покойнее всего». В качестве публичной фигуры (которой он оказался во многом вопреки своему желанию) Монтень отказался занять чью-либо сторону во время религиозных войн, бушевавших во Франции на протяжении большей части его жизни. Лично он был предан своему земляку-гасконцу Генриху Наваррскому, предводителю протестантов, принявшему — уже как Генрих IV — католицизм ради того, чтобы подчинить себе Париж и все королевство. Будь Монтень в добром здравии, он, вероятно, принял бы предложение Генриха IV сделаться одним из его советников; но судьба судила иначе, и автор «Опытов» умер частным лицом в возрасте пятидесяти девяти лет.
К тому времени его книга уже была знаменита во Франции, и с тех пор ее популярность и влияние не убывали. Если мое вынужденное пророчество сбудется и через десять лет или того меньше наступит новая Теократическая эпоха, то Монтень исчезнет, по крайней мере на какое-то время. Его сила держится исключительно на том, что его читатель-мужчина не может не отождествлять себя с автором. Монтеня вряд ли когда-нибудь простят феминисты — по части мужского шовинизма он оставляет далеко позади самого Фрейда; Фрейд объявил женщин неразрешимой загадкой, но для Монтеня никакой загадки в них не было. По нему, им недоставало человеческого — того человеческого, которое он ставил превыше всего; он целиком отождествлял их с природой. И все-таки он был слишком мудр, чтобы — даже будучи человеком своего времени — не знать, чья в том вина. Соответствующий вывод подразумевается в его позднем, очень чувственном эссе «О стихах Вергилия»:
…<Я> скажу, что мужчины и женщины вылеплены из одного теста; если отбросить воспитание и обычаи, то разница между ними невелика.
Платон в своем «Государстве» призывает безо всякого различия и тех и других к занятиям всеми науками, всеми телесными упражнениями, ко всем видам деятельности на военном и мирном поприщах, к отправлению всех должностей и обязанностей.
А философ Антисфен не делает различия между добродетелями женщин и нашими.
Гораздо легче обвинить один пол, нежели извинить другой. Вот и получается, как говорится в пословице: потешается кочерга над сковородой, что та закоптилась[206].
Здесь и далее в этой главе я цитирую красноречивый перевод покойного Дональда М. Фрейма, который кажется мне также лучшим толкователем Монтеня. Фрейм считает изменчивым фокусом мыслей Монтеня постепенное осознание того, что все мы, не исключая мужчин-гуманистов, — птицы невысокого полета: едва ли сенсационное открытие для нас, бредущих к концу Хаотической эпохи. «Но в 1590 году эта мысль в устах ученого автора имела вполне революционное и негуманистическое звучание», — добавляет Фрейм.
Дабы обнаружить еще многое из того, что было в книге Монтеня революционного, предложу сопоставить ее с книгой Блеза Паскаля, французского ученого и религиозного писателя, родившегося треть столетия спустя, в 1623 году. Паскаль редко поминал Монтеня без тревоги и неприязни и не желал понять, что католические воззрения Монтеня основывались на преобладавшем в нем скептицизме. В мире Платоновых теней Монтень видел одну лишь изменчивость, поэтому ему не составляло труда верить в неизменность и непостижимость католического Бога. Его Бог не сокровенен, но все равно недостижим, и наш удел — пребывать в вечном терпении, ожидая, чтобы Бог одарил нас собою. Пока этого не произошло, мы живем естественными людьми и рады скептически глядеть на мир, в котором обитаем. Паскалев же Бог, напротив, разом сокровенен и достижим; этот парадокс создает почву для трагедии Расина, но не годится для нужд комедии Мольера. Паскаль явно был для Расина тем, чем мог быть для Мольера Монтень: учителем, наставившим его на драматургический путь. Монтенев скептицизм мог отчасти вдохновить трагикомическое в «Гамлете» — но ему было куда проще перейти в ироническую комедийность «Мизантропа». Французская концепция трагического, нагляднее всего представленная Паскалем и Расином, оказалась не столь приспособленной к переносу на другую почву, как французская концепция комического Монтеня и Мольера.
Догматические неохристианские взгляды Т. С. Элиота побудили его предпочесть Паскаля Монтеню; это можно понять как духовный выбор, но невозможно поддержать как суждение о литературе. Элиот имел неосторожность написать предисловие к «Мыслям» Паскаля — попросту дурно усвоенной книге Монтеня, дурно до того, что еще чуть-чуть, и многие бы назвали ее чистой воды плагиатом. Паскаль, как некоторые подозревали, писал «Мысли», держа перед собою открытыми «Опыты» Монтеня. Было это буквально так или нет — это хорошая метафора для мстительного и диспептического акта каннибализма, совершенного Паскалем в отношении Монтеневой книги. Перед нами практически ранний рассказ Борхеса «Пьер Менар, автор „Дон Кихота“» с Паскалем вместо Менара и Монтенем вместо Сервантеса. Приведу одно из любимейших моих сопоставлений: Паскалеву мысль 358-ю, а следом — великое место из заключительного эссе Монтеня, «Об опыте»:
Человек — ни ангел, ни животное; к несчастью, тот, кто хочет стать ангелом, становится животным[207].
Есть люди, старающиеся выйти за пределы своего существа и ускользнуть от своей человеческой природы. Какое безумие: вместо того, чтобы обратиться в ангелов, они превращаются в зверей, вместо того, чтобы возвыситься, они принижают себя[208].
У Монтеня есть источники, которые он перерабатывает и преодолевает посредством своего сильного «я». У Паскаля нет ничего, кроме Монтеня, который ему не желанен, но которым он одержим. Результат вдвойне прискорбен: Паскаль просто бранит нас всех; Монтень обвиняет некоторых из нас в идеалистическом безумии. Паскаль сводит нас к нашим поступкам; Монтеня занимает самая суть нашего бытия. Почему Паскаль был так одержим Монтенем? Элиот настаивает, что Паскаль изучал Монтеня с целью его разгромить, но не преуспел, поскольку заниматься этим — все равно что бросать гранаты в туман[209]. Монтень, уверяет нас Элиот, «это туман, газ, жидкость, текучее вещество»[210]; это, безусловно, самое странное определение из всех, что когда бы то ни было давались Монтеню. Назначение обидной метафоры Элиота раскрывается, когда автор «Убийства в соборе» заявляет, что Монтеню «удалось выразить скептицизм каждого человеческого существа»[211], в том числе, понятно, и Паскаля, и самого Элиота.
Я считаю, что это попросту неверно и несправедливо по отношению к Монтеню, чьи самобытность и сила не суть производные от его умеренного скептицизма — который, ко всему прочему, всегда остается в рамках скептицизма католического. При всей своей иронической скромности, Монтень пишет, как харизматик, в чем-то подобный Гамлету. Нас «заражает» не производный скептицизм Монтеня, но его в высшей степени самобытная личность — первая личность, превращенная писателем в содержание книги. Уолт Уитмен и Норман Мейлер — непрямые потомки Монтеня, а Эмерсон и Ницше — прямое его потомство. Паскаль, его несостоявшийся разрушитель, — одна из Монтеневых случайных жертв. Ни туман, ни газ, ни жидкость, Монтень — полноценный, естественный человек, и поэтому он оскорбляет отчаянных просителей Божьей милости вроде Паскаля с Т. С. Элиотом — не комических писателей, но знатных иронистов.
Фрейм, кстати для нас, назвал свое исследование о Монтене «Открытие человека» и, хотя может показаться, что конец XVI века — это поздновато для таких открытий, назначить Монтеню подлинного предшественника труднее, чем Фрейду. Монтень с готовностью отдавал все лавры Сенеке и Плутарху; и он действительно обобрал их — но взял только материал. Монтень, безусловно, самобытен; никогда прежде самосознание не находило такого последовательного и полного выражения. Чудо Монтеня — в том, что он почти никогда не «думает о себе» в нынешнем, отрицательном смысле этих слов. Сказать: «Она много о себе думает» — отнюдь не значит сделать комплимент. Монтень говорит о себе на протяжении восьмисот пятидесяти больших страниц, а нам все мало — потому что он представляет собою если не каждого и уж точно не каждую из нас, то практически всех, у кого есть желание, способность и возможность думать и читать.
Таков его дар, или его харизма, и объяснить это очень трудно. Эмерсон, так хорошо это видевший, не мог этого описать, и исследователи Монтеня тоже не могут. Лучшее тут подспорье, что я знаю — Платонов Сократ, чья тень преследовала Монтеня. Швейцарский историк Герберт Люти считал, что весь Монтень — в одной из самых его «обычных» фраз: «Когда я играю со своей кошкой, кто знает, не забавляется ли скорее она мною, нежели я ею!»[212] Это — шаг за пределы перспективизма, и, что еще лучше, шаг игровой и сократический. Но Сократ Платона — дуалист, превозносящий душу над телом, а Монтень — монист, не дающий духу мучить тело[213]. Даже Сократ не поможет: откуда у Монтеня та ясность, с которой он видит и пишет правду о себе? Большинство читателей сходится на том, что величайшее эссе Монтеня — «Об опыте», которое он предусмотрительно поставил в конец своей книги. В нем я и буду искать тайну Монтеня — не зная, по силам ли мне ее найти.
Эмерсоново лучшее эссе называется, разумеется, «Опыт», и в нем есть место, мое любимое, которое красноречиво свидетельствует о том, что он взял у своего учителя Монтеня:
И мы тоже не хотим преуменьшать важности от природы свойственного нам побуждения воспринимать сущее под нашим личным углом зрения, наделяя его нашим личным отношением. А все же бог — вот истинный абориген этих невзрачных скал. В области моральной такая потребность создает важнейшее достояние — веру в себя. Нам нужно твердо держаться этой простоты, как бы она нас ни шокировала, и вслед за вспышками деловой активности нам нужно восстанавливать свои силы более целеустремленно, чтобы увереннее держать в руках нить собственной судьбы[214].
Под «простотой» тут следует понимать художественную нужду, как и впоследствии в стихах Уоллеса Стивенса. Что такое была Монтенева «простота», его художественная нужда, для читателей его «Опытов»? Нужда и харизма в нем были едины и объясняют его замыслы в отношении нас. Он боится своей и нашей меланхолии — и предлагает свою мудрость в качестве противоядия от обеих. Его меланхолия сама по себе канонична, и таковой же сделалась его мудрость. Из всего написанного о канонической меланхолии мне больше всего нравится резюме Мэгги Килгур в исследовании «От причастия к каннибализму»:
Будучи связана с теориями о звездном влиянии, о насыщении человеческого тела силами постороннего происхождения, меланхолия ждет теорий поэтического влияния и с самого начала ассоциировалась с творческой личностью, считавшейся по сути своей амбивалентной. В меланхолии видели одновременно душевное состояние и болезнь, а также — сквозь призму соединенных теорий Галена и Аристотеля, исходно противоположных друг другу, — одновременно проклятие и благословение. Она была признаком и гения, и дурного даймона — как в древнем значении (добрый и злой духи, управляющие человеком), так и в современном (внутренние качества).
Меланхолия, или творческая амбивалентность, тесно связана с эстетическими мучениями несаморожденного, чувствами, которые испытывал великий поэт и падший ангел — Мильтонов Сатана, бывший до своего падения Люцифером. У Монтеня меланхолия оказывается в центре внимания сразу, во втором и третьем эссе первой книги — «О скорби» и «Наши чувства устремляются за пределы нашего „Я“» — но эти рассуждения не многое нам говорят. Подлинная, или зрелая, меланхолия у Монтеня не ограничивается авторской амбивалентностью и устремляется к двум великим теням — боли и смерти. Ближайшим, едва ли не единственным другом Монтеня был Этьен де Ла Боэси, двумя годами его старше. После шести лет близких отношений Ла Боэси внезапно умер в возрасте тридцати двух лет. После его смерти Монтень ни с кем по-настоящему не дружил — возможно, чтобы больше никогда не понести такой утраты. Христианское, или апостола Павла, представление о смерти, согласно которому она есть аномалия, вызванная грехопадением, Монтеню чуждо. По наблюдению Хуго Фридриха, Монтень не дает себе труда оспаривать христианскую позицию — он просто не берет ее в расчет как не представляющую для него интереса. При всей своей преданности Сократу, Монтень не разделяет его идеи о бессмертии души, не говоря уже о христианской доктрине жизни после смерти. Нет ничего менее христианского по духу (и существенно более смешного), чем совет Монтеня о приготовлениях к смерти из эссе «О физиогномии» (3, 12):
Не беспокойтесь, что не сумеете умереть: сама природа, когда придет срок, достаточно основательно научит вас этому. Она сама все за вас сделает, не занимайте этим своих мыслей. <…> От мыслей о смерти более тягостной становится жизнь, а от мыслей о жизни — смерть. Первая нам не дает покоя, а вторая нас страшит. Не к смерти мы подготовляем себя, это ведь мгновение. Каких-нибудь четверть часа страданий, после чего все кончается и не воспоследует никаких новых мук, не стоят того, чтобы к ним особо готовиться. По правде говоря, мы подготовляемся к ожиданию смерти[215].
Для Монтеня говорить правду значит в конце концов говорить «Об опыте» — так называется последнее его эссе, которое следует за этим отвержением смерти «по-христиански». Естественный скептицизм уступает естественному знанию, а затем мы возвращаемся к границам познаваемого и к Сократу: «На основании собственного опыта говорю я так о людском невежестве: оно, на мой взгляд, и есть самое точное знание, какое можно получить в школе жизни. Те, кто не хочет признать этого, исходя из столь жалкого примера, как мой или их собственный, могут опереться на Сократа, учителя учителей»[216].
За пределы невежества выходит то, что Фрейд впоследствии назовет осознанием своего я как прежде всего телесного я[217]; у Монтеня эта истина выражена художественнее:
В общем же все состряпанное мною здесь кушанье есть лишь итог моего жизненного опыта, который для всякого здравомыслящего человека может быть полезен как призыв действовать совершенно противоположным образом. Но что до здоровья телесного, то ничей опыт не будет полезнее моего, ибо у меня он предстает в чистом виде, не испорченном и не ущемленном никакими ухищрениями, никакой предвзятостью. В отношении медицины опыт — как петух, роющийся в своем же помете: разумное он обретает в самом себе[218].
Предполагается, что разумное относится к бытию, Монтень же утверждает, что бытия не описывает; он описывает переход, и наше телесное здоровье — это лишь история перехода. Опыт есть переход; после Монтеня это станет философией всей литературы, от Шекспира с Мольером до Пруста с Беккетом. Монтень взялся изобразить свое бытие и открыл истину о том, что личность — это переход, переправа, мост. Если личность — это движение, то летописец личности не всегда может припомнить, что он «хотел сказать». Мудрость не есть знание, ибо знание, иллюзорное само по себе, попадает в категорию «хотел сказать». Быть мудрым — значит рассказывать о переходе, и, хотя Монтень всегда остается личностью, одна личность всегда переходит в другую, подобно тому как один тон сменяется другим:
Надо уметь переносить то, чего нельзя избежать. Наша жизнь, подобно мировой гармонии, слагается из вещей противоположных, из разнообразных музыкальных тонов, сладостных и грубых, высоких и низких, мягких и суровых. Что смог бы создать музыкант, предпочитающий лишь одни тона и отвергающий другие? Он должен уметь пользоваться всеми вместе и смешивать их. Так должно быть и у нас с радостями и бедами, составляющими нашу жизнь. Само существование наше немыслимо без этого смешения; тут необходимо звучание и той и другой струны. Пытаться восставать против естественной необходимости — значит проявлять то же безумие, что и Ктесифонт, который бил своего мула ногами, чтобы с ним справиться[219].
Не могу сказать, что мне легко прислушаться к этому совету, хотя я и понимаю, что это мудрость. Меня, как восстающего против естественной необходимости, не гнетет то, что я бью своего мула ногами, чтобы с ним справиться, и обречен на неудачу. Монтень таким образом предваряет откровенный разговор о своих бесконечных мучениях от камней в почках и об ироническом утешении, которое дает ему его разум: «Но ты умираешь не потому, что ты болеешь, а потому, что ты живешь. Смерть покончит с тобой и без помощи болезни. А некоторых болезнь даже избавляла от скорой смерти, и они жили дольше, думая, что вот-вот умрут»[220].
Где тут граница иронии — неясно, но, чем мы ближе к последним страницам эссе, тем явственнее эта ирония ощущается:
Я, похваляющийся тем, что так усердно, с таким упоением тешу себя всеми прелестями жизни, даже я, приглядываясь к ним повнимательнее, нахожу, что они — всего-навсего дуновение ветра. Но и мы-то сами — всего-навсего ветер. А ветер, более мудрый, чем мы, любит шуметь, волноваться и довольствуется теми проявлениями, какие ему свойственны, не стремясь к устойчивости и прочности, которые ему чужды[221].
Тут Монтень провозглашает разом свободу и ограниченность: прелестей жизни, личности, своих «Опытов». Мы можем быть мудры, как ветер, и не требовать от себя того, чего в нас нет. Каким бы ироническим ни было это эссе, оно написано в защиту личности, естественных радостей, Монтенева творчества — пусть в нем и говорится, что все это преходяще. Но жить во время этого перехода согласно разуму, говорится в нем далее, достаточно:
Все мы — великие безумцы. «Он прожил в полной бездеятельности», — говорим мы. «Я сегодня ничего не совершил». Как? А разве ты не жил? Просто жить — не только самое главное, но и самое замечательное из твоих дел. <…> Надо не сочинять умные книги, а разумно вести себя в повседневности, надо не выигрывать битвы и завоевывать земли, а наводить порядок и устанавливать мир в обычных жизненных обстоятельствах. Лучшее наше творение — жить согласно разуму[222].
Для Монтеня и его первых читателей эти слова звучали особенно пронзительно, поскольку их контекстом была жестокая трехсторонняя гражданская война между Католической лигой во главе с Гизами, протестантами во главе с Генрихом Наваррским и роялистами во главе с Генрихом III, последним королем из династии Валуа. Наводить порядок и устанавливать мир, впрочем, сейчас все так же неизменно трудно, и остроты этот пассаж не утратил. В высшей точке «Об опыте» мудрость и ирония состязаются друг с другом за риторическое первенство. Отдается щедрая дань тени Сократа, вновь призванной чудесным наблюдением: «А в Сократе примечательнее всего то, что уже в старости он находит время обучаться танцам и игре на музыкальных инструментах и считает, что время это отнюдь не потеряно даром»[223]. Совсем незадолго до смерти Монтень подражает Сократу под лозунгом: «Мне уже недолго предстоит обладать жизнью, и это обладание я хочу сделать как можно более глубоким и полным»[224]. Мы готовимся к тому превозношению обыденной жизни, которое так задело Паскаля, что он подправил его, прибегнув к мелкой краже, — но в полноте контекста оно ошеломляет нас, и мы забываем о Паскале:
Есть люди, старающиеся выйти за пределы своего существа и ускользнуть от своей человеческой природы. Какое безумие: вместо того, чтобы обратиться в ангелов, они превращаются в зверей, вместо того, чтобы возвыситься, они принижают себя. Все эти потусторонние устремления внушают мне такой же страх, как недостижимые горные вершины. В жизни Сократа мне более всего чужды его экстазы и божественные озарения. В Платоне наиболее человечным было то, за что его прозвали божественным. Из наших наук самыми земными и низменными кажутся мне те, что особенно высоко метят. А в жизни Александра я нахожу самыми жалкими и свойственными его смертной природе чертами как раз укоренившиеся в нем вздорные притязания на бессмертие. Филота забавно уязвил его в своем поздравительном письме по поводу того, что оракул Юпитера-Аммона объявил Александра богоравным: «За тебя я весьма радуюсь, но мне жалко людей, которые должны будут жить под властью человека, превосходящего меру человека и не желающего ею довольствоваться».
Мне кажется, что в этом пассаже достигнут предел возможного в жанре эссе; его сила — в той возвышенности, с которой в нем отвергаются худшие проявления лучших людей: Сократа и Александра. Писательская меланхолия с ее амбивалентностью осталась позади; не возникает ощущения запоздалости, когда Монтень подступается к древним, которых он чтит, но судит сообразно с человеческой мудростью. По словам Фрейма, Монтень гуманизировал гуманизм, и мудрость эта держится на единственном знании, которым мы можем обладать: знании о том, как жить. Но такая формулировка уводит нас от Монтеня, и нам следует вернуться к написанному им самим, дабы вновь приобщиться к канонической мудрости, которой мы больше нигде не сыщем. В эссе «Об опыте», каким бы мудрым оно ни было, всего существеннее то, что в нем все построения имеют основу в музыке познания, звучащей лишь там:
Действительно, уменье достойно проявить себя в своей природной сущности есть признак совершенства и качество почти божественное. Мы стремимся быть чем-то иным, не желая вникнуть в свое существо, и выходим за свои естественные границы, не зная, к чему мы по-настоящему способны. Незачем нам вставать на ходули, ибо и на ходулях надо передвигаться с помощью своих ног. И даже на самом высоком из земных престолов сидим мы на своем заду[225].
Паскаль, надо полагать, был просто убит этим комическим ходом мысли, не допускающим трансцендентального томления, религиозных пари и трагизма сокровенности Бога. Сейчас, когда мы, сломя голову, несемся к новой Теократической эпохе, эти четыре фразы Монтеня должны служить нам талисманом, охраняющим от разжигателей апокалипсиса. Монтень тоже находится в центре Западного канона потому, что и самый помятый жизнью читатель может найти себя, используя книгу Монтеня как пособие. До пришествия Фрейда ни один светский моралист не дал нам и доли того, что дал Монтень, и теперь мне кажется, что мы по-настоящему отдадим Фрейду должное, если будем видеть в нем Монтеня нашей Хаотической эпохи.
Викторианский поэт и прозаик Джордж Мередит, написавший высокую комедию в духе Мольера — свой лучший роман «Эгоист», — сочинил также «Эссе о комедии», в котором Мольер довольно неустойчиво располагается между высшим и средним «классовыми элементами» своей публики — он играет разом для двора и для города, но сердце его втайне принадлежит городу. Это, наверное, идеализация, так как Мольер, сын обойщика-драпировщика, даже в большей мере, чем сын перчаточника Шекспир, представляется главным комедиографом Аристократической эпохи. Поздний Монтень отождествлял свое мировоззрение с мировоззрением обычных людей; но Мольер, как и Шекспир, редко дает нам понять, кому он сильнее всего сочувствует. Как и Монтень, он натуралист[226] и, может быть, даже скептик, и он определенно такой же светский, мирской человек, как Шекспир.
Здравомыслящий Мольер разделял прагматическое мировоззрение Аристофана, но вообще подавлял в себе Аристофанов дух, который едва ли был бы уместен при дворе Людовика XIV. Если судить прагматически, то для Мольера Богом был его милостивый и славный монарх, без участия и постоянной поддержки которого Мольера погубили бы его враги, парижские изуверы. «Король-солнце» — это первый столп карьеры зрелого Мольера; второй — это его религиозная преданность театру: он сочинял пьесы, играл, возглавлял труппу, и все это в итоге стоило ему жизни. Мольер умер легендарной смертью после четвертого представления «Мнимого больного» (1673), фарса, который он написал, поставил и в котором, невзирая на серьезную болезнь, играл главную роль. Ему было пятьдесят лет[227], и тридцать из них он прожил театром.
Исключение из канона — достаточно простая операция в нашем гибнущем академическом мире, но в театральной сфере ее осуществить труднее, и Мольеру там угрожает не большая опасность, чем Шекспиру, так как театральная публика, в отличие от академической, всегда может проголосовать ногами. Поэтому у Мольера больше шансов «выжить» в Америке, чем у Монтеня, хотя Мольер следует за Монтенем в демонстрации неуловимости истины, чего не приветствуют идеалисты и идеологи, захватившие академические институты во имя социальной справедливости. Новые пуритане не примут ни Монтеня, ни Мольера, как не приняли тех старые; но в случае Мольера это вряд ли имеет значение. Возможно, ему удастся сохранить дух монтеневского скептицизма, когда нас несет к новой Теократической эпохе и столь немногим истина кажется хоть сколько-нибудь неуловимой, а сам Монтень, скорее всего, сгинет вместе с Фрейдом.
В комедиях Мольера, как и в эссе Монтеня, истина всегда неуловима, всегда относительна, за нее всегда воюют противостоящие друг другу люди, лагеря, школы. Насколько можно судить о сознании Мольера — оставим в стороне то обстоятельство, что он явно был несчастлив в личной жизни, — его крепкая вера в театр, похоже, обеспечила ему ту известную отстраненность, или безмятежность, которую мы рады видеть в Шекспире. В случае этих двух величайших драматургов мы ничего не знаем наверняка, и, наверное, так и надо. Высокий комизм, проявляющийся беспрепятственно (таков комизм у Мольера), безусловно, может вывести из равновесия и в конце концов даже привести в смятение. Всякий раз, когда я читаю Мольера или смотрю «Тартюфа» или «Мизантропа» в театре, я не могу не задуматься о своих собственных дурных качествах и ужасных свойствах моих врагов. У Мольера я сталкиваюсь с одержимыми; но, в отличие от мощных гротескных фигур Бена Джонсона, Мольеровы фанатики не карикатурны. Гений Мольера едва ли не уникальным образом проявился в том, что я называю «нормативным фарсом»: это практически оксюморон, но, кажется, небезосновательный.
По достопамятным словам Жака Гишарно, пьесы Мольера «показывают, что всякая жизнь — это роман, фарс, позор», и зритель «вынужден обманывать себя, чтобы в себе не усомниться». С верным задором он пошел дальше, сказав, что величайшие пьесы Мольера показывают, что душа есть «в сущности своей порок, которому сопутствует иллюзия свободы». Это, возможно, слишком сурово, так как в Мольере остается достаточно от Монтеня, чтобы дать нам почувствовать, что в душе есть что-то, не являющееся ни пороком, ни иллюзией свободы. Чем бы ни было это более приятное свойство, оно отличается от того, что описывает Монтень, главным образом тем, что ощущение «перехода», преобладающее в «Опытах», у Мольера замещено силой повторения. Монтень меняется, а персонажи Мольера этого не умеют. Они должны оставаться теми, кем были раньше. Монтень слышит себя, как слышат себя Гамлет и Яго; это то, чего Мольеровы главные герои не делают никогда.
По общему мнению, шедевры Мольера — это «Мизантроп», «Тартюф» и весьма неоднозначный «Дон Жуан, или Каменный гость», пьеса в прозе, а не в стихах, которую нелегко воспринимать как комедию, во всяком случае в наши дни. Я видел, как «Дон Жуана» играли так, как если бы Мольер всецело восхищался главным героем, — получилось неудачно, — и так, как если бы он полностью его осуждал: получилось опять же неудачно. «Мизантроп» и «Тартюф» — вещи менее спорные, хотя и достаточно сложные. Мы никогда не узнаем, принимал ли Шекспир «Гамлета» ближе к сердцу, чем прочие свои пьесы, хотя исследователи столетиями предполагали, что это так. Между мизантропом Альцестом и Мольером, который создал, направлял как режиссер и играл на сцене своего самого интересного персонажа, существует связь; но связь эта, какая ни есть, едва ли является тождеством. Где в «Мизантропе» истина? Что нам думать об Альцесте и какие чувства к нему питать? Неуловимость истины у Мольера — это отчасти следствие духовного воздействия Монтеня на Мольера, но в куда большей мере — продукт его собственного крайне самобытного душевного склада.
«Мизантроп» — это прежде всего потрясающе живая пьеса; Мольер, должно быть, находился во власти даймонической силы, когда ее писал. Всякий раз, когда я смотрю или перечитываю ее, я поражаюсь ее темпу и напору; от начала и до конца она представляет собою какое-то неистовое скерцо:
Ф и л и н т.
Что с вами наконец? Скажите, что такое?
А л ь ц е с т.
Оставьте вы меня, пожалуйста, в покое!
Ф и л и н т.
Что это за каприз?
А л ь ц е с т.
Уйдите, мой совет.
Ф и л и н т.
Дослушать не сердясь у вас терпенья нет?
А л ь ц е с т.
Хочу сердиться я и слушать не желаю[228].
Яростно набрасываясь на своего друга за то, что тот сердечно поприветствовал случайного знакомого, Альцест немедленно впадает в комическую крайность: это его отличительная черта на протяжении всей пьесы. Его постоянную запальчивость можно назвать или «героической», или «безумной» — она является и той и другой; но слово «кихотический» нам тут не поможет. Подобно Тартюфу и Дон Жуану, Альцест слишком силен для своего контекста — обычной гостиной. Тартюф — это возвышенный религиозный лицемер вроде Чосерова Продавца индульгенций, но его пыл столь возмутителен, что некоторые исследователи сравнивали его с Батской ткачихой и Фальстафом — героически малопочтенными жизнелюбцами. То, что движет Дон Жуаном, странным образом сближает его с Яго и тоже предвещает современный нигилизм.
Мольер прибегает к причудливой диалектике, напоминающей шекспировскую манеру обогащать личность одних своих героев, отчуждая их от других. Альцест, Тартюф и Дон Жуан напоминают Гамлета, Яго и Эдмунда тем, что ценой их живой амбивалентности оказывается полное разобщение с окружающими. Филинт — это Альцестов Горацио; у Тартюфа и Яго нет никого, кроме их жертв. У Дон Жуана есть его испытанный слуга Сганарель; у Эдмунда есть лишь двойное свидание «до гроба» с Гонерильей и Реганой. Меня несколько смущает, что оба главных драматурга после афинян подразумевают, что мы наполняемся жизнью, пусть и в негативном ключе, отделяясь от окружающих, а не сообщаясь с ними; но случайным это сходство между Шекспиром и Мольером мне не кажется.
Что есть истина в отношении Альцеста — или ее неуловимость навеки обрекает нас на амбивалентное о нем представление? Ричард Уилбур, каким-то чудом заставивший Альцеста говорить американскими стихами, дает ему тщательно взвешенную оценку, которая кажется чуть более суровой, чем нужно:
Если Альцест и стремится отчаянно к подлинности, — а это так, — то стремление это, как ни прискорбно, извращается его чрезвычайным, бессознательным эгоизмом, которому он и служит. <…> Подобно многим лишенным чувства юмора, вспыльчивым людям, он не щадит никого, кроме себя, и, не соответствуя своему собственному идеалу, не замечает этого. <…> Будучи, как и все вокруг него, жертвой нравственной опустошенности своего времени, он не может быть настоящим Человеком Чести — простым, великодушным, страстным, решительным, верным. От прочих его отличает то, что он знает о существовании этого идеала и способен с переменным успехом его воплощать; его комическая слабость заключается в кихотическом неразличении себя и идеала, в готовности исказить весь мир в угоду своему самообольщению и лицедейству. То есть, как ни парадоксально, заступником истинных чувств и искренних отношений является персонаж самый искусственный, самый оторванный от действительности, самый близкий к ничтожности и одиночеству, которых бегут все, кто населяет болтливый, пустой мир этой пьесы. Он должен постоянно актерствовать, чтобы верить в свое существование.
Тут и блеск, и ясность, и Альцест представлен не в лучшем свете — и все же это не вся правда, так как публика, читатели Мольера, читатели Уилбура все равно предпочтут вечно разгневанного Альцеста всем остальным в этой пьесе. Попробуйте заменить «Альцеста» на «Гамлета» в первой процитированной мною фразе из Уилбура и затем прочесть весь фрагмент так, словно в нем говорится о Гамлете. Некоторые положения не подойдут: у Гамлета есть чувство юмора, он совершенно не щадит себя, а кихотическое в нем почти отсутствует. Но далее по тексту написанное Уилбуром об Альцесте вполне могло бы быть написано Уилбуром о Гамлете. Мы не знаем, намеревался ли Мольер критиковать в Альцесте самого себя, как не знаем и того, изобразил ли Шекспир в Гамлете какие-то свои свойства. Но Альцест, мне кажется, — единственный Мольеров персонаж, обладающий нравственным сознанием (но не юмором), которое позволило бы ему написать Мольерову пьесу, — а мысль о том, что Гамлет, автор, можно сказать, пьесы в пьесе, теоретически мог бы написать «Гамлета», не нова.
Джон Холландер говорит о своеобразии ситуации, когда главным героем пьесы делается сатирик. Даже лицемер Тартюф и распутник Дон Жуан — в некотором роде сатирики, Альцест же — сатирик из самых яростных. Необыкновенный дар Мольера проявляется и в том, что комическое у него куда сильнее сатирического, и потому в «Мизантропе» критикующий общество Альцест сам становится объектом критики. Глубокая мысль Холландера — в том, что пьеса должна защищаться от протагониста-сатирика, поэтому, чтобы «Ромео и Джульетта» осталась трагедией, Шекспир должен убить Меркуцио, пока тот не начал вызывать у нас излишний интерес. В противовес Уилбуру, лучшему исследователю образа Альцеста, давайте представим себе, что «Мизантроп» некоторым образом защищается от Альцеста — подобно тому как пьеса «Гамлет» некоторым образом защищается от яростного интеллекта Гамлета. Альцесту присущи все комические слабости, на которые указывает Уилбур, и даже больше, но ему также присуще эстетическое достоинство настоящего социального сатирика и квалифицированного специалиста по моральной психологии.
Несмотря на комические недостатки Альцеста, мы сочувствуем ему и даже восхищаемся им — потому что Мольер, как и Шекспир, знал толк в эстетике изображения человека разгневанного, взбешенного непереносимыми провокациями. Зритель и читатель, конечно, отождествляют себя с таким человеком — возможно, потому что все мы в глубине души разгневаны неизбежностью ухода. Альцест гневит других так же, как гневается сам, и поэтому он — триумф комического. Но его постоянное актерство, подобно гамлетовскому, — не просто отчаянная попытка «верить в свое существование», как пишет Уилбур. Рьяное лицедейство Альцеста — это гневная сатира на извращенное человеческое существование, и, подобно уму того же Гамлета, Альцестов ум не столько беспокоен, сколько не знает покоя. Оба они слишком хорошо (а не слишком много) размышляют, и оба не могут жить в уготованных им контекстах. Гамлет безучастно идет на смерть; Альцест бежит в полное одиночество. Роднит их и то, что они отвергают любимых женщин. Кокетка Селимена — не тихая Офелия, но гневные сатирики Альцест и Гамлет отвергают обеих, поскольку ждут от своих возлюбленных — как и от мира — невозможного и настаивают на соответствии стандартам, которым не могут соответствовать сами. Это важнейший элемент комедии Мольера и трагедии Шекспира, которые сходятся в том, что сатирик сделан в них героем.
У. Г. Мур, который наряду с Жаком Гишарно кажется мне самым дельным исследователем Мольера, предлагает сосредоточиться не на анализе Альцеста, а на структуре пьесы — иными словами, тоже дает понять, что комическое в ней первично по отношению к сатирическому:
…освещается нечто куда большее, чем характер Альцеста; освещается проблема, проблема бытования принципов в жестоком мире. Превращать эту великую пьесу в исследование характера— значит преуменьшать масштаб описанной в ней драмы. Вопрос о природе искренности — сюда относятся и тщеславие, и мода, и злой умысел, и светские условности — это целый комплекс вопросов, обуславливающий строй и структуру пьесы.
И все же Мур также видит, как невероятно сложен на самом деле Альцест, шут этой пьесы и в то же время ее Гамлет, образ, который мы никогда не постигнем до конца:
Альцест смешон (в хорошем смысле слова) не потому, что упрекает современное ему общество в неискренности. Он потому антисоциален, что на принципиальных основаниях призывает других поступать так, как выгодно ему. <…> Альцест — это символ чего-то гораздо более интересного и сложного.
Чтобы яснее представить себе диапазон и глубину психологизма Мольера, стоит присмотреться к этому неуловимому явлению. Его можно назвать неразличением общего и частного. Человеку свойственно оправдывать свои поступки, апеллируя к некоей внешней норме. С другой стороны, мы зачастую не замечаем, до какой степени наша приверженность такой общей норме является следствием нашего своекорыстия и тщеславия. <…> Альцест, сам того не зная, жаждал признания, предпочтения, отличия. <…> Развивая тему влюбленного мизантропа, Мольер в избытке своих творческих сил дал очертания образа, выходящего далеко за пределы авторского замысла и сопоставимого с Гамлетом по количеству связанных с ним смыслов из личностной, социальной, этической, политической, даже богословской сфер.
Но разве все мы не смешиваем общее с частным? И разве Мольер, актер и драматург, не жаждал признания, предпочтения, отличия? Даже Мур совершает эту ошибку, обвиняет Альцеста с морализаторской позиции. Сам Мольер этой ошибки не допускает. Рамон Фернандес пишет, что «Альцест — это Мольер, утративший чувство комического». Фернандес же указывает на то, что беда Альцеста — крайности: он слишком добродетелен, слишком разумен, слишком силен, слишком воинственно отстаивает истину, даже слишком остроумен для всех вокруг. Альцест противоположен своему поэту: как человек театра, Мольер не занимал никакого особого положения, даже не имел права на пристойные похороны. Как придворный Людовика XIV, своего защитника и патрона, Мольер был вынужден утаивать, маскировать свои подлинные воззрения и все время намекать на что-то, чего не мог высказать.
Играя роль Альцеста, Мольер, весьма профессиональный директор труппы, должен был отметить странность ситуации: три женские роли в этой пьесе исполняли его жена, с которой они практически разошлись, его любовница и актриса, упорно не желавшая уступить его притязаниям. Отношения между Альцестом и Мольером приводят в недоумение и должны настроить нас на опасливое отношение к исследователям-моралистам. Меня удивляет, что литературоведы и критики не любят Альцеста (так, как люблю его я), — ведь он так точно выражает ядовитые мысли всякого, кто ежедневно утопает в дурных стихах:
Подобные дела чрезмерно деликатны. Конечно, похвалы для нас всегда приятны, Но вздумал одному поэту как-то раз Я правду высказать взамен учтивых фраз: Сказал я, что нужны усердные старанья, Чтоб сдерживать в себе ненужный зуд писанья, Что надобно, себя покрепче в руки взяв, Не выносить на свет плоды своих забав И что желанье всем читать творенья эти Способно выставить творца в печальном свете[229].На мой взгляд, Альцеста можно упрекнуть лишь в одном — в любовной неудаче с очаровательной и загадочной Селименой, но сатирики традиционно избегают брака. И даже тут я не могу не защищать Альцеста от исследователей-моралистов, соотносящих его с Дон Жуаном на том основании, что и Альцест, и Дон Жуан делают себя высшим судом во всех сферах, включая чувственную. Подчас у меня возникает подозрение, что современные исследователи творчества Мольера соединяют его в одно целое с Расином, что не менее странно, чем сплавлять Монтеня с Паскалем. Так, Мартин Тёрнелл в своей книге «Классический момент» приравнивает Мольера к его веку, который превращается в Век Расина — и вот уже «Мизантроп» оказывается пьесой, главный герой которой пребывает в состоянии перманентной истерики. Квинтэссенция редукционизма морализаторского литературоведения — в возмущенных словах Тёрнелла: «Бессмысленно делать вид, что порядок восстановлен и разум поставленного на свое место шута вернулся в норму». «В какую еще норму?» — взорвался бы Альцест, и разумный зритель или читатель поддержал бы его. От величия «Мизантропа» не осталось бы и следа, будь общество разумно, а Альцест — единственный — безумен. Если мы хотим спасти Альцеста от исследователей, то вся наша надежда на Монтеня.
Мы привыкли видеть в Гамлете черты подобного Монте-ню скептика, но Гамлета-шута исследователи нам пока что не преподносили. Смотреть, как Гамлета играет актер, который не может (и не должен) прикасаться к возвышенному, — ужасный опыт, но эту роль, как правило, дают актерам сильным и разносторонним. Смотреть, как негодный актер делает из Альцеста самообольщенного дурака, — фантастически дурной театральный опыт. Морализаторские припадки исследователей причинили этой пьесе настоящий вред, во всяком случае в англоговорящих странах. Альцест требует великого актера — такого, каким, видимо, был Мольер, когда впервые блеснул в этой роли. Традиционно считается, что в постановке и в исполнении Мольера Альцест представал чем-то гораздо большим, чем губящий самого себя шут. Для такого дела нужны режиссер и актер, способные вообразить сатирика-моралиста, который, не теряя силы и достоинства, делается жертвой — но не мстительного общества, а духа комедии.
Альберт Бермел в своей книге «Театральное сокровище Мольера» (вообще-то написанной с пониманием) судит Альцеста очень строго — не с привычных морализаторских позиций, но потому, что Альцест — одиночка, не якобинец и не жирондист[230], и еще потому, что тому недостает милосердия взять в жены Селимену, когда она наконец соглашается на брак. На тех же основаниях можно не принимать и Гамлета. Альцест не так умен, как Гамлет — но это относится и к любому другому литературному герою, а Альцест, нехотя соглашается Бермел, «обладает выдающимися умственными и нравственными свойствами», но по-человечески восторга не вызывает. Никто и никогда не любил Альцеста, кроме Жан-Жака Руссо, обнаружившего в кавалере Селимены столько же добродетели, сколько в себе самом. Насколько можно судить, Селимена с Альцестом не любят друг друга, и это вполне в комическом духе пьесы. Как и Руссо, Альцест любит только себя, что, безусловно, сделало его в глазах Руссо еще привлекательнее.
Мольер, столь же лукавый, сколь глубокий, не хотел восхвалять в лице Альцеста свою противоположность, но я думаю, что его позабавило бы моральное осуждение, которое вызывает в наш хаотический век его аристократический мизантроп. Монтень научил Мольера неуловимости истины; этот драгоценный для актера урок пошел бы на пользу и Альцесту, если бы тот смог его вынести — но тот бы не смог. Говоря, что у Мольера был комический, а не трагический дар, мы понимаем при этом, что его величайшие комедии очень мрачны, хотя и никогда не переходят в трагикомедию — это не французский жанр. И Монтень, и Мольер избегают того трагизма, о котором говорит в «Сокровенном Боге» Люсьен Гольдман в связи с Паскалем и Расином. Религиозное мироощущение и религиозная вера — вещи очень разные, особенно в эпоху, когда веру еще навязывают, и, возможно, отсутствие религиозного мироощущения — это главное, что объединяет эссеиста, написавшего «Об опыте», с драматургом, создавшим «Мизантропа», «Тартюфа» и «Дон Жуана».
Это главное им приходилось скрывать из соображений безопасности, но метафорически оно приняло форму презрения к врачебному ремеслу, которое питали оба писателя. В своих сатирах на врачей Мольер лукаво намекает на параллели между медициной и богословием — у Монтеня этот намек совершенно прозрачен. Движение от гуманизма к восхвалению обыкновенной жизни, которое Фрейм прослеживает у Монтеня, Мольер усвоил без остатка: его идеальной публикой были бы те честные люди, которые заменили Монтеню гуманистический идеал. Залог Монтеневой самобытности — автопортрет, определенно не тот материал, из которого мог бы создавать свои вещи комедиограф. Залог самобытности Мольера — эволюция от фарса к своего рода критической комедии, а для такой эволюции нужен был импульс нетеатрального происхождения. Предположу, что Мольер воспользовался подсказкой Монтеня, но его автопортреты — это автопортреты наоборот или навыворот. Альцест — главная из этих антитетических инверсий, но есть и другие, и идут они от того, как Монтень описывал человека, изображая сознательно усеченные образы. Монтень учит обузданию воли, которое ведет к самообладанию; Мольер показывает мрачную комедию разнузданной воли — это приводит к самоотречению и разрушительным страстям. Альцест, каким бы сильным и достойным восхищения я его ни находил, — это то, что получается, если не внять предостережению Монтеня, которым заканчивается эссе «Об опыте». Тот, кто старается выйти за пределы своего существа и ускользнуть от своей человеческой природы, впадает в безумие. Он не возвышается до ангела — он принижается до зверя. В финале Альцест, желающий бежать в пустыню (пусть и метафорическую), играет с теми силами, которые страшили Монтеня больше всего.
7. Сатана Мильтона и Шекспир
Своего места в каноне Мильтон не лишится никогда, хотя из всех первостепенных поэтов он, кажется, нынче вызывает самое сильное негодование у литературоведов-феминистов. Однажды в разговоре с Джоном Драйденом он с излишней готовностью признался, что Спенсер был его «великим прообразом»; со временем я пришел к мысли о том, что так он защищался от Шекспира. Шекспир был одновременно источником Мильтоновой поэтической тревоги — скрытой, но подлинной — и, парадоксальным образом, первоначалом Мильтоновой каноничности. Из всех, писавших после Шекспира, именно Мильтон, а не Гёте, не Толстой и не Ибсен, удачнее всего пользовался Шекспировым изображением характера и его изменений, в то же время яростно гоня от себя Шекспирову тень. Самый шекспировский литературный персонаж после созданных собственно Шекспиром — это Сатана Мильтона, наследник великих героических злодеев — Яго, Эдмунда, Макбета, а также контр-Макиавелли — Гамлета, в его самой мрачной ипостаси. Мильтона и Фрейда (высоко ценившего Мильтона) объединяет то, что оба в долгу перед Шекспиром и оба от этого долга уходят. Тем не менее способность вынести силу Шекспира и поставить ее себе на службу есть, наверное, самое прочное связующее звено между амбивалентностью у Мильтона и у Фрейда, между бунтом Сатаны против Бога и гражданской войной в душе.
Одни из первых героических злодеев — это Тамерлан Кристофера Марло, скифский пастух, сделавшийся завоевателем, и еще в большей мере — его же Варавва, самоупоенный мальтийский еврей, весельчак от лукавого. От величественных нигилистов Марло лежит прямой путь к ранним шекспировским чудовищам, мавру Арону из трагической бойни «Тита Андроника» и горбатому Ричарду III. Все эти образы были слишком грубы, чтобы подействовать на чувства Джона Мильтона. Интеллектуальный нигилизм Сатаны из «Потерянного рая» начинается с бездны в емком сознании Гамлета; но сначала нигилистические черты Мильтонова погибшего ангела проявились в Яго, который первым страдал от сознания попранного достоинства[231], от того, что его богоподобный командир его обошел.
Миф, который открыто транслировал Мильтон, гласил, что Шекспир держал сторону «природы», то есть всему открытой дикости или естественной свободы, тогда как он, Мильтон, держал сторону более чистого или лучшего дела — преодоления природы ради достижения небес (или хотя бы изображения небес). Но Мильтоновых небес никто долго не вынесет; даже Мильтон, сам себе партия или секта, вряд ли вытерпел бы «там» и минуту. «Потерянный рай» великолепен оттого, что не только эпичен, но и убедительно трагичен; это трагедия падения Люцифера, его превращения в Сатану, хотя Люцифер, денница и сын зари, повелитель звезд, которые спадут с неба, в нем не показан. Мы видим лишь падшего Сатану — притом что Адама с Евой наблюдаем до, во время и после грехопадения. Если понимать «трагическое» по-другому, то «Потерянный рай» — это также трагедия Евы и Адама: им, как и Сатане, неизбежно присущи некоторые Шекспировы свойства, но они при этом изображены несколько менее убедительно, чем Сатана: тому досталось больше Шекспирова развития глубинной сущности. Это обстоятельство, возможно, — один из ключей к непростым отношениям между Мильтоном и автором «Отелло» и «Макбета», пьес, которые, кажется, «заразили» «Потерянный рай» сильнее всего. Отвергая шекспировскую открытость всему, Мильтон все же применил ее к своему злодею, причем с большим успехом, чем к своим герою и героине, и роковым образом обошелся без нее, когда изображал Бога и Христа, которые в итоге ничем не обязаны Шекспиру и, возможно, поэтому бесцветны как драматические характеры. Наверняка о Боге Мильтона можно сказать лишь то, что он напыщен, убежден в своей правоте и самодоволен, а Христос Мильтона, как я уже однажды отметил, — это всего лишь командующий наступлением танков, эдакий небесный Роммель или Паттон.
Шекспир умер, когда Мильтону было семь лет. В 1632 году, когда было опубликовано стихотворение Мильтона «К Шекспиру», Шекспир был мертв уже шестнадцать лет. Мы все время должны держать это в голове, думая о тревожном отношении Мильтона к величайшему поэту, писавшему по-английски, — а может быть, величайшему в мире. Скоро будет сорок лет, как не стало Уоллеса Стивенса (умершего в 1955-м), но он по-прежнему незримо присутствует в современной американской поэзии. Шекспир был опасно близок по времени к Мильтону, который в своем стихотворении не столько отдает ему дань, сколько гонит его прочь, особенно в этом месте:
Dear son of memory, great heir of fame, What need’st thou such weak witness of thy name? Thou in our wonder and astonishment Has built thyself a life-long monument. Дорогой сын памяти, великий наследник славы, На что тебе столь слабый свидетель твоего имени? Ты в нашем изумлении и восторге Воздвиг себе памятник на века[232].Шекспир, сын памяти и матери Муз, сам есть Муза мужского рода, вдохновляющая Мильтона — но не на трансцендентные видения. Слова «изумление и восторг», как можно судить по опыту, верно определяют чувства, которые Шекспир вызывал и вызывает в каждом поэте, но среди устремлений Мильтона эти чувства были не на первом месте. Подобно Данте, Мильтон хотел написать божественную поэму или, на деле, третий Завет. Изумление и восторг — отнюдь не то же самое, что истина и благоговение, и Шекспирова «природа» весьма отличается от библейского или Мильтонова «откровения». И Макбет, и Сатана — жертвы своего воображения; первый может символизировать скрытую тревогу Шекспира, который таким образом порицал свою силу воображения; но второй явно отражает Мильтоново недоверие к фантазии и ее неудобствам[233].
Протестантский пророк, безусловно первый протестантский поэт, Мильтон был бы весьма угнетен тем, что нынче «Потерянный рай» читается как сильнейшая научная фантастика. Я постоянно перечитываю эту поэму и всего живее чувствую изумление и восторг, странность Мильтонова творения. «Потерянный рай» уникален тем, что это — поразительная смесь трагедии Шекспира, эпоса Вергилия и библейского пророчества. Ужасный пафос «Макбета» соединяется с ощущением кошмара «Энеиды» и властностью Танаха. Казалось бы, такое сочетание должно пустить на дно любой литературный текст, но Джон Мильтон, слепой и разбитый политическим поражением, был непотопляем. Возможно, западная литература не знает более грандиозного триумфа визионерской воли. Мы чувствуем, что в «Самсоне-борце» и «Возвращенном рае» Мильтон несет довольно тяжкие потери, но в «Потерянном рае» он одерживает победу над всеми своими соперниками, кроме тайного борца — Шекспира.
В «Потерянном рае» внимание читателя должно сосредотачиваться на Сатане, к которому чуть ли не каждый ученый истолкователь относится как к мальчику для битья и который тем не менее — безусловно, лучшее, что есть в поэме; удивительное дополнение Мильтоном древнееврейских рассказов о Творении в Книге седьмой создает лишь относительное равновесие. Сатана, разумеется, терпит поражение — но ведь и Яго с Макбетом, сделав свое героически-злодейское дело, терпят в конце концов поражение, и Мефистофель в поэме Гёте, когда Фауст возносится на небеса.
Такого рода поражения диалектичны — все дело в том, кто в итоге устанавливает точку зрения читателя. Яго, сбитый с толку готовностью, с которой Эмилия отдает жизнь за спасение доброго имени Дездемоны, скорее умрет под пытками, чем раскроет свои мотивы, даже самому себе: «Отныне впредь я не скажу ни слова». Сатану мы в последний раз видим змеем, шипящим на дне Ада.
Такой точке зрения не вполне веришь; это — самое безжалостное проявление Мильтоновой тенденциозности, ему же первому и навредившее. Мильтон показывает себя не с лучшей стороны — мне кажется, это его личная месть Сатане за то, что тот присвоил слишком много сил и страсти поэта. Шекспир не мстит ни Яго, ни Макбету, ни любому другому персонажу всех тридцати восьми своих пьес.
Это различие между Шекспиром и Мильтоном обусловлено не только жанром. Чудо беспристрастности, Шекспир не верит и не сомневается, не читает морали и не расписывается в нигилизме. Мы восхищаемся Яго, хотя он и заставляет нас содрогнуться. Мильтон вынуждает нас стыдиться того удовольствия, которое доставляет нам Сатана, — видимо, тем самым поэт утверждает главенство религии и морали. Я сомневаюсь в том, что Мильтон верил во что-нибудь позже, когда писал «Самсона-борца», да и вообще образ Христа в Мильтоновой поэзии мне плохо понятен. Наподобие Иисуса приверженцев американской религии[234], Мильтонов Христос, будучи только что распят, с необыкновенным проворством покидает крест. Американский Иисус, по воскрешении оставшийся на земле на срок неизмеримо более продолжительный, чем сорок дней, не распятый и не возносившийся на небо, подошел бы Мильтону куда больше, чем Иисус европейский.
Великолепный и по-настоящему Мильтонов Сатана в «Потерянном рае» — на своем месте, он так же уверенно чувствует себя в своей роли и в своей сущности, как умелый манипулятор Яго в «Отелло», — и обоих в конце ждет крах. Мы помним, как Яго переходит от одного уровня контроля надо всеми персонажами к другому и наконец торжествует над сокрушенным Отелло как над своим негативным творением, — и нам вспоминается Сатана в своей величественной непокорности и в том коварстве, с которым он подстраивает наше грехопадение. Их общую гордыню — которую Шекспир взял у Марло и усовершенствовал — лучше всего выразил Шекспиров последователь Джон Уэбстер в «Белом дьяволе», где один из героических злодеев, погибая в последнем явлении на заваленной трупами сцене, ликующе выкрикивает: «Пейзаж ночной сей — перл моих созданий»![235] Как создатель ночных пейзажей Сатана всем обязан Яго и Макбету, Гамлету и Эдмунду.
Приходится предположить, что Мильтон не сознавал, что находится в долгу у Шекспира — хотя в голове это не укладывается. Изображение амбивалентного отношения Сатаны к Богу у Мильтона, как и описание первоначальной амбивалентности чувств у Фрейда[236], — совершенно шекспировское, и основано оно на амбивалентном отношении Яго к Отелло, Макбета — к своим Эдиповым притязаниям и Гамлета — ко всему и всем, в первую очередь к себе самому. По Фрейду, амбивалентностью обусловлены все отношения между «Сверх-Я» (тем, что находится над «Я») и «Оно» (под «Я»). Смешанные и равносильные аффекты любви и ненависти параллельно изливаются то в одну, то в другую сторону, циркулируют между этими психологическими сущностями (или измышлениями), и отливы с приливами то иссушивают, то затапливают несчастное «Я». Яго, Макбет и Сатана находятся в полной власти этой амбивалентности, их практически невозможно воспринимать вне ее.
Не делающий различия между битвой и гражданской жизнью Яго в длинной, неизложенной предыстории «Отелло» был во всем солидарен со своим командиром, богом войны Отелло, так же как Люцифер был во всем солидарен с Богом Мильтона. Сатана страдает от того, что он называет «сознаньем попранного достоинства», когда ему предпочитают Христа; Яго страдает от того же, когда ему предпочитают Кассио, чужака, которого Отелло назначает своим заместителем, обойдя Яго, закаленного в боях хорунжего или поручика, в чьих руках было знамя Отелло и, значит, честь начальника. Видимо, опытный Отелло, который потому велик, что осознает границу между войной и миром, понимает, что его верный хорунжий, или «адъютант», однажды может перейти эту черту. Имеющий множество богословских причин случай Сатаны сложнее случая Яго. Почему Бог Мильтона называет своим сыном Христа, а не Люцифера, первого из ангелов? И с чего именно начинается падение Люцифера — превращение в Сатану? Если Люцифер обойден с самого начала, то почему он ничего об этом не знает до тех пор, пока Бог не дает своего завета, которым Христос ставится выше него?
Нельзя сказать, что Бог Мильтона нас в этом отношении просвещает:
— Вы, чада света, Ангелы, Князья, Престолы, Силы, Власти и Господства! Вот мой неукоснительный завет: Сегодня Мною Тот произведен, Кого единым Сыном Я назвал, Помазал на священной сей горе И рядом, одесную поместил. Он — ваш Глава. Я клятву дал Себе, Что все на Небесах пред Ним склонят Колена, повелителем признав. Вы под его водительством должны Для счастья вечного единой стать Душой неразделимой. Кто Ему Не подчинен, тот непокорен Мне. Союза нарушитель отпадет От Бога, лицезрения лишась Блаженного, и вверженный во тьму Кромешную Геенны, пребывать В ней будет, без прощенья, без конца![237]Это, безусловно, традиционная христианская доктрина, но приемлемо ли это с поэтической точки зрения? Читая этот резкий, самовластный манифест, я не могу не вспомнить проницательного замечания Уильяма Эмпсона о том, что Бог таким образом оказывается причиной всех невзгод, так же как в Книге Иова, когда он кичится перед Сатаной покорностью и праведностью своего слуги Иова. Тут допущена художественная оплошность: лишь Божья грозная сила не дает нам отнестись к его угрозам как к громким пустым словам. Похоже, неповиновение — задолго до того, как кто-нибудь это неповиновение проявил — было навязчивой идеей древнееврейского Бога. Ранняя история Яхве, полностью восстановить которую не представляется возможным, указывает на то, что его обеспокоенность возможным неповиновением имеет непосредственное отношение к сокровенной истории о том, как одинокий бог-воин, по всей видимости, один из множества божеств, утвердился в качестве высшей силы. Но для поэта Мильтона не существует этой ранней истории, которая была бы сродни покорившим Дездемону романтическим рассказам бога войны Отелло о своей юности.
Республиканец Мильтон, надо думать, не согласился бы с нашим ощущением, что в словах Бога звучит тираническая риторика, ибо для создателя «Потерянного рая» протестантский Бог был единственным законным монархом. Тем не менее Мильтон сделал Бога похожим скорее на Якова I или Карла I, чем на Давида или Соломона, не говоря уже о Яхве в представлении Яхвиста, или J. С Богом Мильтона что-то очень серьезно не так — как и с его воинственным Мессией, возглавляющим небесную атаку на Колеснице Божества Отца. Властная риторика Отелло убедительнее, чем властная риторика Бога Мильтона: «Вложите в ножны светлые мечи — / Роса поржавит их». Вот с чем приходится иметь дело Яго, и оттого его триумф оказывается грандиознее и пагубнее в сравнении с куда менее однозначным триумфом Сатаны.
Я не имею в виду, что трагический Сатана — это «маленький Яго», больше похожий, скажем, на Якимо из «Цимбелина», чем на Яго или Макбета. Поэтический изъян в Сатане (на общем фоне его эстетического величия — незначительный) удивительным образом вызван нежеланием или неспособностью Мильтона придать христианской составляющей своей поэмы подобающую драматическую форму. Ему пошло бы на пользу — как нехристианам Гёте и Шелли — обращение к опыту испанской драматургии Золотого века, в частности Кальдерона, но, безусловно, его останавливала ее католическая составляющая. Трудно удержаться от предположения, что Бог и Христос, по крайней мере в «Потерянном рае», препятствовали гению Мильтона; до меня это предположение сделал Уильям Блейк в «Бракосочетании Рая и Ада»[238].
Великая поэма Мильтона свидетельствует, что он вопреки себе остался шекспирианцем. В его Сатане соединяются онтологический нигилизм Яго и фантазии-предчувствия Макбета, а сдобрена эта смесь Гамлетовым презрением к речи. Для чего у Сатаны есть слова, с тем он уже и покончил — как и Гамлет. Сатаной движет что-то похожее на эстетическую гордость Яго, который упивается подстраиваемой трагедией. А еще что-то вроде все усиливающегося возмущения Макбета — возмущения тем, что любое присвоение власти приводит лишь к одному результату: бедный актер в очередной раз вступает не вовремя. Все безупречные драматические элементы злоключений Сатаны — изобретения Шекспира, как и способность Сатаны меняться, услышав себя и задумавшись над своими словами. Тем не менее Мильтон не показывает важнейшей перемены, вследствие которой Люцифер превращается в Сатану. В тексте эта наиважнейшая метаморфоза попросту отсутствует. Нам приходится довольствоваться удивительно туманным нравоучением не слишком приветливого архангела Рафаила[239]:
Не спал и Сатана. Отныне так Врага зови; на Небе не слыхать Его былого имени теперь. Один из первых, первый, может быть, Архангел — по могуществу и славе, Всевышним взысканный превыше всех, Он завистью внезапной воспылал, Затем, что Сына Бог-Отец почтил, Столь возвеличив, и Царем нарек, Помазанным Мессией. Гордый Дух Снести не мог соперничества, счел Себя униженным…[240]Такое умолчание совершенно не в духе Шекспира; мы хотим слышать драматическую версию всего этого — так же как хотим видеть Люцифера до того, как он исчезнет навсегда. Пытаясь убежать от Шекспира, Мильтон вытесняет из преображения своего героя-злодея драматический момент. В конце концов, Рафаил неправ: униженным счел себя Люцифер, и нас возмущает линия партии, согласно которой Люцифер отныне — не лицо[241] по имени Сатана. Шекспир раскрывает нам Яго и Макбета, Мильтон же попросту исходит из того, что читатель, как христианин, удовлетворится рассказом, который выражает исключительно точку зрения победившей стороны. Множество таких моментов обрекло бы на провал даже «Потерянный рай» — но он оправляется, стоит вернуться шекспировскому Сатане, получающему возможность высказать свою точку зрения:
— Ты утверждаешь: мы сотворены, Притом, второстепенною рукой; Отец, мол, сыну это поручил. Какое странное соображенье И новое! Кто мог тебе внушить Шальную мысль? Кто это видеть мог? Иль помнишь ты свое возникновенье, Когда ты создан, если бытие Тебе твое даровано Творцом? Мы времени не ведаем, когда Нас не было таких, какими есть; Мы саморождены, самовозникли Благодаря присущей нам самим Жизнетворящей силе; бег судеб Свой круг замкнул и предопределил Явление на этих Небесах Эфирных сыновей. Вся наша мощь Лишь нам принадлежит[242].Такая точка зрения подразумевает реалии — поэтического и человеческого толка, — которых предполагаемым истинам христианства так просто не задушить. Хотя Сатана здесь увлекается драматической иронией, его риторические вопросы содержат в себе больше, чем иронию. Они ставятся по модели яростных вопросов Яго и на миг превращают читателя «Потерянного рая» в Отелло, ошеломленного риторикой, чьей тенденциозности, при всей ее откровенности, едва ли можно противостоять. У Яго и Макбета, а также, менее очевидным образом, у Гамлета, Сатана перенял негативную энергию, убедительную оттого, что ей мало простой настойчивости: она намекает на постоянное влечение за пределы принципа удовольствия. Шекспир, который, быть может, не создал всего, но нас (таких, какие мы есть) придумал безусловно, сотворил западный нигилизм, перейдя — через Яго и Эдмунда — от Гамлета к Макбету.
Сатана, столь же блестящий, как и его красноречие, тем не менее представляет собою всего лишь повторение шекспировского открытия: в самой сердцевине нашего существа — пустота. Гамлет говорит нам, что он — одновременно ничто и все, а Яго падает еще глубже в бездну: «Я есть не то, что я есть»[243]; тут сознательно вывернуты наизнанку слова апостола Павла: «Но благодатию Божиею есмь то, что есмь»[244]. «Мы времени не ведаем, когда / Нас не было таких, какими есть» — но теперь нет никаких нас. Яго знает, что с онтологической точки зрения он — полый человек, ибо тот единственный, кто наделяет бытием, — бог войны Отелло — его обошел. Сатана, будучи обойден Христом, утверждает, что создал себя сам, и задается целью погубить творение, призванное занять его место. Способный на гораздо большее Яго губит своего бога, ввергая в хаос единственную реальность и единственную ценность, которые он признает. В отличие от него, бедный Сатана может лишь пытаться уязвить Бога, но не уничтожить его.
Яго явно владеет сатанинским ремеслом много лучше самого Сатаны, и это могло бы привести Мильтона в отчаяние, если бы он разрешил себе напрямую подвергнуться заражению Шекспиром. Задолго до того, как замыслить «Потерянный рай», Мильтон намеревался писать не эпическую поэму, а трагедию, которая называлась бы или «Потерянный рай», или «Адам, лишенный рая». Трагедия эта начиналась бы со строк, которые читаем в Четвертой книге (41–55). С вершины горы Нифат у истока реки Тигр Сатане открывается вид на Райский сад, и он обращается прямо к полуденному солнцу в тоне героического злодея эпохи Якова I, который помнит о пафосе марловианских преодолевателей пределов:
— В сиянье славы царского венца, С высот, где ты единый властелин, Обозревая новозданный мир, Ты, Солнце, блещешь словно некий бог И пред тобою меркнет звездный сонм. Не с дружбою по имени зову Тебя; о нет! Зову, чтоб изъяснить, Как ненавижу я твои лучи, Напоминающие о былом Величии, когда я высоко Над солнечною сферою сиял Во славе. Но, гордыней обуян И честолюбьем гибельным, дерзнул Восстать противу Горнего Царя Всесильного[245].В сохранившихся набросках плана «Адама, лишенного рая» нет персонажа по имени Сатана; есть только Люцифер. Этот пассаж — единственное, что дает нам некое представление о персонаже, от которого отделился Сатана. Из этих двенадцати строк следует, что Люцифер был обязан Марло столь же многим, сколь Сатана оказался обязан Шекспиру. Эти слова могли бы принадлежать Тамерлану, но не Яго и не Макбету.
Риторика Люцифера, подобно риторике Тамерлана, гиперболична; за стандарт берется возвышенное, и критерием оценки служит пребывание на высоте или движение вниз. Солнце заняло место утренней звезды, и Люцифер поначалу гнушается произнести имя узурпатора. Потом он зовет его по имени — но с нескрываемой ненавистью к тому, что вызывает у него мучительную ностальгию. Мы возвращаемся к великой перемене, которую Мильтон не стал изображать: когда же, каким образом Люцифер превратился в Сатану? Примерно через пятьдесят строк находим наиболее правдоподобный ответ, скорее всего, добавленный к исходному монологу позже:
…Везде В Аду я буду. Ад — я сам. На дне Сей пропасти — иная ждет меня, Зияя глубочайшей глубиной, Грозя пожрать. Ад, по сравненью с ней, И все застенки Ада Небесами Мне кажутся[246].В первой и второй строках явно отзываются слова Мефистофеля Марло: «О нет, здесь ад, и я всегда в аду»[247], но следующие пять выходят за пределы доступного Марло. Без мук Отелло, причиненных ему Яго, без негативного путешествия Макбета внутрь своих фантазий Мильтону не дался бы великий образ пасти Ада[248]. Сочини Мильтон «Адама, лишенного рая», Люцифер был бы персонажем из Марло; Сатана состоялся благодаря тому, что в духе Мильтона восторжествовал Шекспир. Марло был карикатурист, и Люцифер, подобно Тамерлану и Варавве, стал бы величественной карикатурой. Шекспир создал непрерывно меняющееся, бесконечно растущее внутреннее «я», «я» глубинное, всепоглощающее, «я», впервые совершенно явленное в Гамлете и все такое же ненасытное в Сатане. Голландский психиатр Я. Х. ван ден Берг в своей книге «Изменчивая человеческая природа» приписывает открытие растущего внутреннего «я» Мартину Лютеру[249]. У Лютера определенно есть новая самоуглубленность, но она лишь в степени, а не по существу отличается от пророчества Иеремии о том, что Господь вложит закон Свой во внутренность нашу[250]. Я бы не рискнул назвать мироощущение Шекспира ни протестантским, ни рекузантским[251]. Как всегда с Шекспиром, оба определения и верны, и неверны, так что, возможно, Лютерова самоуглубленность оказала некое общее воздействие на представление Шекспира о человеческом сознании. Но самоуглубленные личности Шекспира кажутся мне отличными от Лютеровых по существу, а не только в степени, и по существу же они отличаются от всего, что было в истории западного сознания до Лютера. Гамлетово предельное доверие к себе[252] переносится через века, смыкается с таковым у Ницше и Эмерсона, выходит за отдаленнейшие пределы доступного им и продолжает выходить за пределы доступного нам.
Замечание Эмерсона о Шекспире по-прежнему верно: «Дух Шекспира есть тот горизонт, за которым мы теперь ничего не видим». На редукционистов, настойчиво напоминающих нам о том, что Шекспир был в первую очередь профессиональным драматургом, находится тонкая Эмерсонова ирония: «Это искусство его магики и волшебства портит нам все иллюзии кулис»[253]. Могу только догадываться, что сказал бы Эмерсон нашим культурным материалистам и «новым истористам», но в «Представителях человечества» уже есть подобающая им отповедь: «Единственный биограф Шекспира сам Шекспир, но даже и он говорить может только тому, что в нас есть шекспировского…»[254] Шекспировское в Мильтоне — это зияющая Сатане глубочайшей глубиной пропасть, его страх быть пожранным чем-то внутри него самого. Как Мильтон произвел этот образ пожирателя?
Трудность этого достижения заключается в том, что Сатана — одновременно Яго и сокрушенный Отелло, одновременно Эдмунд и обезумевший Лир, одновременно восторженный и тоскующий Гамлет, одновременно Макбет, приготовившийся к покушению на короля, и Макбет, запутавшийся в последовавшей далее паутине убийств. Исключив Люцифера и показав нам только Сатану, зрелый Мильтон взял — возможно, сам того не сознавая — от Шекспира больше, чем ему бы хотелось. Люцифер, невзирая на всю свою досаду, не мучился бы сознанием уходящего времени и ревностью — источниками негативного напряжения, определяющего Сатану; после Шекспира ни один великий ревнивец — у Мильтона ли, у Готорна или у Пруста — не может быть совсем нешекспировским. Изображений негативной энергии до Шекспира практически не было. После него она пышет в нигилистах Достоевского так же, как в Сатане из «Потерянного рая», но никогда не достигает масштаба Мильтона — масштаба возвышенного.
Сравним два фрагмента, в которых Яго и Сатана познают ностальгию; оба этих фрагмента — вариации на тему «Пейзаж ночной сей — перл моих творений». Первый — это монолог Яго из третьей сцены третьего акта, прекрасное мечтательное раздумье, начинающееся с уходом Эмилии, которой было поручено добыть платок Дездемоны, и возвышенно прерываемое появлением уже сокрушенного Отелло:
Я оброню платок у Кассио в доме, Чтоб он нашел. Безделки, легче ветра, Ревнивцев убеждают так же прочно, Как слово Божье. Польза есть и в этой. На Мавра начал действовать мой яд. Опасные раздумья — это яды, Которые вначале чуть горчат, Но стоит им слегка проникнуть в кровь — Горят, как залежь серы. Так и есть. Вот он идет!Возвращается Отелло.
Ни мак, ни мандрагора, Ни все дремотные настои мира Уж не вернут тебе тот сладкий сон, Каким ты спал вчера.Сравним с аналогичным монологом последователя Яго, Сатаны, в Четвертой книге (строки 510–535), когда он, подобно Подглядывающему Тому[255], рассматривает ничего не подозревающих Адама с Евой:
Не чаешь ты, прелестная чета, Грозящей перемены. Отлетят Утехи ваши; бедственная скорбь Заступит их, тем горшая, чем слаще Блаженство нынешнее. Да, теперь Вы счастливы, но на короткий срок. В сравненье с небом слабо защищен Ваш уголок небесный от Врага, Сюда проникшего, но от Врага Невольного. Я мог бы сострадать Вам, беззащитным, хоть моей беде Увы, никто не сострадал. Ищу Союза с вами, обоюдной дружбы Нерасторжимой; мы должны вовек Совместно жить; и если мой приют Не столь заманчивым, как Райский Сад, Покажется, мы все равно принять Его обязаны, каков он есть, Каким его Создатель создал ваш И мне вручил. Я с вами поделюсь Охотно. Широчайшие врата Для вас Геенна распахнет; князей Своих навстречу вышлет. Вдоволь там Простора, чтоб вольготно разместить Всех ваших отпрысков; не то что здесь, В пределах Рая тесных[256].Родился «внутренний человек» из Лютеровой концепции «христианской свободы» в 1520 году или нет — триумф Яго в том, что к середине пьесы он сломил внутреннего человека Отелло; Сатана же смакует свой близкий триумф, злорадно наблюдая последние мгновения внутренней свободы Адама и Евы. Если бы не внутреннее и внешнее благолепие жертв, ликование Яго и Сатаны не достигло бы таких грандиозных и пугающих масштабов. В обоих фрагментах явлено возвышенное нигилистической силы; эстетическая гордость за созданный ночной пейзаж соединена в них с садомазохистской ностальгией по целостному величию, которое в одном случае уже уничтожено, в другом — вот-вот погибнет. Предшественник Сатаны Яго неподдельно наслаждается своим успехом, Сатана же оказывается на грани лицемерного сожаления. Преимущество тут, безусловно, у Яго, так как его труд ближе к труду подлинного эстета. Мы слышим Джона Китса и Уолтера Пейтера, когда Яго напевает:
Ни мак, ни мандрагора, Ни все дремотные настои мира Уж не вернут тебе тот сладкий сон, Каким ты спал вчера.Слова же Сатаны звучат пародией на институт подневольного брака в мире большой политики:
…Ищу Союза с вами, обоюдной дружбы Нерасторжимой…Этот переход от театрального критика к политику огорчает нас и заставляет понять: нам бы хотелось, чтобы в Сатане было еще больше гениальности и нигилизма Яго. Но что Мильтон мог поделать? В Чосеровом Продавце индульгенций был подлинный духовный нигилизм, но эта черта оставалась «недоразвитой» до тех пор, пока Шекспир не догадался, как ему побить героических злодеев Марло при помощи более «самоуглубленной» формы свирепого аморализма. Социальные и исторические энергии были так же доступны современникам Шекспира, как и создателю «Отелло», «Короля Лира» и «Макбета», но очевидно, что ему также были доступны и более «самоуглубленные» энергии. Шекспир умел использовать и преобразовать написанное Чосером и Марло, но никто, даже Мильтон и Фрейд, не умел воспользоваться Шекспиром (вместо этого сам Шекспир пользовался ими), не умел преобразовать нечто столь обширное и универсальное в нечто целиком и полностью свое.
8. Доктор Сэмюэл Джонсон, канонический критик
Западную литературную критику можно возводить к нескольким началам, среди которых — «Поэтика» Аристотеля и нападение на Гомера в «Государстве» Платона. Я лично поддерживаю мнение Бруно Снелля, который в книге «Открытие духа» воздает соответствующие почести яростной атаке Аристофана на Еврипида. Есть мрачная закономерность в том, что эта форма умственной деятельности родилась из умышленного фарса и нынче умирает в виде фарса нечаянного, разыгрываемого роем современных «политических» и «культурных» критиков, которые губят наши образовательные учреждения. Плач по Западному канону будет неполным, если не вспомнить образцового канонического критика, доктора Сэмюэла Джонсона, равного которому не было ни в одной стране ни до него, ни после.
Джонсон имеет меньше общего с Монтенем и Фрейдом, двумя другими эссеистами, о которых идет речь в этой книге, чем те — между собою. Скептический или эпикурейский склад вызывал у Джонсона гнев; он был настоящий монархист, христианин и классицист — в отличие от Т. С. Элиота, в чьих притязаниях на эту тройственную идентичность хватало недобросовестности. В докторе Джонсоне никакой недобросовестности нет — он был столь же добр, сколь и велик, и при этом отрадно, дико странен — в высочайшей мере. Я имею в виду не только его своеобразную или эксцентричную (хотя и восхитительную) натуру, которую запечатлела доныне лучшая из литературных биографий — «Жизнь Сэмюэла Джонсона» Босуэлла. Джонсон был сильный поэт и написал великолепную прозаическую фантазию «Расселас, принц Абиссинский», но все его сочинения, критические в первую очередь, принадлежат, по существу, к наставительной литературе.
Подобно своему истинному предшественнику — тому, кто написал Книгу Экклезиаста из Танаха, — Джонсон тревожит, выходит за рамки привычного, он — совершенно уникальный моралист. Для Англии Джонсон — то же, что Эмерсон для Америки, Гёте для Германии и Монтень для Франции: главный отечественный мудрец. Но Джонсон, в той же мере, что и Эмерсон, — самобытный писатель-наставник, притом что сам он заявлял о полном соответствии своих нравственных установок христианской, классической и консервативной идеологиям. Опять же подобно Эмерсону, а также Ницше и представителям французской нравоучительной традиции, Джонсон — великий афорист, у которого, как отмечал М. Д. К. Ходжарт, мораль сочетается со здравомыслием. Возможно, точное определение для Джонсона — критик-эмпирик, литературный и «жизненный». Лучше всякого другого критика Джонсон демонстрирует, что единственный «метод» — это сама человеческая личность и что критика, следовательно, есть ответвление наставительной литературы. Она — не политическая и не социальная наука, не культ гендерного и расового чирлидерства, в который она превратилась в западных университетах.
Обо всех критиках — больших и малых[257] — можно сказать, что им случается ошибаться, и сам доктор Джонсон был не без греха. «„Тристрама Шенди“ читали недолго» — самый неудачный его вердикт, но есть и другие неудачные — так, о нескольких строках из «Невесты в трауре» Конгрива он написал, что у Шекспира нет ничего им подобного. Джонсон — а не Кольридж, не Хэзлитт, не А. С. Брэдли, не Гарольд Годдар — кажется мне лучшим толкователем Шекспира из всех, писавших и пишущих по-английски, так что эта оплошность весьма странна. Ее обезвреживает очевидная негодность этой вещи Конгрива, не имеющей ничего общего с его великими комедиями в прозе. Конгрив описывает храм, который в то же время — усыпальница, и, видимо, поэтому на него распространился тот благоговейный трепет, с которым Джонсон думал о смерти и который немногим уступал тому благоговейному трепету, с которым он думал о Боге. В «Жизни…» Босуэлла есть знаменитый пассаж, без которого Джонсона не понять:
Его мысли об этой ужасной перемене были вообще полны мрачных предчувствий. Его рассудок походил на просторный амфитеатр, римский Колизей. Посреди было его разумение, которое, подобно могучему гладиатору, билось с этими предчувствиями, кои, подобно диким зверям Арены, сидели повсюду в клетках, ждущие, чтобы их спустили на него. После боя он загонял их обратно в логова, но не убивал — и они вновь на него бросались. На мой вопрос — разве мы не можем укрепить наш рассудок в преддверии смерти? — он с жаром ответил: «Нет, сэр, оставьте. Важно не то, как умирать, но то, как жить. Умирание ничего не значит, ведь оно длится так недолго». С серьезным видом он присовокупил: «Мы знаем, что иного не дано, и смиряемся. От причитаний толку не будет».
С прагматической точки зрения позиция Джонсона напоминает позицию Монтеня, но чувство тут совершенно иное: у Монтеня нет ничего подобного Джонсоновой тревожной страсти и ужасающей серьезности. Человек, живший своим умом (так он назвал, хваля, Мильтона), Джонсон ушел от богословских рассуждений, но не от тревог, сопутствующих ограниченности человеческого понимания последних вещей. «Надежда и страх» — часто встречающаяся у Джонсона пара; немногие другие писатели были столь чувствительны к всевозможным финалам: деловых предприятий, литературных сочинений, человеческой жизни. Существует сложная связь между главными тревогами Джонсона и его взглядами на литературу. В отличие от Т. С. Элиота, он не выносил эстетических суждений с религиозных позиций. Джонсона весьма расстраивали и политические, и духовные убеждения Мильтона — тем не менее мощь и самобытность «Потерянного рая» подействовали на него вопреки идеологическим различиям.
О Мильтоне, о Шекспире, о Поупе Джонсон пишет так, как только и должен писать мудрый критик: он подступается к величию напрямую, откликается на него всем своим существом. Я не могу вспомнить ни одного первостепенного критика, который хотя бы приблизился к Джонсону в понимании того, что такое, по его выражению, «вероломство человеческого сердца» — особенно сердца критика. Я цитирую статью из 93-го номера «Рамблера», в которой Джонсон впервые довольно сумрачно замечает, что «к ныне живущим сочинителям следовало бы относиться с известной сердечностью», но затем предупреждает нас о том, что сердечность эта не «совершенно необходима; ибо пишущий может считаться своего рода бродячим поединщиком, на которого каждый вправе напасть». Это каноническое представление о литературе как о борьбе — представление, как Джонсон знал, всецело классическое; отсюда следует блистательное заявление, кредо Джонсона-критика:
Но какое бы решение ни было принято касательно современников, которых тот, кто знает вероломство человеческого сердца и принимает во внимание, как часто мы потакаем своей гордости или зависти, делая вид, будто ратуем за изящество или пристойность, будет не слишком расположен тревожить, — нет никаких оснований, на которых можно было бы избавить от критики тех, кого более не уязвит упрек и от кого не осталось ничего, кроме писаний и имен. К таким сочинителям критик, безусловно, волен отнестись со всею суровостью, ибо он поставит под угрозу одну лишь свою славу и, подобно Энею, обнажившему меч в преисподних краях, встретится с призраками, коим нельзя нанести раны. Да, он может обратить внимание на утвердившуюся репутацию; но, выказывая так свое почтение, он может думать лишь о своем собственном благополучии, ибо других оснований для этого нет.
Тут выявляются самые основы борьбы, и критику с отменной иронией напоминается о том, что он обнажает свой меч против призраков Аида, сочинителей, коим нельзя нанести раны. Но как же быть с величайшими из призраков: Шекспиром, Мильтоном, Поупом? «Критика всегда взывает к природе»; под «природой» в этой фразе Джонсон разумел Шекспира, и Уолтер Джексон Бейт видит в ней девиз, исходную точку всей Джонсоновой критики, тем самым подчеркивая, что Джонсон — критик-эмпирик. Мудрость, не форма — вот главный критерий, чтобы судить о художественной литературе, и Шекспир подверг Джонсона важнейшему испытанию для критика: как подобающим образом откликнуться на вызов первого писателя Западного канона?
Можно считать, что первые слова Джонсона о Шекспире — это знаменитая фраза из начала «Предисловия»[258] (1765): «Ничто не может тешить многих и тешить долго, кроме верного изображения всеобщей природы». Задача Джонсона состояла в том, чтобы показать, как верно Шекспир подражал природе, и никто так не преуспел в этом начинании: «В сочинениях прочих поэтов персонаж слишком часто являет собою отдельную личность; в сочинениях Шекспира он обыкновенно являет собою вид». Джонсон, конечно, не имеет в виду, что образы Гамлета и Яго не своеобразны; напротив, их своеобразие удостоверяется и усиливается тем, что вокруг них выстраивается система жизни, продолжение ее замысла, и мы едва ли сможем вообразить харизматичного интеллектуала — в литературе или в действительности, — в котором бы не было ничего от Гамлета; или гения злодейства, эстета, который бы наслаждался, сочиняя посредством людей, а не букв, и о котором не следовало бы судить с той пагубной высоты, на которую вознесся Яго[259]. Мольер, наверное, ничего не знал о Шекспире, при этом Альцест из «Мизантропа» напоминает Гамлета. Ибсен, безусловно, Шекспира знал, и Гедда Габлер — достойный потомок Яго. Шекспир так уверенно владеет человеческой природой, что все послешекспировские персонажи — в какой-то мере шекспировские. Джонсон проницательно подмечает, что у каждого второго драматурга любовь оказывается универсальной действующей силой, а у Шекспира — нет:
Ведь любовь — лишь одна из множества страстей, и, поскольку ее воздействие на всю совокупность жизни невелико, ей отводится немного места в пьесах поэта, улавливавшего идеи из живого мира и представлявшего лишь то, что видел перед собою. Он знал, что всякая другая страсть, будь она обыкновенна или чрезмерна, также может быть причиною и счастью, и беде.
Кто правильнее понимал роль влечений у Шекспира — Джонсон или Фрейд? В соображениях Фрейда о «Гамлете», «Лире» и «Макбете» стремлению к сексуальному удовлетворению, пусть и подавленному, придается по меньшей мере такое же значение, как стремлению к власти. Джонсон и Шекспир не согласились бы с Фрейдом. Влечение, или страсть, у Шекспира — особенно в этих трех величайших трагедиях — включает в себя куда больше, чем было нужно Фрейду: это соединение множества чрезмерных страстей. Можно заметить, что влечение самого Джонсона, соединенное, впрочем, с жестоко подавленной сексуальностью, было совершенно шекспировским: его основным содержанием была поэтическая воля к бессмертию, о чем Джонсон достопамятно, неблагосклонно, иронически недоговаривает в письме к Босуэллу от 8 декабря 1763 года:
Вероятно, во всякой живой душе таится жажда отличия, каждого располагающая сперва надеяться, а затем и верить в то, что Природа наделила его чем-то особенным. Это тщеславие заставляет одни умы пестовать в себе недоброжелательство, а другие — возбуждать в себе желания, пока эти занятия не придадут и одному, и другому куда большую силу, чем те имели изначально, и, так как ненатуральное поведение со временем входит в привычку, они наконец начинают тиранить того, кто поначалу сам поощрял их проявления.
Это явно задумывалось как самокритика; но разве это еще и не точное описание шекспировского характера, скажем, характера Макбета? Жажда отличия — это определенно мотив метафоры, влечение, создающее поэтов. Разве она также не одушевляет героев и героинь, злодеев и героических злодеев Шекспира? В предисловии к собранию сочинений Шекспира Джонсон говорит: «Характеры столь полновесные и общие нелегко было разделить и сохранить, и все же, вероятно, ни один другой поэт не делал свои персонажи столь отличными друг от друга» (курсив мой. — Г. Б.). Индивидуализация речи, соответствие речи характеру — одно из шекспировских чудес, которое Джонсон в своей жажде отличия ловко позаимствовал для самоанализа. Поразительна уверенность Джонсона в том, что Шекспир был, по сути, комическим писателем, который навязал себе трагический жанр — очевидно, желая еще большего отличия:
В трагедиях он неизменно ищет случая выступить комически, в комедиях же словно отдыхает, блаженствует, как в образе мыслей, вполне согласном с его натурой. Его трагическим сценам неизменно чего-то недостает, комедии же зачастую превосходят ожидания и желания. Его комедии тешат мыслью и слогом, а трагедии — по большей части происшествиями и действием. Его трагедии, кажется, суть навык, его комедии — суть инстинкт.
Эволюция Шекспира — по сути, от комедий и хроник через трагедию к сказке (говоря сегодняшним языком) — разом опровергает слова Джонсона и подтверждает их. Навык ли «Лир», инстинкт ли «Как вам это понравится»? В каком-то смысле Джонсон тут сообщает нам о Джонсоне примерно столько же, сколько о Шекспире, но, поскольку Джонсон утверждал, что Шекспир был «зерцалом природы», случаю это приличествует. Интереснее то, что Джонсон явно предпочитает Лиру Фальстафа; это, должно быть, связано с его тревогой по поводу того, что Шекспир, «похоже, пишет без всякой нравственной задачи», — тревогой, которую мы сегодня едва ли разделим. Впрочем, Бейт показывает, что тревоги Джонсона обладали настоящей критической силой. То, что Шекспир не злоупотреблял «поэтическим правосудием», печалило Джонсона оттого, что сам Джонсон был совершенно добросердечен и по-настоящему боялся трагедии и безумия. Шекспир, как и Джонатан Свифт, пугал Джонсона, который вполне мог увидеть в безумии Лира пророчество о собственном возможном помешательстве. Великий сатирик от природы, Джонсон по большей части избегал писать сатиру, что, быть может, сильно повредило ему как поэту: в этом качестве нам его не хватает. Ярость Лира увлекла Джонсона вопреки его воле, и о пьесе он отозвался с тревожной горячностью:
Трагедия о Лире по праву почитается лучшей из драм Шекспира. Наверное, нет другой пьесы, которая так приковывала бы к себе наше внимание; которая так сильно волновала бы наши страсти и возбуждала наше любопытство. Искусное переплетение отличных один от другого интересов, разительное противопоставление несходных характеров, внезапная перемена судьбы и быстрый ход событий полнят рассудок неумолчной разноголосицей негодования, жалости и надежды. В ней нет ни единой сцены, которая не служила бы усугублению бедствия, и едва ли отыщется строка, которая не споспешествовала бы развитию сцены. Поток воображения поэта столь могуч, что уносит всякий рассудок, единожды отважившийся ступить в него и уже не могущий ему сопротивляться.
Мы слышим, как могучий рассудок сопротивляется самому могучему — но тщетно, ибо Джонсон подхвачен потоком Шекспирова воображения. Как критик, Джонсон всего сильнее и подлиннее, когда он более всего разделен сам в себе[260], и мы снова встречаем проблемную метафору «отличия» в словах «искусное переплетение отличных один от другого интересов». Отличие, по Джонсону, есть одновременно достижение и суета; в драматургическом космосе Шекспира это только достижение, оно — по ту сторону поэтического правосудия, по ту сторону добра и зла, по ту сторону безумия и суеты. До Джонсона никто не сумел так передать уникальную и подавляющую изобразительную силу Шекспира, и суть Шекспира он своим чудесным слогом объяснил через искусство разделения, придания отличия, создания различий. Едва ли трагедия этому искусству чужда — и Джонсон это, безусловно, понимал. Вместительнейшая из душ, душа Шекспира, нашла в душе Джонсона вместительнейшее из нелицеприятных зеркал, говорящее зеркало. Главным из написанного Джонсоном о Шекспире — истолкования канонического поэта каноническим критиком — мне представляется один короткий пассаж в «Предисловии», в котором «отличия» вновь оказываются одной из форм ключевой метафоры, связывающей критика с его поэтом:
Хотя ему повстречалось столь много препятствий и столь мало подмоги в их преодолении, он умел обрести точное знание множества укладов жизни и множества складов врожденных черт; изобильно их разнообразить; отметить их тонкими отличиями; и показать их как на ладони в должных сочетаниях. В этой части его деятельности ему было некому подражать, зато все последующие сочинители подражали ему; и сомнительно, чтобы у всех его последователей можно было взять больше максим теоретического знания или больше правил практического здравомыслия, чем он один дал своему отечеству.
Сюда вложено так много, что требуется абстрагироваться, увидеть то, что видел Джонсон, и вслушаться в отголоски его славословий Шекспиру. Теоретическое знание — это то, что можно назвать когнитивной внимательностью; практическое здравомыслие — это мудрость. Если Шекспир обрел «точное знание» и как на ладони показал его, то философам за ним не угнаться. Не унаследовав никаких условий, Шекспир-созидатель сам задал условия, выполнять которые должны все писатели после него. Джонсон сознает и говорит нам, что Шекспир создал вечный эталон художественного изображения. Отдельно от изображения знание множества укладов жизни и множества складов врожденных черт не есть знание. Шекспир дает разнообразные подробности в изобилии, отмечает тонкими отличиями, показывает как на ладони. Разнообразить, отмечать и показывать — вот знание, знание того, что мы привыкли называть нашей психологией, которую, как дает понять Джонсон, Шекспир создал. Если он держал зеркало перед природой, то это было крайне активное зеркало.
Один из маленьких шедевров Джонсона — «На смерть друга» («Айдлер», № 41), датированный 27 января 1759 года; всего несколькими днями раньше умерла его мать. Джонсон, христианин, пишет о надежде на воссоединение, но тон и мрачный пафос этого текста говорят о таком полном приятии принципа реальности, примирения с неизбежностью ухода, какого скорее ждешь от скептического Монтеня или от Фрейда, для которого религия была иллюзией. Едва ли можно лучше Джонсона сказать о психологическом состоянии того, кто пережил другого:
Это суть беды, посредством которых Провидение исподволь отторгает нас от любви к жизни. Прочие горести стойкость духа может отразить, а надежда — умерить, но невосполнимая утрата не позволяет нам ни выказывать решимости, ни тешиться упованиями. Почившим не дано возвратиться, и нам не остается ничего, кроме томления и скорби.
В сравнении с этой незаурядной прозой Джонсоновы декларации веры кажутся не столько слабыми, сколько неуверенными, даже принужденными. Джонсону, эмпирику и натуралисту, беспощадному в своей рассудительности, вера никогда не давалась легко. В Джонсоне была страсть к самому сознанию, которой ничто не могло утолить; он хотел больше жизни, до самого конца. Даже если бы Босуэлл не написал «Жизни…», то мы все равно помнили бы личность Джонсона, которой проникнуто все, что он писал и говорил. В наши дни личность критика и литературоведа существенно обесценилась благодаря разного рода формалистам и культурным материалистам. И все же, думая о современных критиках и литературоведах, которыми я сильнее всего восхищаюсь, — Уилсоне Найте, Эмпсоне, Нортропе Фрае, Кеннете Бёрке, — я в первую очередь вспоминаю не теории и не методы, не говоря уже о книгах. Сперва идут проявления их сильных и ярких личностей: Уилсон Найт без обиняков цитирует услышанное во время спиритических сеансов; Эмпсон провозглашает «Потерянный рай» вещью высоковарварской — почти ацтекской или бенинской; Фрай весело характеризует неохристианское представление Т. С. Элиота об упадке цивилизации как Миф о Великом Западном Поскальзывании; Бёрк сопоставляет слова «I», «ауе» и «еуе» в связи с эмерсоновской идеей «прозрачного глазного яблока»[261]. Доктор Джонсон — сильнейший из критиков и литературоведов, и дело тут не только в его когнитивной силе, образованности и мудрости, но и в блеске его литературной личности.
Противовесом автору сумрачных размышлений о смерти служит Джонсон в ипостаси критического юмориста, учащий критика не быть ни чрезмерно серьезным, ни самодовольным, ни высокомерным. В «Жизнеописаниях виднейших английских поэтов», своем главном критико-литературоведческом труде, Джонсон представляет читателю пятьдесят двух поэтов, выбранных в основном книгопродавцами (издателями) — в том числе таких неканонических корифеев, как Помфрет, Спрат, Ялден, Дорсет, Роскоммон, Степни и Фелтон, — достойных предшественников многих наших преждевременно канонизированных рифмоплетов и недооформившихся витий. Из них всех можно (и тогда можно было) взять одного Ялдена. Джонсон отмечал, что Ялден пытался писать пиндарические оды на манер Абрахама Каули (о котором тоже сегодня помнят одни специалисты): «Приковав свое внимание к Каули как к образцу, он попытался в некотором роде вступить с ним в соперничество и сочинил „Гимн к тьме“, очевидно, в ответ на „Гимн к свету“ Каули».
Даже несмотря на это, о несчастном Ялдене не помнил бы вовсе никто, не завершайся «Жизнеописание Ялдена» великолепной, очень джонсоновской фразой: «О прочих его стихах довольно будет сказать, что они заслуживают прочтения, хотя они и не всегда совершенно отточены, хотя рифмы подчас подобраны весьма дурно и хотя его недостатки кажутся упущениями от лености, нежели небрежностями от рвения».
Кажется, после этого от злосчастного Ялдена мало что остается — но это еще не лучшее соображение, на которое третьестепенный поэт сподвиг первостепенного критика. Ялден попытался сочинить свой «Гимн к свету», в котором изобразил Бога в некоторой растерянности, вызванной внезапным явлением только что созданного им Света: «Недолго Всевышний стоял, изумившись». Эту строчку Джонсон комментирует так: «Ему следовало бы помнить, что Беспредельное Знание не может изумляться. Всякое изумление есть следствие воздействия новизны на Неведение».
Самые сильные главы великих «Жизнеописаний…» — об Александре Поупе, предшественнике самого Джонсона; о Ричарде Сэвидже, посредственном поэте, но превосходном собеседнике, с которым Джонсон делил свои первые лондонские годы, когда был богемой с Граб-стрит; о Мильтоне, к которому Джонсон относился одновременно с неприязнью и глубочайшим восхищением; и о Драйдене, в некотором смысле — его предшественнике на критическом поприще. Важные и замечательные места, впрочем, есть также в главах о Каули, Уоллере, Аддисоне, Прайоре, Свифте, Янге, Грее, даже на нескольких страницах, посвященных другу Джонсона — безумному поэту Уильяму Коллинзу. Как собранию критических и биографических текстов «Жизнеописаниям…» нетравных на английском языке. Как и в прочей критике Джонсона — то есть в большей части статей в «Рамблере», отчасти в «Расселасе…», в предисловии и примечаниях к пьесам Шекспира, да и во многом из того, что цитирует в «Жизни…» Босуэлл, — граница между интерпретацией и биографией там весьма условна.
Быть может, Джонсон (в отличие от меня) и не верил, что, как говорит Эмерсон, «истории, собственно, нет; есть только биография», но писал Джонсон, по сути, биографическую критику. Даже когда биография была практически недоступна — как в случае Шекспира, — Джонсон демонстрировал, какие тонкости возможны в жанре биографической истории. Для Джонсона в биографии всегда на первом месте индивидуальность, и, соответственно, важнейшие моменты для него — это самобытность, изобретательность и подражание, как природе, так и другим поэтам. Критики и литературоведы, занятые, как я, проблемой влияния, конечно, учатся у Джонсона, который в глубине души понимал, почему его важные стихотворные сочинения ограничиваются «Лондоном» и «Тщетой человеческих желаний» — вещами чудесными, но едва ли полностью соответствующими его возможностям. Его ощущение совершенства Поупа не дало ему достичь большего; он воспевал Поупа, но не стал творчески искажать своего изящного поэтического отца, едва ли схожего с Джонсоном по темпераменту.
Т. С. Элиот, слабый в сравнении с Джонсоном критик, сделался сильным поэтом, на свой лад исправив в «Бесплодной земле» Теннисона и Уитмена. Джонсон сознательно удержался от того, чтобы дать неоклассической традиции Бена Джонсона, Драйдена и Поупа продолжателя сильнее, чем Оливер Голдсмит или Джордж Крабб (обоих Джонсон поддерживал). Для меня остается загадкой, отчего воинственный Джонсон не пожелал вступить с Поупом в состязание, к которому был превосходно подготовлен. То, как Джонсон относился к Поупу, больше похоже на то, как относился к Джойсу Энтони Бёрджесс, а не на то, как относился к своему былому повелителю Беккет. Я неравнодушен к «Влюбленному Шекспиру» Бёрджесса, но это — любовное повторение «Улисса», а не переделка его. Между тем еще ранний Беккет в своем упоительном романе «Мерфи» дал весьма творческое искажение «Улисса» — от него он отошел в своем собственном направлении и встал на долгий путь развития, приведший его через «Уотта» и великую трилогию («Моллой», «Мэлон умирает», «Безымянный») к очень неджойсовскому триумфу — «Как есть», и трем его главным пьесам. Как поэт, Джонсон отказался от величия, к которому определенно приблизился в «Тщете человеческих желаний». Как критик, Джонсон оказался более раскован и превзошел всех, кто был до него. Босуэлл нам этой тайны не раскрывает. Дело не в силе «Тщеты…», но в уникальности этой вещи; Джонсон сознавал, насколько она хороша. Почему он не пошел дальше?
Я не знаю другого поэта из писавших по-английски, который, обладая такой силой, как у Джонсона, настолько осознанно отказался бы стать первостепенным поэтом. Стихи Эмерсона так же относятся к стихам Вордсворта, как стихи Джонсона — к стихам Поупа, и, подобно Джонсону, Эмерсон избрал иную гармонию — прозы[262]. Но даже в лучших стихотворениях Эмерсона — «Бахусе», «Днях», «Оде Ченнингу» и еще нескольких, вроде «Уриила», — нет весомости и блеска Джонсоновой «Тщеты…». После «Тщеты…» гений Джонсона направлялся на критику и беседу, но не на стихи. Шекспир был поэт, которого Джонсон любил наперекор себе, отчасти в разладе со своим вожделением «поэтического правосудия» и нравственного совершенствования человечества. Но Поупа — даже больше, чем Драйдена, — Джонсон любил безоговорочно; Поупу он отдал свое сердце и даже утверждал, что Поупов перевод «Илиады» — это «произведение, с которым не сравнится ничто и никогда», более того — произведение, «о котором можно сказать, что оно настроило английскую речь», в том числе речь самого Джонсона.
Этой возмутительной избыточной похвале переводу, сегодня мертвому почти для всех нас, следует противопоставить блистательное предпочтение Джонсоном «Дунсиады», одного из величайших сочинений Поупа, крайне переоцененному «Опыту о человеке», который Джонсон разгромил: «Досель скудость знания и грубость чувства еще не скрывались столь благополучно под чужой личиной. Читателю представляется, что ум его насыщен, хотя он ничего не узнал; и, видя в этом новом наряде язык своей матери и кормилицы, он его не признает».
Джонсон мало сомневался в том, что превосходит Поупа мудростью, образованностью и умом. Что же в таком случае обескуражило его, не дало сосредоточить все глубинные силы на поэтической карьере? Часть ответа, видимо, содержится в его описании поэтической силы Поупа:
Поуп обладал — в весьма приятно выверенном соотношении — всеми свойствами, из которых складывается гений. Он обладал Изобретательностью, созидающей новые ряды событий и показывающей новые живописные сцены, как в «Похищении локона»; и соединяющей сторонние и неожиданные украшения и наглядные примеры с общеизвестным предметом, как в «Опыте о критике». Он обладал Воображением, глубоко запечатлевающим в сознании сочинителя и позволяющим ему донести до читателя всевозможные виды природы, случаи жизни и устремления страсти, как в его «Элоизе», «Виндзорском лесе» и «Эпистолах о нравственности». Он обладал Рассудительностью, берущей от жизни или природы то, чего требует нынешний замысел, и, отделяя суть вещей от сопутствующего им, зачастую делающей изображение сильнее действительности; и он обладал красками языка, которые всегда были перед ним наготове, дабы расцветить содержание всею красой изящного речения, как когда он приноровил свой слог к чудесному обилию Гомеровых чувств и описаний.
Я ставлю под сомнение лишь последнюю добродетель Поупа — Рассудительность и ее проявления в переводе «Илиады», но искренне соглашаюсь с похвалами Изобретательности в «Похищении локона» и Воображению в «Эпистолах».
Любовь к Поупу ставит Джонсона на грань гиперболизации, лишь когда он подводит итог своей апологии поэта:
Прочие могут созидать новые мысли и новые образы; но попытка еще улучшить стихосложение будет опасна. Умение и усердие сделали, что могли, и всякое присовокупление будет плодом каторжного труда и ненужного любопытства.
После всего вышесказанного, несомненно, было бы излишне отвечать на однажды заданный вопрос: «Был ли Поуп поэт?» иначе, нежели другим вопросом: «Ежели Поуп — не поэт, то где тогда искать поэзии?» Ограничение поэзии тем или иным определением покажет лишь недалекость определяющего; но и придумать такое ее определение, которое исключило бы из нее Поупа, будет непросто. Окинем взглядом настоящее и оглянемся на былое; полюбопытствуем, кому присудило человечество поэтический венец; разберем их сочинения и выслушаем их заявления — и притязания Поупа более не будут оспариваться. Ежели бы он дал миру одно лишь свое переложение, и тогда его следовало бы назвать поэтом: доведись создателю «Илиады» арестовывать своих преемников, он отвел бы почетное место своему переводчику, не требуя от него других свидетельств Гения.
Это несколько сбивает с толку. Джонсон отчасти держится догматического взгляда на неоклассическое двустишие как на окончательную, совершенную поэтическую форму. Отчего столь скептический критик-эмпирик, столь ученый литературовед сотворил себе такой кумир из признанных им формально совершенными стихов Поупа, я и не надеюсь понять. Джонсон знал на память буквально тысячи строк Поупа с Драйденом и относительно немного — Мильтона, но он понимал (и они понимали), что им не стоять вровень с Мильтоном, не говоря уже о Шекспире. Мильтона Джонсон по заслугам вознес на достаточно пагубную высоту, но его представление о Шекспире этой амбивалентностью не окрашено. Разумеется, Джонсон никогда не отождествлял себя с Ахиллесом Гомера-Поупа, зато прекрасно отождествлял с сэром Джоном Фальстафом. Нельзя даже с уверенностью сказать, что «Тщета…» хуже стихов Поупа в формальном отношении. Несомненно, Джонсон жил так, как, по его хвалебному отзыву, жил Мильтон — своим умом, и престиж Поупа едва ли сыграл роль в том, что Джонсон его великодушно перехвалил. Поуп — великий поэт, но о его стихах, в отличие от стихов Шекспира и Данте, не скажешь, что они суть сама поэзия; и странно утверждать, что Гомер одобрил бы Поупову «Илиаду». Тут сам собою вспоминается яростный выпад Уильяма Блейка, направленный разом против его патрона-поупеанца, плохого поэта Уильяма Хейли, и самого Поупа:
Так Хейли в Нужнике, смотря на Мыло, Кричит: без Поупа бы Гомеру худо было.Джонсона более всего занимало мастерство Поупа, причудливо названное им его поэтическим здравомыслием, — то, что Роберт Гриффин определил как «особенное сочетание в Поупе врожденных способностей с расположенностью к труду». Среди мифов Джонсона о себе самом был миф о лени — в противоположность трудолюбию Поупа; но на самом деле Джонсон имел в виду разницу между беспокойностью и неугомонностью своего ума и Поуповой обстоятельностью. Джонсон испытывал пресловутый страх перед своим умом — почти как если бы он мог пасть жертвой своего собственного воображения, подобно Макбету в Шекспировой поразительнейшей картине опасного торжества воображения. Джонсон был слишком хороший сын своему поэтическому отцу Поупу, а Муза требует амбивалентности в семейном романе поэтов.
Горечь, которая легла в основу «Жизнеописаний…», постоянно ощущающаяся, но редко проявляющаяся, мотивирована тем, что Лора Куини назвала устремлением к «эдипизации литературного пространства». Столкнувшись с Александром Поупом, своим Лаем, Джонсон бежал с перепутья, дабы не выказать непочтения[263]. Быть может, Джонсон был слишком хороший человек, чтобы стать великим поэтом, но нам не приходится сетовать на его щепетильность, потому что мы знаем его и как великого человека, и как величайшего из литературных критиков.
Каноническая критика, которую осознанно писал Джонсон, имела под собою определенные религиозно-политические и социально-экономические основания — но то, как в «Жизнеописании Мильтона» критик отбрасывает свои идеологические убеждения, меня завораживает. Нашим апостолам «критики и социального преобразования» нужно попробовать прочесть — подряд — то, что писали о Мильтоне Джонсон и Хэзлитт. Во всем, что касается религии, политики, общества и экономики, тори Джонсон и радикал-инакомыслящий Хэзлитт напрочь расходятся во мнениях, но Мильтона они хвалят за одни и те же качества, Хэзлитт — не менее достопамятно, чем Джонсон, особенно в этом месте:
Мильтон позаимствовал у других больше, чем любой другой сочинитель, и опустошил каждый источник для подражания, религиозный и светский; тем не менее он совершенно отличен от всякого другого сочинителя. Он — сочинитель песен, и тем не менее в самобытности он немногим уступает Гомеру. Печатью его мощного ума отмечена каждая строка. <…> Читая его сочинения, мы ощущаем на себе воздействие могучего разума, который чем ближе сходится с другими, тем отличнее от них делается… У Мильтона усвоение производит впечатление наития.
Все это правда — за исключением устойчивого влияния Шекспира, которое я попытался доказать, разбирая образ Сатаны. Хэзлитт, который представляется мне вторым после Джонсона английским критиком, Джонсона не любил. Но написанное Джонсоном о Мильтоне предвосхищает написанное Хэзлиттом:
Величайшая заслуга гения — самостоятельное созидание… из всех, кто заимствовал у Гомера, Мильтон, вероятно, в наименьшем долгу. Он естественно жил своим умом, уверенный в своих силах, презирающий и споспешествование, и препятствование: он не отказывался быть допущенным к мыслям и образам своих предшественников, но и не искал этого.
Оба критика закономерно обнаруживают у Мильтона способность претворять усвоение в наитие: это способность к изобретению, которую Джонсон считал сутью поэзии. Джонсонова меланхолия, отвратившая от него Хэзлитта, приучила его ценить изобретательность особенно высоко, потому что избавление от меланхолии требует постоянного открытия новых и обнаружения старых возможностей жизни. Я не читал никого, кто лучше Джонсона сознавал бы, как невыносима мысль о грядущей смерти, главным образом — своей собственной. Не будет преувеличением сказать, что это сознание есть основа его критики. По Джонсону, фундаментальный закон человеческого существования не подлежит изменению: человек по природе своей не может глядеть смерти в лицо. Когда Джонсон хвалит Шекспира за то, что его герои действуют и говорят под воздействием общих страстей, волнующих все человечество, он говорит в первую очередь о страстном желании уйти от сознания смерти. Босуэлл записал отменно мрачную беседу, состоявшуюся 15 апреля 1778 года, когда Джонсону было шестьдесят девять лет:
Босуэлл. В таком случае, сэр, следует признать, что смерть ужасна.
Джонсон. Да, сэр. Мне не удалось и приблизиться к такой точке зрения, с которой она не была бы ужасна.
Миссис Ноулз (похоже, обретшая умиротворяющий покой благодаря вере в благодатный божественный свет). Разве не говорит апостол Павел: «Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды…»[264]?
Джонсон. Да, мадам; но он был человек одухотворенный, человек, преображенный сверхъестественным вмешательством.
Босуэлл. Предощущение смерти мучительно; но на деле оказывается, что люди умирают легко. Немногие верят, что взаправду умирают; те же, кто верит, делаются тверды, как человек, идущий на виселицу. Он ведь тоже не хочет, чтобы его вешали.
Мисс Сьюард. У страха смерти есть один безусловно нелепый вид; это страх небытия, которое есть всего лишь приятный сон без сновидений.
Джонсон. Оно и не приятно, и не сон; оно — ничто. Само существование настолько лучше, чем ничто, что мы предпочтем существовать, даже страдая от боли, нежели не существовать.
Беседа кончается замечанием Джонсона: «Сударыня смешивает небытие, которое есть ничто, с сознанием оного, которое мучительно. Ужас небытия заключается именно в его сознании». Реалистическая мысль критика соединяет этот ужас одновременно со страхом безумия и с надеждой на спасение, но ужас оказывается сильнее и страха, и надежды. Для того чтобы жить, мы бежим мыслей, внушающих нам этот ужас.
Самое тонкое из сказанного Джонсоном о Шекспире — его комментарий к потрясающему монологу герцога из «Меры за меру» (акт III, сцена I) — «Готовься к смерти…»: «Ты, в сущности, ни юности не знаешь, / Ни старости: они тебе лишь снятся, / Как будто в тяжком сне, после обеда»[265]. Джонсон пишет:
Это превосходно найдено. В молодости мы заняты составлением прожектов на будущее и упускаем радости, которые перед нами; в старости разгоняем томность этих лет воспоминаниями о юношеских забавах и трудах; и жизнь наша, никогда не заполненная делами настоящего времени, походит на наши послеобеденные сны, в которых утренние события перемешиваются с вечерними намерениями.
Слово «dinner» для Шекспира и Джонсона означало ту полуденную трапезу, которую мы называем «lunch». Джонсон видит, что Шекспир превосходно нашел выражение полной нашей неспособности жить в настоящем; мы или загадываем, или вспоминаем. Но Джонсон не говорит — только подразумевает, — что мы отворачиваемся от настоящего потому, что в настоящем времени нам придется умирать. Ужас небытия — это мотив метафоры; то, что Ницше называл желанием отличаться, желанием быть не здесь, вызвано отказом принять умирание. И свойственная душе жажда отличия, в том числе — отличия в делах литературных, по Джонсону, порождена тем же влечением прочь от головокружительного осознания, приходящего с мыслью о прекращении бытия.
Выражая самые глубокие мысли о Джонсоне из мне известных, Бейт особо отмечал, что ни один другой писатель не был так одержим сознанием того, что рассудок человека — это деятельность, которая, если ее не подчинить ее труду, будет разрушать его или окружающих. Свойственную душе тягу к сохранению жизни, перемещенную в целый спектр форм, Джонсон выявляет в деидеализированном влечении к литературной канонизации. Джонсонову сумрачность, оскорблявшую Хэзлитта противоестественностью, которую он в ней видел, можно назвать негативным эмпирицизмом, противоположным позитивному натурализму Хэзлитта. Оба критика превозносили Фальстафа как лучшее у Шекспира воплощение духа комического, но Джонсон, сильнее нуждавшийся в утешении юмором, пришел к изумительному самоотождествлению с Фальстафом, всецело вопреки собственной моральной воле. Хэзлитт абсолютно очарован Фальстафом — как и полагается каждому из нас; Джонсон, подобно незначительным моралистам, в том числе нынешним, Фальстафа не одобряет, но не может перед ним устоять.
Несмотря на моральную преграду, Джонсон так тронут Фальстафом, что поет его, покуда не осекается:
Но Фальстаф, не знающий подражаний, неподражаемый Фальстаф, как мне описать тебя? Ты составлен из здравомыслия и порока; здравомыслия, которым можно восхищаться, но которое невозможно почитать, порока, который можно презирать, но к которому едва ли возможно питать отвращение. Фальстаф — персонаж, доверху груженный недостатками, и такими недостатками, которые сами собою вызывают неприязнь. Он вор и обжора, трус и хвастун, всегда готовый обмануть слабого и как липку ободрать бедняка; запугать робкого и оскорбить беззащитного. Угодливый и вместе с тем злонравный, он за глаза высмеивает тех, лестью которым живет. Он близок к Принцу единственно как поверенный порока, но так гордится этой близостью, что не только спесиво и заносчиво держится с простым людом, но и полагает, что герцогу Ланкастеру есть дело до его корысти. И все же этого человека, столь развратного, столь ничтожного, делает необходимым презирающему его принцу приятнейшее из свойств — постоянная веселость, нескончаемая сила заразительного смеха, которому особенно легко отдаться, ибо остроумие его — не блистательного и не притязательного толка, но состоит из простых отдушин и легкомысленных острот, которые развлекают, но не вызывают зависти. Должно отметить, что он не запятнан ни единым великим или кровавым преступлением, поэтому его распутство не слишком оскорбительно и может служить увеселению.
Мораль, которую нужно вывести из этого изображения, такова: нет человека опаснее, чем тот, кто желает развращать и умеет развлечь; и ни ум, ни честность не должны полагать, будто общество такого человека не представит для них опасности, если они увидят, как соблазняет Генри Фальстаф.
Как ярый фальстафианец, я со многим здесь не согласен и предпочитаю «Опыт о драматическом характере сэра Джона Фальстафа» (1777) современника Джонсона, Мориса Моргана, обелившего лучшего комического персонажа во всей литературе. Как пишет Босуэлл, Джонсон отозвался на слова Моргана, буркнув, что следом Морган покажет добродетельность Яго. Но Джонсона можно простить, потому что он трогательно отмечает проявление Фальстафом «приятнейшего из свойств — постоянной веселости».
Великая нужда Джонсона в этом свойстве была непреходящей, и упоминания им Фальстафа, в беседах и в писаниях, многочисленны. Он любил представлять себя Фальстафом — старым, но неунывающим, обладающим неукротимым жизнелюбием, хотя и постепенно омрачающимся из-за того, что скоро его утратит. Это жизнелюбие не оставляет писаний Джонсона, не оставляет оно и его образа — как в книге Босуэлла, так и вне ее. Будет ли эта сила бытия и далее преследовать нас, предсказывать не берусь. Если все канонические ценности будут изгнаны из литературоведения, останутся ли у Джонсона читатели?
Если случится так, что больше не будет поколений обыкновенных читателей, не тронутых идеологическим фарисейством, то Джонсон исчезнет, как исчезнет и многое другое из канонического. Мудрость, впрочем, так просто не умрет. Если критика с литературоведением иссякнут в университетах и колледжах, то они переберутся в другие места, потому что они суть современная разновидность наставительной литературы. Я не могу рассуждать о докторе Джонсоне, моем герое с моих мальчишеских лет, в похоронном тоне, поэтому кончаю эту главу, оставляя за ним последнее слово, из «Предисловия», дабы мы еще раз послушали, что говорит величайший из критиков о сильнейшем из поэтов:
Непривычные сочетания затейливых измышлений могут недолгое время тешить нас новизною, на поиски которой шлет нас обыкновенная пресыщенность жизнью; но радости внезапного изумления преходящи, и лишь в неколебимости истины разум может найти покой.
9. Вторая часть «Фауста» Гёте: контрканоническая поэма
Из всех сильнейших западных писателей Гёте кажется наименее доступным нашему нынешнему мироощущению. Я подозреваю, что его отдаленность от нас не так уж сильно связана с тем, что его стихи плохо поддаются переводу на английский. Стихи Гёльдерлина тоже плохо поддаются переводу, но большинство из нас он привлекает неизмеримо сильнее, чем Гёте. Поэт и писатель-наставник, немецкий эквивалент Данте может выдержать несовершенный перевод — но не перемены в жизни и литературе, сделавшие его важнейшие представления такими далекими от нас, что они кажутся архаичными. Для нас Гёте не предок, каким он был для Эмерсона и Карлейля. Его мудрость жива, но кажется, что она происходит из какой-то другой вселенной.
В Германии у Гёте не было предшественников-поэтов, которые могли бы отчасти сравниться с ним по силе. Гёльдерлин явился после него, и больше никто не был ему соперником — даже Гейне, Эдуард Мёрике, Стефан Георге, Рильке, Гофмансталь, поразительные Тракль и Целан. Но даже притом что с Гёте немецкая художественная литература по-настоящему началась, он с западной точки зрения скорее конец, чем начало. Эрнст Роберт Курциус, на мой взгляд, самый выдающийся современный немецкий литературовед, заметил, что в европейской литературе сложилась непрерывная традиция — от Гомера до Гёте. Шаг за ее пределы сделал Вордсворт, зачинатель современной поэзии, а также той интроспективной линии, которая идет от Рескина к Прусту и Беккету, до недавних пор — главному из живущих писателей. Даты жизни Гёте — 1749–1832, Вордсворта — 1779–1850, то есть английский романтик приходится немецкому мудрецу младшим современником. Но Вордсворта английские и американские поэты непроизвольно переписывают до сих пор, тогда как про Гёте не скажешь, что сегодня он оказывает определяющее влияние на немецкую поэзию.
Тем не менее надо сказать, что в удаленности Гёте от нас заключается часть той громадной ценности, которую он для нас представляет, — особенно сейчас, когда французские празднословы провозгласили смерть автора и гегемонию текстов. Каждый текст Гёте, как бы он ни отличался от остальных, отмечен его уникальной и подавляющей личностью, которую нельзя ни обойти, ни деконструировать. Читая Гёте, вновь убеждаешься в том, что смерть автора — это всего лишь запоздавший галльский троп. Гётев даймон — или даймоны, ибо он, кажется, мог повелевать любым их числом — неизменно присутствует в его сочинениях, усиливая неизменный парадокс: у него и в прозе, и в поэзии с равной наглядностью явлены классический, почти универсальный этос и романтический, крайне личный пафос[266]. Логос, или, в терминологии Аристотеля, дианойя (содержание мысли) Гётевых сочинений — их единственное слабое место, так как экстравагантная натурфилософия Гёте сегодня кажется неубедительной концептуализацией его внушительного даймонического представления о реальности. Это едва ли имеет значение, потому что, хотя рассудочные объяснения Гёте и улетучились, его художественная сила и мудрость уцелели.
Курциус разумно отмечает, что «превосходство света над тьмой — это состояние, которое Гёте более всего к лицу», и напоминает нам о том, что Гёте называл это состояние словом «heiter», означающим не столько «радостный», сколько то же, что латинское «serenus» — безоблачное небо, ночное или дневное. Как и впоследствии Шелли, Гёте сделал своей эмблемой утреннюю звезду, но, в отличие от Шелли, не ради того изысканного мгновения, когда она тает на заре[267].
Сегодня безмятежный Гёте отягощает нашу душу; ни мы не знаем покоя, ни наши писатели. Фауст Гёте доживает до ста лет, и Гёте страстно желал того же себе. Ницше обучил нас поэтике боли; лишь то, что не перестает причинять боль, блистательно утверждал он, остается в памяти. Курциус находил у Гёте укорененную в традиции поэтику наслаждения, но поэтика безмятежности, безоблачных небес даже ближе к представлениям Гёте.
Важнейшее прозрение Ницше — «Заблуждение о жизни необходимо для жизни»[268] — это часть большого (и признанного) долга Ницше перед Гёте. У Гёте идея поэзии основывалась на сложном сознании того, что поэзия по сути своей есть тропы и что троп — это своего рода творческая ошибка. В своем шедевре «Европейская литература и латинское Средневековье» (1948) Курциус сводит два прекрасных высказывания Гёте о тропах. В «Статьях и примечаниях», приложении к «Западно-восточному дивану», Гёте высказывается о метафоре в арабской поэзии:
…(Ч)еловеку Востока, стоит вспомнить ему об одном, сейчас же приходит на ум и все остальное, так что он, привыкнув сочетать прямой линией вещи наиотдаленнейшие, не останавливается перед тем, чтобы, едва заметно переменяя буквы и слоги, выводить одно из другого самые несообразные явления. Тут видишь, что язык уже сам по себе производителен, причем, когда он идет навстречу мысли, то риторически, когда же уступает воображению, то поэтически.
Поэтому тот, кто начал бы с самых первых, неизбежных, первозданных тропов, потом бы стал отмечать более вольные и смелые, наконец перешел бы к самым произвольным и рискованным и закончил бы все даже неловкими, условными и безвкусными, — тот доставил бы себе ясный обзор основных моментов восточного искусства поэзии[269].
Из этого очевидным образом складывается общая метафора поэзии, где стоит вспомнить об одном и на ум сейчас же приходит все остальное. В «Максимах и размышлениях» Гёте говорит о своем настоящем предшественнике (единственном, которого он мог принять, потому что тот писал на другом современном языке): «Шекспир богат чудесными тропами, возникшими из олицетворенных понятий; нам бы они не годились, но у него вполне уместны, ибо в его время в искусстве господствовала аллегория».
Тут отразилось неудачное гётевское разделение «аллегории, в которой частное служит всего лишь примером общего», и «символа», или «природы поэзии; он выражает нечто частное, не учитывая общего и не указывая на него». Но далее Гёте замечает, что для Шекспира «делается образом то, что для нас таковым бы не стало, к примеру, книга… по-прежнему понимаемая как нечто священное»[270]. Троп «книга как нечто священное» — это едва ли аллегория в том неинтересном смысле, который вкладывал в это слово Гёте, зато это аллегория в смысле подлинно символического способа мышления, при котором одно опять же приводит на ум все остальное. Такая метафора книги подводит Гёте к его главному притязанию как поэта — воплотить и продлить европейскую литературную традицию, не будучи сломленным ее условиями и, соответственно, не лишившись своего лица.
Эту сторону Гёте лучше всего осветил его главный наследник в XX веке, Томас Манн. С любовной иронией (или, может быть, с иронической любовью) Манн написал несколько замечательных портретов Гёте — сначала в статье «Гёте и Толстой» (1922), затем в трех статьях 1930-х годов (о его писательском пути, о нем как «представителе бюргерской эпохи» и о «Фаусте») и в романе «Лотта в Веймаре», и наконец в «Фантазии о Гёте» в 1950-х годах. Не считая «Лотты в Веймаре», самая замечательная из этих работ о Гёте — выступление на столетии смерти поэта: «Гёте как представитель бюргерской эпохи». Для Манна Гёте — «великий человек в образе поэта»[271], пророк немецкой культуры и идеалистического индивидуализма, но в первую очередь — «чудо-личность» и «божественный человек»[272] Карлейля. Как представитель человечества от бюргерства, сам Гёте говорит о «свободной торговле понятиями и чувствами», что Манн трактует как «характерное перенесение либерально-экономических принципов в сферу духовной жизни»[273].
Манн подчеркивает, что безмятежность Гёте была его художественным достижением, а не врожденным свойством. В поздней «Фантазии о Гёте» Манн хвалит гётевскую величавую самовлюбленность, самопоглощенность, «которая слишком серьезна и слишком устремлена к величайшему самоусовершенствованию, к улучшению, „сгущению“ врожденных способностей, чтобы можно было охарактеризовать ее таким ничтожным словом, как „тщеславие“»[274]. Прелесть этой характеристики в том, что Манн описывает себя в той же мере, что и Гёте, — и здесь, и в великолепной статье 1936 года «Фрейд и будущее»:
(И)митация Гёте с ее памятью о вертеровской, о мейстеровской ступени и о старческой фазе «Фауста» и «Дивана» может бессознательно направлять и мифически определять жизнь писателя еще и сегодня. Я говорю «бессознательно», хотя в художнике бессознательность то и дело переходит, играя, в улыбающуюся сознательность и в глубокую по-детски внимательность[275].
Имитация Гёте Манном дала нам Тонио Крёгера в качестве Вертера, Ганса Касторпа в качестве Вильгельма Мейстера, «Доктора Фаустуса» в качестве «Фауста» и «Признания авантюриста Феликса Круля» в качестве «Западно-восточного дивана». В замечаниях Манна звучат неслучайные отголоски слов Гёте о том, что «даже совершенные образцы смущают тем, что вынуждают нас пропускать необходимые ступени нашего Bildung, вследствие чего мы, как правило, впадаем в бесконечные заблуждения». Манн в нескольких местах цитирует гётевский жестокий и принципиальный вопрос, сформулированный тем в старости так: «Что за жизнь, коль есть другие?»[276] В этом вопросе имплицитно присутствуют два превосходных Гётевых афоризма, в сочетании которых — диалектика запоздалого созидания: «Лишь присвоив себе чужие богатства, мы создаем нечто великое» и «Что мы можем назвать по-настоящему своим, кроме нашей энергии, нашей силы, нашей воли?».
Гёте Курциуса — это тот, кто довел до совершенства и последним представлял литературную культуру, созданную Гомером, продолженную Вергилием и Данте и позже достигшую возвышенного в творчестве Шекспира, Сервантеса, Мильтона и Расина. Лишь писатель, обладающий гётевской даймонической силой, мог обобщить так много и не впасть в совершенство смерти. Загадка: при всем своем жизнелюбии и всей мудрости, Гёте в своих сильнейших вещах выдвигает нам навстречу столь цельное сознание, что мы не находим возможности найти себя в этих стихах, явно не уступающих по силе стихам Вордсворта, но бесконечно менее волнующих. «Трилогия страсти», при всей своей исключительной риторической мощи, не стоит в центре нашего бытия[277], в отличие от «Строк, написанных на расстоянии нескольких миль от Тинтернского аббатства при повторном путешествии на берега реки Уай»[278] и оды «Отголоски бессмертия по воспоминаниям раннего детства»[279]. «Прелюдия, или Становление сознания поэта»[280] не может считаться поэзией высшего порядка, чем «Фауст», но она тем не менее кажется вещью куда более нормативной. Великая эстетическая загадка Гёте — это не его неоспоримые лирические и повествовательные свершения, а «Фауст», самая гротескная и неусваиваемая из всех первостепенных западных драматических поэм.
Эрих Хеллер лукаво пишет: «Какой грех лежит на Фаусте? Беспокойство ума. В чем спасение Фауста? В беспокойстве ума». Тут у Гёте либо путаница, либо частная версия идеи гностиков о спасении через грех; кажется, справедливо будет сказать, что путаница. Хеллер видит тут скорее недозволенную двусмысленность:
Но трагедии человеческого духа он написать не мог. В этом качестве трагедия Фауста не удалась, оказалась неправомерно двусмысленной, потому что для Гёте в конечном счете не существовало собственно человеческого духа. Он был в основе своей одно с духом природы[281].
Герман Вайганг признает, что «спасение Фауста — дело в высшей степени неортодоксальное», но объясняет еретическое спасение героя его «беспрестанным стремлением к расширению пределов своей личности», которого, безусловно, искал и сам Гёте. Боюсь, впрочем, что Хеллер прав и Фауст не является личностью и не несет в себе собственно человеческого духа. Это часть той трудности, которую представляет для нас поэма. Главное, что в Гёте есть от Гомера (хотя это скорее гротескная пародия на Гомера), — отсутствие малейшего признака человеческого духа вне природных сил и влечений. Подобно героям Гомера, Фауст — это поле битвы, на котором сталкиваются противоборствующие силы. В этом его основное отличие от Гамлета, существующего в библейской традиции человеческого духа. Фауст никогда не сказал бы словами Гамлета, что в его душе как будто шла борьба[282]. Его сердце, его разум, его восприятие четко разделены, а он сам — более или менее случайное место, где они схлестываются друг с другом.
Впрочем, Гёте писал не эпос в духе Гомера, а немецкую трагедию, хотя в случае «Фауста» слово «трагедия» обретает причудливое значение. Хеллер пишет, что трагедия Фауста — в том, что он не способен на трагедию. Трагический ли герой Ахиллес Гомера? Бруно Снелль, Э. Р. Доддс и Ганс Френкель показывают, что даже Ахиллес, первый среди ахеян, по сути своей подобен ребенку, потому что его ум, чувства и ощущения не образуют единого целого. В самом Гёте, безусловно, было что-то гомеровское, но в Фаусте от Гомера одна только детскость. Эдипа и Гамлета трагедии делают взрослыми; по сравнению с ними Фауст — дитя.
Едва ли это художественный недостаток. Это лишь еще одна черта той чрезвычайной странности, из-за которой «Фауст» — самый гротескный шедевр западной поэзии, завершение классической традиции в форме, которую можно назвать грандиозной, космологической сатировской драмой. Уже первая ее часть достаточно безумна, но на фоне второй сочинения Браунинга и Йейтса кажутся непритязательными, а Джойса — бесхитростными. Гёте повезло, что Шекспир был англичанином: языковая дистанция позволила ему вобрать в себя Шекспира и подражать ему, не покалечившись страхом. «Фауста» нельзя назвать вещью по-настоящему шекспировской, но пародируется в ней Шекспир практически беспрестанно.
Бенджамин Беннетт видел задачу этой поэмы ни больше ни меньше как в «обновлении языка»; я бы свел это к «попытке обновить немецкий язык так, как Шекспир обновил английский». Беннетт считает странный не-жанр «Фауста» «антипоэтикой» с установкой на очищение поэтического языка от иронии и восстановление своего рода визионерского пафоса. С великолепным (и осознанным) литературоведческим ирреализмом Беннетт объявляет, что пространство «Фауста» «бесконечно в том смысле, что оно может быть так велико, как пожелает читатель». Иной раз, читая «Фауста», я жалею, что мы с этой поэмой не можем сесть на строгую диету, но слова Беннетта тем не менее наводят на размышления.
Не имеющий ответа литературоведческий вопрос звучит так: возможно ли определить масштаб и пределы «Фауста» как художественного достижения? Допустим, Беннетт закрыл вопрос масштаба, но от пределов нам никуда не деться, особенно в наше время и в нашей стране, где «Фауст» видится жутковатым излишеством, белоснежным слоном доминирующей поэтической традиции. Как я уже говорил, «Прелюдия…» Вордсворта или даже эпос Блейка даются нам легче, чем наука читать «Фауста». Может быть, нас ставит в тупик внешняя безмятежность поэтической личности Гёте в сочетании со скабрезным накалом «Фауста»? Или мы попросту не находим себе места в гётевском мировом театре и потому гадаем, что же такое в нем происходит, и спрашиваем себя, почему нам вообще должно быть до этого дело?
Обосновать величие «Фауста» его лирическим разнообразием и риторической силой, даже его мифологической изобретательностью, больше не получится. Гётевские «Римские элегии», «Западно-восточный диван», порой даже «Венецианские эпиграммы», как правило, приходятся нам больше по душе, чем «Фауст». Я слышал весьма недоброе замечание — дескать, для Гёте «Фауст» есть то же, что для Ницше (и всех ницшеанцев) «Так говорил Заратустра»: великолепный провал. Действительно, пересказ «Фауста» почти также неудобоварим, как пересказанный «Заратустра». При внимательном прочтении «Фауст» — совсем другое дело. Он оказывается пиром чувства[283], изобилующим, впрочем, не самыми здоровыми яствами. В качестве сексуального кошмара или эротической фантазии он не имеет соперников, и понятно, почему потрясенный Кольридж отказывался эту поэму переводить. Она, определенно, о том, чего будет достаточно (если такое возможно)[284], и Гёте находит несметное множество способов продемонстрировать, что сексуальности как таковой достаточно не будет. В то же время «Фауст» с одержимостью внушает нам, что без активной сексуальности достаточно не будет вообще ничего.
Беннетт весьма кстати напоминает о причудливой художественной стороне «Фауста» — о том, как в этой поэме одна за другой исключаются все точки зрения, с которых мы могли бы захотеть ее воспринимать. Преградой для перспективизма может быть лишь намеренная двусмысленность — и Гёте придумал не менее семидесяти семи ее видов[285]. По Ницше, Гёте воплощал Диониса, а не Аполлона; по Фрейду, Гёте олицетворял Эрос, а не Танатос. Я не вижу в «Фаусте» иного бога или божества, кроме самого Гёте, потому что этот необычайный поэт не был ни христианином, ни эпикурейцем, ни платоником, ни эмпириком. Возможно, от имени Гёте говорит не Мефистофель, а Дух природы, но гётевские Духи нас уже или утомляют, или раздражают, поэтому самым убедительным для нас образом в «Фаусте» остается Мефистофель, которого Хеллер справедливо называет законным предвестником образа бездны у Ницше. Хеллер полагает, что Ницше был все-таки фаустианцем; но думать так — значит уходить от иронии самого Ницше.
Я не знаю более удивительных стихов, чем причудливые и возвышенно нелепые последние слова героически-смехотворного Мефистофеля, который в одиночку отбивается от летающих роз и ангельских попок и не может схватить причитающуюся ему душу Фауста. Как понимать столь потрясающе возмутительную сцену? Фауст говорит: «Я высший миг сейчас переживаю»[286], падает навзничь и умирает — дальнейшее же находится и за рамками, и ниже литературоведения. На нас обрушивается низкий фарс, заигрывающий с чудовищным невыдержанным пафосом: Мефистофель ведет в бой трусливые легионы толстых чертей с коротким прямым рогом и тощих чертей с длинным кривым рогом и видит, как они бегут с появлением сладкой стайки ангелов. Весь во власти буйной похоти, вызванной этими очаровательными созданиями, Мефистофель продолжает храбро сражаться, затем уморительно сравнивает себя с Иовом и в конце концов признает поражение, напоследок вызывая у нас жалостливую симпатию раскаянием в своей слишком человеческой похоти.
«Бедный старый черт», — думаем мы, но также и: «Крепкий старый черт», по делу себя винящий. Вот важнейшая составляющая достижения Гёте, не перестающего нас удивлять: Фауст лишен человеческого духа и личности, Мефистофель же, по счастью, нет. Когда Гёте писал о Мефистофеле, он был прирожденным поэтом и сторонником Дьявола — и знал это, потому что Гёте, кажется, знал все.
Хотя «Фауст» — скорее опера, чем пьеса, в Германии его все равно ставят. Я не видел ни одной постановки и не хочу ее видеть — разве только одаренный кинорежиссер воспользуется однажды всеми средствами, которыми располагает кинематограф. Вторая часть «Фауста» — сама по себе страшный фильм, который каждый мысленно снимает у себя в голове, превозмогая странность текста. Какой бы любопытной ни была первая часть, именно вторая — самое причудливое из канонических произведений западной литературы.
Гёте принялся за то, что стало «Фаустом», в 1772 году, когда ему было двадцать три года, и кончил шестьдесят лет спустя, перед самой своей смертью в 1832 году. Драма в стихах, сочиняющаяся в течение шести десятилетий, обязательно будет чудовищем — а Гёте еще и потрудился сделать вторую часть настолько чудовищной, насколько это вообще возможно. Исследователи его творчества без конца приводят доводы в пользу предполагаемого «единства» пьесы и стремятся обнаружить вторую часть по крайней мере имплицитно присутствующей в первой. Не считая нескольких формальных связок, все, что у двух «Фаустов» есть общего, — это собственно Фауст и комический Дьявол, Мефистофель, образ не слишком «сатанинский», какого Сатану ни возьми: того, что существует в расхожем представлении, или героического злодея из «Потерянного рая» Мильтона. Поскольку Фауст не является личностью, а у Мефистофеля личностей много, эта пара обеспечивает мало преемственности между двумя частями пьесы.
Это едва ли имеет значение, поскольку создатель второй части был только рад загадать как можно больше загадок. Провозглашенный литературным мессией практически в самом начале своей карьеры, Гёте ловко избежал закоснения, сделавшись вечным экспериментатором, — и вторая часть «Фауста» вполне может считаться экспериментом, а не поэмой. В изданиях «Фауста» часто приводятся таблицы с датами и вариантами, напоминающие мне посвященные Пятикнижию схемы в библеистике, вот только Гёте единолично был Яхвист, Элохист, Девтерономист, авторы Жреческого кодекса и грандиозный Составитель. Подобно пьесам Шекспира, «Божественной комедии» Данте и «Дон Кихоту» Сервантеса, «Фауст» — это тоже светское Писание, колоссальная, бесконечно амбициозная книга. В отличие от Шекспира и Сервантеса, чьи интересы не имели космологического характера, но пародийным образом подобно Данте и Мильтону, Гёте стремится к всеобъемлющему видению. Коль скоро речь о Гёте, нужно множественное число: видениям. Смесь мифологии, истории, рассуждений и образов поэтов прошлого во второй части «Фауста» даже нельзя назвать «эклектикой». У Гёте все идет в ход, потому что все укладывается в «отрывки великой исповеди»[287] — в гётевские сочинения, особенно в «Фаусте».
Шекспир, которого Гёте радушно (и справедливо) ставил выше себя, оказал на вторую часть не столь решительное влияние, как на первую, что, безусловно, помогает объяснить обилие классических персонажей, сюжетов и форм, наводняющих вторую часть. Гёте раскрылся древним отчасти для того, чтобы защититься от Шекспира, хотя уйти таким образом от Шекспира ему все равно не удалось. Разве это было возможно? Важнейшее высказывание Гёте о Шекспире — это статья 1815 года «Шекспир, и несть ему конца!», переведенная Рэндольфом С. Борном под заглавием «Шекспир ad Infinitum». Несмотря на устойчиво амбивалентное отношение Гёте к величайшему из писателей, его эстетическое чувство восторжествовало над ощущением уязвимости:
Никто, пожалуй, великолепнее его не изобразил первое великое воссоединение долга и воли в характере отдельного человека. Каждая личность, рассматриваемая с точки зрения характера, долженствует, она стеснена и предназначена к чему-то исключительному, но, рассматриваемая как личность человека, изъявляет волю, не ограниченна, взывает ко всеобщему. Здесь уже возникает внутренний конфликт, и его-то и ставит на первое место Шекспир.
Но вот к нему присоединяется внешний, который часто обостряется еще тем, что несостоятельная воля возвышается обстоятельствами до неизбежного долженствования. Эту максиму я уже раньше доказывал на примере Гамлета…[288]
Впервые Гёте толковал Гамлета в «Годах учения Вильгельма Мейстера» (1796), где в уста Вильгельма вложена знаменитая, но до абсурда превратная идеализация самого многогранного персонажа Шекспира. Разве в этих словах можно узнать Гамлета?
Прекрасное, чистое, благородное, высоконравственное создание, лишенное силы чувств, без коей не бывает героев, гибнет под бременем, которое ни нести, ни сбросить ему не дано; всякий долг для него свят, а этот тяжел не в меру. От него требуют невозможного, не такого, что невозможно вообще, а только лишь для него. Как ни извиняется, ни мечется он, идет вперед и отступает в испуге, выслушивает напоминания и постоянно вспоминает сам, под конец почти теряет из виду поставленную цель, но уже никогда больше не обретает радости[289].
Даже непонятно, какую пьесу читал Гёте/Вильгельм Мейстер; явно не ту трагедию Шекспира, в которой Гамлет между делом убивает Полония, радостно отправляет на смерть Розенкранца с Гильденстерном и обращается с Офелией с такой непотребной жестокостью, что простить его нельзя. С другой стороны, нельзя дурнее обойтись с «Фаустом», что с первой частью, что со второй, чем сравнить его с «Гамлетом», да и с любой из первостепенных трагедий Шекспира. Принц датский — драматический характер безграничной притягательности и пугающей глубины. Гамлет — единственный вымышленный персонаж, являющийся носителем авторского сознания; я не хочу сказать, что в Гамлете Шекспир изобразил себя. Нет, Гамлет — это чудо самоуглубленности; Шекспир намекнул на психологическое богатство, которое нас поражает — в конце концов мы начинаем хотеть, чтобы Гамлет говорил обо всем, что нам непонятно в мироздании. Как бы длинна ни была эта пьеса, завороженный читатель (скорее читатель, чем зритель) хочет, чтобы она была еще длиннее; мы готовы ловить каждое замечание Гамлета.
Рядом с этим несравненным образцом Гётев Фауст и даже Мефистофель почти не производят впечатления персонажей. Не рискнув бросить вызов Шекспиру, Гёте вступил в соперничество с барочной драмой испанского Золотого века, в частности с Кальдероном. В величайших пьесах Кальдерона, как и в «Фаусте», главные герои движутся и существуют[290] в неопределенной области между характером и идеей; они суть развернутые метафоры ряда тематических ситуаций. Кальдерона и Лопе де Вегу это всецело устраивало, но Гёте нужно было противопоставить друг другу и личности, и тематические метафоры, поэтому он без колебаний оставлял метод Кальдерона и возвращался в Шекспиров космос, практически когда ему заблагорассудится.
Гёте, мастеру причуды, это сходило с рук часто, но не всегда; его космологическая драма страдает всякий раз, когда напоминает о Шекспире. Читателю странно, что эта грандиозная пьеса, особенно ее страннейшая вторая часть, действительно «напитана жизнью», как сказал пожилой Жид[291], — но этой жизни совсем нет в ее предположительно трагическом герое. Безумные мифологические персонажи и беспрестанно злоумышляющий Мефистофель вьются вокруг нас с неизменной живостью, Фауст же инертен, бесцветен, многословен или попросту спит. Проблема тут не в том, что в ренессансном искателе неведомого, которого Гёте сделал немцем, слишком много от самого многоличностного Гёте, а в том, что в его главном герое слишком мало мессианского. Гёте не жалеет полноты жизни на великолепных чудовищ второй части, но жалеет на бедного Фауста. Случайностью это быть не может, но тем не менее это — художественная неудача. Гёте явно был так решительно настроен не допустить, чтобы Фауста принимали за него, что позабыл о своем величайшем, сверхъестественном даре — природной неизмеримости своей личности. Схожая проблема с «Годами учения Вильгельма Мейстера» (лучшей прозаической вещью Гёте, переведенной на английский Карлейлем): там меня завораживают почти все персонажи, кроме собственно безжизненного Вильгельма Мейстера.
Гёте так зачаровал самого себя и всех, с кем ему довелось встречаться, что ни один из созданных им персонажей в принципе не мог быть достоин своего создателя. Шекспир мало интересовался собою и явно был вполне бесцветен по сравнению с Кристофером Марло и Беном Джонсоном — или даже с такими менее значительными фигурами, как Джордж Чапмен и Джон Марстон. Загадка и величие сочинений Гёте и главным образом второй части «Фауста» — в том, как тексты до такой степени напитываются обольстительной личностью поэта, что сам поэт делается для нас ценнее изображенного им. Так было с Байроном и так — еще в большей степени — было с Гёте; хитроумный автор «Фауста» это, несомненно, понимал.
Харизматиков, ставших великими писателями, не так уж много; Гёте — первый их представитель во всей западной литературе. Самое в нем главное — его личность; для писателей он — то же, что для литературных персонажей Гамлет. Николас Бойл, автор его исчерпывающей биографии под названием «Гёте: поэт и эпоха», открывает первый том неоспоримым утверждением: «О Гёте нам следует — или, во всяком случае, еще предстоит — узнать больше, чем, наверное, о любом другом человеке». Не исключение здесь даже Наполеон, современник Гёте, не составляют исключения и Байрон, и Оскар Уайльд, и прочие светила искусства. О Шекспире мы не знаем практически ничего важного и нам приходится скептически оценивать объем того, что нам еще предстоит узнать — о человеке, не о пьесах. О Гёте Бойл, кажется, знает все — и все это кажется важным.
И Ницше и Курциус по-разному замечали, что Гёте — сам по себе целая культура, культура литературного гуманизма, длинная традиция которого началась с Данте и кончилась второй частью «Фауста», главным каноническим достижением Аристократической эпохи Вико. В памяти Гёте классика Теократической эпохи — Гомер, афинские трагедии, Библия — пересеклась с Данте, Шекспиром, Кальдероном и Мильтоном, и результатом этого пересечения стала культура, которая в эпоху Гёте и в его стране принадлежала ему одному. Нельзя сказать, что после него эта амальгама дала цвет еще хотя бы в одной великой поэме. Гёте, похоже, знал, что он — конец, а не новое начало. Мудрецы шли по его стопам на протяжении почти века после его смерти, но он умирал вместе с ними, и сегодня он живет не в ком-то из нынешних поэтов, но лишь в мертвецах и в исследователях, питающихся мертвецами.
Загадка Гёте — в тайне его личности, чья аура пережила Демократическую эпоху, но наконец угасла в нашем Хаосе. Томас Манн был последним великим писателем, вышедшим из Гёте, а сегодня Манн, увы, потускнел, как померкнул его повелитель Гёте, хотя и не навсегда. В начале 1990-х годов гуманистическая ирония не в моде, и едва ли она сделается популярной во времена, когда начнут сбываться апокалиптические предзнаменования о конце 1990-х. Гёте, никогда не бывшего христианином, еще в юности провозгласили мессией, и он сопротивлялся обожествлению при помощи внушительной иронии. Единственный теист во второй части «Фауста» — это Мефистофель; Фауст же предвосхищает Ницше, понуждая нас думать о земле, а не о трансцендентной власти.
Шекспир сделался смертным богом для Виктора Гюго и многих после него (в том числе для меня), а Гёте имел сомнительное удовольствие обрести божественный статус в глазах немецких эстетов уже своего поколения. Но колоссальную разницу между Шекспиром и Гёте по-прежнему составляет то, что можно было бы назвать харизмой слова и автора. Практически все современники Гёте (единственное исключение, которое приходит мне в голову, — это афорист Лихтенберг) считали его чудом природы и светочем, который, казалось, превосходил природу. Гёте, впрочем, не желал быть пророком, а тем более богом, и предпочитал называть себя «Weltmensch», мирским человеком. Совершенный иконоборец, Гёте унаследовал все самое дикое и своеобразное, что было в западной художественной культуре, — это обстоятельство мы сегодня не слишком хорошо сознаем. Его великолепная сосредоточенность на себе — модель того, что Эмерсон претворил в американскую религию доверия к себе, и в каком-то сложном, но весьма реальном смысле нынешние Соединенные Штаты являются (сами не зная того) страной несравненно более гётеанской, чем современная Германия. В основе харизматической духовной напряженности Гёте — неугомонное внимание к себе, и «Фауст» — лишь постольку религиозная поэма, поскольку это эпическая драма о личности, для которой не существует границ.
Религия отдельной личности не знает более возвышенного памятника, чем вторая часть «Фауста». Первая часть — замечательная поэма, но она лишь смутно предвещает то, что обрушится на нас во второй. Образ Фауста восходит к вероятному прародителю христианской ереси — считающемуся первым гностиком Симону Волхву из Самарии, который, отправившись в Рим, принял имя Фауст, «предпочтенный». На более раннем этапе своей достаточно бурной деятельности Симон обнаружил в Тире блудницу Елену и объявил ее падшей Мыслью Бога, в одной из прошлых жизней бывшей Еленой Прекрасной. Этот еретический скандал — далекий источник легенды о Фаусте, связанной с именем Иоганна Георга Фауста, жившего в первой половине XVI столетия бродячего мошенника и астролога; он умер в 1540 году.
Событийная канва, которую использовал сперва Кристофер Марло в «Трагической истории доктора Фауста» (1593), а потом, в числе многих других, Гёте, содержится в первой «народной книге» о Фаусте (1587). И в фольклорном, и в поэтическом варианте истории Фауста уже видна тенденция к отождествлению Фауста с распутником Дон Жуаном. Две легенды определенно сродни друг другу: оба героических злодея ищут тайного знания, один — оккультного, другой — сексуального; оба переходят от одной эротической иллюзии к другой; обоих вожделение и неумеренность приводят к гибели. Обе легенды нашли высшее выражение в жизни Байрона, поэта и харизматической знаменитости, и Гёте проницательно это осознал. Гибельное падение двух связанных между собою легендарных героев, Фауста и Дон Жуана, совершается во второй части «Фауста», когда Эвфориона (Байрона), сына Фауста и Елены, постигает судьба Икара.
Главный герой первой части — удручающе несуразный Дон Жуан, чья злополучная связь с невинной Маргаритой прямо ведет к ее гибели на земле и довольно неубедительному спасению на небе. Но Гёте больше (и совершенно правильно) беспокоился о том, чтобы мы увидели убедительнейшего из Фаустов, хотя Гётев Фауст — это торжество поэтической удачи над драматургическим достижением. Этот величайший Фауст запоминается нам не как изображение человека, который мог бы существовать на самом деле, но как пример сознания, которому совершенно чужды и действие, и страсть — хотя он к ним стремится. Ум Гёте не знал покоя; ум его Фауста всего лишь постоянно беспокоен. Гёте прекрасно понимал эту разницу и охотно пошел на художественный риск, которым она была чревата. Нет таких читателей, которые перечитывают первую или вторую часть «Фауста», потому что Фауст завладел их мыслями так же, как многими из нас завладевает Гамлет. Я перечитываю «Фауста», чтобы посмотреть, что Гёте может сделать со своим не вполне гётевским главным героем. Когда я перечитываю «Гамлета», вопрос стоит иначе: что Гамлет может сделать с Гамлетом?
Все вновь сводится к мысли Эриха Хеллера: Гёте ушел от трагедии, а Шекспир навсегда запечатлел для нас этот жанр, или, как сурово подытоживает Хеллер: «Если говорить, что ограниченность Гёте коренится в очевидной неограниченности его гения, то и подразумевать следует его гений, а не его талант; свой талант он всегда использовал именно для того, чтобы защититься от своего гения».
Добавлю к этому лишь одно: в первой части Гёте защищается от своего собственного гения, но в гораздо более сильной второй части он — более интересным образом — защищается от гения других: греческих трагиков, Гомера, Данте, Кальдерона, Шекспира и Мильтона. Во второй части мы сталкиваемся лицом к лицу со злом не чаще, чем в первой, но читатель, жаждавший трагедии, перестает ее хотеть — иначе и быть не может, потому что приливные волны гётевского мифотворчества требуют сверхъестественно энергичного отклика. Стихи не поддаются переводу, зато фильмы о чудовищах поддаются, а вторая часть «Фауста» — это самый титанический фильм о чудовищах, когда-либо перед нами поставленный[292]. То же мое свойство, что гонит меня на каждого нового «Дракулу», неизменно возвращает меня и ко второй части «Фауста», где Мефистофель превращается в интереснейшего из вампиров. Гёте, вроде бы смиривший свои желания, тем не менее позволил Мефистофелю написать почти всю вторую часть — результатом стала отменная поэзия.
В конце первой части заваривается великолепная каша из греха, заблуждения и раскаяния, и Фаусту только и остается, что в ней потонуть; но в первой же сцене второй части все это исчезает. Гёте главным образом обязан Шекспиру осознанием того, что апофеоз может быть драматургически убедителен. Гамлет в пятом акте возвышается над всем, что он сделал в предшествующих четырех, — и со второй сцены второй части Фауст полностью свободен от трагической судьбы Маргариты. Гамлет может не признавать силы своей былой любви к погибшей Офелии, но мы закономерно не верим ему — а Фауст даже не пытается отрицать тоску по своей Офелии. Гёте явно не слишком любил угрызений совести, особенно в делах чувственных. Потерянная женщина — состоявшаяся поэма, и Маргарита сделалась первой частью, а Елена стала второй. Я с содроганием думаю о феминистских прочтениях Гёте, или Данте, или Йейтса, потому что эти поэты идеализировали и, следовательно, демонизировали женщин даже сильнее, чем Мильтон. Когда в конце второй части Мистический хор поет: «Цель бесконечная / Здесь в достиженье. / Здесь — заповеданность / Истины всей. / Вечная женственность / Тянет нас к ней»[293], современная женщина, скорее всего, спросит: «Это куда?»
Гёте шел по стопам Данте, но сегодня это едва ли аргумент в его защиту. Была ли объектом исканий Фауста Маргарита или Елена — субъектом, а в конечном счете и настоящим их объектом был сам Фауст, ибо Гёте сознательно искал лишь себя одного. Подобно Бирону из «Бесплодных усилий любви», Гёте искал в женских глазах пламя Прометея[294] — отражение своего творческого огня. У Шекспира это дано с необузданным и умышленным юмором, но Гёте был такой же нарцисс, как Бирон. Понятно, почему феминистскому литературоведению нужнее Шекспир; он — за оба пола и ни за один из них. Гёте так уязвим для феминистского метода, что результаты такого исследования не будут интересны — разве что критика будет направлена против феминизации гротескного начала в мифологических чудовищах, о которых скоро пойдет речь.
Единственным современником Гёте, способным соперничать с ним в качестве поэта-мифотворца, был не имевший читателей Уильям Блейк, чьи гравированные «короткие эпосы» (мильтонианское понятие) по-прежнему доступны лишь узкой, подготовленной, почти одержимой аудитории. Поскольку я читал эзотерические стихи Блейка с детства и подробно комментировал их еще молодым человеком, Блейк сам собою приходит мне в голову, когда я читаю вторую часть «Фауста», — по контрасту. Мифопоэтические создания Блейка систематичны и очень важны для его апокалиптического спора с канонической традицией. Фантазии Гёте — импровизации, они сугубо шутливы и направлены на то, чтобы подчинить традицию. К своему удивлению, я предпочитаю вторую часть «Фауста» «Вале, или Четырем Зоа», «Мильтону» и «Иерусалиму».
Так же следует судить, и сопоставляя со второй частью произведения Шелли, Китса и Байрона. Сами Шелли и Байрон не оспорили бы этого вердикта, доживи эти почитатели Гёте до выхода в свет его величайшей поэмы. Сделанный Шелли перевод фрагментов первой части — по-прежнему лучший перевод из нее на английский язык, а взаимоотношения Байрона и Гёте — один из важнейших, лишь отчасти скрытых из виду смысловых центров второй части. Дух Байрона явлен в Мальчике-вознице и несчастном Эвфорионе, чаде Фауста и Елены. Еще страннее то, как байроническое (для Гёте — то же самое, что даймоническое) пробирается в образ Гомункула, существа гораздо более живого, чем и Мальчик-возница, и Эвфорион. Гёте с Байроном никогда не встречались — они лишь кратко обменялись любезностями по переписке, прежде чем Байрон отправился на смерть в Грецию, но не будет преувеличением сказать, что Гёте по-своему увлекся Байроном, которого он, как ни странно, ставил выше Мильтона и чуть ниже Шекспира. То обстоятельство, что Гёте не в совершенстве владел английским, безусловно, сказалось на этих суждениях — впрочем, в Европе эпохи романтизма они не были редкостью. Вопреки всей тоске Гёте по классике, вторая часть «Фауста» — это центральное произведение европейского романтизма, и байронизм, разумеется, проявился в этой немецкой трагедии, которая на самом деле не трагедия.
В рамках (и посредством) своего творчества Шекспир и Данте, Гёте, Сервантес и Толстой уничтожают все различия между жанрами. Гёте рискнул откровенно насмехаться над жанром, вполне в том ключе, в котором иронизирует Гамлет. Я не знаю другого сочинения уровня «Фауста», которое бы так резко отказывалось предстать перед читателем в каком-то определенном ракурсе. Возможно, поэтому Гёте и привлекал так сильно перспективиста Ницше, но всякому читателю (мне в том числе) становится весьма не по себе, когда он сталкивается с поэмой, которую никогда нельзя воспринимать ни полностью всерьез, ни совершенно иронически. Гёте как автор поступает не совсем добросовестно — притом что с другой точки зрения эта недобросовестность чрезвычайно (и умышленно) обаятельна. «Поминки по Финнегану», такой же огромный белый слон от литературы, как и «Фауст», — это очень смешная книга (если научиться ее читать), но Джойс в ней неисчерпаемо добросовестен. Посвятите непомерную часть своей жизни «Поминкам…», и книга вознаградит вас за труды; так она устроена. Вторая же часть «Фауста» — это вопиющее удовольствие для упоенного читателя, но в то же время — западня, Мефистофелева бездна, дна которой нам не коснуться.
Джойс относится к «Поминкам…» с искренней и при этом добродушной серьезностью; читатель этой книги не подвергается ни насмешкам, ни эксплуатации. Гёте так же смело покушается на мировую литературу и на переустройство языка, но отчасти за счет читателя. Хотя Джойса можно назвать героическим (в духе Вико) бардом Хаотической эпохи, он, как и Блейк до него, был демократичен в своем литературном элитизме. Преодолейте поставленные препятствия — и вас ждет достойная плата. Последний (и сознававший это) бард Аристократической эпохи, Гёте был только рад оставить нас наедине с противоречиями и замешательством. Художественного великолепия второй части это не убавляет, но несколько выводит из себя, особенно сейчас. Возможно, это значит лишь то, что время фаустовского человека прошло с наступлением эпохи феминизма и союзных ему идеологий. Но это также может значить, что Гёте попрекает нас требованием от стихов того, чего в них нет. Так или иначе, вопрос остается прежним: что есть во второй части, кроме колоритности автора и бесконечного буйства языка? Достаточно ли лирического великолепия и мифопоэтической изобретательности для того, чтобы столь причудливая и барочная феерия, вдвое превышающая объемом первую часть, не рухнула под своим весом? Заблуждаемся ли мы, требуя чего-то большего от сильнейшего из немецких писателей?
Попытка Гёте одновременно превозносить желание и усмирение желаний в одной поэтической драме, пусть она даже состоит из примерно двенадцати тысяч стихов и сочинялась в течение шестидесяти лет, была чрезвычайно дерзкой. Хотя Гёте и сделался главным мудрецом нации, ему, что приятно, были чужды как нормативная религия, так и обывательская мораль; его также не страшили общественные представления о хорошем вкусе. В «Фаусте», особенно во второй части, в ход шло буквально все. Большинство образованных читателей так или иначе знакомо с первой частью, поэтому я буду обращаться к ней лишь постольку, поскольку она является фоном для второй. Как уже было сказано, первая и вторая части так отличаются друг от друга, что, по сути, это разные поэмы, но Гёте полагал иначе, и мы должны руководствоваться его авторскими интенциями.
Если ставить обе части «Фауста» без изъятий, то спектакль, наверное, будет длиться двадцать один — двадцать два часа: несокращенный «Гамлет», сделанный раза в четыре длиннее. О такой постановке я крикну вместе с Лоркой, оплакивающим тореадора: «Не хочу ее я видеть!»[295] Гёте была странная идея, что Шекспир писал не для сцены, и всего «Фауста» определенно было бы правильнее ставить на том свете (хотя в Германии ставили). Для вышедшего из «Бури и натиска» (немецкого варианта английского Века чувствительности) Гёте было естественно ассоциировать подлинно возвышенную драматургию с театром рассудка, но отсюда никоим образом не следует, что «Фауст» — философская пьеса. Тут другое: эта драматическая поэма, напоенная сексуальным желанием, почти не имеет отношения к реалистическому изображению любви в каком бы то ни было социальном контексте — невзирая на попытку достопочтенного Дьёрдя Лукача проанализировать роман Фауста и Маргариты с марксистских позиций. Исполинская фантазия, «Фауст» принадлежит области Фрейдовых влечений, Эроса с Танатосом: Фауст — принужденный Эрос, Мефистофель — принужденно непринужденный Танатос.
Вторгнемся в первую часть «Фауста» во время Вальпургиевой ночи, избежав очаровательно тягостных начальных стадий гибельного соблазнения Фаустом бедной Маргариты. Гётеву Вальпургиеву ночь, как быстро поймет всякий читатель, не следует понимать как оргию сил зла в честь шабаша ведьм на Брокене в горах Гарца. Это, в конце концов, не вполне христианская поэма, и Гёте больше нравится Брокен, чем собор. Нам он тоже начинает больше нравиться, когда мы противопоставляем Вальпургиеву ночь предыдущей сцене, в которой Маргарита (будем вслед за Гёте называть ее Гретхен) встречает в соборе Злой дух и лишается чувств от порицаний, которым подвергает ее эта в высшей степени христолюбивая газообразная субстанция, не имеющая ничего общего с живым Мефистофелем. Еще более важное различие наблюдается между Вальпургиевой ночью и более ранней сценой — «Лесной пещерой» (эта сцена прерывает Фаустово воркование с Гретхен).
Гёте роднит с Уолтом Уитменом (неожиданная пара!) то странное обстоятельство, что они — единственные из первостепенных поэтов, живших до XX века, кто прямым текстом писал о мастурбации. Уитмен ее воспевает, Гёте говорит о ней с иронией. В «Лесной пещере» Мефистофель, без предупреждения входя к Фаусту, прерывает его одинокие размышления; Фауст говорит о «тяге ввысь, которая роднит (его) с богами»[296] и несправедливо винит Мефистофеля в том, что вожделеет к Гретхен. Дьявол дает ему сокрушительный ответ:
Уж вправду счастье неземное! Шататься по горам порой ночною, И небеса, и землю обнимать, К богам себя стараться приравнять, Проникнуть в смысл подземного движенья, В груди носить шесть дней миротворенья, В надменной силе чем-то наслаждаться, Со всей природой радостно сливаться, О сыне праха вовсе позабыть, И… и… все это заключить Таким — что совестно назвать.(Делает неприличный жест)[297].
В том, что Фаусту не дали забыться мастурбацией, сомневаться, в общем, не приходится. Намеки на самоудовлетворение обнаруживаются также в других эпизодах первой части и повсюду — во второй. Вальпургиева ночь — следующая за этим отказом от сублимации и дальнейшим соблазнением Маргариты, за которым следует ее христианское самоистязание, — приносит с собою невероятное облегчение. Фауст тоже испытывает переполняющее его чувство освобождения, пускается резвиться, попадает в область фантазий, эротических и раскрепощающих, и оказывается средь скопища нагих юных ведьм, в числе которых — Лилит, первая жена Адама[298]. Кульминация следующей за этим танцевальной оргии — в противоречии между тем, как на одну и ту же фигуру смотрят Фауст и Мефистофель: дьявол узнает в ней Медузу, а Фауст — погубленную им Гретхен. На пафосе участи Гретхен сконцентрирован весь остаток первой части, «зараженный» шабашом ведьм и превозношением там чувственного влечения. Гретхен, может быть, и ждет спасение на небесах, но читатель бежит от сцены ее предсмертных мук вместе с Фаустом и Мефистофелем, спеша оставить эти Офелиевы страдания ради визионерского мира второй части.
Поскольку в этой книге ставится вопрос о каноне, именно к нему и сводится мой интерес ко второй части: что делает столь странную поэму долговечной и универсальной? Мне не хватит ни страниц, ни специальных знаний для того, чтобы прокомментировать ее всю. Тем, кто пишет об обеих частях, как правило, больше всего интересна сделка Фауста с Мефистофелем, но меня она мало занимает. Из-за безличия Фауста мне все равно, дождется он прекрасного мгновенья, которое попросит остановиться, или нет. Малосущественна, по-моему, и тема его бесконечных устремлений — чем бы их ни считать: причиной его сделки с дьяволом или основанием для спасения его души. Сила сочинения Гёте не в этих уже опустошенных общих местах, которые давным-давно погубили бы «Фауста», имей они то значение, которое им придается. Мифопоэтическая сила второй части сосредоточена на совсем иных измышлениях: нисхождении Фауста к Матерям и — затем — явлении ему Елены; зарождении и делах Гомункула; классической Вальпургиевой ночи[299]; идиллии Фауста, Елены и Эвфориона; наконец, на борьбе за душу умершего Фауста и достаточно двусмысленном изображении небес в финале поэмы. Из этих удивительных измышлений Гёте складывает миф, незабываемо воздействующий на всякого читателя, желающего и способного совладать со стихами столь же сложными, сколь и музыкальными.
Возвышенное дурновкусие Гёте возвращается в достопамятном эпизоде встречи с Матерями: Мефистофель дает Фаусту «ключ», представляющий собою уж совсем откровенный фаллический символ:
Мефистофель …Вот ключ, ты видишь? Фауст Жалкая вещица. Мефистофель Возьми. Не брезгуй малым. Пригодится. Фауст Он у меня растет в руках, горит! Мефистофель Не так он прост, как кажется на вид. Волшебный ключ твой верный направитель При нисхожденье к Матерям в обитель[300].Нисхожденье это явно предполагает квазиинцестуальное, неясное, многократное соприкосновение с несколькими своими прародительницами. Сообщив Фаусту, что под землей его окружат странные сущности, Мефистофель подсказывает ученому искателю: «…Чтобы их держать на расстоянье, / Размахивай своим ключом в тумане»[301]. Фауст воодушевленно отвечает: «Мне ключ как бы вливает бодрость в тело. / Грудь ширится, я рвусь смелее к делу»[302]. «Дело» этого мифического нисхожденья — явно мастурбация, героическая по протяженности и чрезвычайно поэтическая по результату — таковым становится видение похищения Парисом Елены. Взревновавший Фауст, обезумев от страсти к античной чаровнице, кричит, что сжимает чудесный ключ. Он касается ключом призрака Париса и хватает Елену. Происходит оргазмический взрыв, Фауст падает без чувств и духи обращаются в пар.
На этом кончается первый акт; как показывает Бенджамин Беннетт, остальные четыре акта второй части тоже кончаются все более тонкими намеками на мастурбационную кульминацию. В конце 2-го акта Гомункул совершает онанистическое самоубийство у ног Галатеи. Эвфорион завершает третий акт, в яростном эротическом порыве бросаясь в воздух, подальше от женской заботы. В финалы 4-го и 5-го актов Гёте вводит сатиру на христианство с явными указаниями на то, что тема мастурбации еще не закрыта. В 4-м торжествующий Архиепископ провидит храм, взмывающий ввысь на горе, «чтобы смыть след кощунства», а сама поэма завершается псевдо-Дантовым откровением, в котором Гретхен становится Беатриче, а Фауст выступает в роли Данте. И все же среди этих всплесков протокатолического ликования Гёте продолжает потихоньку хулиганить. Финальная сцена переполнена «мукой божественной»[303]: одного Отца пронзают стрелы[304], другой видит одушевляющую любовь в стройности дерева и мощи его ствола. В разгар всех этих небесных экс-тазов «более совершенные ангелы» делают гадкую вещь: отказываются нести в руках тленные останки (будь прах даже из асбеста), как будто настаивая на разделении души с телом. Духовная мысль в этой поэме, как напоминает нам Беннетт, имеет чувственный характер, но чувственность ограничена сферой самовозбуждения и самоудовлетворения.
Спуск к Матерям, который трепещущий Фауст не смог бы совершить без фаллического ключа, есть, по сути, обращение к мифологическим музам во имя второй части. Мефистофель с помощью погубленной Гретхен удерживает Фауста от самоудовлетворения; то, что во второй части Фауст возвращается к аутоэротизму через воображаемый союз с эктоплазменной Еленой, — это только иронический прогресс и человеческое поражение. Во второй части Гёте снова ставит нас перед перспективистской дилеммой и не разрешает ее. Еще один шабаш ведьм, на этой раз античный, а не немецкий, дает нам больше буйных образов Эроса, чем одинокие романтические порывы и коллективные христианские увещевания. Гёте усиливает иронию: Мефистофелю, христианскому дьяволу, зачастую делается не по себе от натурализма античной Вальпургиевой ночи. «Все голы», — бормочет он, когда бесстыдные сфинксы, непристойные грифы и прочие разнообразные существа «то спереди, то сзади, без прикрас / Хвосты и крылья тычут напоказ»[305].
Дьявол, которому хочется фиговых листочков «по моде»[306], — это довольно-таки забавно. Томящийся по своей классической Елене Фауст чувствует себя в окружении древних чудовищ более свободно, а Гомункул оказывается самым отважным из всех троих. Это причудливое существо, одно из самых славных измышлений второй части, было создано алхимиком Вагнером, некогда верным помощником Фауста. Очаровательный человек, миниатюрный мужчина, вынужденный жить в стеклянной колбе, где он зародился, Гомункул нисколько не напоминает Мефистофеля, чье присутствие в лаборатории Вагнера дало инфернальную энергию, превратившую огонек в нечто большее, чем человеческий разум. В Гомункуле нет ни язвительности, ни нигилизма; он также не Фауст в миниатюре, как пытались его представить некоторые исследователи. Слишком доброжелательный для сатирического персонажа, герметичный Гомункул превосходит нас всех в знаниях и разумении. Пламя сознания, не воплощенное, но явленное в рассудке, он, кажется, в большей мере пользуется симпатией Гёте, чем все остальные персонажи поэмы. Бесконечно веселый и занятный, он трагически ослаблен жаждой любви, которая заставляет его в отчаянии уничтожить себя при встрече с Галатеей.
Действующий только во втором акте Гомункул потому производит столь сильное впечатление как личность, что Фауст во второй части прискорбно внеличностен — во всяком случае, если помнить о личности Гёте. В первой части Фауст был Гамлетом для бедных, но у него были сильные чувства, уникальная неукротимость и способность к настоящей негативности. Во второй части он утомительно благороден, рассеян и неспособен ни на какие элементарные реакции. Гёте сознательно сделал этого второго Фауста идеальной аллегорией классического поэтического темперамента, поэтому даже его страсть к Елене делается формой страсти самого Гёте к греческой поэзии и греческой скульптуре. Это достаточно рассудочное возвышение Фауста неизбежно влечет за собою соответствующую перемену в Мефистофеле, который практически перестает быть Дьяволом: он вынужден стать эдаким христианином от высокого романтизма, тщетно пытающимся принизить классическое великолепие или стремящимся по крайней мере как-то примирить Грецию с Германией. Бедный Мефисто! Из интригана, пытающегося вернуть нас к негациям Первоначальной Бездны, он превращается в резонера и компаративиста, а то и в «историста».
Возможно, именно поэтому идею показать Фаусту классическую Вальпургиеву ночь высказывает не Дьявол, а Гомункул. Маленький человечек объясняет, что экспедиция должна оказать на Фауста терапевтическое воздействие, приблизив его к Елене, — самим же им движет влечение, которое достигнет кульминации у ног Галатеи. Все эти детали лишь второстепенны для Гёте, чье главное побуждение — поставить коронный номер всей его творческой программы, написать полторы тысячи строк о древнегреческом шабаше ведьм, которого никогда не было ни на суше, ни на море, но который отныне есть, потому что так пожелал Гёте.
Если, по верному утверждению доктора Джонсона, суть поэзии — это способность к изобретению, то по классической Вальпургиевой ночи видно, что такое поэзия по самой своей сути: управляемая дикость, радикальная самобытность, подчиняющая себе предшествующие силы, и — главным образом — создание нового мифа. Гёте обеспечил себе место в литературном каноне, прибавив к красоте больше странности (Пейтерова формула романтизма), чем любой другой западный поэт после него. Гётево возвышенное раздвигает пределы гротеска шире, чем мне представлялось возможным. Сделанное им столь причудливо возмутительно, что литературоведение так к этому и не приспособилось — в первую очередь немецкое литературоведение: уж слишком торжественно-серьезной светской религией оказался культ Гёте.
Гёте обошелся чуть ли не без всего, чего ожидаешь от нормального классицизма: олимпийских богов, гомеровских воинов, героических победителей чудовищ. Боги Гёте сами суть чудовища: взять Форкиад, страшилищ, таящихся в первозданной Ночи. Они внушают нам тревогу, необходимую для исполнения замысла Гёте. Странно, но единственная современная параллель, приходящая мне в голову, — это затяжной кошмар, с которого начинаются «Вечера в древности» Нормана Мейлера, уносящие нас в мир египетской «Книги мертвых». Эти мрачные страницы — из сильнейших у Мейлера и убедительно передают инаковость его вечеров в древности. Потом в его египетском романе будут оплошности — но смерть, как и блудовство, неизменно «включает» Мейлерово воображение.
Жизнь после смерти давалась Гёте лучше, и его экскурсия по ночным пределам легко превосходит Мейлерову. Она начинается в фессалийском городе Фарсале, где Цезарь разбил Помпея. Колдунью Эрихто, созданную Луканом, Гёте превратил из осквернительницы захоронений в летописицу тщетных сражений. Не желая встречаться со странной троицей — Гомункулом, Фаустом и Мефистофелем, она убегает, а они остаются обследовать тысячу костров, вокруг которых собрались древние боги и чудовища, ожившие на одну ночь в году. Гёте выстраивает свой мифопоэтический контрапункт на таком множестве классических образцов, что видеть направляющий его гений лишь в одном было бы заблуждением — но все же ближайшим его предшественником кажутся «Лягушки» Аристофана. Аристофан пародировал жестоко, особенно Еврипида, но никто во всей истории литературы не пародировал так всеобъемлюще, как Гёте во второй части «Фауста». Причудливый диапазон тональностей начинает складываться, когда Мефистофель наталкивается на Грифов, с которыми лично я ни за что не пожелал бы встретиться. У этих необаятельных зверей, чье предназначение — стеречь сокровища, голова и крылья орла, а туловище и лапы львиные. Пестрые, зоркие, ужасающе стремительные, они — идеальные сторожа, и нрав у них свирепый. Но у Гёте они — просто желчные старые скряги.
Мефистофелю, который величает их «премудрыми стариканами-гривачами», они отвечают, как полоумные редакторы словаря, гремя гортанным «р»:
Не гривачам, а грифам! Очень странно Нам удружил, зачислив в стариканы! Звучанием корней живут слова. В них слышны грамматические свойства. «Грусть», «грыжа», «гроб» приводят нас в расстройство. Мы не желаем этого родства[307].Ни одного читателя не напугает геральдический зверь, произносящий слова:
«Грусть», «грыжа», «гроб» приводят нас в расстройство[308].Когда Гётевы чудовища начинают говорить, даже их скверный нрав внушает нам не больше трепета, чем дурные манеры фантастических созданий из «Алисы в Зазеркалье». В классической Вальпургиевой ночи достаточно ребячества, чтобы превратить любое демоническое существо в очередной гротеск. Так, сфинксы здесь — не привычные гранитные сановитые фигурами с девичьими лицами и львиными туловищами, а говорливые старые рассказчики, по-прежнему, впрочем, загадывающие умные загадки. Легендарные Сирены никого никуда не заманивают и не слишком хорошо поют, а ламии, которым положено быть жуткими вампирами, — всего лишь перетянутые корсетами, накрашенные провинциальные потаскухи, сохранившие, впрочем, способность в чужих объятиях превращаться в нечто весьма неприятное.
Ни одно из Гётевых чудовищ им не умалено; даже в своих гротескных обличьях они сохраняют великолепие и яркость, но нас как-никак представляют Фауст, одержимый мыслью об отсутствующей Елене, и Мефистофель, который злобнее всех, кого встречает. Мы видим глазами Мефистофеля потому, что он единственный из всей троицы ищет не удовлетворения желаний, а ощущений — любых, которые может испытать. Он, разумеется, ничего особенного не испытывает, мыкается без дела, теряется и в конце концов набредает на Гомункула, который ведет его послушать[309] спор двух философов-досократиков, Фалеса и Анаксагора.
Фалес, безмятежный и кажущийся мудрым, утверждает, что вода есть первоэлемент; он не замечает событий Вальпургиевой ночи. Анаксагор, апостол огня, — апокалиптически настроенный революционер наподобие Блейкова Орка или реальных визионеров, вызвавших к жизни Французскую революцию. Анаксагор распростирается на земле, славя Гекату и виня себя в катаклизме, так что пальма первенства явно полагается добродушному, пусть и слишком похожему на Панглосса, Фалесу.
Прежде чем классическая Вальпургиева ночь дотянется через многая трудности до конца, троих наших воздухоплавателей постигнет весьма разная судьба. Мефистофелю, брюзгливейшему из немецких туристов, так и не удастся повеселиться на греческом шабаше ведьм. Фрустрированный коварными ламиями, бедный Дьявол натыкается на по-настоящему омерзительных Форкиад, трех ведьм с одним глазом и одним зубом на троих. Они так уродливы, что Мефистофель не может на них смотреть, но в какой-то момент узнает, что они — его сестры, рожденные, как и он, Ночью и Хаосом. Признав их, он уподобляется одной из трех и в безобразном образе греческой богини покидает Фарсальские поля и отправляется в Спарту дожидаться возвращения Елены.
Тем временем Фауст сходится с Хироном, благожелательным скептиком, который решает излечить его от одержимости Еленой, отвезя к Манто — дочери Эскулапа, прообраза всех врачей. Но она — не рационалист-редукционист, а орфик-романтик, и, узнав в Фаусте нового Орфея, отводит его, как некогда Орфея, к Персефоне, на этот раз чтобы увести от нее Елену, а не Эвридику. Лукавейший Гёте решил не сочинять сцены встречи Фауста с Персефоной, и нам остается воображать ее самим.
Вместо этого Гёте вложил свою творческую силу в историю Гомункула, которому судьба не сулила пережить классическую Вальпургиеву ночь. Стремясь к полноценному существованию вне своей колбы, человечек выдерживает спор Фалеса с Анаксагором, но не выносит из него полезного совета. Вдвоем с благожелательным Фалесом они идут смотреть на прекраснейшее Гётево творение — своего рода барочный водный карнавал с участием Сирен (тут отчасти реабилитирующихся), нереид и тритонов. Мы оставляем Фарсалу с ее чудовищами и оказываемся среди освещенных луной бухт Эгейского моря.
В Самофракии мы попадаем в царство кабиров, причудливых божков, которые «сами себя производят, не зная, / кто они сами»[310]. Гёте не разъясняет, что такое эти несведущие карлики на самом деле — горшки из обожженной глины, превозносимые несведущими учеными, или могучие божества, спасители жертв кораблекрушения. Но, кем бы они ни были, в их честь морские существа устраивают торжественное шествие, и значение имеет именно это художественное действо. Его венец — краса океана Галатея, которую дельфины привозят из ее дома в Пафосе — месте культа Афродиты. Галатея, причина самопреодоления и самоуничтожения Гомункула, в глазах Гёте — образ всецело положительный.
Зато неоднозначен Протей, мастер вводить в заблуждение и уходить от ответа, но в то же время — правдивый прорицатель, знающий все о времени и его тайнах. Насмешник над всеми человеческими устремлениями, этот веселый морской старец отчасти подобен ребенку; по замечательной иронии Гёте, он дает Гомункулу лучшие и в то же время опаснейшие советы о том, как жить и что делать[311]. Бросайся в море, советует Протей, чтобы приобщиться к бесконечному превращению, но не думай достичь человеческого положения. Лучшие из людей, Ахилл и Гектор, попадают в Гадес. Лучше кружиться, как кружится море, принять жизнь без личной смерти, которой подвержен человек.
Слышим ли мы в словах Протея голос постаревшего Гёте — ведь этот поэт на протяжении всей своей жизни переменял душевные обличья? Или Гёте вложил себя в другого философа-пророка, Нерея, который проповедует смирение желаний, но пользуется для этого наречием Эроса? Когда его дочери, дориды, предводительствуемые Галатеей, просят его даровать бессмертие юным матросам, которых они спасли и полюбили, он отказывается, и в его словах отчетливо звучит нажитая Гёте мудрость в чувственных делах: «Когда пройдет (любви) похмелье, / Верните на берег их вновь»[312]. Смирение превозносится вновь, когда Нерей и Галатея, которых, как Лира с Корделией, связывает всепоглощающая отцовско-дочерняя любовь, обмениваются одним взглядом, одним возгласом приветствия и радости — и дельфины уносят Галатею еще на год.
Это восхваление смирения, столь важное для старого Гёте, создает двоякий фон для страсти Гомункула. Утомленный своим замкнутым существованием, алхимический даймон решает, что должен выбирать между огнем, своей родной стихией, и инаковостью воды. Не получив от Нерея внятного руководства к действию, он отправляется верхом на Протее к процессии Галатеи. Мастурбационная кульминация эротического поиска проникнута гётевской иронией. Разлетевшись, Гомункул гибнет у ног Галатеи: «Пылает огонь то сильней, то слабее, / Как будто приливом любви пламенея»[313]. Предмет этой любви — Галатея, бедный же Гомункул остается единственным ее «участником», пока, наконец, его колба не разбивается о трон. Пламя, самая его жизнь, вытекает в волны, в тот же миг преображая их. Сирены запевают, а все прочие морские создания подхватывают торжественный гимн, провозглашая победу Эроса. Гёте, несомненно, согласен с ними, но действо, которым кончается классическая Вальпургиева ночь, означает нечто куда большее, чем смирение. В оккультном изображении отделенного от тела человеческого разума уничтожается рассудок и тем самым отдается очередная дань Эросу. Характерная для Гёте амбивалентность не позволяет нам остановиться на той или иной оценке этой утраты; двоякое отношение старого поэта к его доктрине смирения желаний под конец второй части «Фауста» лишь упрочится.
Я перескочу через три сотни строк второй части, по большей части — чудесных, чтобы сосредоточиться на сцене смерти Фауста и последующей трагикомической борьбе за его душу между Мефистофелем и ангелами. Главное, что потеряется в результате этого неловкого, но неизбежного скачка — гётевская поразительная фантазия о Елене, великолепно-возмутительное перенесение Германии в Грецию. Гёте с обыкновенной для него дерзостью спародировал Гомера и афинские трагедии, чтобы подарить нам одни из самых выдающихся стихов, когда-либо сочиненных: о воскрешении Елены Троянской, о ее союзе с Фаустом, о рождении и гибели их сына Эвфориона и о возвращении Елены в царство теней. Подобно стихам о классической Вальпургиевой ночи и о небесных хорах в финале второй части, стихи о Елене Гёте — контрканонические, немыслимый пересмотр Гомера, Эсхила и Еврипида в том же духе, в котором классическая Вальпургиева ночь выворачивает наизнанку самые основы греческой мифологии, а хоры в финале второй части с диким задором пародируют «Рай» Данте.
Все это было Гёте не в новинку; первая часть «Фауста» — сплошь пародия на Шекспира с отголосками Кальдерона и Мильтона. Я не знаю другого поэта, который бы унаследовал от Западного канона столько, сколько Гёте. Целое шествие, от Гомера до Байрона, вовлекается в «Фауста», опустошается и наполняется вновь — но с тем существенным отличием, которое неизменно придает пародия, даже самая чинная. На протяжении всей этой книги я утверждаю, что произведение, чтобы стать каноническим, должно содержать в себе контрканоническое начало — но едва ли в таком чрезмерном объеме, как у Гёте. Что-то от подхода Гёте было у Ибсена, и «Фауст» пародируется в «Пер Гюнте» наряду с Шекспиром. Другие великие писатели Демократической эпохи, в том числе Уитмен, Дикинсон, Толстой, не пытались собрать воедино всю западную традицию, как это сделал Ибсен. Наш век Хаоса знает варианты Ибсена — все их затмевает Джойс — но у тех, кого можно сравнить по силе с Гёте, не осталось и следа от его почтительного отношения к объекту пародии. Беккет относился к Шекспиру так же, как Джойс, и отчасти как Ибсен, но это было вовсе не гётевское отношение. Курциус в своих «Критических статьях о европейской литературе» цитирует письмо Гёте от 1817 года: «Нам, поэтам-эпигонам, подобает свято чтить наследие наших предков — Гомера, Гесиода, et al. — как книги подлинно канонические; мы преклоняемся пред этими мужами, которых посетил Святой Дух, и не смеем задавать им вопросов».
Это — речь не Ибсена и не Джойса. Курциус верно писал в 1949 году: Гёте ознаменовал собою конец одного из направлений традиции. Возможно, присвоенная мною модель Вико тут не совсем к месту, но если под аристократизмом понимать элитизм духа, гностическое чувство, то Гёте действительно последний великий писатель эпохи, начавшейся с Данте. Чтобы сочинить такой контрканонический эпос, или космологическую драму, как вторая часть «Фауста», нужно быть связанным с каноном такими тесными отношениями, в каких после Гёте никто не имел несчастья (или удовольствия) состоять. Смерть Фауста так берет за душу именно поэтому: умирает нечто большее, чем персонаж по имени Фауст.
Как бы умер Пер Гюнт, реши Ибсен отдать его Пуговичному мастеру? Можем ли мы вообразить смерть Польди Блума? Фаустовский человек, как мы увидим, умирает классической смертью, потому что связь с традицией, в каком бы пародийном или ироническом ключе она ни представала, не была нарушена. После Гёте все, что можно нарушить, нарушалось. И Эмерсон, и Карлейль, и Ницше свято чтили Гёте, и все они понимали, что он, конечно, — завершение. Смерть Фауста — репетиция этого завершения. Фрейд, ища образного выражения для своего терапевтического метода, придумал такое: «Там, где было Оно, должно стать Я». Это намерение — последний замысел Фауста: отвоевать берег, создать Новые Нидерланды.
Перенявший у Гёте его иронию — при всем своем, у Гёте же перенятом, сциентизме — Фрейд понимал то, что только начинает постигать в финале Фауст, а именно «ментальность» обращения вспять: «Там, где есть Я, должно стать Оно». В этом обращении Мефистофель со своими громилами совершает убийство в экологических интересах Фауста, Фауст наподобие Эдипа мечется в раскаянии и гонит прочь Заботу. Отвернувшись от магии, решившись противостоять магии, решившись противостоять самой природе, отвергнув всякую возможность отрешения от мира сего, умирающий Фауст (не знающий, впрочем, что умирает) начинает становиться фрейдовским человеком, принимающим принцип реальности. С этим приятием приходит последняя идеалистическая несбыточная мечта — осушить болото, чтобы там, где было оно, оказался Фауст.
Мефистофель вмешивается, нанося последнее свое оскорбление: зловещие лемуры заменяют рабочих, и слепой Фауст, слыша стук лопат, не знает, что они копают ему могилу, а не выполняют его последний замысел по усовершенствованию природы. Вергилиевские духи ночи и мертвых, лемуры — скелеты, мумии, и они крадут песню могильщика из «Гамлета», копающего могилу Офелии. Фауст облекает свое последнее заблуждение в слова, не согласующиеся с этой зловещей музыкой, стуком лопат, и с гамлетовской меланхолией: «Я высший миг сейчас переживаю»[314]. После этого Фауст падает навзничь на руки лемуров, которые кладут его на землю и закапывают. Если воспользоваться словом самого Фауста, то теперь он закабален, а пари они с Богом проиграли.
Далее начинается жуткая и достославная комедия, приправленная нарочито возмутительным дурновкусием пожилого Гёте. Растревоженный Мефистофель сетует на то, что слово нынче ничего не стоит, и вместе со своими трусливыми дьяволами подвергается бомбардировке ангельскими розами. Отбиваясь в одиночку, оставленный своими меньшими исчадиями ада, злополучный дьявол теряет самообладание: его обуревает навеянная небесами тяга к попкам ангелов. Обольстительные юнцы уносят душу Фауста на небо, и Мефистофель заслуженно корит себя за то, что дал так себя одурачить. Все это — доброе, нечистое веселье, и, возможно, Гёте следовало бы тут и остановиться. Вместо этого он грабит и пародирует «Рай» Данте, создавая всем своим будущим читателям проблему выбора точки зрения. Что нам думать об этом внешне католическом финале совершенно нехристианской драматической поэмы? Блаженные младенцы и ангелы разных чинов — явления одного порядка, но как читателю относиться к небесной батарее, состоящей из Doctor Marianus’a и всех грешниц, ухаживавших за Христом? Вправду ли Фауст пребудет на Дантовых небесах в качестве любящего наставника стайки блаженных младенцев? Не Оскар ли Уайльд сочинил, опередив время, этот финал, или все это — последнее кощунство Гёте, его финальное оскорбление нормативных чувств?
Если читать внимательно, то едва ли последнее видение Гёте вдруг покажется нам христианским. Нет, оно герметично, индивидуально и в высшей степени неортодоксально; но таким же было видение Данте, прежде чем церковь отступила перед его совершенством и канонизировало его. Гёте очень хитро подражает Данте и в то же время превосходит его, возводя на небесный трон не одну лишь свою Беатриче. Даже Doctor Marianus не совсем ортодоксален: в Богоматери он приветствует «Приснодеву, деву-мать, / Госпожу вселенной»[315]. Бедную же Гретхен, каявшуюся на земле и кающуюся на небе, Mater Gloriosa принимает лишь с тем, чтобы та направляла Фауста, когда он двинется за своей возлюбленной в высшие сферы.
Но когда мы слышим раскаяние Фауста? Да, Фауст умирает — но, учитывая, что ему сто лет от роду, — вполне своевременно. Нераскаявшийся, непрощенный, всю жизнь бывший заодно с Дьяволом, он удостаивается моментального спасения, как и приличествует тому, чье имя означает «предпочтенный». Это несправедливо, совсем не по-католически, да и вовсе не по-христиански, если иметь в виду любое хоть немного ортодоксальное христианство. Гёте беззастенчиво подчинил католическую мифологию и Дантовы структуры своей собственной мифопоэтической системе, такой же индивидуальной, как Блейкова, но куда более охотно заигрывающей с внутренними противоречиями, как бы даже приглашающей их. Если Фауст и попадает в высшие сферы, то лишь потому, что его грехи были искуплены в духовном лоне эзотерического гётеанства. Христианство и Христос — лишь одна из мелодий мифопоэтического контрапункта, звучащая под занавес второй части «Фауста».
Заключительные строки — это Гётев чувственный высокий романтизм в чистом виде: «Здесь — заповеданность / Истины всей. / Вечная женственность / Тянет нас к ней». Куда? Фауста тянет к ней не Богоматерь, но Маргарита с Еленой. Гёте тянул к ней величественный ряд Муз, увековеченных в его стихах. Католический колорит финала второй части — не более и не менее чем очередное проявление контрканонического начала в Гётевом пожизненном триумфе языка и личности.
Часть III ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ЭПОХА
10. Каноническая память у раннего Вордсворта и в «Доводах рассудка» Джейн Остен
Некоторые музыковеды утверждают, что Монтеверди, Бах и Стравинский — три величайших новатора в музыкальной истории, хотя утверждение это и остается спорным. В канонической западной поэзии есть, на мой взгляд, всего две подобные фигуры: Петрарка, который создал поэзию Возрождения, и Вордсворт, который, можно сказать, создал современную поэзию, сохраняющую преемственность на протяжении вот уже двух столетий. В терминах Вико — коль скоро я выстраиваю эту книгу с их помощью — с Петрарки началась лирическая поэзия Аристократической эпохи, вершиной которой стал Гёте. Вордсворт благословил (или проклял) западную поэзию Демократической/Хаотической эпох, постановив, что стихи не пишутся «о чем-то». Их предмет — сам субъект, либо присутствующий в тексте, либо отсутствующий в нем.
Петрарка создал поэзию идолопоклонства (по выражению Джона Фреччеро); для Вордсворта, по словам Уильяма Хэзлитта, поэзия была tabula rasa, и он заполнил этот чистый лист своим «я» — точнее сказать, памятью о своем «я». Во второй Теократической эпохе, скорое наступление которой я, вслед за Вико, с тревогой предвижу, поэзия, как мне представляется, отойдет и от аристократического идолопоклонства, и от демократического памятованья, чтобы вернуться к более ограниченной, духовной роли — хотя я не уверен, что предмет поклонения всегда будет называться Богом. Вордсворт, так или иначе, — начало, хотя, как всех великих писателей, его преследовали тени героических предшественников, прежде всего Мильтона и Шекспира.
Может показаться странным, что Вордсворт делит эту главу с Джейн Остен, но Остен, родившаяся на пять лет позже него, была его младшей современницей; и, хотя он и пережил ее на треть столетия, все главные его стихи были сочинены прежде, чем она начала печататься. В центре литературного космоса Остен были ее предшественники на романной стезе — Сэмюэл Ричардсон, Генри Филдинг и доктор Джонсон. У нас нет подтверждений тому, что она читала Вордсворта, — как и тому, что Эмили Дикинсон читала Уитмена; но в поздних романах Остен, главным образом в опубликованном посмертно романе «Доводы рассудка» (1818), ставятся те же проблемы, что и у Вордсворта, поэтому я и решил сопоставить позднюю Остен с ранним Вордсвортом, в первую очередь со следующими тремя стихотворениями: «Старый камберлендский нищий» (1797), «Разрушившийся дом» (1798) и «Майкл» (1800).
Вордсвортовы эпическая «Прелюдия…» и триада великих «кризисных» стихотворений — ода «Отголоски бессмертия…», «Строки, написанные на расстоянии нескольких миль от Тинтернского аббатства…» и «Решимость и независимость» — поэзия более влиятельная и даже более возвышенная. Но в выбранных мною трех стихотворениях есть ужасная пронзительность, которой и сам Вордсворт в других вещах не достигает; с тех пор как я начал стареть, они едва ли не сильнее, чем любые другие стихи, трогают меня своим изящно управляемым пафосом и эстетическим достоинством в изображении частного человеческого страдания. У них есть аура, присущая, кроме ранних вещей Вордсворта, только поздним вещам Толстого и кое-чему у Шекспира, а обыкновенное общечеловеческое горе изображено в них сурово и просто, без примеси всякой идеологии. С наступлением XIX века Вордсворт как поэт стал больше походить на Мильтона, но на пороге тридцатилетия он был шекспирианец: в «Жителях пограничья» переписывал «Отелло», а в нищих, коробейниках, детях и безумцах улавливал что-то от качеств Иова, которые есть в «Короле Лире». Вот необычайный зачин «Старого камберлендского нищего»[316]:
Гуляя, я увидел старого Нищего; Он сидел на обочине дороги На низком приступке из неотесанного камня, Сложенного у подножья высокого холма, чтобы те, Кто ведет своих лошадей вниз по крутой, неровной дороге, Могли без труда снова сесть в седло. Старик Положил свою клюку на широкий, плоский камень, Венчавший кладку; и из мешка, Белого от муки, подаяния деревенских дам, Он вытащил свои объедки и куски, один за другим; И оглядел их пристальным и серьезным взглядом, Неспешно пересчитывая. На солнце, На второй ступеньке этой маленькой кладки, Окруженный этими дикими, безлюдными холмами, Он сидел и ел свою пищу в одиночестве: И, просыпаясь с его дрожащей руки, Которая хоть и пыталась предотвратить растрату, Но не могла, крошки мелким дождем Падали на землю; и горные птички, Еще не осмеливаясь клевать уготованный им корм, Подходили на расстояние половины его клюки.Помнится, когда я писал об этом фрагменте в книге, опубликованной треть столетия назад («Кружок визионеров», 1961), то объявил, что Старый камберлендский нищий отличается от прочих нищих отшельников Вордсворта тем, что не является посредником откровения: он не подталкивает поэта к избранному моменту видения. Теперь мне кажется, что я был слишком юн, чтобы правильно понять этот фрагмент, хотя мне и было чуть больше лет, чем было Вордсворту, когда он его сочинил. Все стихотворение, все примерно двести его строк — это мирское откровение, раскрытие последних вещей. Если существует такое внутренне противоречивое явление, как богооткровенное и в то же время естественное благочестие, то вот оно: старый нищий и горные птички, солнце, освещающее кладку камней, дождь из крошек, просыпающихся с дрожащей руки. Это потому откровение, что являет Вордсворту (и нам) высшую ценность — человеческое достоинство, сохраненное человеком в самом безобразно униженном положении, дряхлым нищим, едва сознающим свое состояние. Под рефрен «И он идет дальше, одинокий Человек», Нищий изображается в стихотворении таким старым и дряхлым, что «…к земле / Обращены его глаза, и, когда он идет, / Они не поднимаются от земли».
Здесь и далее Вордсворт чуть ли не экстатически подчеркивает телесный распад и беспомощность Нищего для того, чтобы в стихотворении еще громче звучала отчаянная мысль о том, что этот старик не должен оказаться в «ДОМЕ, ложно нареченном ТРУДОВЫМ», — протест, предвещающий нападки Диккенса на общество из-за работных домов. Старик «ползет» от двери к двери, представляя собою «память, связующую воедино / Былые благодеяния, о которых больше / Никто не помнит». Вордсворт предоставляет нам выбирать точку зрения: видеть в этом либо гротеск, либо одно из деяний любви[317], либо и то и другое вместе. Точку зрения самого поэта трудно разделить и ею невозможно не восторгаться (с легким содроганием):
Так пусть идет — и да будет он благословен! И, хотя в этом пространном одиночестве, Куда его занесли волны событий, он, кажется, Дышит и живет лишь для себя одного, Необвиненный, нераненый, пусть он разносит Благо, которым милостивый закон Небес Его окружил: и, пока он жив, Пусть он сподвигает неграмотных селян На добрые дела и неспешные раздумья. — Так пусть идет — и да будет он благословен! И, сколько бы ему ни бродить, пусть он дышит Свежестью долин; пусть его кровь Борется с морозным воздухом и зимними снегами; И пусть вольный ветер, дующий по пустошам, Разметывает седые космы по его морщинистому лицу.Для большинства из нас это приемлемо, лишь если воспринимать старика не только как человека, но и как процесс. Вордсворт не останавливается на этом, упиваясь парадоксом — старик должен быть открыт Природе вне зависимости от того, будет он сознавать это или нет:
Пусть он будет свободен от горного одиночества; Окружен — слышным, не слышным ли ему — Приятным пением лесных птиц. Немного у него радостей: если его глаза Так долго были обречены глядеть в землю, Что не без усилия наблюдают Лик солнца на горизонте, Всходящего или садящегося, так пусть хотя бы свет Свободно входит в его усталые глазницы, И пусть он садится, где и когда захочет — Под деревьями или на травянистой Обочине, и с птичками Делит свою случайную пищу; и, наконец, Как на глазах Природы он жил, Так на глазах Природы пусть умрет!В этом возвышенном и своеобразном фрагменте совершается переход от «Пусть он будет свободен» к «пусть умрет»; получается, что величайшая свобода — это свобода страдать и умирать под открытым небом. Задумавшись над этим выводом, испытываешь существенное потрясение — пока не воспринимаешь эту метафору, «глаза Природы», во всей ее полноте и мощи. Речь не идет об одном лишь солнце; метафора не может подлежать лишь чувственному восприятию, потому что слух старик утратил, а видит лишь землю под своими ногами. Казалось бы, превозносить волю старика — невозможно, но тем не менее Вордсворт именно это и делает, пусть даже воля эта проявляется только в том, что Нищий сам решает, где и когда ему отдыхать и есть. У раннего Вордсворта все это обдуманно: человеческое достоинство неразрушимо, воля тверда, глаза Природы смотрят на тебя с рождения до смерти. Не рискуя показаться сентиментальным, поэт доходит почти до жестокости в своем стремлении к естественному благочестию, которое граничит со сверхъестественным. Вордсвортову самобытность трудно переоценить: инаковость сознания поэта — вот главный образ этого стихотворения, и именно об этой инаковости я вот уже тридцать три года думаю всякий раз, когда мне на память приходит «Старый камберлендский нищий». В жутковатых стихах о старости Роберта Фроста и Уоллеса Стивенса — у Фроста, например, в «Зимней ночи старика», у Стивенса в «Длинных вялых строчках» — есть кое-что от Вордсвортовой инаковости, но нет всех ее отзвуков.
Большинство читателей знают «Разрушившийся дом», рассказ Вордсворта о Маргарет, по окончательной, исправленной редакции, которая стала первой книгой «Прогулки» (1814) — поэмы, в которой все, что не относится к бедной Маргарет, безжизненно и длинно. Вордсворт работал над «Разрушившимся домом» с 1797 года; лучшая его редакция — определенно та, что известна исследователям как «Рукопись D» (1798), теперь легко доступная и в оксфордской, и нортоновской антологиях английской литературы; этим текстом я и буду пользоваться. Главным почитателем этого стихотворения остается его первый поклонник, Сэмюэл Тэйлор Кольридж, желавший отделить его от «Прогулки», вернув тем самым к самостоятельному бытию как одно из прекраснейших стихотворений, написанных по-английски. «Разрушившийся дом» двести лет спустя остается неподражаемо красивым и почти невыносимо пронзительным. В англо-американском литературоведении материалистского и новоистористского разлива — странной смеси Маркса и Фуко — нынче модно клеймить Вордсворта за то, что он, в юности выступавший в поддержку Французской революции, впоследствии утратил политическую сознательность. К 1797 году Вордсворт преодолел затяжной идейный и душевный кризис и перестал призывать в своих стихах к политическому излечению социальных язв. «Старый камберлендский нищий», «Разрушившийся дом», «Майкл» и другие стихотворения Вордсворта, в которых описываются страдания представителей низших классов английского общества, — это шедевры сострадания и глубокого чувства, и лишь верхогляд-идеолог забракует их на политических основаниях. Новому племени академических моралистов следует поразмыслить над тем, как относились к Вордсвортовым стихам Шелли, который по политическим взглядам был Троцким своего времени, и радикалы вроде Хэзлитта и Китса. Шелли, Хэзлитт и Китс превосходно сознавали, что гений Вордсворта чудесно учит сочувствию попавшим в любую беду. Умей наши академические комиссары читать, Вордсворт мог бы сделать их человечнее, в чем и состоит великая задача его стихотворений вроде «Разрушившегося дома».
Историю Маргарет рассказывает Вордсворту старый коробейник, друг поэта, там, где стоит разрушившийся дом: «четыре голые стены / Глядели друг на друга», тут же «одичавший садик». Однажды служивший домом Маргарет, ее мужу Роберту и двоим их маленьким детям, он пришел в запустение. Путник (так он называется в «Прогулке», так я буду называть его и здесь) скорбит на развалинах о личной утрате — они с Маргарет любили друг друга, как отец с дочерью. Остановившись напиться воды у бывшего ключа Маргарет, Путник прямо обращается к своей утрате:
Когда я остановился напиться, Паутина свисала к самой воде, А на мокром и скользком камне лежал Бесполезный обломок деревянного ковша. И сердце мое сжалось.Сильная, но стоически сдержанная печаль уступает место живописному изъявлению отцовского горя, по своим достоинству и накалу вполне библейскому, как и подобает Путнику, фигуре патриархальной. (Слово «патриархальный» в наших университетах сейчас воспринимается так негативно, что я спешу пояснить, что употребляю его в контексте того, что в иудейской традиции называется «поучениями отцов», в особенности Авраама и Иакова.) Мы слышим разом и плач по Маргарет, и славословия ей:
Бывали дни, Когда я не мог пройти этой дорогой, чтобы она, Та, кто жила в этих стенах, при моем появлении Не приветствовала бы меня, как дочь, и я любил ее Как свое дитя. Ах, сэр, хорошие люди умирают первыми, А те, чьи сердца сухи, как летняя пыль, Живут два века. Множество прохожих Радовались милому личику бедной Маргарет, Когда та давала им освежиться водой Из этого забытого ключа, и каждый, кто приходил, Как будто был желанный гость, и каждый, кто уходил, Как будто ею был любим. Она мертва, Червь на ее щеке, и эта бедная лачуга, Лишенная наряда из цветов, Из роз и шиповника, отдает ветрам Холодную голую стену, заросшую Сорняками и буйным пыреем. Она мертва, И крапива гниет, и гадюки греются на солнце Там, где мы сидели с нею вдвоем, и она давала Ребенку грудь. Неподкованный жеребчик, Приблудная телка и осел гончара Теперь укрываются за стеной с трубой, Где я смотрел, как горит ее вечерний очаг, Через окно бросая на дорогу Свой веселый свет. Простите меня, сэр, Но я часто задумываюсь, глядя на этот дом, Как на картину, пока мой здравый ум Не тонет, уступив глупой скорби.У Вордсворта хватает величавых, пробирающих до глубины души стихов, но немногие звучат так сурово, как эти:
Ах, сэр, хорошие люди умирают первыми, А те, чьи сердца сухи, как летняя пыль, Живут два века.Эти строки врезались в память Шелли и стали эпиграфом к его длинному стихотворению «Аластор»[318] — скрыто обернувшись против самого Вордсворта, поэтического отца Шелли. В «Разрушившемся доме» они служат эпитафией Маргарет, безвременно умирающей от своей добродетели, от мощи своей надежды: это лучшая ее черта, она питается ее памятью о добродетели, о том, как они с мужем и детьми жили, пока не случилось несчастье.
Неурожаи, экономика военного времени, нужда, отчаяние гонят мужа Маргарет из дома, и ее неизменная воля к надежде на его возвращение делается страстью, разрушающей ее саму и ее хозяйство. Во всей западной литературе я не встречал такого, как у Вордсворта, осознания того, что апокалиптическая мощь надежды, черпающей силы в благостных воспоминаниях, делается опаснее всякого отчаяния. Возможно, Лир умирает, сокрушенный безумной надеждой на то, что Корделия жива, а не здравым отчаянием, вызванным ее смертью; но Шекспира, кажется, эта неопределенность не смущала. Бедный Мальволио из «Двенадцатой ночи», павший жертвой жестокого розыгрыша, становится персонажем грубого фарса из-за силы своих нелепых надежд, эротических и социальных. Это — несовершенные подобия того, что Вордсворт взялся изобразить в «Разрушившимся доме» и в других своих вещах. Вордсворт сделал свой частный миф о памяти каноническим благодаря пугающему открытию опасностей надежды, которая способна разрушить в нас природное начало. Надежда Маргарет больше ее самой и больше большинства из нас.
Можно было бы предположить, что надежда Маргарет — это обмирщенная протестантская надежда, функция протестантской воли. Эта воля держалась на сознании достоинства отдельно взятой человеческой души и связанном с ним праве выносить собственные суждения в духовной сфере, в том числе на вере в существование внутреннего света, который позволяет каждому самостоятельно читать и толковать Библию. Я сомневаюсь, что в высокой литературе когда бы то ни было происходило обмирщение. Называть сочинение значительной литературной силы религиозным или светским — решение политическое, а не эстетическое. Маргарет трагична оттого, что ее губит лучшее в ней: надежда, память, вера, любовь. Ее протестантский дух, как и проявления протестантской воли героинями Джейн Остен, можно относить к сфере религиозного, а можно — к сфере светского, но это решение скажет больше о вас, чем о «Разрушившемся доме» и «Доводах рассудка». То, что по-настоящему существенно в случае Маргарет, — явление того же порядка, что и причина, по которой нас так трогает отношение Вордсворта к Старому камберлендскому нищему и величественное, заветное страдание старого пастуха в «Майкле», стихотворении, названном его именем.
В своей шекспировской по духу пьесе «Жители пограничья» (1795–1796), которую если и можно назвать успехом, то в лучшем случае относительным, Вордсворт, как ни странно, доверил Освальду — Яго этой драмы — несколько исключительных строк, в которых целиком излагается вордсвортовское раннее творческое кредо. В разговоре с героем, отеллоподобной жертвой своего коварства, Освальд преодолевает границы ситуации, пьесы и своего собственного мировоззрения в яковианском порыве, который Шекспир с радостью бы присвоил:
Деянье преходяще — шаг, удар, Движенье мускула — туда, сюда — Готово, и затем мы, растерявшись, Удивлены — как преданы — собою: Страданье постоянно, смутно, темно, Одной природы с вечностью оно.Шекспир, вероятно, нашел бы, что эти строки больше подходят Макбету, чем Яго, но скрытый в них нигилизм к лицу обоим этим героическим злодеям, а также Эдмунду. Вордсворт не принял бы мою ассоциацию этих строк с его изображениями страдания невинных, но поэтическая сила его раннего творчества имеет мало общего с утешением или поисками смысла в горе. «Разрушившийся дом» — потому такое душераздирающее чтение, что не рассчитано на то, чтобы утешать; сравни кульминацию рассказа о Маргарет:
Тем временем ее бедная лачуга Пришла в упадок; ибо не было того, чья рука, Как только начинал покусывать октябрьский морозец, Заделывала каждую щель, и свежею соломой Прокладывал зеленую кровлю. И так она жила Всю долгую зиму, беспечная и одинокая, Пока этот мороз, оттепель, дождь не попортили Этот обездоленный дом; и, когда она спала, ночная сырость Холодила ей грудь, и в грозовой день Ветер трепал ее обветшавшее платье, Даже когда она сидела у огня. Но все равно Она любила это злосчастное место и ни за что на свете Не ушла бы оттуда; все равно эта дорога, Эта грубая скамья, одна мучительная, дорогая надежда Укоренились в ее сердце. И тут, мой друг, Она оставалась в болезни; и тут она умерла, Последний человек, обитавший в этих разрушившихся стенах.Как и Старый камберлендский нищий, Маргарет умирает под взглядом Природы, открытая суровым ветрам. Величие стихотворения сосредоточено в сильной реакции Вордсворта на рассказ Путника о Маргарет:
Старик замолчал: он видел, что я тронут. Безотчетно встав с этой низкой скамьи, Я отвернулся, ослабев, не имея сил И поблагодарить его за рассказ. Я стоял, и, опершись на садовую калитку, Думал о страданиях этой Женщины, и это словно Утешило меня, когда я с братской любовью Благословил ее в бессилии скорби.Это не библейское благословение: библейское обещало продолжение жизни, длящихся поколений, а какое благословение может дать «бессилие скорби», сказать трудно. Вордсворт — поэт настолько самобытный, что не боится оксюморона «бессильное благословение», хотя и понимает, что в нем видится противоречие. «Жители пограничья» — вещь шекспирианская, а «Прелюдия…» — мильтонианская, но таких странных, обнаженных стихов, как «Старый камберлендский нищий» и «Разрушившийся дом», до Вордсворта не было. Мысль о разрушительности надежды тревожила Вордсворта беспрестанно, и нас до сих пор приводит в замешательство необходимость истолковывать столь антитетическую гибель.
То, что Вордсворт создал современную, или демократическую, поэзию, столь же очевидно, как и то, что поэзия Возрождения началась с Петрарки. Даже на сильнейших и самобытнейших поэтов всегда падает тень: Петрарку преследовал Данте, а Вордсворт на главном этапе своего творчества не мог уйти от Мильтона. Пророчество Вико вновь нас вразумляет; в Теократическую эпоху воспевают богов, в Аристократическую славят героев, в Демократическую скорбят по людям и ценят их. Для Вико не существовало Хаотической эпохи — только Хаос, от которого будут искать убежища в другой Теократической эпохе. Мне кажется, что наш век взлелеял хаос, отдаляя (подальше бы!) наступление новой Теократической эры. После богов, героев и людей могут быть только киборги, и я завороженно и встревожено наблюдаю за тем, как теснят людей мускулистые Терминаторы. Вообще, «Разрушившийся дом» — очень мрачное стихотворение, но нынче, в 1990-е годы, в нем звучит благодатное утешение, человеческий голос, который возвысили против хаоса и бегства в теократическую жестоковыйность.
Чего Вордсворт мог добиваться для себя как для поэта, сочиняя «Разрушившийся дом»? Я видоизменил вопрос, который учил нас всегда задавать Кеннет Бёрк: чего писатель добивался для себя как человека, сочиняя это стихотворение, эту пьесу, этот рассказ? Как поэт, Вордсворт хотел создать вкус, сообразно с которым он мог бы быть оценен[319], ибо никто другой из первых писателей, даже Данте, не намеревался столь решительно универсализировать свой в высшей степени индивидуальный темперамент. Вордсвортов дух принимал и человеческую, и природную инаковость так, как не принимал ее, наверное, дух ни одного другого поэта — ни до, ни после него. Хэзлитт превосходно выразил эту истину, сравнивая Вордсворта с Байроном в 1828 году, спустя четыре года после гибели Байрона и много лет после того, как к Вордсворту пришла его жуткая поэтическая дряхлость (тянувшаяся с 1807 года по 1850-й — самое долгое в истории умирание первостепенного поэтического гения). Задав проницательный и язвительный вопрос о покойном лорде Байроне («Неужто ему, так гордившемуся своей родословной, не любопытно было изучить геральдику ума?»), Хэзлитт противопоставляет друг другу Байрона и Вордсворта, которому Байрон неизменно предпочитал Поупа: «Автор „Лирических баллад“ описывает лишайник на камнях и увядший папоротник, чувствуя при этом нечто особенное; автор „Чайльд-Гарольда“ описывает статный кипарис или рухнувшую колонну, чувствуя при этом то же, что и любой школяр»[320].
В основе «Старого камберлендского нищего» и «Разрушившегося дома» — весьма особенные чувства, с трудом поддающиеся переводу на привычный нам язык. Уникальность Вордсворта в том, что он превратил эти причудливые чувства в общедоступные стихи; к чему-то подобному стремился поздний Толстой. Правильность позволения древнему нищему умереть так, как он жил, на глазах Природы; ужасающий пафос Маргарет, доброй и славной крестьянки, уничтоженной силой памяти и надежды, — все это доступно всякому человеческому сознанию вне зависимости от пола, расы, класса, идеологии. Клеймить Вордсворта за то, что он не выражал в своих стихах политического и социального протеста, или за то, что он отрекся от революции, — значит перейти последнюю грань, отделяющую от академического чванства и морального самодовольства. За этой гранью нам будет нужен новый Диккенс, чтобы изображать ханжество, и новый Ницше, чтобы наблюдать человека ресентимента, чья «душа косит».
«Майкл» (1800) — великая Вордсвортова пастораль и архетип лучших и наиболее характерных стихотворений того рода, который ассоциируется у нас с Робертом Фростом. Создатель «Смерти батрака» тоже умел изображать изначальный человеческий пафос, но не так, как Вордсворт, подступивший к границам искусства поближе самого Яхвиста. Вордсвортов Майкл, библейский патриарх, в свои восемьдесят лет не утративший силы и деятельности, — пастух, знающий, «что несет с собою каждый ветер, / Любой его порыв»[321]. Бури заставляли его идти на склоны гор выручать свои отары, и он достопамятно возносился в своем одиночестве: «…и сколько раз он / Один бывал там в самом сердце мглы, / И чередой неслись над ним туманы»[322].
Его единственный ребенок, позднышок Люк, подготовленный им в пастухи, — смысл жизни своего отца. Нужда заставляет его отослать юношу к родственнику в город, на заработки. Пересказывать таким образом сюжет этого стихотворения — значит открывать дверь сатире в духе моего любимого кинофильма, демонического «Рокового стакана пива» по сценарию У. К. Филдса, в котором сын героя Филдса, злополучный Честер, отправляется в город, и студенты колледжа соблазняют его выпить роковой стакан пива. Немедленно захмелевший Честер ломает бубен девушки из Армии спасения — исправившейся танцовщицы из кордебалета. Глубоко оскорбившись, та прибегает к своему опыту и лишает Честера сознания одним танцевальным взмахом ноги. Это происшествие с неизбежностью доводит Честера до преступной жизни и, в итоге, до кончины на руках Папаши и Мамаши Снейвли, или героя У. К. Филдса и его супруги. Люк недалеко ушел от Честера, но возвышенный Майкл просит Люка перед отбытием положить первый камень загона, достраивать который отцу придется уже в отсутствие юноши, в знак завета между ними. Когда юноша, отпав от добродетели, бежит в далекую страну, нам остается запоминающееся зрелище скорби и в то же время — винящей силы:
Есть утешенье в стойкости любви. Выносим с нею легче мы несчастья, Что нам иначе бы затмили разум Или разбили сердце на куски. Мне многих довелось встречать из тех, Кто помнил старика и знал, как жил он Еще и годы после той беды. Он до последних дней сберег свою Недюжинную силу — и, как прежде, Шагал по кручам, зорко примечал, Что солнце, ветр и облака сулили, — Все те же повседневные заботы Об овцах, о своем клочке земли. А то, бывало, побредет в ущелье, К ручью — загон свой строить. И тогда От жалости у всех щемило сердце — Он приходил к ручью, садился там И камней даже пальцем не касался[323].Последней строкой этого фрагмента восхищался еще Мэтью Арнольд и продолжают восхищаться вордсвортианцы, переживающие нынешний упадок академического мира; это замечательная строка, но я предпочитаю ей заключительные стихи, бросающие вызов нашей памяти с помощью одного-единственного дуба:
Сидел он там на берегу потока Один как перст или с собакой верной, Что смирно у его лежала ног. Семь долгих лет загон он строил свой И умер, так его и не достроив. Лишь на три года с небольшим жена Его пережила; потом надел Был продан — перешел в чужие руки. Дом, что Вечернюю Звездою звали, Исчез с лица земли, и плуг прошелся По месту, на котором он стоял. И многое кругом переменилось. Но дуб, что рос пред домом их, и ныне Шумит, и громоздится камней груда — Развалины овечьего загона — В ущелье Гринхед, где гремит поток[324].Когда я был моложе, то считал, что воспоминания поровну делятся на приятные и болезненные. Я думал, что помню наизусть стихотворения, которым больше всего подходит определение «нельзя было сказать иначе», и в то же время самые восхитительные как заклинания. С приходом пожилого возраста я начал соглашаться с Ницше, который отождествлял запоминающееся с болезненным. Наслаждение из разряда трудных может причинять боль, и Вордсворт, как мне теперь кажется, это ясно понимал. К Вордсвортову сострадательному воображению идет прямой путь от протестантской воли, и этим отчасти объясняется удивительное сродство между стихами Вордсворта и «Доводами рассудка» Остен, которое я рассмотрю в этой главе. Завет Майкла (с природой — нерушимый, но Люком нарушенный) есть проявление протестантской воли, стремящейся доминировать над воспоминаниями. Ее символы в финале «Майкла» — одинокий дуб и неотесанные камни недостроенного загона.
Вордсворт, в отличие от Остен (которая была пережитком прошлого), не благоволил к счастливым развязкам, поскольку у него брачная метафора относится скорее к согласию между тем, что он называет «природой», и его «пытливым умом»[325], чем к союзу между мужчиной и женщиной. У Вордсворта природа — великий увещеватель, убеждающий нас, что реальная утрата приносит художественную прибыль. Прибыль в «Старом камберлендском нищем» — превозношение, с которым нелегко свыкнуться, но которое при этом нелегко забыть. «Разрушившийся дом» кончается благословением, которое сплошь утрата, но которое пугающим образом запоминается. «Майкл» тоже кончается картиной совершенной утраты.
Мрачные, но возвышенные пасторали Вордсворта дают нам каноническую память — «каноническую» потому, что Вордсворт уже произвел для нас отбор. Он берет на себя роль эдакого Гермеса, учащего, что и как следует помнить[326], — не затем, чтобы мы спаслись или стали мудрее в делах практических, но затем, что лишь миф о памяти может возместить нам наши реальные утраты. Его урок, будучи усвоен, сделался каноническим: он дошел до Джордж Элиот, до Пруста (через посредника — Рескина) и до Беккета, в чьей «Последней ленте Крэппа» можно увидеть Вордсвортов последний рубеж. Он и сейчас с нами, даже в нынешние дурные времена, когда канонической памяти угрожают воинственное морализаторство и ученое невежество.
Слово «persuasion»[327] произошло от латинского слова, означающего «уверять, внушать», убеждать, что тот или иной поступок следует или не следует совершать. Оно восходит к корню, означающему «сладкий», «приятный», поэтому в желательности совершения или несовершения поступка есть оттенок скорее вкусового, нежели морального суждения. Джейн Остен вынесла его в заглавие своего последнего оконченного романа. Заглавие это больше напоминает «Чувство и чувствительность» с «Гордостью и предубеждением», чем «Эмму» с «Мэнсфилд-парком». Перед нами — не человеческое имя и не название поместья, а отвлеченное понятие, в данном случае одно. Это название в первую очередь отсылает к доводам, которые приводит леди Рассел, крестная девятнадцатилетней героини романа, Энн Эллиот, убеждая последнюю не выходить замуж за молодого флотского офицера, капитана Фредерика Уэнтуорта. Как выясняется, то был очень дурной совет, и спустя восемь лет Энн и капитан Уэнтуорт исправляют положение. Как и во всех прочих иронических комедиях Остен, для героини все кончается хорошо. Тем не менее всякий раз, когда я перечитываю этот превосходный роман, мне делается очень грустно.
Кажется, это не личная моя причуда; когда я спрашиваю своих друзей и студентов, что они думают об этой книге, они часто упоминают о грусти, которую в них тоже вызывает этот роман — даже вернее, чем «Мэнсфилд-парк». Энн Эллиот, неброско красноречивое создание, — персонаж, полагающийся на свои силы, отнюдь не вызывающий жалости, и уверенность в себе ей никогда не изменяет. Не ее грусть мы испытываем, дочитывая книгу: нас впечатляет сумрачность самого романа. Эта грусть обогащает, я бы сказал, каноническую убедительность этого романа, тот способ, которым он демонстрирует нам свои выдающиеся художественные отличия.
Среди романов «Доводы рассудка» — то же, что среди романных персонажей Энн Эллиот: это сильный, но сдержанный одиночка. Ни эту книгу, ни ее героиню нельзя назвать яркой или бодрой; в Элизабет Беннет из «Гордости и предубеждения» и Эмме Вудхаус из «Эммы» есть живость, которой Энн Эллиот на первый взгляд недостает. Возможно, Остен имела в виду именно это, говоря, что Энн едва ли не слишком хороша для нее. Действительно, Энн едва ли не слишком тонка для нас — но не для Уэнтуорта, каким-то колдовским образом настраивающегося на одну с нею волну. Джульетт Макмастер отмечает «некое неявное общение, которое постоянно происходит между Энн Эллиот и капитаном Уэнтуортом; притом что они редко разговаривают друг с другом, они лучше понимают всю суть того, что говорит он или она, чем их собеседники».
Это общение в «Доводах рассудка» держится на глубокой «приязни»: это слово Остен предпочитает слову «любовь»[328]. У Остен взаимная «приязнь» мужчины и женщины — чувство более сильное и продолжительное. Я думаю, не будет преувеличением сказать, что Энн Эллиот, при всей своей скромности, — это создание, к которому сама Остен испытывала самую сильную приязнь, поскольку она осыпала Энн тем, чем была одарена сама. Генри Джеймс утверждал, что писатель должен быть настолько чувствителен, чтобы не упускать вообще ничего; по такому счету (судить которым можно далеко не каждого) из английских авторов лишь Остен, Джордж Элиот и сам Джеймс входят в весьма маломестный пантеон наряду со Стендалем, Флобером и Толстым. Очень может быть, что Энн Эллиот — единственный персонаж художественной прозы, который ничего не упускает, хотя превратиться в писателя ей и не грозит. Самая точная известная мне оценка Энн Эллиот принадлежит Стюарту Тейву:
Никто не видит Энн и никто ее не слышит, но именно она постоянно находится в центре внимания. Именно ее уши, глаза и ум делают нас неравнодушными к происходящему. На нее никто особенно не обращает внимания — но она очень даже обращает внимание на всех вокруг и понимает, что с ними происходит, когда сами они пребывают в неведении на свой счет… она читает в уме Уэнтуорта и видит неприятности, которые он причинит другим и себе, прежде чем их последствия осведомляют о них его самого.
Эстетические опасности, сопровождающие такое совершенство, видны невооруженным глазом: как писателю сделать такого персонажа убедительным? Польди из Джойсова «Улисса» подавляюще убедителен оттого, что он исключительно цельный человек; в том, чтобы этого добиться, заключалось главное намерение Джойса. Ироническая манера Остен не допускает изображения целостности: мы не сопровождаем ее персонажей в спальню, в кухню, в уборную. То, что Остен пародирует в «Чувстве и чувствительности», в «Доводах рассудка» достигает апофеоза: это возвышенность частной, внутренне обособленной чувствительности. Энн Эллиот — не единственная героиня Остен, наделенная душевной чуткостью. От прочих ее отличает та почти сверхъестественная проницательность, с которой она воспринимает других и себя; несомненно, это свойство в наибольшей мере выделяет саму Остен как писательницу. Энн Эллиот для книги Остен — то же, что Розалинда для шекспировской «Как вам это понравится»: персонаж, который добивается почти такого видения, какое может быть доступно лишь автору романа или пьесы — в противном случае роман или пьеса утратит весь драматизм. К. Л. Барбер выделил это ограничение:
Драматург сначала показывает нам что-то одно и в отведенное этому чему-то время воплощает его во всей полноте; его персонажи доходят до крайностей, как комических, так и серьезных; и ни один персонаж, даже подобный Розалинде, не может видеть всю пьесу насквозь и таким образом быть совершенно уравновешенным, потому что иначе пьеса перестала бы быть драматической.
Мне приятно повернуть мысль Барбера в другом направлении: о Розалинде и Энн Эллиот можно даже с большим основанием, чем о Гамлете, или Фальстафе, или Элизабет Беннет, или Фанни Прайс из «Мэнсфилд-парка», сказать, что они почти совершенно уравновешены, практически способны видеть всю пьесу и весь роман насквозь. Их уравновешенность не преодолевает полностью ограниченности точек зрения, но ум Розалинды и чувствительность Энн, сдержанные, лишенные как излишней воинственности, так и оборонительности, позволяют им разделять со своими создателями больше уравновешенности, чем когда-либо удастся разделить нам.
У Остен драматическое напряжение никогда не спадает; мы делим с Энн ее тревоги насчет возродившихся намерений Уэнтуорта до самого конца романа. Но мы полагаемся на Энн так же, как нам следует полагаться на Розалинду: исследователи увидели бы гнильцу в Оселке так же ясно, как они видят суетность Жака, если бы больше доверяли мнениям Розалинды о других персонажах пьесы и о себе самой. В мнениях Энн Эллиот есть та же обаятельная вескость; мы должны стараться придавать ее словам значение, которого другие люди в романе, если не считать Уэнтуорта, им не придают.
Мысль Стюарта Тейва, как и мысль Барбера, будет верна, даже если развернуть ее в другом направлении; ирония Остен — очень шекспировская. Даже читатель обязательно ошибется и поначалу будет недооценивать Энн Эллиот. Умом Элизабет Беннет или Розалинды проще проникнуться, чем безошибочной чувствительностью Энн Эллиот. Тайна ее характера — в сочетании иронии Остен с вордсвортовской идеей продленной надежды. Остен была щедро наделена несравненным шекспировским умением являть нам людей — что на первых ролях, что на вторых, — каждый из которых обладает абсолютно законченной речевой характеристикой и при этом полностью отличается от других. Энн Эллиот — последняя у Остен героиня протестантской воли (так, мне кажется, это нужно называть), но в ней эта воля изменена — возможно, к лучшему — чувством, идущим ей на смену: романтическим сострадательным воображением, пророком которого, как мы видели, был Вордсворт. Возможно, именно благодаря этому Энн стала таким сложным и чувствительным персонажем.
Более ранние героини Джейн Остен (их типичная представительница — Элизабет Беннет) проявляли протестантскую волю как прямые потомки ричардсоновской Клариссы Харлоу; где-то там же моральным ориентиром реял доктор Сэмюэл Джонсон. Марксистское литературоведение с неизбежностью рассматривает протестантскую волю, даже в литературных ее выражениях, как явление рыночное, и в моду вошли разговоры о социоэкономических обстоятельствах, которые Остен опускает, — вроде рабства в Вест-Индии, одной из основ финансового благосостояния большинства ее персонажей. Но все состоявшиеся литературные сочинения зиждутся на опущениях, и еще никто не доказал, что повышенное внимание к взаимоотношениям культуры с империализмом хотя бы самую малость помогает учиться читать «Мэнсфилд-парк». В финале «Доводов рассудка» Остен отдает дань британскому флоту, на котором Уэнтворт занимает почетное место. Определенно, Уэнтуорт на море, приказывающий всыпать очередную порцию воспитательных горячих, не так мил, как Уэнтуорт на суше, тихо наслаждающийся радостями взаимной приязни к Энн Эллиот. Но опять же, творчество Остен — это великое искусство, которое зиждется на опущениях, и отталкивающие обстоятельства британского морского владычества имеют не больше отношения к «Доводам рассудка», чем невольничество в Вест-Индии — к «Мэнсфилд-парку». Вот прагматические, мирские следствия протестантской воли занимали Остен чрезвычайно — и мне кажется, что для понимания героинь ее романов они важнее всего.
Посредством Шекспировой самоуглубленности, достигшей апогея в Энн Эллиот, Остен перерабатывает нравственный накал обмирщенного протестантского мученичества Клариссы Харлоу, ее медленное умирание после того, как ее обесчестил Лавлейс. Кларисса утрачивает волю к жизни под воздействием более сильной воли к сохранению цельности своей натуры. Уступить раскаявшемуся Лавлейсу, выйдя за него замуж, означало бы для нее поступиться самой сутью своей натуры, своей возвышенной поруганной волей. То, что в «Клариссе» — трагедия, Остен обращает в ироническую комедию, но волю к сохранению себя эта метаморфоза почти не меняет. В «Доводах рассудка» акцент делается на взаимоуважении: мужчина и женщина высоко оценивают друг друга. Разумеется, соображения внешнего порядка, касающиеся состоятельности, земельной собственности, положения в обществе тут очень важны, но столь же важны соображения внутреннего порядка, касающиеся здравого смысла, доброжелательности, культуры, ума и приязни. В каком-то смысле (мне, как отчаянному эмерсонианцу, больно это говорить) Ральф Уолдо Эмерсон предвосхитил современный марксистский подход к Остен, обругав ее конформисткой, не позволявшей своим героиням достичь подлинной духовной свободы от общественных установлений. Но он не понял Джейн Остен, которая сознавала, что предназначение установлений в том, чтобы дать свободу воле, пусть даже установления и склонны губить индивидуальность, без которой воля не имеет значения.
Главнейшие героини Остен — Элизабет, Эмма, Фанни и Энн — обладают такой внутренней свободой, что подавить их индивидуальность невозможно. Как романистка, Остен умеет не слишком беспокоиться насчет социально-экономического происхождения этой внутренней свободы, хотя в «Мэнсфилд-парке» и «Доводах рассудка» уровень тревоги несколько повышается. У Остен ирония делается инструментом изобретательности, которую доктор Джонсон назвал сутью поэзии. Идея внутренней свободы, основанной на готовности принять уважение лишь от того, кого уважаешь сам, есть идея в высочайшей степени ироническая. Наверное, лучшая комическая сцена у Остен — та, в которой Элизабет отклоняет первое предложение Дарси; в ней ирония диалектики воли и уважения приближается к едва ли не возмутительной. Этот высокий комизм, перешедший в «Эмму», был несколько обуздан в «Мэнсфилд-парке» и превратился в нечто новое, явственное, но трудноопределимое, в «Доводах рассудка», где Остен проявила себя таким сознательным мастером, что, кажется, изменила саму природу воления — как будто и его можно было бы убеждением превратить в более редкое, более бескорыстное действие человеческого «я».
Никто не утверждает, что в «Доводах рассудка» Джейн Остен превратилась в романтика; ее поэтом всегда оставался Уильям Купер, а не Вордсворт, а любимым прозаиком всегда был доктор Джонсон. Но ее суровое недоверие к воображению и «романтической любви», преобладающее в ранних романах, в «Доводах рассудка» роли не играет. Энн с Уэнтуортом сохраняют приязнь друг к другу на протяжении восьми лет безнадежной разлуки, и обоим достает силы воображения, чтобы представлять себе торжественное воссоединение. Это — материал романтического, а не иронического романа. Ирония в «Доводах рассудка» зачастую язвительна, но она почти никогда не направляется на Энн и крайне редко направляется на капитана Уэнтуорта.
Подавление характерной для Остен иронии в отношении своих героев состоит в сложном отношении с некоей прежде неслыханной скорбной нотой, звучащей в «Доводах рассудка». Энн, при всей ее вере в себя, весьма тревожит мысль (выразить которую она ни разу себе не позволяет) о непрожитой жизни, в которой возможные утраты не ограничиваются сексуальной неудовлетворенностью (хотя и включают ее). На моей памяти лишь одна исследовательница, австралийка Энн Молан, подчеркнула то, что у Остен недвусмысленно подразумевается: «Энн… страстная женщина. И ее сердце, вопреки ее воле, не перестает требовать удовлетворения». Восемью годами раньше Энн отказала Уэнтуорту в уважении и теперь испытывает необходимость сдерживать свою волю — становясь таким образом первой героиней Остен, чьи воля и воображение противопоставлены друг другу.
Явные узы родства связывали Остен с Аристократической эпохой, но ее подлинная писательская сущность, как видно по «Доводам рассудка», с головой увлекла ее в расцветавшую Демократическую эпоху, которую мы привыкли называть романтизмом. В душе Энн Эллиот, как и в душе Остен, не идет гражданской войны; зато там поселяется грусть, вызванная тем, что в ее «я» случился раскол и память в союзе с воображением выступила против воли. Почти вордсвортовскую силу памяти и Энн, и Уэнтуорта отмечал Джин Руофф. Поскольку Остен стала писательницей отнюдь не случайно, мы вправе спросить, отчего она положила в основу «Доводов рассудка» взаимную ностальгию. Ведь отвергнутый Уэнтуорт проявляет еще меньше воли к возобновлению приязни, чем Энн, и все-таки сплав памяти с воображением торжествует над его волей тоже. Было ли это вызвано расслаблением воли самой Джейн Остен? Она вернулась к своей прежней манере в «Сэндитоне», неоконченном романе, за который взялась, дописав «Доводы рассудка», и поэтому не исключено, что история Энн Эллиот была для писательницы отклонением от курса или данной себе поблажкой. Параллели между стихами Вордсворта и «Доводами рассудка» умеренны, но реальны. Высоко-романтический английский роман — как байронического типа, вроде «Джейн Эйр» или «Грозового перевала», так и в духе Вордсворта, вроде «Адама Вида» — возник значительно позже. Этос героини Остен остается в «Доводах рассудка» прежним, но она, безусловно, создание более сложное, чем остальные, с оттенком новой грусти в отношении жизненных пределов. Не исключено, что изящный пафос, иногда сквозящий в «Доводах рассудка», связан с нездоровьем самой Остен, ее предчувствием ранней смерти.
Сравнивая Вордсворта с Остен, Стюарт Тейв проницательно отметил, что оба они были «поэтами брачных уз» и обладали «чувством долга, которое сознают и глубоко ощущают те, для кого цельность и покой их жизни непременно связаны с жизнью других, те, кто видит жизни всех людей частями не одного только общественного устройства». Развивая мысль Тейва, Сьюзен Морган указала на особенное сродство между «Эммой» Остен и великой одой «Отголоски бессмертия по воспоминаниям раннего детства». Их общая тема — развитие индивидуального сознания, которое у Вордсворта предполагает и обретение, и утрату, а у Остен — исключительно обретение. Сознание Эммы определенно развивается, и она совершает квазивордсвортианский переход от едва ли не солипсистских удовольствий к более трудным удовольствиям сочувствия другим. Энн Эллиот, изначально куда более взрослая, в развитии сознания не нуждается. Отказ Уэнтуорту, о котором она столько раз жалеет, ограждает ее от разрушительности надежды — как мы видели, пугающего лейтмотива у раннего Вордсворта, прежде всего в истории о бедной Маргарет. Надежду заменяет комплекс чувств, изображенный Остен с обычным блеском:
Какой красноречивой могла бы стать теперь Энн Эллиот, по крайней мере, с каким бы жаром умела она защитить первую нежную любовь и радостную веру в будущее против пугливой осторожности, словно бросающей вызов благому Провиденью! В юности вынудили ее быть благоразумной, в годы более зрелые она сделалась мечтательницей — что так естественно при таком неестественном начале[329].
Мечтательность относится исключительно к прошлому; Энн больше не может ей предаваться. И действительно, Уэнтуорт возвращается, досадуя даже по прошествии восьми лет, и решает, что власть Энн над ним кончилась совершенно. Он винит ее в отсутствии решимости и уверенности в себе — тех самых качеств, которые сделали его превосходным флотским офицером. С едва ли не чрезмерной обстоятельностью Остен показывает, как он постепенно сдает свои позиции по мере того, как сила памяти завладевает им и он понимает, что его уязвленное представление о ней как о человеке, неспособном действовать, совершенно неверно. Есть тонкая ирония в том, что ему приходится обращаться к доводам рассудка — а Энн ждет, сама не зная, что ждет чего-то и что ее надежда еще может ожить. В таком комизме есть легкая печаль, ведь читатель тоже ждет — и думает о том, какую важную роль в этом деле играют непредвиденные обстоятельства.
Досократики и Фрейд сходятся на том, что случайностей не бывает, но Энн полагает иначе. Для нее тоже характер — это судьба[330], но в обусловленном таким множеством факторов социальном контексте, как мир Остен, судьба, придя в движение, потихоньку с характером расходится. Перечитывая «Доводы рассудка» и помня о счастливой развязке, я все равно тревожусь, видя, как Уэнтуорта и Энн относит друг от друга против их желания. Читатель не до конца убежден, что между ними все же состоится благополучная встреча, пока Энн не прочитывает вполне отчаянного письма от Уэнтуорта:
Я не могу долее слушать Вас в молчании. Я должен Вам отвечать доступными мне средствами. Вы надрываете мне душу. Я раздираем между отчаянием и надеждою. Не говорите же, что я опоздал, что драгоценнейшие чувства Ваши навсегда для меня утрачены. Я предлагаю Вам себя, и сердце мое полно Вами даже более, чем тогда, когда Вы едва не разбили его восемь с половиной лет тому назад. Не говорите, что мужчина забывает скорее, что любовь его скорее вянет и гибнет. Я никого, кроме Вас, не любил. Да, я мог быть несправедлив, нетерпелив и обидчив, но никогда я не был неверен. Лишь ради Вас одной приехал я в Бат. Я думаю только о Вас. Неужто Вы не заметили? Неужто не угадали моих мечтаний? Я и девяти дней не ждал бы, умей я читать в Вашем сердце, как Вы, полагаю, умели читать в моем. Мне трудно писать. Всякий миг я слышу слова Ваши, которые переполняют, одолевают меня. Вот Вы понижаете голос, но я слышу нотки его и тогда, когда они недоступны для любого другого слуха. Слишком добрая! Слишком прекрасная! Вы справедливы к нам. Вы верите, что мужское сердце способно на верную любовь. Верьте же неизменности ее в сердце навеки преданного Вам Ф. У.
Я принужден уйти, не зная судьбы моей; но я ворочусь и последую за Вами, едва найду возможность. Одно слово Ваше, один взгляд — и я войду в дом отца Вашего нынче же — или никогда[331].
Я не могу представить себе такого письма ни в «Гордости и предубеждении», ни даже в «Эмме» или «Мэнсфилд-парке». Восприимчивый читатель может осознать, насколько страстна Энн, практически в самом начале романа, но это письмо — первое указание на то, что Уэнтуорт столь же страстен. Как и подобает письму флотского офицера, написано оно дурно и не совсем в духе Остен, но от этого оно только действеннее. Мы осознаем, что до сих пор верили в него лишь потому, что любовь к нему Энн возбуждала наш интерес. Остен мудро не стала делать его интересным самим по себе. При этом книга должна среди прочего убедить читателя, что он, читатель, способен сам выносить суждения и убеждать самого себя; Энн Эллиот едва ли не слишком хороша для читателя, как и для самой Остен, но внимательный читатель обретает уверенность, нужную для того, чтобы воспринимать Энн так, как должно. Тончайшая составляющая этого тончайшего романа — расчет на то, что сила памяти самого читателя сравнится со стойкостью и мощью томления, которого стоическая Энн Эллиот не может выразить напрямую.
Этим томлением проникнута вся книга; оно окрашивает восприятие Энн и наше собственное. Наше представление о том, что такое Энн, сливается с нашим представлением об утраченной любви, каким бы искусственным или идеализированным оно ни было. Есть некоторое неправдоподобие в том, что отношения успешно восстанавливаются спустя восемь лет после разрушения, и оно вроде бы должно вредить текстуре этого самого «реалистического» романа Остен — но она сделала все, чтобы этого не произошло. Вслед за автором читатель поддается убеждению желать Энн того, чего она по-прежнему желает себе. Энн Молан точно замечает, что «Остен более всего довольна Энн тогда, когда Энн более всего собою недовольна». Остен увлекает за собою читателя, а Энн, в свою очередь поддавшись убеждению, постепенно его нагоняет, давая своему томлению проявиться более явным образом.
В эссе о «Безрассудстве предощущения горестей» («Рамблер», № 29) доктор Джонсон предостерегал против всяких тревожных ожиданий — как дурного, так и хорошего:
…поскольку предметы и страха, и упования смутны, нам не следует верить образу одного из них больше, чем образу другого, ибо они равно ложны; подобно тому, как упование преумножает радость, страх усугубляет скорбь. Общепризнано, что еще ни один человек не находил радость обладания сопоставимой с ожиданиями, которые распаляли его желание и придавали ему сил добиваться его осуществления; и ни один человек не находил жизненные беды такими же грозными в действительности, какими их рисовало ему его собственное воображение.
Это один из нескольких выпадов Джонсона в адрес опасной власти воображения; с какими-то из них его последовательница Остен, несомненно, была знакома. Опустив, по совету великого критика, эти образы, Вордсворт вовсе не смог бы писать, а Остен не смогла бы написать «Доводы рассудка». И все-таки для нее, так овладевшей мастерством умолчания, что ничего подобного ему не найти ни в одном другом западном романе, это очень странная книга. Каждый роман Джейн Остен можно назвать успешным опытом эллипсиса: опущено все, что могло бы помешать иронической, но тем не менее счастливой развязке. Из четырех ее канонических романов «Доводы рассудка» — наименее популярный, потому что наиболее странный, но все, написанное ею, — тем страннее, чем ближе конец Демократической эпохи, для наступления которой в литературе так много сделал ее современник Вордсворт. Балансируя на последней границе Аристократической эпохи, ее творчество, как и творчество Вордсворта, подчинено расколу между ослабевающей протестантской волей и входящим в силу сострадательным воображением; памяти же вверяется врачевание этого разрыва. Если положения этой книги хотя бы в какой-то мере верны, то Остен переживет даже ожидающие нас дурные времена, потому что странность самобытности и индивидуальный взгляд на мир будут необходимы всегда — а в Теократическую эпоху, которая ползет на нас[332], удовлетворить эту необходимость сможет только литература.
11. Уолт Уитмен как центр американского канона
Если попытаться составить список творческих достижений нашего народа на фоне западной традиции, то наши свершения в музыке, живописи, скульптуре, архитектуре покажутся невеликими. Необязательно брать за стандарт Баха, Моцарта и Бетховена; Стравинского, Шёнберга и Бартока с лихвой хватит для того, чтобы представить наших композиторов в довольно печальном виде. И как бы ни были великолепны современная американская живопись и скульптура, Матисса среди нас не нашлось. Исключением стала литература. Ни один западный поэт минувших полутора столетий, даже Браунинг, Леопарди или Бодлер, не затмит Уолта Уитмена и Эмили Дикинсон. Главные же поэты нашего века — Фрост, Стивенс, Элиот, Харт Крейн, Элизабет Бишоп и другие — соперничают с Нерудой, Лоркой, Валери, Монтале, Рильке, Йейтсом. Лучшие наши прозаики — Готорн, Мелвилл, Джеймс, Фолкнер — тоже стоят вровень со своими западными визави.
Возможно, один Джеймс может выдержать общество Флобера, Толстого, Джордж Элиот, Пруста и Джойса, зато у нас есть отдельные книги, имеющие мировое значение: «Алая буква», «Моби Дик», «Приключения Гекльберри Финна», «Когда я умирала». Книга, имеющая наибольшее значение, — это первое издание «Листьев травы» (1855). Уитмен, вне всякого сомнения, больше, чем поэт одного 1855 года, — его на тот момент безымянные поэмы, которые потом будут названы «Песня о себе» и «Спящие», еще ждал триумф. Во втором издании «Листьев травы» (1856) появилось «Закатное стихотворение», ныне известное нам под названием «На Бруклинском перевозе». Третье издание, 1860 года, дало нам «Когда жизнь моя убывала вместе с океанским отливом»[333] и «Из колыбели, вечно баюкавшей»[334], а 1865 год трагически прибавил американскую элегию, выдерживающую сравнение с «Люсидасом» и «Адонаисом»[335], — великий плач по убиенному Аврааму Линкольну: «Когда во дворе перед домом цвела этой весною сирень».
Эти шесть главных вещей — «Песня о себе» и пять менее значительных, но все равно выдающихся лирических медитаций — вот что существеннее всего в творчестве Уитмена. Чтобы найти на Западе их художественные аналоги, нужно вернуться к Гёте, Блейку, Вордсворту, Гёльдерлину, Шелли и Китсу. Ничего из написанного во второй половине XIX века или в нашем почти завершившемся веке не сравнится с этими вещами Уитмена по непосредственной силе и возвышенности — за исключением, может быть, стихов Дикинсон. Невеселый парадокс заключается в том, что мы так и не поняли Уитмена правильно, потому что он — очень трудный, бесконечно тонкий поэт, обыкновенно уверенный, что делает одно, а на практике делающий нечто совершенно противоположное.
Для многих современных читателей Уитмен — страстный популист, предтеча Аллена Гинзберга и прочих профессиональных бунтарей. Его настоящие, подлинные потомки — сильные американские поэты, которые пытались бежать его, но не сумели этого сделать: Т. С. Элиот и Уоллес Стивенс. К ним следует добавить великолепного Харта Крейна, который писал в стилистике Элиота и Стивенса, но с уитменианскими притязаниями и установкой. Английский поэт-пророк Д. Г. Лоуренс — четвертый настоящий поэт-уитменианец из писавших по-английски; Паунд, Уильям Карлос Уильямс и прочие кандидаты — это другое, а вот Джон Эшбери кажется мне пятым и наиболее близким к Уитмену из тех, кто по-настоящему учился на «Песни о себе» и продолжал ее. Латиноамериканские поэты, главным образом Неруда, придали влиянию Уитмена иное направление, больше связанное с Уитменом как символической фигурой, чем собственно с его стихами.
Самобытность Уитмена меньше связана с его вроде бы свободным стихом, чем с его мифологической изобретательностью и владением образным языком. Его метафоры и мысль, создающая размеры[336], прокладывают новый путь даже действеннее, чем его новаторство в метрике. Даже короткие, проходные его стихи поражают самобытностью.
Это твой час, о душа, твой свободный полет в бессловесное, Вдали от книг, от искусства, память о дне изглажена, урок закончен, И ты во всей полноте поднимаешься, молчаливая, пристально смотрящая, обдумывающая самые дорогие для тебя темы — Ночь, сон, смерть и звезды[337].Это — «Ясная полночь», очень позднее стихотворение, надолго задержавшееся в сознании Уоллеса Стивенса. Звезды в конце последней строки заменяют отсутствующую океаническую мать или материнский океан — явления, всегда идущие четвертым и пятым номерами, когда Уитмен обращается к ночи, смерти, сну. Стивенс восторгался этим коротким стихотворением потому, что в нем явлена мощь Уитменовой установки в отношении своего предмета, его ясное представление о своем мире. Полночь для Уитмена — момент озарения, когда откровению не препятствует дневная суета. Его великая поэма об этом моменте — «Спящие», самое, возможно, недооцененное из шести его главных сочинений. В 1855 году оно, как и все остальное в «Листьях травы», названия не имело; в 1865-м оно стало «Ночной поэмой», а в 1860-м — «Преследованиями во сне». Как часто бывало, первая мысль Уитмена была лучшей; это действительно его «Ночная поэма». Идя в ночь, Уитмен осознанно воплощается в американского Иисуса — дерзость, повторяющая ключевой эпизод смерти и воскресения в «Песни о себе»; но лучше начать со «Спящих» и перейти через ряд аспектов «Песни о себе» к откровенно элегическому Уитмену.
Мы знаем, что в качестве американского религиозного пророка Уитмен следовал за Эмерсоном и за представленными Эмерсоном традициями восточной и западной еретической мысли. Похоже, точкой отсчета стало для него в 1854 году знаменитое эссе Эмерсона «Поэт», в котором утверждается, что поэты — это «освобождающие боги»[338]. Блокнотные наброски — самый ранний черновик «Песни о себе» — отражают еще более четкое осознание себя американским Иисусом, чем переделанный вариант в 38-м разделе завершенной поэмы:
Напрасно мне в руки были вбиты гвозди. Я помню свое распятие и кровавое коронование Я помню насмешников и град оскорблений Гробница и белая плащаница отказались от меня Я живой в Нью-Йорке и в Сан-Франциско, Снова иду по улицам две тысячи лет спустя. Не все традиции могут дать церквям жизненную силу, Они не живы, они суть холодный раствор и кирпич, Я легко построю не хуже, и ты тоже: — Книги — не люди…Иисус американской религии — это не распятый человек и не Вознесшийся Господь, но воскресший человек, проводящий сорок дней со своими последователями — сорок дней, о которых в Новом Завете практически ничего не говорится. Создатель последних пятнадцати разделов «Песни о себе» — наше главное литературное изображение воскресшего человека. «Спящие» — предыстория этого воскрешения, Уитменова версия таинства Вочеловечения, в котором богочеловек сливается с лирическим героем. Как в большинстве сильнейших стихотворений Уитмена, в этом стихотворении, разумеется, идет речь и о многом другом, поскольку изображение мессианского призвания изменчиво; но и тут и в других местах Уитмен никогда не отходит от него далеко.
Я думаю, что исследователи, как правило, не обращаются к этому обстоятельству от смущения; так же непросто им обращаться и к откровенному аутоэротизму Уитмена. Существует очень мало указаний на то, что Уитмен состоял в сексуальных отношениях с кем бы то ни было, кроме себя самого; из того, что мне ясно о его жизни и его стихах, я заключаю, что он предпринял одну-единственную неудачную попытку вступить в любовную связь, предположительно гомосексуальную, зимой 1859/60 года. Возможно, Уитмен вновь обнаружил, что прикоснуться своим телом к другому — самый предел того, что он может вынести[339]. Но каковы бы ни были его квазиаутичные психосексуальные страдания, у него были гений и героизм, нужные для того, чтобы написать полдюжины своих главных поэм. «Спящие» — это расчет цены, в которую обходится превращение в Христа, и самое блейковское из стихотворений Уитмена, хотя Уитмен тогда еще Блейка не читал. Подобно Блейку, Уитмен занимает визионерскую позицию иудейского пророка:
Я блуждаю всю ночь в сновиденьи, Я шагаю легко, я шагаю бесшумно и быстро, останавливаюсь, Наклоняюсь с глазами раскрытыми над глазами закрытыми спящих, Я блуждаю, смущаюсь, теряюсь, себя забываю, не согласуюсь, противоречу, Медлю, гляжу, наклоняюсь, на месте стою[340].Несмотря на свое состояние, он подступает к спящим, мертвым и живым, страждущим и безмятежным, и помогает мающимся:
Я стою в темноте, опустивши глаза близ тех, кто страдает всего и всего беспокойней, Я на несколько дюймов от них рукою своей провожу, успокаивая.После замечательного ряда отождествлений (порой они таят угрозу лирическому герою) он начинает своего рода реинтеграцию, которую мне не хочется переводить на язык Фрейда и тем более Юнга. Силы, внешние по отношению к личности пророка и укрепляющие ее, поначалу грозят ее затопить — и Уитмен боится смерти от воды, которой умирает его заместитель в третьем разделе поэмы, «голый красавец гигант (, плывущий) через морской водоворот»[341]. К этому титану, или «смельчаку и гиганту», в первой редакции поэмы с двух сторон примыкали два пассажа, впоследствии Уитменом устраненные, — о сне, в котором его, нагого и устыженного, выбрасывает в мир, и о кошмарном отождествлении с люцифероподобным созданием, кульминация которого — причудливая, мрачная параллель со снежно-белым Левиафаном Мелвилла:
Теперь большая темная туша, китова туша, кажется моей; Будь осторожен, пловец! Хоть я лежу такой сонный и вялый, прикосновение моих плавников смертельно.Фантазии об изгойстве перемежаются с дьявольскими негациями: это череда испытаний и искушений, сопутствующих участи спасителя. Чудесный последний раздел уитменовской ночной поэмы начинается словно с описания картины Уильяма Блейка:
Спящие очень красивы, когда лежат без одежд, Они текут рука об руку надо всей землей с востока на запад, когда они лежат без одежд[342].Волшебное слово для «ночного» Уитмена — «прошел», и спасение для него заключается в том, чтобы быть прохожим. Все беспокойные спящие просыпаются в квазивоскресении: «Они проходят через бодрящую силу ночи и химию ночи и пробуждаются». Наблюдая эту картину, Уитмен дарует себе и своему стихотворению величественное примирение в качестве развязки:
Я тоже прошел через ночь. Я пока оставлю тебя, о ночь, но я вернусь к тебе снова, и я люблю тебя. Почему я должен бояться тебе довериться? Я не боюсь, я так далеко продвинут тобой, Я люблю богатый бегущий день, но я не брошу и ту, в которой лежал я так долго, Я не знаю, как я возник из тебя и куда я иду с тобой, но знаю, что я пришел хорошо и мы пойдем хорошо. Я с ночью пробуду недолго и встану рано, Я день проведу, как дóлжно, о моя мать, и как должно, вернусь к тебе.Тут упоминаются только мать и ночь — но смерть подразумевается всем текстом. В этом пассаже все равно чувствуются неуверенность и страх, но разве может быть иначе? В лексиконе древних гностиков, к которому Уитмен тут таким удивительным образом приближается, ночная бездна — это праматерь, а творение из бездны привело к падению. Не претендуя на всезнание, Уитмен сознательно идет на риск — попасть в цикл смертей и воскрешений. Его гнозис — в том, что он пришел хорошо, пойдет хорошо и затем восстанет. Мрачный контраст с нетвердой верой Уитмена составляют отчаянные заявления Лира, обращенные к Глостеру: «Будь терпелив. На свет приходим с криком; / Понюхав воздух, тотчас начинаем / Кричать и плакать…» и «Когда родимся мы, кричим, вступая / На сцену глупости». Пафос Уитмена — в том, что его еще несовершенный гнозис пока не слишком далеко ушел от трагических возгласов Лира. В «Песни о себе», начиная с 38-го раздела, делается попытка выразить более совершенное знание. 41-й раздел строится на верной догадке Уитмена о том, что все боги, в том числе Иегова, когда-то были людьми, и возвышается до великолепного кощунства:
Я прихожу, увеличивая и находя соответствия, Я с самого начала даю большую цену, чем старые сквалыги-торгаши, Я сам принимаю размеры Иеговы, Я литографирую Кроноса, его сына Зевса и его внука Геракла, Я скупаю изображения Озириса, Изиды, Ваала, Брамы и Будды, В мой портфель я сую Манито, и Аллаха на бумажном листе, и гравюру распятия. Вместе с Одином, с безобразным Мекситли и с каждым идолом, с каждым фетишем, Платя за этих богов и пророков столько, сколько они стоят, и ни одного цента больше, Соглашаясь, что они были живы и сделали то, что надлежало им сделать в свой срок…[343]Против них Уитмен выставляет то, что надлежит сделать в свой срок ему: «Сверхъестественное — не такое уж чудо, я сам жду, чтобы / пришло мое время, когда я сделаюсь одним из богов…» В 23-м разделе приятие Христа помещено в контекст приятия множества богов, а в заключительных разделах поэмы отбрасываются все духовные тревоги. Блокнотные наброски проясняют амбиции Уитмена: «Я сам жду, когда придет время мне стать Богом; / Я думаю, я сделаю столько же добра и буду таким же чистым и колоссальным, как всегда». Невозможно представить себе более откровенного изложения замысла Уитмена, чем блокнотный черновик 49-го раздела: «У нас есть то, в чем больше всего от Бога; у нас есть человек», и еще: «Я не могу помыслить создания чудеснее, чем человек». Провозглашенную Джозефом Смитом мормонскую доктрину усовершенствования человека до Бога Уитмен независимо от него наглядно представил в своем герметизме.
Уитменовский вариант американской религии держится на самом самобытном аспекте «Песни о себе» — духовной «карте», согласно которой мы все состоим из трех компонентов: души (soul), себя (self) и подлинного Я (real те или me myself). Я пользуюсь терминами самого Уитмена, которые не сводятся к фрейдовским или каким-нибудь другим психологическим категориям. В первую очередь Уитмен разделяет «душу» и «себя»: душа, подобно телу, в очень большой степени является частью природы, природы несколько отчужденной. Под душой Уитмен понимает характер (или этос), противопоставляемый «себе», то есть личности (или пафосу). Характер действует, а личность страдает, даже если речь идет о приятном страдании от страсти, высокой или низкой. Поэтому когда Уитмен говорит «моя душа», он имеет в виду свою темную сторону, отрешенный, или отчужденный, компонент свой природы. Когда он говорит о «себе», как в названии — «Песня о себе», он имеет в виду то, что называет Уолтом Уитменом, американцем, буяном, явно агрессивным мужчиной.
Но «сам» Уитмен, как он с готовностью признает, разделен надвое. Есть еще утонченная, женственная часть «себя», которую он называет «подлинным Я», или просто «Я», «Я сам», и отождествляет с могучим квартетом ночи, смерти, матери и моря. Уитменова душа непознаваема по своей природе, это в некотором роде пустота, буйная же личность — образ, или маска, бесконечно подвижная череда отождествлений. Но подлинное Я — не просто познаваемая сфера, но самая способность к познанию, что-то вроде гностической способности субъекта познавать, подобно тому как он сам познан[344].
Уитменовская мифология души и двух частей «себя» вполне стройна, пусть и сложна. Он мог бы назвать свою главную поэму «Песней о душе», но не имел никакого желания этого делать — так же как не хотел называть ее «Песней о подлинном Я». У Уитмена есть великие песни о подлинном Я, и к ним относятся «Спящие» и «Когда жизнь моя убывала вместе с океанским отливом». Даже элегия «Сирень» — это в огромной мере песня о подлинном Я, хотя она тяготеет к тому, что в ней называется «в один голос с моей душой», к проявлению непостижимой природы.
«Песня о себе», самая амбициозная поэма Уитмена, — это самый обстоятельный, хотя и все равно неполный, рассказ о взаимоотношениях Уитменовой души с двумя частями «себя». «Я славлю себя», — начинает он, имея в виду, что его герой — Уолт Уитмен; в 1856 году он назвал эту поэму «Поэмой об Уолте Уитмене, американце». В четвертой строке он зовет свою душу и продолжает звать ее в 5-м разделе, но лишь после того, как Я, которое никогда не зовет душу, удостаивается прекрасного описания в 4-м. Эти строки часто кажутся мне лучшими в «Песни о себе», во всяком случае, самыми чарующими; они предвосхищают лирических героев Т. С. Элиота и Джона Эшбери. Вот, — внезапно говорит Уитмен, — не буян Уолт, а подлинное Я:
Вдали от этой суеты и маеты стоит то, что есть Я, Стоит, никогда не скучая, благодушное, участливое, праздное, целостное. Стоит и смотрит вниз, стоит прямо или опирается согнутой в локте рукой на некую незримую опору, Смотрит, наклонив голову набок, любопытствуя, что будет дальше. Оно и участвует в игре, и не участвует, следит за нею и удивляется ей.Отстранившись и от соперничества, и от слишком доступного Эроса, подлинное Я стоит особняком, но не одиноко, в невероятно грациозной позе, открытое происходящему, но обособленное от него — так сказать, одновременно игрок и болельщик. Весь пассаж бесконечно очарователен и достопамятен. В виде исключения Уитмен не пытается ускользнуть от нас, и мы начинаем чуть лучше его понимать.
Но затем он мягко и властно затемняет наше понимание: «Я верю в тебя, моя душа, но другое мое Я не должно перед тобой унижаться, / И ты не должна унижаться перед ним».
Мы оказываемся в самом средоточии Уитменова гения — гения, который он делит со своим наставником Эмерсоном.
Буйная личность, или образ Уолта Уитмена, способна состоять в равных отношениях с душой, или непознаваемой природой, но другое Я, подлинное (или герметичное) Я, в основном вступает с душой исключительно в отношения «раб — хозяин». Тут текст Уитмена требует крайне пристального чтения: личность поэта явно испытывает мазохистское влечение к его непостижимому характеру, а характер, в свою очередь, может быть принужден подчиняться обособленному, отвернувшемуся настоящему Я, хотя причин этого принуждения нам не объясняют. То в поэте, что и участвует, и не участвует в игре, может, несмотря на свою вольную позу, унижаться перед непознающим и непознаваемым, а эта отчужденная часть его природы тоже может страдать от «встречного» унижения.
Обе эти духовные установки Уолт Уитмен, американский поэт, отвергает; оба этих унижения он рассматривает далее в поэме, в двух великих пассажах о сильном кризисе и частичном его разрешении. За фактическим изнасилованием душой подлинного Я в разделах 28–30 следует унижение души перед инаковостью в «себе» в разделе 38. Оба кризиса призваны контрастировать с метафорическим полусоединением души и буйного, наружного «себя» в 5-м разделе поэмы. Уитмен юмористически изобразил абсурдное, невозможное объятие, что не помешало многим торжественно-серьезным истолкователям понять эту шутку поэта буквально. Это чудесный гротеск — вообразите, как душа одной рукой держит «себя» за бороду, а другой тянется к ногам. Перемешивая буквальное с метафорическим, Уитмен сильнее всего сбивает нас с толку, когда указывает на аутоэротизм. Вот поразительный финал причудливого стихотворения «Я сам по себе»:
Благотворная легкость, передышка, умиротворенье, и эта гроздь, сорванная с меня самого наугад, Она сделала свое дело, — я роняю ее небрежно, чтобы упала она где угодно[345].Еще более поразителен первый кризис в «Песни о себе» с его образом (а возможно, и описанием) удавшейся, хотя и нежеланной мастурбации. Один из многочисленных иронических аспектов современного восприятия Уитмена состоит в том, что его ценят как поэта-гея. Вне всякого сомнения, его глубинные наклонности были гомоэротическими, и его стихи о гетеросексуальной страсти не убеждали никого — в том числе самого Уитмена. Но по какой-то причине его эротическая ориентация — в поэзии и, возможно, в жизни — была онанистической. В его стихах преобладает образ излияния семени на землю после самовозбуждения. Аутоэротизм — даже не садомазохизм — представляется последним западным табу, во всяком случае, в сфере литературного изображения, и тем не менее Уитмен отдает ему должное в некоторых из важнейших своих стихотворений.
Если бы в 1855 году кто-нибудь объявил, что явился канонический американский поэт — с книгой под названием «Листья травы», довольно несуразно напечатанной и имеющей своим предметом исключительно его самого, — то мы, вероятно, отреагировали бы с умеренным скепсисом. Мысль о том, что нашим национальным поэтом будет зацикленный на себе онанист, возвестивший о божественности своего существа в нерифмованных, похожих на прозу стихах без заглавия, вероятно, вызвала бы у нас разве что добродушную жалость. Что говорить, если юный Генри Джеймс, из всех наших соотечественников обладавший самым, наверное, верным критическим чутьем, рецензируя «Барабанный бой» целых десять лет спустя, уверенно и пренебрежительно заявил, что Уолт Уитмен, человек прозаического склада, тщетно прикладывал усилия мускулов, силясь подняться до возвышенности, то есть был этакий Арнольд Шварценеггер своего времени.
Джеймс потом сожалел о своей оценке; мы бы судили не лучше и тоже сожалели бы. Важное исключение — Ральф Уолдо Эмерсон, который получил книгу по почте, прочел ее и написал Уитмену, что тот создал величайшее произведение ума и мудрости из всех, сочиненных американцами. Суждение Эмерсона по-прежнему справедливо. Эмерсон преждевременно состарился и добавил к этому суждению несколько суровых замечаний, но его ранний вердикт — доныне одна из вершин прагматичной американской литературной критики. Сам Эмерсон старался, как мог, и был очень хорош — но он сразу понял, что пришел поэт, о котором он пророчествовал, литературный Мессия, которому он послужил Илией или Иоанном Крестителем.
В своем письме к Уитмену Эмерсон высказался о «Листьях травы» 1855 года так: «Чтение этой книги радует меня чрезвычайно — так радует нас великая сила». Пять лет спустя, в своем последнем великом труде, «Путь жизни», он привел свое определение силы:
Всякая сила одинакова, это приобщение к природе мира. Разум, сообразный с законами природы, будет в потоке событий, силен их силой. Всякий человек состоит из того же вещества, из которого состоят события; пребывает в согласии с ходом вещей, способен предсказать его. Что бы ни происходило, сперва происходит с ним, дабы он был приуготовлен ко всему, что бы ни случилось.
Я думаю, что первое впечатление, которое Уитмен произвел на Эмерсона, — впечатление американского шамана — было верным. Шаман непременно должен быть разделенным в самом себе, неопределенной сексуальной ориентации и трудноотличимым от божества. Подобно шаману, Уитмен бесконечно изменчив, способен находиться в нескольких местах одновременно и осведомлен о материях, о которых Уолтер Уитмен-младший, сын плотника, едва ли мог что-нибудь знать. Чтобы читать Уитмена надлежащим образом, нам следует увидеть в нем пережиток древней Скифии с ее странными демоническими знахарями, которые знали, что носят в себе магическое, оккультное «я» (или что они им одержимы). Когда я читаю древнее, квазигностическое Евангелие от Фомы, я не могу не думать об Уитмене, и когда я читаю гимны южных баптистов, в которых запросто говорят с Иисусом, мне тоже вспоминается квакер-отступник Уитмен. Это, как показал Ричард Пуарье, Уитмен «Последней мольбы», единственного американского стихотворения, которое мог бы написать сам Святой Иоанн Креста, еще одного траурного восхваления темной ночи души[346]:
Наконец осторожно Из-под сводов мощного дома, Из-под вечной стражи твоей, из-под спуда затворов твоих Позволь скользнуть мне. Позволь мне плыть бесшумно дальше; Нежностью двери раскрой — шепотом Их раствори, о душа; Осторожно — не будь торопливой (О беспощадная плоть, крепки объятья твои, Крепки объятья твои, о любовь)[347].Это последняя мольба, потому что даже шаман не может не знать, что итоговая форма перемены — смерть. Душа, или неведомая природа человека, распахивает двери, чтобы подлинное Я могло принять смерть. Как и в случае с темной ночью Иоанна Креста, прообраз этого стихотворения — Соломонова Песнь Песней, эхо которой уже звучало у Уитмена в элегии «Сирень», главным образом в Песни Смерти дрозда-отшельника. Но там смерть и мать еще одно и то же; в конце концов, в представлении Уитмена эротическая участь «себя» — вернуться к самому себе и к своим приключениям со своею собственной душой. Это означает, что главная любовь Уитмена — это сам Уитмен, и мы возвращаемся к тому, что, похоже, некоторых смущает, — к аутоэротическому Эросу у нашего национального поэта.
Муза мастурбации не слишком ценится ни у нас, ни, насколько мне известно, у других народов, но в устойчивой «скандальности» Уитмена аутоэротическая составляющая крайне важна. Предположу, что Уитменовой универсальности, его невероятной способности преодолевать языковой барьер его всеобъемлющая сексуальность, в том числе эта ее составляющая, не помеха. Стихи Уитмена не признают никаких сексуальных разграничений и не приемлют никаких демаркаций, отделяющих человеческое от божественного. Безусловно, Уитмен, в свое время член «Партии свободной земли», всегда был сам себе партия — как Джон Мильтон был сам себе секта; но, как и Мильтон, он знал секрет превращения своего одинокого говора в постоянно значимый и слышный голос.
Каноничность Уитмена держится на необратимой перемене, которую он внес в то, что можно назвать американским образом голоса. Уитменовский образ голоса звучит у Хемингуэя — возможно, помимо воли самого Хемингуэя — практически так же оглушительно, как у некоторых поэтов, которых больше ничего друг с другом не объединяет. Во всяком возвышенном в одиночестве голосе нашей художественной литературы, в котором звучит боль или стоическое терпение, теперь есть уитменианский обертон. Вряд ли Стивенс хотел, чтобы его поющая на Ки-Уэсте[348] напоминала об Уитмене — но в конце его стихотворения возникает
Жажда творца упорядочить слова о море, Слова о благоуханных вратах и неярких звездах на них, И о нас, и о наших истоках, В границах более призрачных и более пронзительных звуках[349].Слова о вратах принадлежат Китсу[350], но слова о море, слова о нас, слова о наших истоках — Уитмену, чье стихотворение «Из колыбели, вечно баюкавшей» изначально называлось «Слово из моря», и слово это — смерть, светлая и священная смерть. Мне никак не удается вполне осознать то обстоятельство, что Уоллес Стивенс, пренебрежительно относившийся к бродяжьему «амплуа» Уитмена, к буйному американскому Уолту, отдал Уитмену самую великолепную дань, которая есть в нашей литературе:
На далеком Юге солнце осени проходит, Как Уолт Уитмен, идущий по алому берегу. Он поет, напевает о том, что есть часть его, О мирах, что были и будут, о смерти и дне. Ничто не окончательно, напевает он. Никто не увидит конца. Его борода — из огня и его посох — трепещущее пламя[351].Как бы обрадовался Уитмен этому справедливому напоминанию о его эмерсоновской силе! У Стивенса в него вложено все: Уитмен — лев-солнце[352], осеннее и элегическое, Уитмен — прохожий, отвергающий всякую окончательность, отрицающий конец мира. Всегда освещенный солнцем — закатным и рассветным, поющий, напевающий о разделенном «себе» и непознаваемой душе, Уитмен у Стивенса — не божество, но он горит пламенем, превосходящим естественный огонь. И, не отсылая прямо к связующей все и вся песне, которой кончается элегия «Сирень», Стивенс намекает на ее экстатический накал, на ее уверенность, которые действительно суть ценности, добытые ночью[353]. В приветственном восторге Стивенса я не слышу ни иронии, ни идеологии, ни социальных энергий, прогрызающих себе путь. Я слышу звучание образа — образа голоса, голоса поющего, напевающего, проходящего, совершенно убежденного в том, что начало и конец могут, во имя жизни, быть отделены друг от друга.
В старости, пестуя воспоминания о своем наставнике, Уитмен упомянул слова утешения, сказанные ему Эмерсоном: мол, в конце концов мир примет создателя «Листьев травы» потому, что ему придется это сделать, потому, что он у него в долгу. Невзирая на все недоразумения, впоследствии возникшие между Эмерсоном и Уитменом, — а их было много, — мы помним это точное пророчество и помним слова, произнесенные Уитменом у Эмерсоновой могилы: «Справедливый человек, все любивший, все вбиравший, разумный и ясный, как солнце». То, что связывает Уитмена с Эмерсоном, куда существеннее того, что их разъединяет, — и Уитмен запечатлел это в словах «все вбиравший», в образе солнца как самодостаточной сферы.
Мудрец американской религии, при всей своей сдержанности, совершенно раскрылся в своем творчестве. Поэт американской религии, кричавший о своих тайнах, скрыл о себе практически все. Эмерсон — писатель-наставник, как Ницше, Кьеркегор, Фрейд и его предшественник Монтень. Благоразумный и прозорливый Уитмен не может поделиться с нами никакой мудростью — и нас это не печалит. Он поверяет нам свои муки, свою разобщенность и странное свойство «я», которое есть одновременно и познающий, и познаваемое. В лучших его стихах онтологическое «я» невозможно отделить от эмпирического. С точки зрения европейской диалектики от этого даже лучшие его стихи должны лишаться связности, делаться предшественниками «Cantos» Паунда. Между Уитменом и Паундом существует с ложная связь, но вы не много света прольете на «Песню о себе» или «Сирень», обнаружив намеки на них в «Cantos», — притом что если оглянуться на них, читая «Бесплодную землю» или «Заметки о превосходном вымысле», то Уитмен прояснится хотя бы отчасти. Мудрость и философские прозрения заменяют ему то, что Блейк называл «видением». Будучи, как и подобает апокалиптику, более требовательным, Блейк понимал под «видением» программу восстановления человека. Уитменово видение скромнее, несмотря на его американскую бравуру: объединение элементов его духовной сферы само по себе было непростым начинанием. Оно не было — и не могло быть — завершено; но американский Бог, если я правильно понимаю американскую религию, тоже не завершен — это еще одно начинание в постоянном процессе.
Пытаясь «центрировать» Уитмена, чтобы объяснить его безусловно центральное положение в американском литературном каноне, вокруг него нужно покружить. У нас были замечательные поэтессы: Дикинсон, Мур, Бишоп, Свенсон. Даже если явится еще дюжина таких же величин, им не сместить Уолта с его места, потому что как писатель он — явление не более мужское, чем Шекспир или Генри Джеймс. В Шекспире я вижу бисексуальность, в Джеймсе двуполость, а в Уитмене аутоэротизм, но всем троим как-то удалось не связать себя обстоятельствами пола и не ориентироваться на мужское начало. Некоторые из величайших писателей связали и ориентировались: это Мильтон, Вордсворт, Йейтс и прежде всего Данте. В них есть черты, которые самым воинственным из наших исследователей-феминистов принять нелегко, и некоторые из этих черт не слишком приятны.
Может даже показаться, что эти великие поэты уязвимы для новой культурной критики, но постепенно поэты изменят критику.
Сила канонического проявляется в тихой настойчивости сильнейших писателей. Их плодотворность бесконечна, потому что они представляют собою сердце и голову, а не чресла, не привилегии той или иной касты, секты или расы. Можно, если есть желание, возмущаться этосом Данте или Мильтона, но когда речь заходит о логосе или пафосе, они практически неуязвимы. Троцкий, которого не назовешь непредвзятым интеллектуалом, отказывался считать «Божественную комедию» Данте простым историческим документом и призывал русских писателей увидеть прямое эстетическое отношение между ними и Дантовой поэмой. По мнению Троцкого, сила и накал Дантова сочинения, его ум и глубина чувства сделали его необходимым для писателей-марксистов. «Божественная комедия» и «Потерянный рай» навязывают нам непосредственно эстетические отношения; это, возможно, и христианские поэмы, но по странности и варварскому великолепию (которое Уильям Эмпсон наблюдал в поэме Мильтона) с ними едва ли сравнится какое-нибудь другое литературное произведение.
У Уитмена, который является именно тем, что видел в нем Д. Г. Лоуренс, — величайшим из современных поэтов, поэтов, родившихся в XIX веке и позже, — тоже есть и странность, и даже варварская мощь, удивительным образом дошедшая до сильнейших писателей Демократической эпохи: Уитмена, Толстого, Ибсена. В отличие от главных писателей нашего Хаотического века — Джойса, Пруста, Кафки, Беккета, Неруды — Уитмен передает нечто архаическое, как и Толстой с Ибсеном. В «Песни о себе», как и в «Хаджи-Мурате» Толстого и «Пер Гюнте» Ибсена, столько излишеств и щедрости, что имеет смысл назвать все три вещи по-настоящему гомеровскими в противоположность «Улиссу» Джойса, который, несмотря на весь свой арсенал тщательно выстроенных аллюзий, ближе к Флоберу, чем к Гомеру. У «Песни о себе», «Хаджи-Мурата» и «Пер Гюнта», как и у их создателей, героическая выправка — при всех их темнотах и детских слабостях. В конце концов, Ахиллес тоже подобен ребенку, да и Одиссей — притом что он, безусловно, взрослый человек — не похож на старейшего из греков, а вот джойсовский Польди, едва достигший среднего возраста, кажется на две тысячи лет старше всех в Дублине.
Лирический герой «Песни о себе» действительно подобен Эмерсону, о котором восхищавшийся им Ницше чудесно заметил: «…он совершенно не знает того, как он уже стар и как он еще будет молод»[354]. Увы, если параллельно читать «Песню о себе» и «Так говорил Заратустра», то Ницше уступает в эстетическом отношении Уитмену. Дифирамбы Заратустры уступают дифирамбам Уитмена потому, что Ницше слишком хорошо знает, как он уже стар и слишком хорошо представляет себе, каким молодым попытается быть. Стараться жить так, словно утро никогда не кончится, — очень опасное художественное предприятие, и Заратустру оно пустило камнем ко дну. Иногда Уолт из «Песни о себе» играет в Адама на рассвете, но довольно часто он умышленно стар, как Хаос и Ночь.
Уитмен усвоил от Эмерсона непростую мысль о том, что грядущий американский поэт должен будет и давать имена всему, что встретится ему на пути, и отнимать у этого имена. Оказавшись перед этой диалектической дилеммой, Уитмен прозорливо избрал уклончивость: он попросту отказался как давать, так и отнимать имена. Эмили Дикинсон, соединенная с Эмерсоном еще более тонкой связью, в совершенстве овладела искусством отнимать имена и давать новые; но ее когнитивная сила, насколько я могу судить, не знала себе равных во всей западной художественной литературе со времен Шекспира. Уитмен обладал практическим умом, хитрым и находчивым, но когнитивной самобытности он проявил не больше, чем Теннисон (которым восхищался). Самобытно у него другое: новаторство в форме, авторской позиции, стиле, духовной «картографии», визионерстве. Как и у Теннисона, главным у Уитмена зачастую оказывается характер его муки, от которой так зависит сила его поэзии. Эта мука породила два кризиса «Песни о себе» (разделы 28 и 30), первый — сексуальный и, следовательно, аутоэротический, второй — религиозный и христоподобный, но с американской спецификой.
Среди ранних набросков, с которых началась «Песня о себе» и в которых Уитмен начал обретать свой поэтический голос, есть черновик будущего 28-го раздела. Образ «мыса»[355], возникающий и там и там, представляется мне важнейшим символом становления Уитмена как поэта. Мысом принято называть часть суши, выдающуюся в море и нависающую над ним; она опасна: с нее можно сорваться. Как обычно, не называя предмет и не лишая его имени, Уитмен делает мыс метафорой своего противоречивого отношения к своей сексуальности; в блокноте «оно» — это прикосновение, его собственное прикосновение:
Оно собирает их вокруг себя, и все они стоят на мысе и насмехаются надо мною, Они оставили меня прикосновению и заняли свое место на мысе. Часовые бросили все прочие части меня Они оставили меня беззащитным перед потоком прикосновения Они все пришли на мыс свидетельствовать и содействовать против меня. Я брожу пьяный, пошатываюсь Я во власти предателей, Я говорю чепуху, я ничего не соображаю Я сам — величайший предатель Я сам первым пришел на этот мыс.В «Песни о себе» к последней строке прибавлено: «…отнес себя туда своими руками». Я не понимаю, почему литературоведение не обращалось к образам мастурбации у Уитмена. До меня их отмечали Ричард Чейз и Кеннет Бёрк; я размышлял о них несколько раз. Чувства Уитмена, за исключением осязания, бросают его и стоят на мысе, чтобы насмехаться над ним, свидетельствовать против него и даже содействовать враждебным прикосновениям. Но на самом деле изменники-чувства лишь подражают Уитмену, который первым ушел на мыс.
Который из Уитменов есть этот «Я»? И почему «мыс»? Тут, должно быть, подлинное Я унижается перед инаковостью непостижимой души, а что означает мыс, возвышающийся над матерью-водой, кажется, вполне ясно. Хотя Уитмен бурно приветствует мужскую сексуальность, фаллос в его текстах — опасное место, обрывающееся в смерть, мать, океан, первобытную ночь. Джерард Мэнли Хопкинс, со всех ног бежавший от своего гомоэротизма, отмечал близость своей души к душе Уитмена, восхищался метрикой и стилем некоторых пассажей «Песни о себе» и, намеренно или нет, отсылал к строчке из «Спящих» («И мы пролетаем, веселая шайка подонков…») своими «веселыми шайками» облаков в начале стихотворения «О том, что природа — Гераклитов огонь, и об утешительности Воскресения».
В одном из самых мощных сонетов Хопкинса, «Нет хуже ничего…», находим метафору («утесы, с которых срываешься»), в которой есть нечто от Иовой муки, выраженной Уитменом через «мыс», но сексуальный подтекст у Хопкинса не столь очевиден: «О, в рассудке, в рассудке есть горы; утесы, с которых срываешься, / Жуткие, отвесные, никем не виданные». У Уитмена рассудок находит свой утес, с которого срываешься, в мысе, символе духовной избыточности, которую Уитмен приветствует и которой в то же время боится. Уитмен по-эмерсоновски обращает свою одержимость в поэтическую силу, и образ мыса претворяет пафос мастурбации в эстетическое достоинство. Тут Уитмена можно противопоставить Норману Мейлеру, который, как и Аллен Гинзберг, в куда большей мере наследует Генри Миллеру, чем Уитмену. Мейлерова метафора мастурбации — «бомбить себя»; как образ, это менее впечатляюще, чем возможность сорваться с мыса, а также противоречит уитменовской радости от успешного аутоэротического акта. Уитмен стоит на мысе лишь до кульминации; после нее он превозносит порожденные им буйномаскулинные пейзажи[356]. Подобно древнеегипетскому богу, Уитмен творит мир посредством мастурбации, но его мысы запоминаются нам лучше, чем то, что он пожинает.
Кризис оказывается сильнее в 38-м разделе: Уитмен страдает от чрезмерного самоотождествления со всеми изгоями и возвышает голос против собственной попытки искупить грехи всего человечества: «Довольно! Довольно! Довольно! / Что-то ошеломило меня. Погодите немного, постойте! / Словно меня ударили по голове кулаком, / Дайте мне очнуться немного…» Он поразительно легко оправляется, набирает силу, несмотря на ужасную горечь, с которой говорит о своих крестных муках — страдании подлинного Я в роли американского Христа: «Как же я мог глядеть, словно чужими глазами, как распинают меня на кресте и венчают кровавым венком!» Когда он восстает, когда с него «спадают путы», мы видим важнейшее литературное проявление характерной для американской религии одержимости Воскресением. Это один из самых странных пассажей во всем творчестве Уитмена:
Я бодрее шагаю вперед вместе с другими простыми людьми, и нет нашей колонне конца, В глубь страны мы идем, и по взморью, мы переходим границы, Наша воля скоро станет всесветной, Цветы, что у нас на шляпе, — порождение тысячи лет.Уитмен — настолько незаурядный гуманист, что ирония тут не может быть непредусмотренной, и все же понять ее нелегко. Певец «Песни о себе» подобен Христу и в то же время шагает «вместе с другими простыми людьми». Это — образ всеобщего американского Воскресения; приуготовительные цветы росли два тысячелетия. «Это было великое поражение», — сказал Эмерсон о Голгофе и добавил, что мы, как американцы, требуем победы, победы и чувств, и души. В «Обращении к студентам богословского колледжа» Эмерсон объявил, что Иисус «сделал так, что Бог, воплощаясь в человеке, вечно отправляется обретать свой мир вновь». Это «отправляется вновь» Уитмен увеличивает до «шагаю вперед… и нет нашей колонне конца», в присущем американской религии ключе понимая сами Соединенные Штаты как величайшую из поэм — или же как всеобщее Воскресение.
Поразительная финальная четверть «Песни о себе» — это именно поэма Воскресения, не требующего ни Страшного суда, ни последних дней. Мормон и южный баптист, чернокожий баптист и пятидесятник, верующий любых убеждений и любого вероисповедания, нерелигиозный любитель поэзии — каждый из нас волен увидеть в Уитмене заключительных чудесных трехстиший «Песни о себе» американского Иисуса, с которым американец запросто беседует в течение растянувшихся навеки сорока дней, отделяющих Воскресение от Вознесения:
Едва ли узнаешь меня, едва ли догадаешься, чего я хочу, Но все же я буду для тебя добрым здоровьем, Я очищу и укреплю твою кровь. Если тебе не удастся найти меня сразу, не падай духом, Если не найдешь меня в одном месте, ищи в другом, Где-нибудь я остановился и жду тебя.Возможно, Уитмен, как всякий великий писатель, был исторической случайностью. Возможно, случайностей не бывает и все, в том числе то, что мы считаем превосходными произведениями искусства, предопределено. Но история — это нечто большее, чем история классовой борьбы, расового угнетения или гендерной тирании. «Шекспир творит историю» — формула, на мой взгляд, более полезная, чем «Шекспира творит история». Ни история, ни язык не суть боги или демиурги, но как писатель Шекспир был в некотором роде бог. Шекспир находится в центре Западного канона потому, что он меняет процесс познания, меняя изображение процесса познания. Уитмен находится в центре американского канона потому, что он изменил американское «я» и американскую религию, изменив изображение нашего партикулярного «я» и нашей убедительной, пусть и скрытой, постхристианской религии.
Интерпретация Шекспира через политику обязательно будет менее интересной, чем интерпретация политики через Шекспира, и прочтение Фрейда по Шекспиру плодотворнее фрейдистской редукции Шекспира. Уитмен, признаем, — не Шекспир, не Данте и не Мильтон, но он не ударит лицом в грязь ни перед одним западным писателем, начиная с Гёте и Вордсворта и кончая современными.
Что значит писать стихи нашего климата — или чьего бы то ни было климата? Гёте, прекрасно «экспортировавшегося» на протяжении всего XIX столетия, сегодня за пределами Германии почти не читают. Тем не менее из всех немецкоязычных поэтов он был первым сочинителем стихов своего климата. Уитмен, начавший «экспортироваться» почти сразу, остается фигурой мирового значения по сей день — но не сделается ли он со временем ограничен родным языком, как Гёте? Может показаться, что причудливое положение Уитмена — поэта американской религии — есть залог того, что он всегда будет актуален за рубежом, но тут вспоминаешь, что молодой Гёте казался многим своим современникам не кем иным, как Мессией. Я подозреваю, что для того, чтобы оказаться в центре национального канона, требуется обеспечить себе постоянное «хождение» в пределах соответствующего языка, но устойчивое признание вне пределов того или иного языка — явление весьма редкое. За рубежом Уитмен еще может померкнуть, но в Штатах, думаю, никогда. Поэт «Листьев травы» происходил из несчастной, преследуемой демонами и призраками семьи, чья история была полна мрачной косности и страстей. Чудом выживший Уитмен, похоже, понимал, что его поэтическое призвание требует от него готовности ко всем его наследственным мукам.
Второе издание «Листьев травы» содержало одно новое стихотворение, ныне известное как «На Бруклинском перевозе»[357]. Первоначально называвшееся «Закатным стихотворением», оно отличается тем, что было любимым сочинением Уитмена у Торо и породило «Мост» Харта Крейна (1930), в котором колоссальный размах Бруклинского моста пришел на место парома, во времена Уитмена ходившего между Бруклином и Манхэттеном, — замена и реальная, и символическая. Как и «Песня о себе», закатное стихотворение по сути своей приветственно, но его шестой раздел — одно из самых мрачных Уитменовых причитаний по себе:
Не только на вас падают темные тени, И на меня извечная тьма бросала тени свои, Мне лучшее, что сотворил я, казалось пустым, сомнительным, Но разве и вправду не были мелки те мысли, что мне представлялись великими? Не вам одним известно, что значит зло, Я тоже знаю, что значит зло, Я тоже завязывал старый узел противоречий.У многих превосходных поэтов праздник сосуществует с мукой, но у Уитмена восхваление себя и мучение себя образуют пугающую, неразлучную пару. Плач по себе стал характерным для американской литературы жанром благодаря Уитмену; загадка не в том, почему Уитмен изобрел эту форму, но в том, почему она стала такой популярной после него. Два великих стихотворения из цикла «Морские течения», увенчавшие собою третье издание «Листьев травы» (1860), — «Из колыбели, вечно баюкавшей» и «Когда жизнь моя убывала вместе с океанским отливом»[358] — произвели на свет бесчисленное и разнообразное потомство: «Драй Селвэйджес» Элиота, «Догадку о гармонии в Ки-Уэсте» Стивенса, «Конец марта» Элизабет Бишоп, «Волну» Джона Эшбери и «Корсонс Инлет» А. Р. Эммонса. Поскольку мой основной предмет — это каноническое, острый литературоведческий вопрос для меня звучит так: за счет чего эти два стихотворения так важны?
Отчасти на этот вопрос отвечает песня моря о «смерти» в стихотворении «Из колыбели…», ибо всякое размышление о смерти в нашей отечественной литературе всегда будет возвращаться к Уолту Уитмену. Ночь, смерть, мать и море победно сливаются в «Из колыбели…», но Уитмен удерживает их на расстоянии и практически одолевает в сильнейшем из этих двух стихотворений — «Когда жизнь моя убывала вместе с океанским отливом». В «Из колыбели…» прослеживается воплощение в Уитмене поэтического характера; в «Когда жизнь моя…» уклончиво описана некая неотчетливая, но ранящая личная драма, которую Уитмен, кажется, пережил зимой с 1859 на 1860 год. Ощущение неудачи, предположительно сексуального характера, наполняет «Когда жизнь моя…» новым пафосом, богаче которого у Уитмена еще не бывало. Ни в чем из написанного им до элегии «Сирень» американский семейный роман не выражался так полно, как в этом выдающемся моменте, когда он, измученный, падает на берег и из этого действия создается мощнейший известный нам образ примирения с отцом:
Я бросаюсь к тебе на грудь, отче, Я так к тебе прижимаюсь, что ты не можешь меня оттолкнуть, Я стискиваю тебя до тех пор, пока ты мне не ответишь хоть чем-нибудь. Поцелуй меня, отче, Коснись меня губами, как я касаюсь любимых, Шепни мне, покуда я сжимаю тебя, тайну твоего ропота, которой я так завидую.Тайна океанского ропота и материнских рыданий[359] заключается в том, что, каким бы неистовым ни был отлив, прилив всегда будет повторяться. Для Уитмена это — религиозная тайна, составляющая гнозиса — познания, при котором познается само «я». Уитмен определенно понимал, что его страна нуждается в собственной религии и собственной литературе. Его центральное положение в американском каноне по крайней мере отчасти объясняется его до сих пор «неофициальными» ролью и положением национального религиозного поэта. Мудрецы и богословы американской религии составляют до странного пестрое общество: Ральф Уолдо Эмерсон, мормонский пророк Джозеф Смит, запоздалый визионер Южных баптистов Эдгар Янг Маллинс, Уильям Джеймс, Элен Хармон Уайт, основавшая Церковь адвентистов седьмого дня и Хорас Бушнелл, изощреннейший из американских богословов.
Поэт американской религии одинок, хотя и объявляет раз за разом, что он есть множество[360]. Когда же он идет не один, то рядом с ним — или Иисус, или смерть:
В полночь, лежа без мыслей в одинокой каморке на заднем дворе, Блуждая по старым холмам Иудеи бок о бок с прекрасным и нежным богом…Эти старые холмы принадлежат Иудее, но находятся в Америке, как и тенистое болото, где Уитмен слышит песню дрозда-отшельника в элегии «Сирень». Птица поет песню смерти и примирения, в которой метафорически нарушается табу на инцест с матерью. Уитмен — великий религиозный поэт, несмотря на то что его религия — это американская религия, а не христианство; трансцендентализм Эмерсона тоже был постхристианским. Как и у Торо, у Уитмена ощущается «Бхагавадгита», но индуистская концепция опосредована у него западным герметизмом с его неоплатонической и гностической составляющими.
У Уитмена познание называется «в один голос» или «в соответствии»[361] и сопрягается одновременно с аутоэротизмом и писанием стихов. «Соответствуя», Уитмен напоминает себе (вслед за Эмерсоном), что он не принадлежит к творению, точнее, что лучшее и древнейшее в нем творению предшествует. «В соответствии» делается уитменовской метафорой гнозиса, вневременного познания американской религии. Шире говоря, уитменовское «соответствие» делается его главной канонической метафорой и становится одним из центральных понятий нашей литературы. Харт Крейн выразил это, взывая к Уитмену в части «Моста» под названием «Мыс Хаттерас»: «О, ввысь от мертвецов / Ты несешь согласие, договор, новый предел / Живого братства!» В представлении Крейна, новый завет Уитмена — завет орфический: «согласие» заменяет Эвридику. Крейново истолкование элегии Уитмена кажется мне непревзойденным, ведь создатель «Когда во дворе перед домом цвела этой весною сирень» действительно выносит «из мертвых» согласие, принеся перед этим к гробу Линкольна его символ:
И здесь, где ты так неспешно проходишь, о гроб, Я даю тебе мою ветку сирени.Сорок седьмое изречение Иисуса в древнем, протогностическом Евангелии от Фомы гласит: «Будьте прохожими». Возможно, Иисус велит своим ученикам странствовать наподобие мудрецов-киников, но я предпочитаю более уитменианское их прочтение. «Проходить» — глагольная метафора в элегии «Сирень», а «в один голос» — субстантивное иносказание в ней, и гениальность стихотворения Уитмена состоит в том, что познание в нем — это некое хождение, путешествие-вопрошание туда, где самоуглубление приводит к полному единогласию:
И все же я сохраню навсегда каждую, каждую ценность, добытую мной этой ночью, — Песнь, изумительную песнь, пропетую серо-бурою птицей, И ту песнь, что пропела душа моя, отзываясь на нее, словно эхо, И никнущую яркую звезду с полным страданья лицом, И тех, что, держа меня за руки, шли вместе со мною на призыв этой птицы, Мои товарищи, и я посередине, я их никогда не забуду, ради мертвого, кого я так любил, Ради сладчайшей и мудрейшей души всех моих дней и стран, — ради него, моего дорогого, Сирень, и звезда, и птица сплелись с песней моей души Там, среди елей душистых и сумрачных темных кедров.Этот выдающийся финал, возможно, лучший у Уитмена, а то и во всей американской поэзии, затейливо соткан из множества образных нитей, составляющих стихотворение. В нем сплетены не только главенствующие символы этой элегии. Когда поэт уверенно поет согласие, неотделимое от его центрального положения в каноне, все главные стихотворения Уитмена сходятся воедино.
Задумавшись о первостепенных американских писателях, скорее всего, вспомнишь Мелвилла, Готорна, Твена, Джеймса, Кэсер, Драйзера, Фолкнера, Хемингуэя и Фицджеральда — из прозаиков. Я бы еще добавил Натанаэла Уэста, Ральфа Эллисона, Томаса Пинчона, Фланнери О’Коннор и Филипа Рота. Ряд важнейших поэтов начинается с Уитмена и Дикинсон, в него входят Фрост, Стивенс, Мур, Элиот, Крейн и, может быть, Паунд с Уильямом Карлосом Уильямсом. Из тех, что поближе к нам, я бы назвал Роберта Пенна Уоррена, Теодора Рётке, Элизабет Бишоп, Джеймса Меррилла, Джона Эшбери, А. Р. Эммонса, Мэй Свенсон. Драматурги не так славны: чтение Юджина О’Нила уже не радует; может быть, только положение Теннесси Уильямса с течением времени улучшится. Нашими главными эссеистами остаются Эмерсон и Торо: с ними никто так и не сравнился. По слишком широко популярен в мире, чтобы без него обойтись, хотя почти все написанное им чудовищно.
Не приходится и спорить о том, кто из этих тридцати с лишним писателей (а также всех тех, которых мог бы добавить читатель) оказался наиболее влиятелен — в своей стране и за рубежом. Элиот и Фолкнер могут быть ближайшими соперниками Уитмена в том, что касается воздействия на других писателей, но они не имеют его практически всемирного значения. Дикинсон и Джеймс, возможно, достигли тех же эстетических высот, что Уитмен, но они не могут соперничать с его универсальностью. Американская литература за рубежом — в испаноговорящей Америке, Японии, России, Германии или Африке — это всегда в первую очередь Уитмен. Здесь я хочу всего лишь отметить влияние Уитмена на двоих поэтов: Д. Г. Лоуренса и Пабло Неруду.
Неруда может считаться центральной фигурой канона всей латиноамериканской литературы, а Лоуренс, хотя и явно вышел из моды в наш век социальных догматиков, остается прозаиком, эссеистом, поэтом непреходящего значения — настоящим пророком, чьи слава и влияние всегда будут возвращаться. Лоуренс, как до него — Харди и Шелли, еще будет хоронить своих могильщиков, так же как Уитмен похоронил несколько поколений снисходительных гробокопателей.
Лоуренс видел вокруг Уитмена нечто от той ауры, которой набожные мормоны окружили Брайама Янга, американского Моисея. Более художественный Моисей Лоуренса Уитмену бы понравился:
Уитмен, великий поэт, так много для меня значил. Уитмен, единственный человек, торивший путь вперед. Уитмен, единственный пионер. И только Уитмен. Ни английских пионеров, ни французских. Ни европейских пионеров-поэтов. В Европе мнимые пионеры — всего лишь изобретатели. То же в Америке. Впереди Уитмена — ничего. Впереди всех поэтов, пионером в чаще неоткрытой жизни — Уитмен. Выше него — никого.
Лоуренс способствовал зарождению американской литературоведческой традиции — вечно открывать заново настоящего Уитмена, великого мастера тонкости, нюанса, изящной уклончивости, герметической сложности и прежде всего — канонической самобытности. Уитмен — зачинатель того специфически американского, что есть в нашей художественной литературе, пусть его и называют своим предком соперничающие друг с другом лагеря. Из чтимых мною поэтов моего поколения Джеймс Райт догнал одного Уитмена, Джон Эшбери совсем другого, А. Р. Эммонс третьего — и не приходится сомневаться в том, что подлинных Уитменов еще прибудет.
Помню, как однажды летом, переживая трудное время, я был с другом в Нантакете — он был поглощен рыбалкой, а я читал нам вслух Уитмена и пришел в себя. Когда я один и читаю вслух себе самому, то почти всегда Уитмена, иногда — когда мне отчаянно нужно унять скорбь. Читаете ли вы вслух другому человеку или в одиночестве, декламировать Уитмена отчего-то одинаково уместно. Он — поэт нашего климата, которому никогда не найдется замены и едва ли когда-нибудь найдется ровня. Лишь немногие из писавших по-английски поэтов превзошли «Когда во дворе перед домом цвела этой весною сирень»: Шекспир, Мильтон, может быть, еще один-другой. В том, что даже Шекспиру с Мильтоном удалось достичь более пронзительного пафоса и более мрачного красноречия, чем Уитмену в «Когда во дворе…», я подчас сомневаюсь. Великая сцена с участием безумного Лира и слепого Глостера; речи Сатаны, собравшего свои падшие легионы — тут воплощено агонистическое Возвышенное. Того же достигают эти стихи — только сверхъестественно тихо:
На ферме, во дворе, пред старым домом, у забора, беленного известью, Выросла высокая сирень с сердцевидными ярко-зелеными листьями, С мириадами нежных цветков, с сильным запахом, который я люблю, И каждый листок есть чудо; и от этого куста во дворе, С цветками такой нежной окраски, с сердцевидными ярко-зелеными листьями, Я ветку, всю в цвету, отломил.12. Эмили Дикинсон: пустоты, порывы, темнота
Если бы кто-нибудь позаимствовал у Эрика Бентли заглавие «Драматург как мыслитель» для книги под названием «Поэт как мыслитель», то Эмили Дикинсон должна была бы удостоиться в этом труде особого внимания. Дикинсон выказывает больше когнитивной самобытности, чем любой другой западный поэт после Данте, не считая Шекспира. Ее главным соперником мог бы стать Уильям Блейк, который тоже заново концептуализировал все под себя. Но мифотворчество Блейка было систематическим, и его система способствует организации его размышлений. Дикинсон переосмыслила все под себя, но она писала в форме лирической медитации, а не в драматической форме или в форме мифопоэтического эпоса. Шекспир располагает сотнями персонажей, Блейк — десятками своих так называемых Гигантских Форм. Дикинсон ограничивалась прописной буквой «Я», практикуя искусство исключительного лаконизма.
Те, кто пишет о Дикинсон, почти всегда недооценивают ее поразительную интеллектуальную сложность. Ни одно общее место не переживает ее присвоения; то, что она не переименовывает и не переопределяет, она переделывает так, что сразу и не узнаешь. Уитмен послал свои сочинения Эмерсону; Дикинсон, что характерно, выбрала Томаса Уэнтворта Хиггинсона, человека смелого, но не литературоведа. Он был сбит с толку, но тут мы отличаемся от него лишь в степени; мы тоже сбиты с толку — не ее выдающимся положением, но силой ее ума. Мне не верится, что хотя бы один литературовед соответствовал ее интеллектуальным запросам, и я сам не претендую на такое соответствие. Но я надеюсь дополнительно обосновать ее непревзойденную когнитивную самобытность и проистекающую из нее сложность ее творчества, чтобы мы лучше увидели, что содержится в некоторых из сильнейших ее стихотворений.
Странность, как я не перестаю обнаруживать, есть одно из главных условий вхождения в Канон. Дикинсон так же странна, как Данте или Мильтон, навязавшие нам свои идиосинкратические видения (оттого-то наши исследователи и считают их гораздо более догматическими, чем они есть на самом деле). Дикинсон слишком лукава, чтобы навязывать что бы то ни было, но мыслитель она такой же своеобразный, как Данте. Ее современник Уитмен всегда остается впереди нас благодаря своим тонкостям и неуловимости метафор. Дикинсон дожидается нас, все время обгоняя, а мы не поспеваем за нею, потому что очень немногие могут подражать ей, досконально переосмысливая все под себя.
Лет десять назад в книжке под названием «Разбиение сосудов»[362] я отчасти проследил судьбу метафоры пустоты[363] в английской и американской поэзии, от Мильтона — через Вордсворта, Кольриджа, Эмерсона и Уитмена — до Стивенса. Я думал поразмышлять также о пустотах у Дикинсон, но отступил перед их грозной напряженностью. Они фигурируют в девяти ее стихотворениях; они все замечательны, но мне больше всего нравится номер 761, примерно датируемое 1863 годом, когда поэтессе было тридцать два года:
From Blank to Blank — A Threadless Way I pushed Mechanic feet — To stop — or perish — or advance — Alike indifferent — If end I gained It ends beyond Indefinite disclosed — I shut my eyes — and groped as well ‘Twas lighter — to be Blind — От Пустоты к Пустоте — Без Нити путь Я передвигала Механические ноги Остановиться — или сгинуть — или вперед — Равно безразлично — Если я достигла конечной цели, То она кончается по ту сторону Открывшегося неопределенного — Я закрыла глаза — и шла наощупь Было легче — быть Слепой —[364]Вместить так много в сорок одно слово и десять строк, кажется, невозможно. Это крохотное афористическое стихотворение проводит нас от самого Тесея, архетипа неблагодарного героя, оставляющего женщину, которая дала ему путеводную нить, до Мильтона — начиная с него поэты-мужчины используют метафору вселенской пустоты, которую природа явила им в их слепоте[365]. Нет Ариадны, которая бы дала Дикинсон нить, чтобы найти выход — хотя та, возможно, и догадывается, к чему она так боится приблизиться: это может быть Минотавр из ее кошмаров, символ мужской силы, не исключено, что и мужской сексуальности. Страх порождает безнадежное безразличие, необходимость передвигать механические ноги, идя без путеводной нити от одной пустоты к другой. Тут предсказывается нора Кафки[366] — и впору вспомнить, что Дикинсон был заворожен Пауль Целан, результатом чего стало несколько замечательных переводов. Все это содержится в пяти строках первой строфы; и это еще не все, ибо разве можно ограничить отзвуки слов «От Пустоты к Пустоте»?
Руины, или пустота, которые мы обнаруживаем в природе, писал Эмерсон, находятся в нашем собственном глазу[367]. Он, по всей видимости, отсылал к оде Кольриджа «Уныние», в которой взгляд героя «так пуст»[368]: это, как было известно и Кольриджу, и Эмерсону, тоже аллюзия — к сетованиям Мильтона на свою слепоту. «Быть Слепой» по своей воле — значит перестать видеть Пустоту, которая у Дикинсон, как и у ее предшественников-мужчин, означает поэтический кризис. Разумеется, бесконечные пустоты Стивенса ближе к пустотам Дикинсон, чем к Мильтоновым или Кольриджевым, и Стивенс беспрестанно ассоциирует их с поэтическим кризисом. Оглянемся на первую строфу «От Пустоты к Пустоте»; главный глагол — в прошедшем времени: «передвигала». Где же она в таком случае сейчас? Вторая строфа не дает ответа: «Если я достигла конечной цели / То она кончается по ту сторону / Открывшегося неопределенного». Это очень трудное письмо и очень напряженная мысль. Переход от «достигла» (прошедшее время) к «кончается» (настоящее время) намекает на то, что она-таки пришла к конечной цели: конечность этой цели длится по ту сторону остающегося неопределенным откровения.
Неподатливые слова: трансцендирующая конструкция «по ту сторону», придающая другой оттенок смысла условной конструкции с «конечной целью» и напоминающая об игре слов «конечная цель — кончается». Конечная цель, которая кончается по ту сторону чего бы то ни было, — это никакая не конечная цель. Ее упоминание подготавливает решительное действие, контрастирующее с передвижением ног: «Я закрыла глаза». Перестав видеть пустоту, ты выходишь из руин, или лабиринта, природы, но достижение это — двусмысленно: «и шла наощупь / Было легче».
Следует ли читать это так: «шла наощупь, словно так было легче»? Возможно, но при таком прочтении мы лишимся ужасающей иронии, расширяющейся в последних словах, взятых в тире: «быть Слепой». Легче ли быть слепой? Вследствие этой метафорической переработки сетования Мильтона утрачивают свой героический пафос, тот пафос, который Кольридж, Вордсворт и Эмерсон вложили в свои «пустоты». Во всех стихотворениях о поиске у Дикинсон есть кафкианские, лабиринтные составляющие: они суть путешествия в никуда, очень похожие на хождения по пляжу Стивенса в «Осенних зорях» и Уитмена в «Морских течениях». То, что ее стихотворение «От Пустоты к Пустоте» опустошает некую традицию героического пафоса поэта-мужчины, кажется мне очевидным. Мильтон и/или Эмерсон — вот ее пустоты в Шекспировом смысле этого слова: «яблочко», белый кружок в середине мишени, «мишень для глаз»[369]. Эта мишень, возможно, подсказала лишенной путеводной нити Дикинсон Тесея и нить Ариадны, но случаем лукаво отождествить мифического (не Шекспирова) Тесея с патриархальным Мильтоном было, наверное, нельзя не воспользоваться. Получается, что «От Пустоты к Пустоте» — это переход от одной мишени к другой, от Тесея к Мильтону, и маленькое высказывание Дикинсон и впрямь несет в себе скрытую угрозу.
Описанное мною в самых общих чертах выше есть пример лишения имени, весьма напоминающий притчу Урсулы Ле Гуин, в которой Ева отнимает имена у зверей. Дикинсон могла бы воспользоваться названием, которым воспользовалась Ле Гуин, — если бы Дикинсон когда-нибудь снизошла до использования названия: «Она отнимает у них имена». Будь моя воля, я бы использовал это название вместо «Полного собрания стихотворений Эмили Дикинсон». Она не прекращает отнимать у них имена, возвышенно и возмутительно отнимая имена даже у пустот. Эмерсон призывал поэта отнимать имена и давать новые. Уитмен предусмотрительно избегал давать и отнимать имена. Дикинсон было не слишком интересно переименование, поскольку оно следует за переосмыслением, которое так сродни лишению имени. Я так же мало заинтересован в том, чтобы превращать Дикинсон в Витгенштейна из Амхерста, как и в том, чтобы видеть в ней предшественницу Эдриен Рич и прочих бунтарей против патриархальных поэтических традиций. Изобретенную Дикинсон манеру очень трудно повторять, и она не слишком подействовала на лучших поэтесс этого века: Марианну Мур, Элизабет Бишоп, Мэй Свенсон. Более существенное влияние Дикинсон можно обнаружить у Харта Крейна и Уоллеса Стивенса, унаследовавших ее страсть к лишению имен, к отбрасыванию светил и определений[370], но не способных угнаться за ее прихотливым умом.
Покойный сэр Уильям Эмпсон имел в виду Харта Крейна, говоря, что в наше время поэзия сделалась опасной игрой, актом отчаяния с практически самоубийственными импликациями. За исключением Кафки, я не знаю ни одного писателя, который бы выражал отчаяние так мощно и так постоянно, как Дикинсон. Все мы чувствуем, что отчаяние Кафки имеет в первую очередь духовный характер; отчаяние Дикинсон кажется в первую очередь когнитивным. В ней было достаточно от Эмерсона, чтобы превозносить свои прихоти, и достаточно от Мильтона, чтобы стать самой себе сектой — в духе, хотя и не в манере Уильяма Блейка. Ее муки имеют характер интеллектуальный, а не религиозный, и все попытки читать ее как благочестивого поэта кончались крахом. Сущность под названием «Бог» проделывает в ее творчестве очень непростой путь и удостаивается куда меньшего уважения и понимания, чем соперничающая с нею сущность, которую Дикинсон называет «Смерть». В своей жизни Дикинсон влюблялась в одного-двух священников, а также в судью, но никогда не расходовала приязни на возлюбленного, который, по ее словам, был для нее слишком далек и слишком величав[371]. Поэт, который перед тем, как назвать Бога отцом, называет его грабителем и банкиром[372], настроен явно не на благочестие.
Литературная самобытность достигает у Дикинсон вопиющих масштабов, и главная ее составляющая — это то, как ее стихотворения продумываются. Она начинает, еще не начав, с подразумеваемого акта лишения имени, совершаемого в отношении мильтоново-кольриджево-эмерсоновой пустоты посредством скрытой шекспирианской подмены. Затем она раскрывает троп, восстанавливая его диахронию; она знает больше нашего о временной несостоятельности метафор. Тут ее кое-чему научил Эмерсон, но больше она узнала сама; Эмерсон не выказывал ничего, подобного ее подозрительности в отношении исторической тирании метафор поэтического бессмертия или духовного спасения. И, хотя она в достаточной степени романтик, чтобы искать «вечно-раннюю чистоту» (по выражению Стивенса)[373], ее представление о своем Белом Избрании[374]опять же содержит в себе подозрения насчет цены, которую приходится платить за возвращение к этому «раннему» состоянию. Если вы — главная поэтесса в истории Запада, то вы можете позволить себе чтить миссис Браунинг, которой никак не встать у вас на пути. Подобно Уитмену, Дикинсон — субъект опаснейшего из непосредственных влияний. Главные последователи Уитмена суть самые неявные: Элиот в «Бесплодной земле» и Стивенс. Аналогичным образом, самое продуктивное воздействие Дикинсон оказала на Элизабет Бишоп и Мэй Свенсон, которые постарались, чтобы их поэзия не походила на нее наружно. Ей самой была очевидно родственна поэзия Эмерсона, но непосредственными ее (как и его) предшественниками были английские романтики, а глубинные ее склонности были удивительно шекспировскими. Необозримое наследие мужской традиции было ей исключительно на руку, так как она состояла с этим космосом в уникальных отношениях. Литературоведы-феминисты, не умея или не желая понять, что борьба есть непреложный закон литературы, продолжают видеть в ней товарища, а не довольно опасную для них фигуру, которой она не может не быть.
Есть великие поэты, которых можно читать, когда ты обессилен или даже не в себе, потому что они утешают (в лучшем смысле этого слова). Вордсворт и Уитмен, безусловно, относятся к их числу. Дикинсон требует от читателя столь деятельного соучастия, что ему хорошо бы находиться в великолепной умственной форме. Всякий раз после того как я разбирал на занятиях ее стихи, у меня раскалывалась голова, поскольку их сложность вынуждала меня делать то, что свыше моих сил. Мой покойный учитель Уильям К. Уимсет получал мрачное удовольствие от моих рассказов о семинарах по Дикинсон: по его словам, я подтверждал свой статус памятника «Аффективной Ошибке» (как он это называл). Разумеется, Дикинсон представляет угрозу для всякого, кто считает, что возвышенное есть приглашение к тому, что когда-то называлось словом «порыв» (transport). Дикинсон испытывала коварную любовь к этому слову — как в форме существительного, так и в форме соответствующего глагола. Из ее рукописей мы знаем, что слова «ужас» и «восторг» она воспринимала как синонимы слова «порыв». Соединяя, таким образом, ужас с восторгом, она поначалу кажется скорее пережитком мироощущения, распространенного за столетие до нее, в эпоху Сентиментализма и Возвышенного. Но у нее «порыв» — это нечто совершенно иное, несущее в себе то самое небезразличное различие с Эмерсоновым прагматизмом, как в стихотворении номер под, сочиненном около 1867 года:
I fit for them — I seek the Dark Till I am thorough fit. The labor is a sober one With this sufficient sweet That abstinence of mine produce A purer food for them, if I succeed, If not I had The transport of the Aim — Я приноровляюсь к ним — Я ищу Темноты Пока не приноровляюсь совсем. Такой труд трезв С этой достаточной радостью Моя воздержанность производит Для них чистую пищу, если я преуспею, Если нет, то у меня был Порыв к Цели —Над этими тридцатью семью словами в девяти строчках легко сломать голову, но я редко могу отделаться от переиначенных Энгусом Флетчером слов Шелли о Возвышенном: Возвышенное убеждает нас отказываться от простых удовольствий ради более сложных и болезненных. Фрейда, возможно, не обрадовала бы эта формулировка, предполагающая, кажется, увеличение того, что он назвал «заманивающей премией»[375], садомазохистскими средствами. Пять слов, на которых строится это короткое, сильное стихотворение, — это два «приноровляюсь» и триада из «Темноты», «порыва» и «Цели». Важнейший вопрос этого стихотворения — «Кто такие Темнота?», а не «Что такое Темнота?»; это различие я основываю на «ним» в «Я приноровляюсь к ним», где «к ним», кажется, предваряет «Темноту». У Дикинсон «Темнота», в отличие от «Мрака», иногда кажется тем, что мы с вами назвали бы «мертвыми».
Большинство сильных поэтов имплицитно требуют, чтобы мы выучили их язык, прочитав все или почти все их стихотворения. В случае Дикинсон это требование, можно сказать, выражено эксплицитно, поэтому я обращаюсь к стихотворению 419, написанному примерно в 1862 году:
We grow accustomed to the Dark — When light is put away — As when the Neighbor holds the Lamp To witness her Goodbye — A Moment — We uncertain step For newness of the night — Then — fit our Vision to the Dark — And meet the Road — erect — And so of larger — Darkness — Those Evenings of the Brain — When not a Moon disclose a sign — Or Star — come out — within — The Bravest — grope a little — And sometimes hit a Tree Directly in the Forehead — But as they learn to see — Either the Darkness alters — Or something in the sight Adjusts itself to Midnight — And Life steps almost straight. Мы привыкаем к Темноте — Когда погаснет свет — Лишь на прощанье Фонарем Помашет нам Сосед — И мы ныряем наобум В глубь Ночи — но потом — Виднее делается Мгла — И мы смелей — идем — И то же самое — внутри — В глубокой Тьме Души — Когда затмится луч Звезды — И ни огня в Глуши — Кто смел — тот сразу же вперед Рванется наугад — И в Дерево ударит лбом — Но — постепенно — взгляд Осваивается впотьмах — И Жизнь — убавив Шаг — Почти как Зрячая — бредет — Сквозь разреженный Мрак[376].Чудесный юмор (смелый ударяет лбом в дерево) спасает стихотворение от слишком очевидной аллегоричности. Мне кажется, что смысловой центр этого стихотворения — слова «виднее делается Мгла», предвещающие написанное пять лет спустя стихотворение («Я приноровляюсь к ним — / Я ищу Темноты / Пока не приноровляюсь совсем»). Более раннее стихотворение — о преодолении страха перед мертвыми и, таким образом, перед своей собственной смертью, более же позднее «Я приноровляюсь к ним» начинается где-то далеко за пределами трепета. Приспособление себя к мертвым, приноровление к темноте происходит через продолжительные, сосредоточенные размышления о своих мертвых. Далее начинается очень непростая мысль: что имеет в виду Дикинсон, называя эти размышления своей воздержанностью и говоря, что, если она преуспеет, то будет произведена чистая пища для темноты, для ее мертвых?
Если не толковать это в мистическом ключе, то, кажется, мы видим эквивалент того, что Фрейд через великолепный образ определил как «работу печали»[377]. Дикинсон предвосхищает Рильке и своего переводчика Целана: она ассоциирует полное приноровление скорбящего к предмету скорби с чистой пищей, которая заменяет менее пригодную пищу, становящуюся меланхолией. Несмотря на великолепную уверенность, выраженную в этом стихотворении, Дикинсон осторожно добавляет: «если я преуспею». Остается утешение, в котором заключена жестокая ирония: «Если нет, то у меня был / Порыв к Цели». Это опустошает слово «порыв», подсказывая нам мысль о том, что это слово синекдохически означает неудачу в деле печали, и соотносит его с тем, что в более раннем стихотворении, «Мы привыкаем к Темноте», подается как более простая альтернатива: ослабевание тьмы, которому противопоставлено приноровление взгляда к Полуночи, вполне удавшееся привыкание к Темноте, к своим мертвым.
Дикинсон, в отличие от Йейтса, не поклонялась Полуночи. Когда Йейтс писал, что, едва пробьет полночь, Бог победит[378], он имел в виду, что восторжествует смерть — в Йейтсовой разновидности гностического мировоззрения Бог и смерть суть почти одно и то же. У Дикинсон не побеждает ни Бог, ни смерть, и она не забывает отделять их друг от друга. Она хотела, чтобы победила поэзия, «эта возлюбленная Филология», и ее поэзия со временем победила — тем специфическим способом, традиция которого не прерывается от Петрарки до наших дней. Ее Лаур разные исследователи видят в разных мужчинах, и ее интернализированная страсть к ним, какое бы отношение к действительности она ни имела, определенно вознаградила ее поэтическими метафорами.
Вот еще одно из ее невероятно коротких стихотворений о порывах, пустоте и смерти — тридцать одно слово в восьми коротких строчках, стихотворение 1153, возможно, написанное в 1874 году, за двенадцать лет до ее смерти:
Through what transports of Patience I reached the stolid Bliss To breathe my Blank without thee Attest me this and this — By that bleak exultation I won as near as this Thy privilege of dying Abbreviate me this — Через какие порывы Спокойствия Я получила невозмутимую Радость Дышать своей Пустотой без тебя Засвидетельствуй мне это и это — Печальным ликованием Я едва не стяжала это Твое преимущество смерти Сократи мне это —[379]Расшифровка иронии здесь — само по себе печальное ликование. «Порывы Спокойствия» — это оксюморон даже для Дикинсон, которая вслед за Китсом пристрастилась к внешне парадоксальной риторике. Джейн Остен оценила бы «порывы Спокойствия» как иронию в своем духе. «Невозмутимая Радость» еще лучше предуготавливает безрадостный процесс вдыхания своей Пустоты: благодаря этому действию те руины, с которыми мы сталкиваемся в природе, проецируются не на эмерсоновский человеческий глаз, а на само понятие жизни. С этого момента начинается сплошная трудность, сосредоточенная на четырехкратном «это». Главное в этом стихотворении — контраст между четвертой и восьмой строчками, противопоставление «Засвидетельствуй мне это и это» — «Сократи мне это».
Засвидетельствовать и сократить призывается умерший возлюбленный (или любовник). Перефразировать стихи Дикинсон опасно, но иногда полезно, и сейчас я этим займусь. Опустошенный и больной к смерти[380] поэт иронически обращает все свои с трудом добытые победы долготерпения и стоицизма вспять, к нескольким своим утратам. Исступление переродилось в спокойствие; довольство стало невозмутимым; дышать — значит принимать руины как картину мира. Продолжение жизни без ушедшего человека — свершение, которое нужно засвидетельствовать: первое «это». Второе «это» отражает состояние, превосходно названное «печальным ликованием», — шекспирианское ощущение вроде того, что можно испытать под конец сцены смерти Гамлета. С третьим «это» («…едва не стяжала это») мы достигаем настоящего времени этого стихотворения и переходим к его единственному положительно окрашенному оксюморону, «преимуществу смерти». Последнее «это» — останки жизни, смерть-при-жизни. «Сократи мне это» — не мольба и не просьба, но заявление о заслугах, движение к обретенному, освобождение от отчаяния, вызываемого продолжением жизни. Разве есть более выдающееся короткое стихотворение о глубоком отчаянии на нашем языке — что в британской его разновидности, что в американской?
Что общего для Дикинсон в «порывах», «пустотах» и «темноте»? Она не была первым постхристианским поэтом своего отечества; им, по всей видимости, был Эмерсон. И она, безусловно, уклончива в выражении своего крайне самобытного духовного кредо — в отличие от Уитмена, который в этом (и только в этом) отношении, кажется, прям. Но умом она превзошла всех наших поэтов, давних и новых, и она проливает свет на американскую религию так, как ни один другой писатель. Эстетический эквивалент нашего отечественного смешения орфизма, энтузиазма и гностицизма — самобытность, и даже Эмерсон не осмыслил самобытность так тонко, как Дикинсон. Она хотела быть самобытной даже в способе выражать отчаяние, и ей это удалось. Для нее отчаяние есть также исступление и порыв, а пустоты неотделимы от темноты — не из-за слепоты, а потому, что она испытывает сильнейшее недоверие ко всему, что можно отнести к категории чувства. Любовь, как ей известно, — это не чувство, а вот боль — всецело чувство. У Витгенштейна где-то есть афоризм совершенно дикинсоновский: «Любовь — не чувство. Любовь, в отличие от боли, проверяют. Мы не говорим: „Это была ненастоящая боль, ведь она так быстро прошла“».
Какими бы ни были психосексуальные предпочтения Дикинсон, вкуса к боли как таковой она не имела, потому что дошла умом до другой стороны чувствования. Отчаяние для нее — не чувство; его, как и любовь, проверяют. Самые самобытные ее стихотворения зачастую представляют собою такую проверку и по праву относятся к самым у нее известным, как, например, 258-е:
There’s a certain Slant of light, Winter Afternoons — That oppresses, like the Heft Of Cathedral Tunes — Heavenly Hurt, it gives us — We can find no scar, But internal difference, Where the Meanings, are — None may teach it — Any — ‘Tis the Seal Despair — An imperial affliction Sent us of the Air — When it comes, the Landscape listens — Shadows — hold their breath — When it goes, ‘tis like the Distance On the look of Death — Есть определенный Наклон света В конце Зимних Дней — Который гнетет, как Тяжесть Церковной Музыки — Он наносит нам Небесную Рану — Мы не можем отыскать шрама, Но есть внутреннее различие Там, где Значения — Никто не может научить этому — Никто — Это Печать Отчаяния Царственное горе, Посланное нам из Воздуха. Когда оно приходит, Пейзаж слушает — Тени — замирают — Когда оно уходит, это как Даль Облика Смерти —[381]Предположу, что для Дикинсон порывы имели такое же прямое отношение к свету, как и пустоты с темнотой. Ее лучший биограф, Ричард Сьюэлл, отмечает, изящно преуменьшая, что «она была в некотором роде специалист по свету», и цитирует ее чудесные снисходительные слова в адрес ее предшественника Вордсворта из письма, написанного в марте 1866 года, примерно пять лет спустя после великого стихотворения о «наклоне лучей»:
Февраль прошел Коньком, и я знаю Март. Вот «свет», которого, как сказал Незнакомец, «нет ни на земле, ни в море»[382]. Я могла бы его запечатлеть, но не станем Его печалить.
Вордсворт назван Незнакомцем потому, что Дикинсон отождествила его с ожиданием желанного незнакомца из «Полуночного мороза» Кольриджа[383]. Как известно, в стихах Дикинсон «Незнакомцами» называются и природа, и сознание, и иногда она называет Незнакомцем составную фигуру властителя, предшественника-мужчины. Вордсворт в «Элегических строфах» о Пильском замке с грустью отрекался от этого чудесного света, говоря, что его нет ни на земле, ни в море, что это всего лишь мечта поэта, но ему не довелось наблюдать последних этапов зимы в Новой Англии, «когда возвращаются полдни», — как сказал Уоллес Стивенс, переписавший «особый наклон лучей» Дикинсон в своих «Стихах нашего климата».
Ответ на грандиозный вопрос Стивенса — «Что тут есть, кроме погоды?»[384] — заранее дан (как Стивенсу было известно) в великолепном стихотворении Дикинсон об отчаянии. Ее стихотворение — порыв негаций, в котором пустота пустот возвышенно помещается в самое «яблочко» зрения — оксюморонную «Небесную Рану» и «Царственное Горе». Существительные — «Рана» и «Горе»; свет передает боль отчаяния, но прилагательные, «Небесная» и «Царственное», указывают на то, что этот свет следует приветствовать, что он передает нечто восхитительное. В конце концов, томление, вызванное звуком Органа, — томление весьма своеобразное, доступное лишь возбужденным и высоким чувствам. Адепт эмерсоновского прагматизма, Дикинсон обнаружила то самое небезразличное «внутреннее различие», изменение смыслов до невозможности их дальнейшей передачи.
Этот наклон лучей, «определенный» в обоих смыслах слова, называется «Печатью Отчаяния»; это не печать из Апокалипсиса, а что-то вроде инверсии чувственной печати, которая кладется на сердце в «Песни песней»: «Положи меня печатью на сердце твое, печатью — на мышцу твою! Ибо сильна, как смерть, любовь, как ад — безжалостна ревность! Ее стрелы — стрелы огня, пламя Господне!»[385]
Дикинсон не видит шрама, но печать на нее наложена. Отчаяние, как зачастую оказывается в сильнейших ее стихотворениях, имеет внешне онтологический, но внутренне эротический характер, и этот наклон лучей передает вызванную утратой меланхолию. Это — часть смысла, скрытого в неупоминании момента «между» в последней строфе: ведь здесь говорится о приходе и уходе наклона лучей, а о кратком промежутке, когда этот наклон царит, умалчивается. Вслушивающийся пейзаж и замирающие тени относятся к лучшим образам Дикинсон, но эллипсис у нее еще лучше. Во всем стихотворении есть воздействие света, но нет описания самого света — не считая того, что он падает с определенным наклоном. Всякое слово — предубеждение или предрасположение, говорил Ницше, поэтому каждое слово, в силу своей предвзятости, уже выражает некую наклонность, а всю правду, по Дикинсон, следует говорить уклончиво[386]. Слово «наклон», таким образом, есть слово слов, и, обращаясь к нему, Дикинсон делает его еще одной метафорой своего отчаяния.
Мне не кажется, что в стандартном истолковании этого стихотворения есть хоть что-то от Дикинсон; вряд ли это стихотворение касается страха смерти. К ее «внутреннему различию» этот наклон лучей добавляет совершенно иное опасение: оно касается новой чувственной утраты, которая наложит на ее сердце другую печать. У Дикинсон даже самые негативные, или пустые, порывы — все равно часть Американского Возвышенного, все равно воспевание того пугающего, что присуще душе, не являющейся частью природы. И, насколько я понимаю, ее наклон лучей также не есть часть природы. Это — синекдоха, обозначающая определенную склонность ее сознания. Блейк говорит, что мы превращаемся в то, что наблюдаем, но Дикинсон ближе к Эмерсону, который говорит, что только мы можем понять, что мы такое[387]. То, что томит Дикинсон, не вполне ей посторонне; царственное горе до некоторой степени уже в ней, и ранящие небеса тоже. Ее сознание, редко бездействующее, тонко изображено в этом стихотворении: оно здесь отвечает зимнему свету добавочным отблеском. В противовес Незнакомцу, Вордсворту, она по праву утверждает, что запечатлела его свет, которого нет ни на земле, ни в море.
Самая таинственная составляющая «Наклона лучей» — «задержка» смысла, существенно продленная даже по сравнению с обычной для Дикинсон радикальной практикой. В стихотворении о «внутреннем различии» тишина следует за светом и составляет его глубинное значение. Годом позже, развивая в стихотворении номер 627 схожую мысль, она создала величайшее свое произведение. Оно кажется мне вершиной американской поэзии, если не считать «Сирени» Уитмена, и, как и стихотворение Уитмена, выражает подлинное американское Возвышенное:
The Tint I cannot take — is best — The Color too remote That I could show it in Bazaar — A Guinea at a sight — The fine — impalpable Array — That swaggers on the eye Like Cleopatra’s Company — Repeated — in the sky — The Moments of Dominion That happen on the Soul And leave it with a Discontent Too exquisite — to tell — The eager look — on Landscapes — As if they just repressed Some Secret — that was pushing Like Chariots — in the Vest — The Pleading of the Summer — That other Prank — of Snow — That Cushions Mystery with Tulle, For fear the Squirrels — know. Their Graspless manners — mock us — Until the Cheated Eye Shuts arrogantly — in the Grave — Another way — to see — Оттенок, которого мне не взять — лучший — Цвет, слишком далекий, Чтобы я могла показывать его на Базаре — Гинея за погляд — Красивый — неосязаемый Строй — Который шествует на глаза Как Общество Клеопатры — Повторенное — в небе — Моменты Владычества, Которые происходят на Душе И оставляют ее с Досадой, Слишком изысканной — чтобы описать — Нетерпеливый взгляд — у Пейзажей — Словно они только что вытеснили Некий Секрет — который рвется, Как Колесницы — под Рубашкой — Мольба Лета — Другой Обман — Снега — Который укутывает Тайну Тюлем, Из страха, что Белки — знают, Их Нехваткие повадки — насмехаются над нами — Пока обманутый Глаз Не закроется надменно — в Могиле — Другой способ — видеть —[388]Здесь в сжатом виде явлена вся ее поэтика, одновременно эмерсонианская и контрэмерсонианская, новое и всецело индивидуальное доверие к себе и великое отъятие имен, негация не менее диалектическая и основательная, чем любая из предпринятых Ницше или Фрейдом. Это стихотворение Дикинсон, как никакое другое в ее веке, выражает сознание того, что мы всегда в заложниках у точек зрения. Достигая, как в этом стихотворении, самых дальних своих пределов, искусство Дикинсон позволяет ей умом и словом выйти из этого положения. Тем не менее она знает, что мы подчинены преемственности жизни внутри древней поэмы, составленной из точек зрения наших предшественников. Афоризмы Ницше из «Воли к власти», написанные поколением позже главного этапа творчества Дикинсон, можно читать как комментарий к «Оттенку…». Вот выдержка из 1046-й заметки (около 1884 года) «Воли к власти»:
Мы хотим удержать наши чувства и веру в них — и додумать их до конца! <…>
Наличный мир, который строился всем и живым, в итоге чего он сейчас так и выглядит (прочным и медленно движимым), мы хотим строить дальше — а не отметать критически мир как ложный.
Возводить на нем наши ценности, выделяя их и подчеркивая. <…>
Надо понимать основной феномен, именуемый жизнью, как феномен художественный…[389]
Ницше предлагает двойную установку, которую уже выполнили Эмерсон и Дикинсон. Нам следует осознавать преемственность наших представлений и в то же время направлять их в новое русло, словно никто прежде не знал этих представлений и не описывал их.
Весь акцент в «Оттенке» Дикинсон делается на том, чего не взять, на несхватываемой тайне, на метафоре, не поддающейся выражению. Знаменитая последняя строчка, «Другой способ — видеть», была слабо искажена литературоведами-феминистами в альтернативное, гендерно-дифференцированное видение. Но это очень сложное стихотворение, столь неуступчивое, сколь и выдающееся, и поддастся оно лишь сверхъестественно пристальному чтению, а не идеологии и не полемическому напору, какой бы благой ни была их общественная задача. Мы сталкиваемся с лучшим умом западной поэзии за примерно четыре столетия, на пике его сил. Каких бы мы ни придерживались убеждений и каких бы задач себе ни ставили, нам ни в коем случае нельзя путать свои установки с установками Дикинсон. Эмерсон, Ницше и Рорти[390] предупреждают нас о замешательстве, в которое приводит перспективизм, а Дикинсон делает то же самое и к тому же обладает поэтической силой, позволяющей ей указать на находящееся по ту сторону, на другой способ поставить личность и преемственность канонической традиции в диалектическое соотношение.
В 1862 году, когда Дикинсон был тридцать один год, она начала переписку с добродушным, хоть и несколько озадаченным, Томасом Уэнтвортом Хиггинсоном, героем и войны, и мира, но по интеллекту все же не Эмерсоном. Хиггинсон был одним из тех немногочисленных читателей, к которым Дикинсон обращалась, но и в его случае, и в случае других ее устремления были весьма ограничены. Он явил очередное подтверждение тому, что оттенок, или цвет, которого она искала, был так далек, что показывать его на издательском базаре было бы нелепо. И все же первая строфа — не бахвальство; главный акцент делается не на базаре, а на границах ее искусства, на том, что она бы хотела поймать, или взять, но не может. Один за другим даются четыре тропа (или цвета), призванные дать некое представление об оттенке, которого не взять: картина неба, досада как следствие переживания душой владычества, определенный свет, или «нетерпеливый взгляд», на пейзаж, различие между временами года, лето и зима. Все четыре вытекают из представления об Оттенке, но еще более тонко связываются, или объединяются, нарастающей настоятельностью изображения, необходимостью изобразить негативность того, чего не взять, — притом что Дикинсон всячески намекает на осознание некоего присутствия.
Эта четверка Возвышенных негаций начинается с роскошного шествия общества придворных Клеопатры, повторенного на китсовский изысканный лад[391] в «неосязаемом Строю», видимом на небе. «Неосязаемый» — не слишком дикинсоновское слово; в 1775 ее стихотворениях и фрагментах оно используется лишь еще один раз, когда она замечает, что «рана кажется неосязаемой / Пока не тронет Нас» (стихотворение 799). Возможно, то, чего ей не взять, еще ее не коснулось, и поэтому оттенок, или строй, кажется иллюзорным, даже когда виден на самом деле. Это согласуется со следующей строфой, в которой «Моменты Владычества /…происходят на душе» (курсив мой), а не в ней и не ее усилиями.
Когда осуществляется переход к пейзажу, мы оказываемся еще дальше в сфере неосязаемого:
Нетерпеливый взгляд — у Пейзажей — Словно они только что вытеснили Некий Секрет — который рвется, Как Колесницы — под Рубашкой —Осязаемо тут очарование — во всех смыслах этого слова. Слово «вытеснили» звучит в стихотворениях Дикинсон один-единственный раз, и в наш постфрейдовский век нам следует помнить о прежнем значении этого слова, связанном с вольным, а не невольным сокрытием или забвением. Нетерпеливые Пейзажи, очеловеченные до необычной для Дикинсон степени, едва удерживают в себе свой секрет, предположительно проявляющийся в некоем наклоне лучей. Этот секрет отчасти проясняется в следующей строфе — предпоследнем откровении этого стихотворения:
Мольба Лета — Другой Обман — Снега — Который укутывает Тайну Тюлем, Из страха, что Белки — знают,Снег — это покров, или завеса, из тюля, белый накрахмаленный шелк; но какую тайну он укутывает, или скрывает, какой секрет? О чем молит лето — только для того, чтобы зима показала: даже мольба, произносимая временем года, — лишь очередной обман? Мольбы, обманы, укутывание — все это уклонения, которые совершает очеловеченная и обретшая точку зрения природа, подозревающая, что белки знают секрет, проникли в тайну. При этом сами белки — наиболее таинственная деталь этого стихотворения. Как нам читать пугающую строчку, в которой о них говорится: «Их Нехваткие повадки — насмехаются над нами»?
В великом, до сих пор не датированном стихотворении 1733, возможно, содержится подсказка:
No man saw awe, nor to his house Admitted he a man Though by his awful residence Has human nature been. Not deeming of his dread abode Till laboring to flee A grasp on comprehension laid Detained vitality. Ни один человек не видел ужаса, и тот в свой дом Не допускал человека Хотя рядом с его ужасным жилищем Человеческая природа была. Она не думала о его страшной обители Пока не пыталась бежать Хватка, вцепившаяся в понимание, Остановила силу жизни[392]Ужас — это Иегова (а то и сам возлюбленный Высший Судия), а его ужасный, страшный дом — это, предположительно, вечность, в которую не войти, не отказавшись от силы жизни ради смерти. Хватка, вцепившаяся в понимание, — это осознанная защита от принципа реальности, или того, что Фрейд назвал примирением с неизбежностью ухода. Повадки белок названы нехваткими и сказано, что они насмехаются над нами: это может означать, что в их понимание проверки реальности, в отличие от нашего, никто хваткой не вцепился. Они продолжают насмехаться над нами:
Пока обманутый Глаз Не закроется надменно — в Могиле — Другой способ — видеть —Глаз каждого из нас был обманут, поскольку наше понимание взято хваткой; глаз надменно закрывается с ложной надеждой на то, что он откроется вновь — где бы то ни было. Что такое «другой способ — видеть» — в контексте Могилы? Если последняя строчка не выражает чистую, жестокую иронию (а я так не думаю), то мы возвращаемся к перспективизму, которому Дикинсон научилась у Эмерсона и который затем вывела «за пределы» изученного, в свою собственную негативную поэтику. Ее новый перспективизм — потому другой способ видеть, что он видит то, чего увидеть нельзя, силы, загоняющие пейзажи и времена года в человеческие смыслы. Ее глаз не обманут, поскольку она отказалась от грабежа и присвоения. То, чего ей не взять, — действительно лучшее, и следующая отсюда восприимчивость ее воли вознаграждает ее уникальной способностью отнимать имена.
Воля к власти у Эмерсона и Ницше тоже восприимчива, но ее реакция — интерпретация, поэтому у них каждое слово становится интерпретацией либо человека, либо природы. Способ Дикинсон — как видеть, так и волить — предпочитает вопрошание интерпретации и предполагает своего рода отчуждение и человеческих установок, и природных процессов. С ее самобытностью не сравнится даже сила ее поэтических потомков: Уоллеса Стивенса, Харта Крейна, Элизабет Бишоп. Ее каноничность — результат ее состоявшейся странности, ее диковинного отношения к традиции. В еще большей степени она происходит из ее когнитивной силы и риторической ловкости, — а не из ее половой принадлежности или какой бы то ни было гендерной идеологии. Ее уникальный порыв, ее Возвышенное основаны на умении лишить имен все то, в чем мы абсолютно уверены, и превратить это в пустоты; так ей и подлинным ее читателям дается другой способ видеть — почти что видеть в темноте.
13. Канонический роман: «Холодный дом» Диккенса, «Мидлмарч» Джордж Элиот
Возможно, новая Теократическая эпоха XXI века — христианская ли, мусульманская, та и другая, ни та, ни другая — соединится с Компьютерной эрой, уже грозящей нам в ранних версиях «виртуальной реальности» и «гипертекста». Образовав со всеобщим телевидением и Университетом ресентимента (уже порядочно окрепшим) единое чудище[393], это будущее отменит литературный канон раз и навсегда. Роман, стихотворение, пьеса — все станет заменяемо. Эта короткая глава — ностальгический подступ к каноническому роману во всей его силе. Роман, дитя ныне ушедшего в прошлое жанра рыцарского романа, сам сделался архаичен после того, как его последние пределы были достигнуты Джойсом, Прустом, Кафкой, Вулф, Манном, Лоуренсом, Фолкнером, Беккетом и южноамериканскими наследниками Стерна и Фолкнера. В Демократическую эпоху, на которую пришелся расцвет романа, его мастера были поразительно многочисленны: Остен, Скотт, Диккенс, Элиот, Стендаль, Гюго, Бальзак, Мандзони, Толстой, Тургенев, Гончаров, Достоевский, Золя, Флобер, Готорн, Мелвилл, Джеймс, Харди; эпилогом стал Конрад. После Конрада тень объекта пала на «я»[394] и для художественной прозы началась та эпоха, которая сейчас заканчивается.
Ни один писатель XIX века, даже Толстой, не пересилил Диккенса, по богатству воображения едва ли не соперничающего с Чосером и Шекспиром. Большинство исследователей сегодня сходятся на том, что «Холодный дом» — главное его сочинение; Диккенс питал огромную привязанность к «Дэвиду Копперфильду», но это был его портрет художника в юности. Космос Диккенса, его фантасмагорический Лондон и визионерская Англия, явлен в «Холодном доме» с ясностью и резкостью, равных которым нет в других его сочинениях — ни более ранних, ни более поздних. Ни в одном другом романе на английском языке не создано так много — пусть даже, наверное, скорее в манере Бена Джонсона, чем Шекспира. Герой Диккенса зачастую не способен меняться и его действия, как правило, его умаляют; на эти наблюдения меня навел Г. К. Честертон[395], мой любимый исследователь Диккенса, а также Чосера и Браунинга. Мы не ждем перемен от Урии Хипа, Пекснифа и Сквирса — и мы точно так же не были бы готовы к мутациям сознания Вольпоне или сэра Эпикура Маммона[396]. Но Эстер Саммерсон, безусловно, меняется; то, как искусно Диккенс создает ее повествование от первого лица, ее характер, ее личность, часто недооценивают.
Должен признаться, что почти каждый раз, перечитывая этот роман, я плачу в тех местах, где плачет Эстер Саммерсон — и я не думаю, что это сентиментальность. Читатель должен отождествлять себя с нею или вовсе не читать этой книги так, как читали раньше — то есть так, как только и следует читать. Пропорционально тому, как сильно мы травмированы, мы представляем собою версии Эстер; как и она, мы «вспоминаем вперед»[397]. У Эстер вызывает слезы всякий увиденный ею признак доброты и любви; в лучших своих проявлениях, когда мы не умираем заживо, мы тоже хотим плакать. Травма вспоминает вперед; всегда, когда боль отступает, приходят слезы облегчения и радости.
Травма Эстер универсальна, потому что нанесена бременем сиротства, а ведь мы все приговорены к тому, чтобы рано или поздно остаться без родителей. Литературоведов-феминистов занимает мысль о том, что Эстер является жертвой патрилинейного общества, и они без восторга относятся к Джону Джарндису — наперекор всему изобразительному мастерству Диккенса. Как великий художник, Диккенс не патриархальнее Шекспира, а создатель Розалинды и Клеопатры не кажется мне идеологически патриархальным. Какие идеологические взгляды имел Шекспир-человек, мы не знаем. Диккенс-муж, отец и пророк семейной мудрости определенно был идеологом патриархата, на что справедливо негодовал Джон Стюарт Милль; но создатель Эстер Саммерсон, прозаик Диккенс — не идеолог. Эстер, которая не перестает себя уничижать, — один из умнейших персонажей во всей истории романа, и она, представляется мне, куда вернее отражает важнейшие составляющие диккенсовского духа, нежели Дэвид Копперфильд. Диккенс никогда не сказал бы того, что сказал Флобер о своем отношении к Эмме Бовари; как странно было бы, признайся он: «Эстер Саммерсон — это я». Между тем я полагаю, что так и есть.
Эстер — связующее звено между двумя сюжетными планами «Холодного дома»; она одна сводит воедино кафкианский лабиринт Канцлерского суда с трагедией своей матери, леди Дедлок. С Канцлерским судом ее связывает не падение Ричарда Карстона и его женитьба на Аде, но отрицание Канцлерского суда ее опекуном Джоном Джарндисом, отрицание, в котором она принимает участие. Основная функция Джона Джарндиса в «Холодном доме» — не являть собою самого добродушного и бескорыстного из патриархов (хотя он таков и есть), но последовательно не признавать Канцлерский суд, доказывая тем самым, что созданный человеком лабиринт человеком же может быть разрушен. Одна из прелестей мощного влияния Диккенса на Кафку — в совершенно борхесовском воздействии Кафки на то, как мы понимаем Диккенса. Канцлерский суд, подобно Процессу и Замку Кафки, — явление гностическое: Закон присвоил себе Космократор, Демиург. Блейк никак не сказался на Диккенсе, но гностическая установка делает «Холодный дом» очень блейкианской книгой, хотя Диккенс своего еретического порыва ни в коей мере не осознавал. Канцлерский суд в «Холодном доме» не может быть переустроен; он сгорит лишь тогда, когда его прекратят созерцать[398], как отказываются созерцать его Джон Джарндис и Эстер. В этом, кажется, апокалипсический смысл самовозгорания бедного мистера Крука — самой отъявленной странности «Холодного дома» (хотя есть и множество других, утверждающих этот роман еще и в качестве волшебной сказки). Безумный, но довольно добрый, Крук сгорает, как спичка, из-за своего символического и осознанного самоотождествления с лордом-канцлером.
Эстер Саммерсон всегда разобщала исследователей и критиков — и во времена Диккенса, и сейчас; не думаю, что она разобщала обыкновенных читателей, а также тех исследователей и критиков, которые сумели остаться читателями-«интуитивистами». В «Холодном доме» ирония в основном втиснута в те главы, где повествование ведет безличный рассказчик. В повествование Эстер Диккенс впускает явную иронию, лишь когда Эстер делается достаточно сильна и здорова, чтобы выносить собственные иронические суждения, предметом которых оказываются Скимпол и прочие. Она представляется не столько экспериментом Диккенса по изображению бескорыстия и травмы, сколько его единственной последовательной попыткой (непременно шекспировской по духу) описать психологическую перемену. В каком-то смысле Диккенс создал ее наперекор своему гению и, возможно, сам это понимал. Ее таинственная болезнь и ее последствия — победа фантасмагории, но, несмотря на это, Эстер в меньшей степени принадлежит миру Диккенса, чем ее родители, потому что и Немо, и леди Дедлок возникли из характерной для Диккенса лихорадочности влечений. Эстер стоит особняком — настолько вне диккенсовского буйства красок, что иногда кажется, будто он любовно и благоговейно трепещет перед нею. Она — его вклад в британскую традицию героинь протестантской воли, начавшуюся с Клариссы Харлоу и закончившуюся влюбленными женщинами Лоуренса — Урсулой и Гудрун Брангвен, сестрами Форстера — Маргарет и Хелен из «Говардс-Энда», и Лили Бриско из романа Вулф «На маяк».
Эстер предстанет не такой одинокой, если сравнить ее с Доротеей Брук из «Мидлмарча» или Марти Саут из «В краю лесов» Харди. Бескорыстная воля — едва ли не оксюморон, но Эстер — по-своему грозный ритор, и характерный для нее ключ — преуменьшение. Она стремится выжить, и ее мягкость — средство защиты от травмы. Вся ее личность — это механизм, специально предназначенный для того, чтобы пережить травму и сопротивляться маниакальному обществу, в глазах которого незаконнорожденность является грехом. Она не тратит сил на то, чтобы дать обществу отпор, но при этом не приемлет его непотребных моральных суждений, даже когда маленькой девочкой вынуждена терпеть тирады крестной насчет своего вечного позора. Уже в детстве Эстер знает, что вины на ней нет и что залог ее спасения от общественного безумия — ее нравственное чувство и сверхъестественная терпеливость. Ее самоуничижительная риторика — мощное средство защиты не только от отвратительной системы, но и, что важнее, от травмированности, которую она прекрасно сознает. Молчание, изгнание, хитроумие — все виды оружия, к которым позволяет себе прибегать Джойсов Стивен[399], — Джойс взял не у Дэвида Копперфильда, а у Эстер Саммерсон, которая при всей своей океанической инертности обладает самым мощным сознанием во всем творчестве Диккенса, да и во всей британской литературе Демократической эпохи.
Исследователям-«материалистам» из Школы ресентимента недолюбливать Эстер легко. Эстер не назовешь ни феминистским идеалом, ни марксистским образцовым бунтарем. Их героиней в «Холодном доме» должна быть великолепная Ортанз, предшественница еще более блистательной мадам Дефарж из написанной семью годами позже «Повести о двух городах». Ортанз, как и еще более неистовая мадам Дефарж, тешит в Диккенсе и в читателе мазохиста, но ее переигрывает здраво-устойчивый инспектор Баккет, самый причудливый из удивительных Диккенсовых визионеров. Выразительная, беспокойная, говорливая и смертоносная, привлекательная Ортанз — не субститут леди Дедлок (как утверждают исследователи-феминисты), а контрастный фон для Эстер, на котором выделяются спокойствие и вордсвортовская мудрая инертность последней.
Является ли Эстер жертвой патриархального общества? Ее травма слишком индивидуальна, чтобы списывать ее на то обстоятельство, что незаконнорожденная девочка подвергалась более выраженной стигматизации, чем мальчик-бастард. Также я не считаю, что ее упорное терпение говорит о низкой самооценке. Тут в истолковании «Холодного дома» нам снова по-борхесовски поможет Кафка, потому что он — мастер, так сказать, канонического спокойствия. Для Кафки главный грех — это нетерпение[400], и чудесным образом в Эстер Саммерсон есть что-то от Кафки, от Кафки как от человека, а не от его персонажей или его художественного космоса. Личная травма Кафки поразительно схожа с травмой Эстер (и Кьеркегора). Все трое — мастера в деле Кьеркегорова «вспоминания вперед». Такое впечатление, что Эстер с самого рождения дожидалась появления сильного, доброго отца, Джона Джарндиса, самого привлекательного персонажа «Холодного дома», не считая самой Эстер. Эстер — это, по сути, Диккенс, точнее, то, что Уолт Уитмен назвал бы подлинным Я Диккенса, Джон Джарндис же — идеализированный отец, в котором Диккенс так отчаянно нуждался, а не его настоящий микобероподобный[401] отец.
Нынешние исследователи, придерживающиеся новейших убеждений, мрачно бормочут, что Диккенс не раскрывает нам источника явно солидного дохода Джарндиса. Это значит, что они неверно представляют себе природу «Холодного дома» и забывают о том, что это — в той же мере волшебная сказка, что и социальный роман. Добрый Джарндис принадлежит сказке; возможно, на него трудятся где-нибудь в счастливом доле маленькие эльфы, чеканящие волшебную золотую монету. Прозвища, которые он дает Эстер, превращают ее в старушку, госпожу Дарден, Паутинку или еще кого-нибудь сказочного, а его заботливая любовь к ней — почти в той же мере материнская, что и отеческая. Но к этому сказочному материнству-отечеству примешивается пафос загубленной жизни, великого отказа, несомненно, связанного с абсолютным отвращением Джарндиса к лабиринту Канцлерского суда. Диккенс не дает нам понять, что заставило этот кладезь доброты безвременно уйти на покой в Холодный дом.
Стоит отметить, что у большинства важных персонажей «Холодного дома» есть прототипы: у Скимпола, как широко известно, — эссеист-романтик Ли Хант; у Бойторна — поэт Уолтер Сэвидж Лэндор; у Баккета — знаменитый инспектор лондонской полиции; у Ортанз — убийца из Бельгии Мари Мэннинг, на чьей публичной казни присутствовали Диккенс и Мелвилл[402]. Есть прообразы у миссис Джеллиби, у мисс Флайт, у бедного Джо, у прочих; Эстер весьма напоминает любимую свояченицу Диккенса, Джорджину Хогарт, заведовавшую его хозяйством. Сэра Лестера Дедлока возводят к 6-му герцогу Девонширскому, а вот леди Дедлок, как и Джон Джарндис, — фигура вымышленная. В Джарндисе выразилось нечто от Диккенса — видимо, то, что не сделалось частью Эстер, но самое существенное в опекуне Эстер принадлежит сказке (а леди Дедлок принадлежит ей целиком). Джарндис бежит благодарности не в силу какой-то склонности к самоуничтожению, но потому, что это не сказочная добродетель. Смертное бегство леди Дедлок — чистой воды сказочный нарратив, иносказательное наказание мужским обществом преступившей границы дозволенного женщины. Если она и искупает какой-то грех, то он заключается не в том, что она прижила незаконную дочь, а в том, что обрекла ребенка жить с чужими людьми и в детстве не знать любви.
Это тоже ближе к сказке и не слишком соотносится с патриархальной политикой. Главное в романе решение Диккенса не в пользу сказки состоит в том, что он ломает схему смирения желаний, заставляя Джарндиса осознать, что его подлинные обязательства перед Эстер — отцовские. Выйдя за Вудкорта, а не за Джарндиса, Эстер спасается от предопределенности: она не повторит истории своей матери. Она не вполне избавляется от своей травмы, та продолжает ее мучить, и все же мы чувствуем, что она больше никогда не позволит самоотрицанию взять над собой верх. Удивительно, какую большую часть ее сознания раскрыл нам Диккенс.
Джарндис — другое дело; если мы и остаемся в потемках, то понимаем, что многое в Джарндисе недоступно самому Джарндису, а Диккенсу и подавно. Джарндис никогда на деле не искал жены — каких бы мыслей у него на этот счет ни было; он искал двух дочерей и сына. Сына, Рика, у него отнимает безумие, вызванное Канцлерским судом, Ада же в конце концов возвращается к нему, и Эстер тоже оказывается рядом. Неразрешенной остается загадка — как ему вообще пришла в голову мысль жениться на Эстер, ведь он чужд сексуальности, а она (как и ее мать) — вовсе нет. Возможно, по-настоящему он боялся того, что она превратится в леди Дедлок и впадет в отчаяние, но совместная жизнь в Холодном доме, видимо, излечила его от этого страха.
Правда может быть очень проста: он не так силен, как Эстер, не может этого не понимать и борется с одиночеством, с духом отъединенности, терзающим сказочный мир; средство его борьбы — деятельное великодушие. Ни один читатель этого романа не поверит в то, что Джарндис вожделеет Эстер; если их предполагаемый брак и представляется полуинцестуозным, то исключительно с ее, а не с его точки зрения. Ни Диккенсу, ни читателю этот брак не нужен, и в конце концов мы видим, что он не нужен также ни Эстер, ни Джарндису.
Связанная с этим загадка касается не только «Холодного дома»; как мне кажется, странность и очарование художественного мира Диккенса во многом объясняет проблема воли. У Джордж Элиот читатель обнаруживает нравственную чистоту, подобной которой, возможно, в другой столь же выдающейся прозе и не найти, но личность у нее существует отдельно от этой чистоты. Людная лихорадка Диккенсовой сцены превозносит влечение над волей и временами заставляет нас гадать, не обладают ли персонажи Диккенса разными типами воли. В пьесах Шекспира и в том, что мы условились называть реальностью, человеческие воли различаются в степени, но едва ли по существу. У Диккенса по-настоящему нехорошие люди обладают волей одного рода, грандиозные гротескные фигуры — другого, а те, кто посимпатичнее, — третьего. Хотя исследователи кстати указывают на Джонсона и Мольера как на предшественников Диккенса (в Джонсоне было особенно много неимоверного диккенсовского задора), из самого Диккенса драматурга не вышло. Его пьесы не оправдали его ожиданий; в «моноспектаклях» же, играя всех героев своих романов, он был ошеломителен, и невероятная трата сил во время выступлений перед восторженной, многочисленной публикой, вне всяких сомнений, стала одной из причин его безвременной смерти в возрасте пятидесяти восьми лет.
Достоевский и Кафка часто шли за ним по пятам, но среди писавших по-английски настоящего наследника у Диккенса нет. Разве можно вновь достигнуть искусства рассказывать сказки так, чтобы они звучали социально-реалистическими сагами? По Нортропу Фраю, главное в творчестве Диккенса — настойчивость, с которой в его романах утверждается: то, что должно случиться, никогда не будет отменено существующим положением вещей. Претензии исследователей к счастливой развязке «Холодного дома» не приходится и обсуждать: архетипическим персонажем Диккенса навсегда останется мистер Пиквик, и самым возвышенным местом в прозе Диккенса вполне может быть декламация миссис Лио Хантер своей «Оды издыхающей лягушке» в «Посмертных записках Пиквикского клуба». В «Холодном доме» есть несколько возвышенных прозрений, не зря это сильнейшая вещь Диккенса, и в их числе один «двойственный» момент, когда оба сюжетных плана книги сходятся в бегстве леди Дедлок. Пятьдесят шестая глава, повествование в которой ведет рассказчик, заканчивается видением инспектора Баккета:
Тут он настраивает свой ум на высокий лад и устремляет мысленный взор в необъятную даль. Он видит множество одиноких прохожих на улицах; множество одиноких за городом, на пустошах, на дорогах, под стогами сена. Но той, которую он ищет, среди них нет. Он видит других одиноких: они стоят на мостах и, перегнувшись через перила, смотрят вниз; они ютятся во мраке глухих закоулков под мостами, у самой воды; а какой-то темный-темный бесформенный предмет, что плывет по течению, — самый одинокий из всех, — привлекает к себе его внимание.
Где она? Живая или мертвая, где она? Если бы тот платок, который он складывает и бережно прячет, волшебной силой показал ему комнату, где она его нашла, показал окутанный мраком ночи пустырь, вокруг домишка кирпичника, где маленького покойника покрыли этим платком, сумел бы Баккет выследить ее там? На пустыре, где в печах для обжига пылают бледно-голубые огни; где ветер срывает соломенные кровли с жалких кирпичных сараев; где глина промерзла, а вода превратилась в лед и чудится, будто дробилка, которую, целый день шагая по кругу, приводит в движение изможденная слепая лошадь, это не просто дробилка, но орудие пытки для человека, — на этом гиблом, вытоптанном пустыре маячит чья-то одинокая тень, затерянная в этом скорбном мире, засыпаемая снегом, гонимая ветром и как бы оторванная от всего человечества. Это женщина; но она одета как нищая, и в подобных отрепьях никто не пересекал вестибюля Дедлоков и, распахнув огромную дверь, не выходил из их дома[403].
Баккет тут явно выступает за Диккенса, и открывается ему истина: скорое самоуничтожение леди Дедлок. В этом видении возникает кошмарный образ, поразительно схожий с образом из стихотворения Браунинга «Роланд до Замка черного дошел», написанного в 1852 году — в том же году, когда был начат «Холодный дом», — но опубликованного в 1855-м. Маловероятно, что Диккенс успел прочесть это стихотворение перед тем, как записать видение Баккета, — но не исключено, потому что Джон Форстер иногда показывал Диккенсу рукописи Браунинга. Но в данном случае параллель гораздо интереснее любого прямого влияния. Сверстники (оба родились в 1812 году), Браунинг с Диккенсом в сорок лет описали сходные картины. Баккету представляется, что «дробилка, которую, целый день шагая по кругу, приводит в движение изможденная слепая лошадь, это не просто дробилка, но орудие пытки для человека»; Браунингов искатель видит: «И конь недвижный, тощий и слепой, / <…> / Стоит, в оцепенении…». Следом за бурогривым конем ему попадается на глаза адский инструмент, схожий с Диккенсовым «орудием пытки для человека»:
Что дальше там? Не колесо ль торчит? Нет, то скорей трепало, чьи клыки Тела людские рвали на клочки, Как шелковую пряжу. То на вид Орудье пытки. Брошено ль лежит? Иль ждут точила ржавые клинки?[404].Браунинг и Диккенс — великие британские мастера гротеска, но так сближаются они лишь однажды. В визионерской тональности, обычной для них обоих, в данном случае преобладает ужас перед смертью, возможно, потому, что оба достигли зенита и вступили в средний возраст. Видение Эстер Саммерсон, отделенное от видения Баккета одной главой, начинается, когда она присоединяется к Баккету, тщетно пытающемуся спасти ее беглянку-мать:
Окна этого дома, залитые светом свечей и пламенем каминов, казались очень яркими и теплыми во мраке морозной ночи, но они скоро исчезли во тьме, а мы снова принялись уминать и месить мокрый снег. Двигались мы с большим трудом, но на этом перегоне дорога была лишь немногим хуже, чем на прежних, да и перегон был короткий — всего девять миль. Мой спутник, сидя на козлах, курил, — я попросила его не стесняться в этом отношении, когда заметила на последнем постоялом дворе, что он стоит у пылающего огня, уютно окутанный клубами дыма, — но он по-прежнему внимательно всматривался во все окружающее и быстро соскакивал с козел, едва завидев вдали дом или человека, а потом так же быстро взбирался на свое место. На коляске были фонари, но он зажег и свой потайной фонарик, который, видимо, был его постоянным спутником, и, время от времени поворачивая его в мою сторону, освещал им меня, вероятно желая удостовериться, что я хорошо себя чувствую. Я могла бы задернуть занавески, прикрепленные к поднятому верху коляски, но ни разу этого не сделала — мне казалось, будто этим я лишу себя последней надежды[405].
«Уминать и месить» символизирует разрушение «репрессивного» барьера, позволяющее Эстер полнее принять свою мать и подводящее к другому напоминающему о Браунинге видению демонической мельницы: «Мы снова мчались вперед по той же унылой дороге, но обратно, а жидкая грязь и талый снег летели из-под копыт нашей четверки, как водяные брызги из-под мельничного колеса»[406]. Но там, где Браунинг с инспектором Баккетом видят орудие пытки, Эстер Саммерсон видит возвращение вытесненного, которое сметает барьер, воздвигнутый перед нею травмой. Здесь, как и в великом множестве кризисных эпизодов в прозе Диккенса, его образность пугающе глубока, точна, суггестивна. Даже самым смелым его измышлениям присуща мистическая убедительность. То же самое, безусловно, можно было бы сказать об измышлениях Эдгара Аллана По, чье призрачное присутствие иногда в «Холодном доме» ощущается, но его фантасмагорические образы редко облекались в слова, соответствующие их накалу. Стиль и метафорика Диккенса, кажется, не могли не соответствовать его изобретательности — и каноническая странность «Холодного дома» восторжествовала.
Опыт чтения «Мидлмарча» не имеет почти ничего общего с погружением в мир Диккенса; иной раз слово «чтение» кажется слишком бедным для той полной самоотдачи, которой требует «Холодный дом». В двадцать пять лет у Диккенса уже была огромная и быстро сложившаяся аудитория; между Шекспиром и Диккенсом таким мог похвастаться лишь Байрон. Пожизненная популярность этого прозаика отличается и в степени, и по существу от популярности других писателей, в том числе Гёте и Толстого, не имевших всеобъемлющего влияния на все социальные классы великого множества стран. Возможно, именно Диккенс, а не Сервантес, является единственным соперником Шекспира в воздействии на весь мир и, таким образом, наряду с Шекспиром представляет собою и Библию, и Коран — уже доступный нам подлинный мультикультурализм.
То, что пьесы Шекспира стали Библией для людей нерелигиозных, удивления не вызывает; поразительно то, что сочинения Диккенса, везде переводимые и читаемые, также сделались чем-то вроде космической мифологии. Его каноническая значимость выходит за пределы жанров художественной прозы, так же как Шекспир, которого везде можно ставить и ставят, не ограничивается театром. В этом смысле Диккенс — опасный случай канонического романа Демократической эпохи. В Бальзаке, Гюго и Достоевском есть по меньшей мере что-то от диккенсовского размаха, хотя они ближе подводят нас к пределам канонического романа как свершения. Стендаль, Флобер, Джеймс и Джордж Элиот кажутся неизбежными каноническими прозаиками, в основном державшимися в рамках жанра; я выбрал «Мидлмарч» Джордж Элиот, руководствуясь не только неоспоримыми достоинствами этой книги, но и ее особенной полезностью в наши дурные времена, когда недооформившиеся моралисты приспосабливают литературу к делам, якобы способствующим социальным преобразованиям. Если существует образцовый сплав художественной и нравственной сил в каноническом романе, то лучший его пример — творчество Джордж Элиот, а «Мидлмарч» — ее тончайший анализ нравственного воображения, возможно, самый тонкий во всей художественной прозе.
Первые отрады «Мидлмарча» — это сила его историй вкупе с глубиной и живостью характеров, обеспеченных в свою очередь словесным мастерством Джордж Элиот, ее владением средствами своего языка, хотя она не великий стилист. Тем не менее она больше, чем прозаик; она возвысила роман до нравственного пророчества — по-новому, так, как позднее, не покладая рук, возвышал его Д. Г. Лоуренс, на первый взгляд на Элиот непохожий и все же бывший ее последователем.
Урсула Брангвен из «Влюбленных женщин» — прямой потомок Доротеи Брук из «Мидлмарча»; полнота бытия — вот предмет их исканий, а порука избранности ищущего — особая разновидность нравственного чувства, практически полностью отделенная от своих протестантских корней.
Ницше изъявил презрение к Джордж Элиот за якобы присущую ей убежденность в том, что можно освободиться от христианского Бога и при этом удержать христианскую мораль[407], но тут Ницше в виде исключения можно обвинить в довольно слабом творческом искажении. Элиот — моралист не христианского, а романтического или вордсвортианского толка; ее представления о нравственной жизни происходят из «Строк, написанных на расстоянии нескольких миль от Тинтернского аббатства…», «Решимости и независимости» и оды «Отголоски бессмертия…». В ответе издателю, ощутившему «недостаток светлых красок» в ее пасторальном романе «Сайлес Марнер», звучат и мягкая ирония, и признательность:
Я не удивлюсь тому, что Вы нашли ту часть моей повести, которую прочитали, несколько мрачной; я, право, не стала бы полагать, что она будет интересна кому-нибудь, кроме меня (ведь Уильям Вордсворт умер), не окажись мистер Льюс так ею захвачен. Но я надеюсь, что Вы не найдете эту повесть сплошь грустной, когда она будет завершена, ибо она высвечивает — во всяком случае, предназначена высветить — целительное воздействие чистых, естественных человеческих отношений.
«Сайлес Марнер» возвращает нас к «Разрушившемуся дому», «Майклу», «Старому камберлендскому нищему» — к представлению о селянине и селянке как об исконном добре. Это вордсвортианство всегда имело для Элиот основополагающее значение. Ее нравственная установка на самоотречение значима потому, что по сути своей предлагает относиться к другим даже не так, как если бы их интересы стояли выше твоих собственных, но так, как если бы этих других можно было сподвигнуть на такое же самоотречение. Само по себе это сегодня кажется архаичным идеализмом, тогда как в ее творчестве это есть проявление установки не только нравственной, но и эстетической, так как у нее с Вордсвортом «добро» не всегда совпадает с добродетелью в привычном ее понимании. Они наставляют нас на путь нравственного Возвышенного: агонистического, противоположного природе и тому, что мы называем природой человека, обособленного и в то же время открытого для сообщения с окружающими.
Но Вордсворта сочинителем романов себе не представляешь. «Мидлмарч» — колоссальное, затейливое изображение всего провинциального общества в недавнем прошлом; казалось бы, вордсвортианским представлениям как таковым тут делать нечего. Тем не менее именно Вордсворт, а не кто-то из прозаиков — предтеча главного достижения Джордж Элиот (если не считать изображения Гвендолен Харлет в «Даниэле Деронде»). Может быть, можно говорить и о составном предшественнике, Беньяне — авторе «Пути паломника» и Вордсворте (идеей этого сочетания я обязан Барри Куоллзу).
Время действия «Мидлмарча» — начало 1830-х годов, время реформ, с которого началась Викторианская эпоха, и идея социальной обнадеженности на протяжении всего романа контрастирует с болезненным нравственным воспитанием главных героев, Доротеи Брук и Лидгейта. Как отмечает Ку-оллз, у них с запозданием получается отринуть свои ложные самообразы лишь тогда, когда они отторгнуты, отчуждены от всякого социального контекста. Представления Беньяна и Вордсворта — притом что они неизменно трогают повествователя — кажутся далекими от вынужденных судеб Доротеи и Лидгейта; тем не менее они находятся непосредственно под избранной этими героями видимостью. Мартин Прайс, размышляя о пленении Лидгейта Розамундой Винси, замечает: «Джордж Элиот взялась за тончайшую работу — исследовать, как добродетели человека оказываются замешаны в его проступках и до некоторой степени им способствуют». На более возвышенном уровне «Разрушившегося дома» это — пафос Маргарет, которая губит себя и детей силой своей апокалиптической надежды на возвращение мужа. Тонкость была присуща и создателю современной поэзии, и умнейшему из всех прозаиков — и мы снова видим, чем Джордж Элиот обязана Вордсворту.
Когнитивная сила — как правило, не то качество, которое мы сознательно хотим обнаружить в прозаике, или в поэте-лирике, или в драматурге. Джордж Элиот, подобно Эмили Дикинсон и Блейку, все переосмыслила своим умом. Она — прозаик-мыслитель (не философ), и мы часто заблуждаемся на ее счет потому, что недооцениваем когнитивную силу, которую она вложила в свой перспективизм. Эта сила, безусловно, состоит в союзе с ее нравственной проницательностью, но ей как моралисту также свойственна бессоюзная прямота, освобождающая ее от переизбытка «задних мыслей», которые бы ограничили ее готовность прямо или косвенно судить своих героев.
Ей наследует Айрис Мёрдок; прямого сравнения с Джордж Элиот она зачастую не выдерживает, но больше чем за столетие после рождения Элиот ни один писатель не мог сподобиться ее морального авторитета. Нет у нас больше ни мудрецов, ни сивилл — ни в области литературы, ни в области духа, — и мы испытываем разом чувства ностальгии и недоумения, читая рассказы о том, как в Элиот видели оракула. Самый известный такой рассказ принадлежит Ф. У. Г. Майерсу, и описывается в нем визит писательницы в Кембриджский университет в 1873 году:
Помню, как в Кембридже мы прогуливались по Феллоуз-гарден в Тринити вечером дождливого мая; и она, взволновавшись несколько сильнее обычного и рассуждая о трех понятиях, так часто употребляемых для того, чтобы побуждать человека к действию, — понятиях «Бог», «Бессмертие», «Долг», — говорила с ужасающей прямотою о том, сколь непостижимо первое, сколь невероятно второе и сколь при этом властно и непреложно третье. Наверное, никогда прежде всевластие бесстрастного и невознаграждающего Закона не удостоверялось речениями суровее. Я слушал, и спускалась ночь; ее скорбный, величавый лик, подобный лику сивиллы, обратился ко мне в полумраке; она словно забрала из моей руки, один за другим, два свитка с обетованиями и оставила мне лишь третий, ужасный, с неизбежными участями. И когда, долго простояв так, мы расстались в столпном кругу лесных дерев, под последними сумерками беззвездных небес, я взирал, словно Тит на Иерусалим, как будто бы на незанятые сиденья и пустые залы — на храм, не освященный Незримым присутствием, и небо, лишенное Бога.
Нынче такой высокий штиль звучал бы иронически, но эта ирония была бы напрасной. Джордж Элиот, и сама прибегавшая к иронии, когда на то была ее воля, — наименее «смешной» из канонических прозаиков, и при этом ее труднее всего высмеивать; на ее творчество существуют лишь невольные пародии. Нравственная возвышенность раздражает нас, если она не «подшефна» какой-нибудь институции или идее. Аура Джордж Элиот отчасти сохранилась до наших дней; мы краем глаза видим ее, но хотим ее не замечать, хотим обсуждать не ее, а идеи или мастерство писательницы. Тем не менее вся она не улетучивается, потому что создана романами, в первую очередь «Мидлмарчем».
Генри Джеймсу, который размышлял о ее посмертно опубликованных письмах и записных книжках и пытался при этом уклониться от роли ее последователя, пришлось впасть в ту же риторику созерцания возвышенного: «Но в них чувствуются какой-то дух нравственной высоты; любовь к справедливости, истине и свету; широкий, великодушный взгляд на вещи; и непрестанное стремление высоко держать факел в темных краях человеческого сознания».
Джеймс хотел сказать элегическое, а не дурное слово, но непонятно, как прозаику пережить такую похвалу. Каноническому роману не предназначено быть наставительной литературой, и очень немногие ею являются; возможно, таков один лишь «Мидлмарч». От «Декабря декана» Сола Беллоу шарахаешься. Я читал его и соглашался с каждым наблюдением, страдая при этом от его бесконечной тенденциозности. Читая «Мидлмарч», я редко соглашаюсь с многочисленными авторскими вмешательствами и при этом радуюсь им так же, как и всему прочему в этой книге. Художественный секрет Джордж Элиот заключается в том, что она достигла (по словам Джеймса из рецензии 1866 года) «некоей середины, где нравоучение и художественность достигают созвучия». Возможно, дело тут не столько в секрете мастерства, сколько в самой Джордж Элиот: я не могу вспомнить ни одного прозаика первой величины ни до нее, ни после, чье неприкрытое морализаторство составляло бы художественное достоинство, а не бедствие. Даже если всей душой сочувствовать кампании против людей мужского пола, к которой призывают Дорис Лессинг и Элис Уокер, удовольствия от их риторики исключения не получаешь. Пристальное рассмотрение «Мидлмарча» должно помочь нам лучше увидеть, как Элиот удалось примирить нравоучение с художественностью.
«Мидлмарч», подобно последнему роману Элиот, «Даниэлю Деронде», смело задуман как внушительная конструкция, неявно, но и недвусмысленно отсылающая к «Божественной комедии» Данте. В «Мидлмарче» это показал Александр Уэлш, а влияние Данте на «Даниэля Деронду» отмечали и Уэлш, и Куоллз. Дантовское желание знать и в конце концов самому быть узнанным, остаться в памяти, Уэлш считает движущей силой двух впечатляющих искателей из «Мидлмарча»: Доротеи, в некотором отношении замещающей автора, и Лидгейта, к которому Элиот, кажется, питает глубокую, но опасливую симпатию. Данте, самый честолюбивый из великих писателей, осмелился запечатлеть картину суда, в которой всем его персонажам придается окончательная завершенность. Они раскрываются перед нами, но измениться им уже не дано; время ушло. То, что Джордж Элиот, свободомыслящий гуманист, взяла за образец Данте, кажется странным, но ее способность выносить суровые моральные суждения, наверное, отчасти объясняет ее на первый взгляд удивительное сродство с создателем «Божественной комедии», который, наверное, поместил бы ее в пятую песнь «Ада» — как бы трудно нам ни было вообразить Джордж Элиот и Джорджа Генри Льюса в качестве Франчески и Паоло XIX века. Из персонажей «Ада» ей должен был быть более всего по душе Улисс, чей гибельный поиск знания есть архетипический пример героизма, которому следуют главные герои «Мидлмарча».
О Лидгейте Уэлш пишет: «Его склад и его кара — наиболее дантовские», поэтому я начну с Лидгейта и мрачного контраста между главами пятнадцатой, в которой он появляется, и семьдесят шестой, в которой он признает поражение, тем самым оставляя упованья на обретение новых знаний. Сначала мы видим двадцатисемилетнего Лидгейта, подающего надежды хирурга, питающего интеллектуальную страсть к медицинской науке:
Мы не боимся вновь и вновь рассказывать о том, как мужчина полюбил женщину и сочетался с ней браком либо роковым образом был с ней разлучен. Избыток ли поэтичности или избыток глупости повинен в том, что мы вечно готовы описывать женскую «красоту и прелесть», как выразился король Иаков, и вечно внимать бренчанию струн старинных трубадуров и остаемся сравнительно равнодушны к иной «красоте и прелести», покорение которой требует прилежной мысли и отречения от мелких себялюбивых желаний? История и этой страсти слагается по-разному — иногда она увенчивается счастливейшим браком, а иногда завершается горьким разочарованием и вечной разлукой. Нередко причиной роковой развязки становится та, другая, воспетая трубадурами страсть. Ибо среди множества мужчин в летах, ежедневно исполняющих свои обязанности по заведенному порядку, который был предписан им примерно так же, как цвет и узел их галстуков, всегда найдется немало таких, кто в дни молодости верил, что он сам определит свою судьбу, а может быть, и чуть-чуть изменит мир. О том, как их обломало под общий образец, как они вернулись на проторенную дорожку, они даже сами себе почти никогда не рассказывают. Возможно, пыл, с каким они беззаветно отдавали силы и труд, ничего за это не получая, мало-помалу остыл столь же незаметно, как угасает пыл других юных увлечений, и наконец наступил день, когда все, чем они были прежде, стало лишь призраком, бродящим по старому дому, бесприютным и страшным среди новой мебели. Нет в мире ничего более тонкого, чем процесс этих постепенных изменений. Вначале они менялись, сами того не ведая, может быть, заражаясь даже от нас с вами, когда мы в сотый раз провозглашали какую-нибудь общепринятую ложь или приходили к привычно глупым выводам, — а может быть, причиной был трепет, вызванный женским взглядом[408].
Лидгейт не собирался увеличивать число этих неудачников, и у него были все основания для такой надежды, так как его интерес к наукам вскоре преобразился в увлечение своей профессией. Она была для него не просто обеспечением хлеба насущного, и эту юношескую веру не угасили сумбурные дни его ученичества: занимаясь затем в Лондоне, Эдинбурге, Париже, он свято хранил убеждение, что врачебная профессия (такая, какой она могла бы стать) — лучшая в мире, ибо предлагает идеальное взаимодействие между наукой и искусством и самый непосредственный союз между интеллектуальными победами и общественным благом. Именно этого требовала натура Лидгейта: он умел глубоко чувствовать и, вопреки всем отвлеченным ученым занятиям, сохранял живую человечность. Ему были интересны не просто «заболевания», но и Джон, и Элизабет, особенно Элизабет.
Бедный Лидгейт, которому суждено умереть, потерпев поражение, пятидесяти лет, присоединяется ко множеству мужчин в годах, не определивших свою судьбу и никак не изменивших мир. Замените имя доктора Дика Дайвера на имя доктора Тертия Лидгейта — и можно вставлять эти два абзаца в роман «Ночь нежна», которому они идеально подойдут по содержанию, хотя по форме — едва ли. И Лидгейт, и Дайвер у Фицджеральда терпят неудачу из-за несчастного брака, а также из-за поступков, вызванных свойственной обоим «пошлостью», как выражается Элиот[409]. Фрэнк Кермоуд отмечал, что «„Мидлмарч“ — книга, в той же мере посвященная социальному измерению брака, в какой „Радуга“ посвящена духовному измерению брака». Фицджеральд, кажется, хотел посвятить свою книгу обоим измерениям; не обладая ни выдающимся умом Элиот, ни пророческой проницательностью Лоуренса, он потерпел неудачу, хотя «Ночь нежна» — это великолепная неудача. К Дайверу вполне могла бы относиться дивная формулировка Элиот: согласно ей Лидгейт увлечен «воображением, которое постигает тончайшие процессы, не доступные никаким увеличительным стеклам, прослеживая их в непроглядной тьме по длинным цепям причин и следствий с помощью внутреннего света, представляющего собой высшее напряжение энергии и способного озарить своим совершенным сиянием даже атомы эфира».
Такова версия Дантова Рая у Джордж Элиот, выраженная в идеализированном мирском паломничестве, и Лидгейт с Дайвером в этом представлении терпят неудачу. В своем поражении Лидгейт вновь предвосхищает главного героя «Ночь нежна», который кончает медицинской практикой в одном из городков у озер Фингер на западе штата Нью-Йорк. Крах Лидгейта мы наблюдаем в семьдесят шестой главе, когда он говорит Доротее:
Мне совершенно ясно, что единственный путь для меня — как можно скорее уехать отсюда. В Мидлмарче я даже в лучшем случае еще очень долго не смогу обеспечить семью и… вообще на новом месте легче начинать сначала. Я должен поступать как все, искать способа угождать свету и наживать деньги, устроиться в Лондоне и пробить себе дорогу, обосноваться на водах или где-нибудь за границей, где томятся бездельем богатые англичане, добиться, чтобы все расхваливали и превозносили меня, — вот раковина, в которой я должен укрыться и не высовывать из нее носа.
Вот падение Лидгейта — из «рая» поиска знания туда, где душа жить не может[410]; вскоре не сможет и тело. Иная судьба суждена Доротее, которая переносит «чистилище» брака с импотентом Кейсобоном и, выжив, выходит замуж за Ладислава; большинство исследователей утверждают, что он ее недостоин, но ни Доротея, ни Джордж Элиот так не считают. Каким бы впечатляющим и горестным персонажем ни был Лидгейт, особенно в своем падении, роман все равно о Доротее и мог бы с полным основанием называться не «Мидлмарч», а «Доротея Брук». Вирджиния Вулф утверждала, что Доротея говорит за всех героинь Элиот:
…ведь каждая решает один и тот же вопрос — вопрос веры. Каждая встает на путь богоискательства в раннем детстве; каждая обуреваема одной пламенной женской страстью — творить добро, и, собственно, именно благодаря этому обстоятельству ее путь, полный мучений и поисков, становится сердцевиной книги — тихим потаенным местом, подобным келье, где вроде бы и можно молиться, да только некому. Ее героини ищут цель кто в познании, кто в повседневном женском труде, кто в служении ближнему… Цели они так и не находят, и это не удивительно: древнее сознание женщины, отягощенное страданиями и предчувствиями, веками пребывающее в немоте, кажется, достигло критической точки насыщения, подобно налитой до краев и переполнившейся чаше, — оно жаждет чего-то, что, скорее всего, не совместимо с фактами существования. Бороться с ветряными мельницами Джордж Элиот не пыталась — для этого у нее слишком ясный ум, а закрывать глаза на правду не позволял характер, суровый и честный. Так что при всем благородстве порыва борьба для ее героинь заканчивается либо трагедией, либо, что еще печальнее, компромиссом[411].
Опять же, Джордж Элиот осталась бы недовольна суждением Вулф, согласно которому Доротея закончила компромиссом еще более печальным, чем трагедия. Это суждение кажется слишком строгим по отношению ко второму мужу Доротеи — доброму, хотя и несколько малахольному Уиллу Ладиславу. В своих проницательных рассуждениях о «мужьях Доротеи» Ричард Эллманн не называет прототипа злополучного Кейсобона, псевдоисследователя всех мифологий, но предполагает, что «натурой» для него послужила темная сторона самой Элиот, следствие затянувшегося раннего подавления сексуальности и порожденных им нездоровых фантазий. Не менее убедительно предположение Эллманна, согласно которому утомительный, идеализированный Уилл Ладислав есть «версия» не только Джорджа Генри Льюса, первого мужа Элиот, но и Джона Кросса, который был моложе ее на двадцать с лишним лет и был ее вторым мужем в течение последних семи месяцев ее жизни. Не скажешь, что Элиот, как и Доротея, нашла себе в замужестве ровню; с другой стороны, в ком, кроме Джона Стюарта Милля (который был недоступен), она бы нашла равного по уму и духу? В выдающейся «Прелюдии» к «Мидлмарчу» святая Тереза Авильская противопоставляется «поздно родившимся Терезам», не находившим «опоры в устремлениях и надеждах всего общества, которые для пылкой души, жаждущей применения своим силам, заменяют знание». В последнем абзаце прелюдии Элиот произносит мощно-ироническое, мрачное и агрессивное сетование насчет себя и своей Доротеи:
По мнению некоторых, причина этих беспомощных блужданий заключается в том, что Высшая Сила, создавая женскую натуру, не избегла неудобной неопределенности. Если бы существовал единый четкий уровень женской никчемности — например, способность считать только до трех, — общественный жребий женщин можно было бы оценивать с научной достоверностью. Но неопределенность существует, и пределы колебаний в действительности много шире, чем можно было бы подумать, судя по однообразию женских причесок и любовным историям как в стихах, так и в прозе, пользующимся неизменным успехом. Тут и там в утином пруду среди утят тоскливо растет лебеденок, который так никогда и не погружается в живой поток общения с себе подобными белокрылыми птицами. Тут и там рождается святая Тереза, которой ничего не дано основать, — она устремляется к недостижимой благодати, но взволнованные удары ее сердца, ее рыдания бесплодно растрачиваются и замирают в лабиринте препятствий, вместо того чтобы воплотиться в каком-нибудь деянии, долго хранящемся в памяти людской[412].
Какое место в «Раю» Данте отвел бы той, «которой ничего не дано основать»? Как бы яростна ни была Джордж Элиот, она не подходит нашим литературоведам-феминистам — как не подходит им и Джейн Остен. В статье Ли Эдвардса 1972 года было предсказано множество позднейших суждений. Ясно сознавая, что «Мидлмарч» — «роман о творческой силе», Эдвардс выразил сильное возмущение отказом Элиот дать Доротее больше своей силы и своей воли:
…Джордж Элиот не удалось создать женщины, которая бы «до совершения преступления» знала, что не будет ни питать приязни к своим мужьям, ни нуждаться в них, потому что приязнь вынудит ее либо подчиняться, либо разрушать. Сумей Джордж Элиот найти систему ценностей, в соответствии с которой такая женщина могла бы жить, ей бы, может быть, и удалось вновь вдохнуть жизнь в иссохший образ святой Терезы.
Доротея, как и ее создательница, не была готова навсегда отказаться от замужества; возможно, «Мидлмарч» стал бы еще более сильным романом, будь Элиот радикальной феминисткой; возможно, нет. Но Элиот была уникальна — не в степени своей эмансипированности, но в глубине и силе своего интеллекта. Собиралась ли она дать Доротее ум, по творческой самобытности сравнимый с умом Блейка или Эмили Дикинсон? «Мидлмарч» — не «Портрет художницы в юности»; это портрет Доротеи Брук, которая могла сделаться протестантской святой Терезой, но оказалась в таком времени и в таком месте, где столь праведной женщине делать было особенно нечего.
Лидгейт ищет научного знания и славы, которую оно может принести, но у Доротеи тяга к знанию имеет чисто духовный характер. Созерцательная по природе, Доротея не может быть «социальным крестоносцем» или политическим реформатором. Как и Джейн Остен, Джордж Элиот была слишком великим художником и слишком тонким иронистом, чтобы ее как-то ранило современное ей общественное устройство. Обе писательницы трудились на благо романа — с тою лишь разницей, что Элиот совмещала художественные и нравственные задачи более явно, чем Остен, — и обеим было присуще более развитое нравственное чувство, чем обычно встретишь теперь. Мастерство повествования Элиот не предполагало, что у Доротеи будут такие возможности, каких у самой Элиот, в общем, не было. Мордехай, восторженный еврейский пророк, говорит Даниэлю Деронде: «Божественный принцип нашей расы — деяние, выбор, решительная память». Элиот была возвышенно одарена так, что сумела не только сочинить эту сентенцию, но и «прожить» ее, пусть и не в полной мере. Возможно, тоска феминистского литературоведения по более «феминистской» Джордж Элиот и оправдана, но оправдание это по сути своей не литературно. Генри Джеймс предсказал амбивалентность литературоведов-феминистов, возмущаясь тем, что великолепная героиня пропала зря, и утверждая, что воображение читателя требует для Доротеи большего, чем Джордж Элиот ей дала. Бесконечно прозорливая Элиот предупредила все жалобы такого рода в последних абзацах своего романа:
И в самом деле, оба эти столь важные в ее жизни поступка не блистали благоразумием. Но только так сумело выразить свой протест благородное юное сердце, возмущенное несовершенством окружающей среды, а в таких коллизиях великие чувства нередко оборачиваются ошибками, а великая вера — заблуждениями. Ибо даже самые сильные натуры в огромной мере подвержены влиянию того, что соприкасается с ними извне. Тереза нашего времени едва ли сумела бы осуществить преобразование монашеского ордена, точно так же как новая Антигона не имела бы возможности свершить свой подвиг и пожертвовать жизнью, дабы предать земле тело убитого брата, — отныне уже нельзя излить душевный пыл героическими подвигами такого рода. Но мы, люди незначительные, своими повседневными речами и поступками формируем жизни многих Доротей, и судьба той Доротеи, чью историю мы рассказали, еще не самая прискорбная из всех. Ее восприимчивая ко всему высокому натура не раз проявлялась в высоких порывах, хотя многие их не заметили. В своей душевной щедрости она, подобно той реке, чью мощь сломил Кир, растеклась на ручейки, названия которых не прогремели по свету. Но ее воздействие на тех, кто находился рядом с ней, — огромно, ибо благоденствие нашего мира зависит не только от исторических, но и от житейских деяний; и если ваши и мои дела обстоят не так скверно, как могли бы, мы во многом обязаны этим людям, которые жили рядом с нами, незаметно и честно, и покоятся в безвестных могилах[413].
Я знаю мало слов столь же мудрых и остерегающих, как эти: «Ибо даже самые сильные натуры в огромной мере подвержены влиянию того, что соприкасается с ними извне». Приверженцы ресентимента не нуждаются в этих словах; я нуждаюсь. Но «в огромной мере» — это очень точно, и Элиот дает понять, что сила натуры также определяет пределы этой «огромной меры». Предопределенность — это мрачная правда, как в жизни, так и в литературе, и борьба индивидуальной воли и силы с силами социальными и историческими бесконечно длится в обеих сферах. Доротея решила не избирать путь борца, полагая (вместе со своею создательницей), что «благоденствие нашего мира зависит не только от исторических, но и от житейских деяний».
Возможно, Джеймс прав: мое читательское воображение порой жаждет такой Доротеи, чьи деяния могли бы быть историческими. Но, возможно, Джеймс неправ: какие исторические деяния совершают самые пленительные его героини, Изабель Арчер и Милли Тил?[414] Можно сказать, что канонический роман в пору своего расцвета достиг Возвышенного именно в «Мидлмарче», воздействие которого на читателей по-прежнему огромно.
14. Толстой и героизм
Лучшее из известных мне введений в творчество Толстого — это «Заметки» Максима Горького (1921) о его встречах с семидесятидвухлетним писателем, который в начале 1901 года жил в Крыму, больной и недавно отлученный от церкви. Горький прямо выражает амбивалентность своих отношений с Толстым, амбивалентность, которая усиливала определенный страх перед Толстым, постоянно дающий о себе знать:
В тетрадке дневника, которую он дал мне читать, меня поразил странный афоризм: «бог есть мое желание».
Сегодня, возвратив тетрадь, я спросил его, что это?
— Незаконченная мысль, — сказал он, глядя на страницу прищуренными глазами, — должно быть, я хотел сказать: бог есть мое желание познать его… Нет, не то… — Засмеялся и, свернув тетрадку трубкой, сунул ее в широкий карман своей кофты. С богом у него очень неопределенные отношения, но иногда они напоминают мне отношения «двух медведей в одной берлоге»[415].
Так кстати приведя эту поговорку, Горький уловил сокровенную истину — нигилизм Толстого и его неспособность выносить нигилизм. В законченной мысли писателя-пророка Бог отождествился с желанием не умирать. Толстым, человеком необычайно храбрым, двигал не столько общепринятый страх смерти, сколько его исключительные витальность и жизнелюбие, с которыми не согласовывалась самая мысль о прекращении существования. Об этом опять же очень хорошо у Горького:
Всю жизнь он боялся и ненавидел (смерть), всю жизнь около его души трепетал «арзамасский ужас», ему ли, Толстому, умирать? Весь мир, вся земля смотрит на него; из Китая, Индии, Америки — отовсюду к нему протянуты живые, трепетные нити, его душа — для всех и — навсегда! Почему бы природе не сделать исключения из закона своего и не дать одному из людей физическое бессмертие, — почему?[416]
Томление Толстого можно назвать апокалиптической мечтательностью, а не религиозным желанием. По миру до сих пор рассеяно некоторое количество толстовцев, но их уже трудно отделить от приверженцев множества прочих разновидностей духовного рационализма. То, что Толстой называл Богом, он любил с холодной страстью, нуждаясь, а не горя. Для него Христос был тот, кто произнес Нагорную проповедь, больше ничего, и божественного в нем было, может быть, даже меньше, чем в самом Толстом. Читая написанное Толстым о религии, видишь сурового, подчас свирепого моралиста, который не дает никаких наставлений — если только вы не ставите, подобно Ганди, отказ от насилия превыше всех прочих ценностей. У Толстого было тринадцать детей от одной жены, но его воззрения на брак и семью мучительны, а представление о человеческой сексуальности — мизогинно до пугающей степени. Разумеется, все это справедливо в отношении Толстого «говорящего», а не автора литературных произведений, даже таких, как его поздний роман «Воскресение», еще более поздние рассказы вроде «Дьявола» или пресловутая повесть «Крейцерова соната». Повествовательный дар Толстого был столь велик и долговечен, что его проповеди-отступления не портили его прозы и не превращали ее в сугубо тенденциозную.
Русские литературоведы подчеркивали, что в его романах и рассказах привычное описывается так странно, что все предстает в новом свете. То, что Ницше назвал «древней поэмой человечества», космос, каким мы условились его видеть, Толстой показывает в новых ракурсах. Постоянно его перечитывая, начинаешь не столько видеть, как он, сколько осознавать, до чего произвольно твое видение. Твой мир куда менее насыщен, чем его, поскольку он каким-то образом дает понять: то, что видит он, одновременно естественнее, «природнее», и в то же время страннее того, что видишь ты.
Требуется некоторое время, чтобы уяснить, сколь метафорично его представление о природе, поскольку его внешняя простота есть риторический триумф. Ближайший аналог среди написанного по-английски — стихотворения Вордсворта, написанные раньше «Тинтернского аббатства», вроде «Вины и скорби», «Разрушившегося дома» и «Старого камберлендского нищего». В них Вордсворт обходится без какого-то особого мифа о памяти и без кольриджевской идеи взаимообмена между человеческим разумом и природой[417]. Первые из главных стихотворений Вордсворта с их душераздирающими картинами страданий естественных мужчин и женщин — это Толстой до Толстого, опрощенный столь искусной силой, что этой искусности практически не видно. Самый вордсвортовский роман Джордж Элиот, «Адам Бид», удивительным образом кажется очень толстовским, и это ощущение подкрепляется тем обстоятельством, что Толстой этим романом восхищался.
Отголоски того, что Вордсворт назвал бессмертием, донеслись до него из воспоминаний о раннем детстве; им было суждено поблекнуть в свете будней[418], но они питали его естественное благочестие. Толстой не знал таких отголосков и искал соответствие естественному благочестию в русском крестьянине. То, что он в нем нашел, его не утешило. Слишком рационалист, чтобы верить, как верил народ, он тем не менее пытался прийти к «народной» любви к Богу. Ввиду того что он отрицал все чудеса, довольно непросто определить, чем для него мог быть любящий Бог. Горький пишет, что Толстой «(д)алее… начал говорить, что истина едина для всех — любовь к богу, но на эту тему говорил холодно и устало». В другой раз Толстой сказал Горькому, что для веры и любви нужна храбрость, смелость; это ближе к толстовскому этосу. Если любовь к Богу — сама по себе дерзость, то кто же спасет оробевших? Тут, и не только тут, восхищение вызывает самобытность, или странность, темперамента Толстого. Немногое из того, что двигало им, движет нами. Храбрость, смелость есть добродетель эпическая; на религиозные взгляды Толстого (назовем это так) перешли свойства его творчества, во всем тяготевшего к эпосу. В устах Толстого сравнение себя с Гомером звучит куда убедительнее, чем звучало бы в устах любого другого писателя после Гомера. Как пророк и как моралист Толстой — одновременно эпическая фигура и создатель эпоса.
Значимы ли убеждения Толстого — нравственные, религиозные, эстетические? Если относить этот вопрос к убеждениям как таковым, то ответ будет положительным применительно к прошлому, когда появилось множество толстовцев, но не к настоящему, в котором его должно читать вместе с Гомером, Яхвистом, Данте и Шекспиром — как, возможно, единственного писателя со времен Возрождения, способного вступить с ними в соперничество. Он был бы удручен такой долей; он выше ценил себя в качестве пророка, чем в качестве рассказчика. По-писательски он приветствовал бы соседство с «Илиадой» и Книгой Бытия, но, вне всякого сомнения, не перестал бы презирать Данте и Шекспира. Особую ярость у него вызывал «Король Лир» — притом что свои последние дни он провел, невольно играя роль Лира, когда бежал из дома в отчаянном порыве к окаянной свободе. Он несказанно хотел мученичества, которого прозорливое царское правительство никак ему не давало — оно преследовало его приверженцев, но не трогало известного во всем мире мудреца и прозаика-эпика, очень рано признанного законным наследником Пушкина, завершителем его дела и, соответственно, величайшим русским писателем; маловероятно, что он когда-нибудь это признание утратит. Возможно, его так никогда и не оставило желание сравняться с Гомером и Библией и даже превзойти их — хотя агонистическое напряжение у него обычно принимало форму недоверия к литературе, а то и отрицания системы эстетических ценностей.
И все же трактату «Что такое искусство?», в котором он яростно обличает греческие трагедии, Данте, Микеланджело, Шекспира и Бетховена, противостоит потрясающий «Хаджи-Мурат», повесть, написанная им между 1896 и 1904 годами, но при его жизни не опубликованная. Притом что он иногда осуждал «Хаджи-Мурата» как потакание своим желаниям, он делал набросок за наброском этой повести[419]и очень хорошо понимал, что это шедевр, причем противоречивший почти всем его принципам, согласно которым искусству следовало быть христианским и нравственным. Как-то не решаешься поставить «Хаджи-Мурата» надо всеми прочими свершениями Толстого в жанре повести — жанре, в котором он достиг совершенства: речь идет о таких замечательных вещах, как «Смерть Ивана Ильича», «Хозяин и работник», «Дьявол», «Казаки», «Крейцерова соната» и «Отец Сергий». Тем не менее даже о первых двух вещах из этого списка нельзя сказать, что они не дают мне покоя так же, как «Хаджи-Мурат», — с тех самых пор как я впервые прочел его больше сорока лет назад. Это мой личный эталон возвышенного в художественной прозе, на мой вкус — лучшая повесть на свете, во всяком случае, лучшая из всех, что я когда-либо читал.
На протяжении всей этой книги я утверждаю, что самобытность, сиречь странность, есть свойство, которое в большей мере, нежели какое-либо иное, делает сочинение каноническим. Странность Толстого странна сама по себе, потому что она самым парадоксальным образом на первый взгляд не кажется странной. В словах повествователя всегда слышишь слова Толстого, и слова эти обращены прямо к тебе, разумны, уверенны и добры. Виктор Шкловский, один из крупнейших современных русских литературоведов, отмечал, что «самый обычный прием у Толстого — это когда он отказывается узнавать вещи и описывает их, как в первый раз виденные»[420]. Благодаря этой технике отстранения в сочетании с тоном, который берет Толстой, читатель пребывает в радостном убеждении, что Толстой позволяет ему видеть все, как в первый раз, в то же время внушая ему такое чувство, что он уже все видел. Единое ощущение чуждости и привычности кажется невозможным, но уникальную атмосферу сочинений Толстого создает именно оно.
Как литературное произведение может одновременно быть пугающе необычным и совершенно естественным? Наверное, можно утверждать, что в самых выдающихся произведениях — в «Божественной комедии», «Гамлете», «Короле Лире», «Дон Кихоте», «Потерянном рае», второй части «Фауста», «Пер Гюнте», «Войне и мире», «В поисках утраченного времени» — эти антитетические свойства сливаются друг с другом. На них можно смотреть со множества точек зрения, они, возможно, даже сами создают точки зрения. Но немногие повести способны вместить озадачивающие антиномии. «Хаджи-Мурат» кажется странным, как «Одиссея», и знакомым, как вещи Хемингуэя. Когда повесть Толстого завершается героическим последним сражением Хаджи-Мурата — он и его верные товарищи, которых можно буквально пересчитать по пальцам, против целой армии врагов, — мы не можем не вспомнить самого, на мой взгляд, запоминающегося эпизода «По ком звонит колокол»: последнего боя Эль Сор-до и его горстки партизан с куда более многочисленными и лучше вооруженными фашистами. Тут Хемингуэй, вечный и усердный ученик Толстого, великолепно подражает великому оригиналу. При этом Хаджи-Мурат живет и умирает, как древний эпический герой; сочетая в себе все добродетели Одиссея, Ахиллеса и Энея, он начисто лишен их недостатков.
Наверное, единственное, что есть общего у Людвига Витгенштейна и Исаака Бабеля, — это их очень разное еврейство, но меня поражает, что они оба также благоговели перед «Хаджи-Муратом». Витгенштейн подарил экземпляр этой повести своему последователю Норману Малкольму, который тогда служил в армии, и написал ему, что из нее можно много почерпнуть[421]. Бабель, перечитывавший повесть в свое смутное время, в 1937 году, буквально пел ей гимн: «(В „Хаджи-Мурате“) ток шел от земли, прямо через руки, прямо к бумаге, без всякого средостения, совершенно беспощадно срывая всякие покровы чувством правды»[422].
Произведение, подвигнувшее Бабеля с Витгенштейном на эти удивительные изъявления чувств, определенно прикасается к универсальному, чего Толстой желал всегда. Генри Джеймс, всем сердцем предпочитавший Толстому Тургенева, едва ли мог бы назвать «Хаджи-Мурата» «расхлябанным, мешковатым чудищем» — так причудливо он определил «Войну и мир». Внимательное прочтение этой повести показывает, что сделало Толстого самым каноническим писателем XIX века, фигурой, стоявшей особняком даже в ту невероятно тучную эпоху демократического искусства.
* * *
«Хаджи-Мурат» есть вещь в первую очередь историческая, хотя ее было бы странно рассматривать как историческую прозу — даже в том смысле, в котором можно назвать историческим романом «Войну и мир». В «Хаджи-Мурате» нет историософских размышлений — сплошное повествование; тем не менее то, что происходит в повести, не является, строго говоря, вымыслом Толстого, во всяком случае, в своей основе. Читая эту повесть параллельно с книгой Д. Баддели «Завоевание Кавказа русскими» (1908)[423], я вновь сталкиваюсь с парадоксальной ситуацией — Толстой, кажется, руководствуется фактами так же, как природой, и при этом его «Хаджи-Мурат» — вещь диковинная, принадлежащая к мифологическому эпосу, а не к жанру летописи. На протяжении первой половины XIX века Российская империя непрерывно пыталась покорить мусульман гор и лесов Кавказа. Кавказцев, поднявшихся на священную войну против русских, наконец возглавил имам Шамиль, самым эффективным наибом которого был Хаджи-Мурат, ставший легендой задолго до своей гибели. В декабре 1851 года Хаджи-Мурат, рассорившись с Шамилем, перешел к русским. Четыре месяца спустя, в апреле 1852 года, он пытался бежать, был преследуем и погиб в отчаянном последнем бою.
Эйлмер Мод, биограф и переводчик Толстого, видит исток повести в письме Толстого, написанном 23 декабря 1851 года, перед самым началом его службы артиллерийским офицером на войне с Шамилем:
Ежели захочешь щегольнуть известиями с Кавказа, то можешь рассказывать, что второе лицо после Шамиля, некто Хаджи-Мурат, на днях передался Русскому правительству. Это был первый лихач (джигит) и молодец во всей Чечне, а сделал подлость[424].
Полвека спустя Толстой ни слова не говорит о том, что Хаджи-Мурат сделал хоть какую-нибудь подлость, что он вообще был способен на подлость. В сравнении со всеми прочими действующими лицами, прежде всего с вождями противоборствующих сторон, Шамилем и царем Николаем I, Хаджи-Мурат — абсолютный герой. Притом что Толстой ни в чем не упрекал Гомера, в изображенном им Хаджи-Мурате явлена мощная критика гомеровского героя. Достойные свойства, распределенные Гомером между Ахиллесом и Гектором, сведены воедино в герое Толстого, который не выказывает ни Ахиллесова убийственного гнева, направленного на смерть, ни Гекторова пассивного приятия конца.
Великолепный в своей силе, как Ахиллес, Хаджи-Мурат — зрелый, недвусмысленный, могуче-дикий. Более возвышенно жизнелюбивый, чем Ахиллес, он — ровня Одиссею в хитрости и дипломатии. Как и Одиссей, он стремится домой, к своим женщинам и детям. Он не достигает своей цели, а Одиссей — достигает, но Толстой дает апофеоз своего героя, а не оплакивает его поражение. Ни один из главных персонажей Толстого не снискал такого любовного и подробного описания, как Хаджи-Мурат, и я не убежден, что во всей западной литературе существует подобие аварского вождя. Кто еще дал нам естественного человека в качестве протагониста-триумфатора, одинаково щедро наделенного и храбростью, и хитроумием? Конрадов Ностромо, человек из народа, — фигура величественная, но куда менее художественно исполненная, чем Хаджи-Мурат. Лихач Толстого так же лукав, как сам Толстой; он умирает достойной смертью — великолепно-героической в той же мере, в которой смерть Ностромо является иронической.
Здесь, разумеется, важно, что в начале 1902 года Толстой едва не умер. К началу апреля болезнь отступила, позволив ему вернуться к работе над «Хаджи-Муратом»; эта отсрочка отразилась в смерти главного героя, умершего, так сказать, вместо автора. Писатель, возможно, понимал, что на каком-то уровне он был Хаджи-Муратом; точнее сказать, его герой — это шекспирианская версия Толстого, ироническая победа драматурга над поносившим его прозаиком.
«Хаджи-Мурат» — определенно самая шекспировская по духу повесть Толстого: тут и галерея сложных характеров, и необычайный диапазон драматического сочувствия, и прежде всего — изображение перемены в главном герое. Подобно Шекспиру, Толстой, рассказывающий историю Хаджи-Мурата, — одновременно каждый и никто, он и пристрастен, и беспристрастен, тронут до глубины души и хладнокровен. Толстой перенял у Шекспира (хотя и не признал бы этого) искусство сопоставления весьма различных сцен ради выстраивания связей сложнее, чем допустила бы более простая последовательность событий. Мы видим Хаджи-Мурата в незнакомых ему обстоятельствах и наслаждаемся тем, как уверенно он держится в той или иной ситуации или с тем или иным человеком.
Толстой нелепо винил Шекспира в неспособности наделить героев своеобразной речью[425]; это практически то же самое, что говорить, будто Бах не мог сочинить фуги. Более совершенное знание английского языка не просветило бы Толстого; его ярость в отношении Шекспира была защитной реакцией, хотя он, предположительного, этого не сознавал. Нравился ему один Фальстаф[426], а Лир вызывал у него особенно исступленное негодование. Об ограниченности Толстого говорить больно, но она возникает только при сравнении его с Шекспиром. В самом сильном его персонаже, Анне Карениной, Шекспир очень чувствуется, и любивший ее Толстой ей этого не простил. Не будет преувеличением сказать, что Толстой по-настоящему ненавидел Шекспира, поэтому только справедливо добавить, что он также его боялся. Томас Манн полагал, что Толстой втайне отождествлял Шекспира с природой, а себя — с духом[427]. Морализаторство снова вошло в моду в нашем академическом мире, и мы еще услышим, как одобряют толстовский выбор — в пользу Гарриет Бичер-Стоу, а не Шекспира. Новые истористы, феминисты и марксисты обязаны предпочитать «Хижину дяди Тома» «Королю Лиру», как первым стал делать Толстой.
«Хаджи-Мурат» — величайшее исключение из правил позднего творчества Толстого: тут старый шаман соперничает с Шекспиром. Толстой хитро усвоил выдающуюся способность Шекспира наделять даже самых незначительных персонажей буйством бытия, до отказа набивать их жизнью. В «Хаджи-Мурате» живо индивидуализирован каждый: Шамиль; царь Николай; Авдеев, несчастный русский солдат, убитый в стычке; князь Воронцов, которому сдается Хаджи-Мурат; ротный командир Полторацкий; малочисленное верное окружение Хаджи-Мурата: Элдар, Гамзало, Хан-Магома и Ханефи. Список кажется бесконечным, как в какой-нибудь из главных пьес Шекспира. Есть еще старший Воронцов, главнокомандующий русской армией, его адъютант Лорис-Меликов, приставленный к Хаджи-Мурату, и Бутлер, героический офицер, способный оценить качества аварского вождя. Также блистают убедительностью две женщины, которым в повести уделено столько внимания: княгиня Марья Васильевна, жена младшего Воронцова, и Марья Дмитриевна, любовница одного из штаб-офицеров.
Все эти четырнадцать персонажей и еще дюжина третьестепенных очерчены с шекспировскими точностью и задором, создавая контекст, «усиливающий» Хаджи-Мурата, которого мы в конце концов узнаем, как знаем великих воинов Шекспира: Отелло, Антония, Кориолана и бастарда Фоконбриджа из «Короля Иоанна». Более того, Хаджи-Мурата мы узнаем основательнее, чем можем узнать Анну Каренину, которая слишком близка к Толстому. Для разнообразия, подобно Шекспиру, Толстой говорит не совсем своим голосом и играет великую роль Хаджи-Мурата, естественного человека, представленного эпическим героем.
Исторический Хаджи-Мурат и таков, и не таков, как у Толстого. В описании Д. Баддели аварский герой, возможно, даже отчаяннее и храбрее, но куда менее человечен. Аварец из Дагестана, горной страны, Хаджи-Мурат сначала воевал с мюридами, представителями массового мусульманского религиозного течения, которые разожгли шестидесятилетнюю войну между русскими и аварцами. У Баддели летопись свершений Хаджи-Мурата, будучи всего лишь изложением фактов, читается, как фантастический роман. Убив имама Гамзат-бека, вождя мюридов, наш герой присоединился к русским; через некоторое время он был предан вождем аварцев и оговорен перед русскими как сторонник Шамиля, нового имама. Спасаясь от русских, Хаджи-Мурат прыгнул со скалы, выжил и перешел к мюридам; благодаря своим способностям он вскоре стал правой рукой Шамиля. Слава героя, великолепного и в набегах, и в открытых боях, в свое время вызвала зависть Шамиля, который приговорил своего лучшего солдата к смерти, руководствуясь соображениями династического наследования. Хаджи-Мурату не оставалось ничего, кроме как снова переметнуться к русским, что он и делает в завязке повести Толстого. При всем старании не искажать фактов Толстой поверил Хаджи-Мурату на слово и не позволил ни единой тени честолюбия или жестокости примешаться к режущему глаз свету славы своего героя.
Повесть Толстого начинается с краткого пролога, в котором рассказчик, возвращаясь с прогулки, с большим трудом срывает «чудный малиновый, в полном цвету, репей того сорта, который у нас называется „татарином“». Уже этот репей неявно знаменует собою Хаджи-Мурата: «Какая, однако, энергия и сила жизни… Как он усиленно защищал и дорого продал свою жизнь». Каждый раз, когда я читаю этот пролог, я изумляюсь тому, что самоочевидная символичность репья не кажется мне художественным изъяном. Но затем я думаю о том, что в «Хаджи-Мурате» все по-хорошему очевидно. Во всей повести нет ни одного неожиданного события или непредвиденного поворота; более того, Толстой нередко заранее дает нам знать обо всем, что будет дальше. Эта техника достигает вершины дестабилизации нарратива, когда мы видим отрубленную голову героя перед подробным описанием последнего боя Хаджи-Мурата. Толстой как будто предполагает, что нам вся эта история известна, — и при этом воздерживается от размышлений о ее смыслах; он не выводит из нее никакой морали и не заводит никаких споров. Насколько можно судить, значение тут имеет не действие и не пафос, а исключительно этос героя, раскрытие нам характера Хаджи-Мурата.
Несмотря на свою проницательность и храбрость, герой изначально обречен: он загнан в ловушку между двумя злобными деспотами — Шамилем и царем Николаем. Его судьба тем самым предопределена; русские не доверятся ему настолько, чтобы дать возглавить восстание против Шамиля, и все же он должен попытаться спасти свою семью, взятую имамом в заложники. Поэтому он тоже, как и Толстой с читателем, знает, как должна закончиться его история, как должна закончиться всякая история, касающаяся удела эпического героя. Но Хаджи-Мурат — не Дантов Улисс и не какой бы то ни было другой эпический герой, заточенный в запоздало морализированной вселенной. Он — шекспировского толка протагонист, и в самой глубине его этоса лежит способность ко внутренней перемене, усиленная противостоянием тому, что должно его уничтожить; так Антоний наконец «очеловечивается», когда его оставляет бог Геркулес. Рассказывая историю Хаджи-Мурата, Толстой так зачаровывается искусством рассказчика, что освобождается от толстовских доктрин, меняя их на чистоту искусства и его практики.
В холодный ноябрьский вечер Хаджи-Мурат, закутанный в башлык и бурку, в сопровождении одного своего мюрида Элдара въезжает в чеченский аул в пятнадцати верстах от русских позиций. Там он должен дожидаться известий — примут ли русские его, бежавшего от имама Шамиля, которого, по Баддели, повсюду сопровождал палач с топором. Аура, создаваемая первыми абзацами толстовского повествования, помогает нам поверить в то, что, как я подозреваю, больше всего восхищало в «Хаджи-Мурате» Витгенштейна: в трагического героя, который одновременно вызывает и нейтрализует в нас скептицизм по отношению к правдивости трагедии.
В хорошем исследовании Лоры Куинни «Мрачность истины» витгенштейновское диалектическое отношение к трагическому мироощущению применяется к доктору Джонсону и Шелли. Витгенштейн, зачарованный Толстым и Достоевским (при всей их противоположности друг другу), похоже, нашел в обоих что-то от своего амбивалентного отношения к трагедии. Шекспир беспокоил Витгенштейна, который, кажется, боялся создателя «Гамлета» и «Короля Лира» почти так же сильно, как Толстой. Если вы скептически относитесь к трагедии и в то же время жаждете ее, как невольно жаждали Толстой и Витгенштейн, то Шекспир будет представлять для вас величайшую проблему: вас будет уязвлять то обстоятельство, что трагедия, видимо, давалась ему так же легко, как комедия и сказка. Толстой главным образом не мог простить происходящего в «Короле Лире», и не исключено, что «Хаджи-Мурат», при всем своем бессознательном шекспирианстве, есть критика того, как трагический герой Шекспира высвобождает неведомые человеку силы. Хаджи-Мурат, который должен оставаться собою, храбрейшим из аварцев, спастись не может — но он не борется с даймоническими силами и не вызывает их. Он трагичен лишь потому, что героичен и «природен» — и при этом не имеет шансов на победу. Тут вспоминается Горький, его разговор с Толстым — поразительный тем, что в ту самую минуту Толстой, возможно, работал над финалом «Хаджи-Мурата»:
Я сказал, что, вероятно, все писатели несколько сочиняют, изображая людей такими, какими хотели бы видеть их в жизни; сказал также, что люблю людей активных, которые желают противиться злу жизни всеми способами, даже и насилием.
— А насилие — главное зло! — воскликнул он, взяв меня под руку. — Как же вы выйдете из этого противоречия, сочинитель? Вот у вас «Мой спутник» — это не сочинено, это хорошо, потому что не выдумано. А когда вы думаете — у вас рыцари родятся, все Амадисы и Зигфриды…[428]
Странствующий рыцарь Толстого, его Амадис Галльский, — это, разумеется, великолепный и весьма склонный к насилию (по необходимости) Хаджи-Мурат, герой, которого писатель и изобрел, и не изобрел. Толстой — пророк непротивления попросту отсутствует в сочиненном им повествовании о вожде аварцев. Какой Толстой более настоящий — рассказчик «Хаджи-Мурата» или визионер-морализатор «Исповеди» и трактата «Что такое искусство?»? Не сразу и решишься объявить, что Толстых было двое и один являл собою противоположность другому. Разве может нижеследующий пассаж не принадлежать главному Толстому, Толстому каноническому?
Глаза этих двух людей, встретившись, говорили друг другу многое, невыразимое словами, и уж совсем не то, что говорил переводчик. Они прямо, без слов, высказывали друг о друге всю истину: глаза Воронцова говорили, что он не верит ни одному слову из всего того, что говорил Хаджи-Мурат, что он знает, что он — враг всему русскому, всегда останется таким и теперь покоряется только потому, что принужден к этому. И Хаджи-Мурат понимал это и все-таки уверял в своей преданности. Глаза же Хаджи-Мурата говорили, что старику этому надо бы думать о смерти, а не о войне, но что он, хоть и стар, но хитер, и надо быть осторожным с ним. И Воронцов понимал это и все-таки говорил Хаджи-Мурату то, что считал нужным для успеха войны[429].
Толстой — тоже старик, который гонит от себя мысли о смерти и думает о войне. У Толстого, как и у Гомера, битва не вызывает ни восторга, ни негодования; они оба принимают ее как основной жизненный закон. Снова задумываешься о Толстом и непротивлении, но как непротивление может относиться к Кавказу Воронцова и Хаджи-Мурата? В «Хаджи-Мурате» битва приносит освобождение, это единственный выход в мире, едва удерживающем равновесие между однородным вероломством Шамиля и Николая. Определенно, работа над «Хаджи-Муратом» была освобождением, наилучшим для старого Толстого потаканием своим желаниям, который тем не менее сказал Горькому: «Герои — ложь, выдумка, есть просто люди, люди и — больше ничего».
Кто же такой Хаджи-Мурат, если не герой? Возможно, он отчасти замещает давно ушедшую молодость Толстого, но одним этим не объяснишь многочисленных достоинств аварского воина. По сравнению с ним, главные герои главных романов Толстого и менее жизненны, и менее располагают к полному сочувствию. Какая-то часть каждого читателя ищет такого вымышленного персонажа, который будет так же на месте в своем мире, как Хаджи-Мурат — в своем. В большей мере, чем всякий другой писатель после Шекспира, Толстой обладал даром изображения борьбы за власть в воюющем мире, и Хаджи-Мурат достоин сравнения с Антонием из «Антония и Клеопатры» и Конрадовым Ностромо. Подобно Шекспиру, Толстой одновременно бесстрастно относится к борьбе своего героя и глубоко сочувствует его неизбежной участи.
В том, как Толстой относится к Хаджи-Мурату, есть еще одна черта, нечто очаровательно личное, подводящее к подлинному отождествлению. Обстоятельства сделали Хаджи-Мурата изгоем, пусть и исполненным достоинства и даже почитаемым. Он превосходно приспособлен к своим обстоятельствам, но понимает, что обстоятельства эти распадаются и вскоре он окажется один с горсткой своих людей. Ощущение конца присутствует во всей повести Толстого; им же пронизано каждое появление героя в «Антонии и Клеопатре». У попавшего в ловушку между Шамилем и царем Хаджи-Мурата остается последняя свобода — погибнуть смертью храбрых, не только не ущербив своей сущности, но упрочив ее.
Не может быть случайным то обстоятельство, что два литературных персонажа, на которых более всего походил Толстой, — это Яхве J и Шекспиров Лир, но сам он предпочел бы сходство со своим Хаджи-Муратом, находчивым и доблестным воином, а не со вспыльчивым богом-царем. Томас Манн в своей странной статье «Гёте и Толстой» подтверждает это положение — совершенно непредвиденным для себя образом:
Ту же самую физиологическую жизнерадостность наблюдаем мы и у Толстого — вплоть до самых преклонных лет, не отмеченных сдержанностью, умеренностью, внушительными манерами старого Гёте. Да в этом и нет ничего удивительного. Кто же может сомневаться, что Гёте вел более серьезную, более тяжелую и образцовую жизнь, чем славянский помещик, что культурническая деятельность Гёте требовала по существу гораздо больше подлинного самоотречения, самодисциплины и самообуздания, чем радикально-беспомощное, застрявшее на первобытной и наивной стадии, самоодухотворение Толстого? Аристократическая грация Толстого, как ее описывает Горький, была грацией благородного животного. Ему так и не удалось превратить ее в благовоспитанность человека — победителя своих страстей[430].
Один состоятельный ответ на это дал Джон Бейли, заметивший, что и Гёте, и Толстой были гиганты эгоизма, но весьма отличные друг от друга: «Если Гёте было дело лишь до него самого, то в Толстом не было ничего, кроме него самого; и, следовательно, его представление о том, что его ждет, и о том, что теперь такое его жизнь, задушевнее и трогательнее».
В Толстом, как и в его Хаджи-Мурате, не было ничего, кроме него самого. Манн, надо думать, и в Хаджи-Мурате увидел бы благородное животное, лишенное благовоспитанности — какими бы ни были его страсти. Великий иронист, Манн тут столкнулся с чем-то неподвластным его творческой силе. В Хаджи-Мурате главное — его эстетическое достоинство, превосходящее все, что можно обнаружить в любом из героев Манна. На вопросе эстетического достоинства мы переходим к последнему бою Хаджи-Мурата и его гибели — возможно, ярчайшему художественному наитию Толстого.
Одно из отличий Толстого от Хаджи-Мурата заключается в том, что аварский герой любит своего сына и своих жен и погибает в отчаянной попытке спасти их от мести Шамиля. Приходится сомневаться в том, что Толстой когда-нибудь кого-нибудь любил, в том числе своих детей. Даже Вордсворт с Мильтоном, даже Данте не были такими великими солипсистами, как Толстой. Религиозные и моралистические писания Толстого — не что иное, как признания в солипсизме; и все-таки кто из читателей «Войны и мира» или «Хаджи-Мурата» захотел бы, чтобы Толстой был не так одержим самим собою? Из ничего и выйдет ничего, и некоторые сильные писатели (как мужчины, так и женщины) не умеют добиться своего художественного великолепия без солипсизма. Шекспир, насколько мы можем судить, был, возможно, одним из наименьших солипсистов среди поэтов; Чосер, кажется, соперничает с Шекспиром в этом приятном отношении, и меня порой тянет затеять салонную игру, в которой нужно было бы делить больших писателей на основании их склонности к солипсизму. Имеет ли она решающее значение? В том, что касается достигнутых ими высот, — никакого, но она, кажется, все-таки имеет отношение к различию по существу. Джойс был монументальный солипсист, а Беккет представляется одним из самых «самоотверженных» людей. Контраст между «Поминками по Финнегану» и трилогией Беккета — «Моллой», «Мэлон умирает» и «Безымянный» — связан с тем, как Беккет уклонялся от своего предшественника, но еще в большей степени — с их разительно несходными представлениями о других личностях.
В отличие от некоторых других протагонистов Толстого, Хаджи-Мурат до сверхъестественного ощущает реальность других личностей. Без этого он бы долго не прожил; но его осознание этих личностей отнюдь не ограничивается простой осмотрительностью, что демонстрируют его приязненные отношения с Бутлером, в чьем романтическом мироощущении и картежничестве слышатся отзвуки службы на Кавказе молодого Толстого. Если в каком-то смысле трагическая обособленность Хаджи-Мурата является проекцией того трудного положения, в котором оказался сам Толстой, то душевная щедрость аварского воина — это свойство, которого, как писатель понимал, у него не было. Несомненно, Толстой хотел бы обладать и другим качеством своего героя — его воинской удалью. Военная служба Толстого, подытоживает Джон Бейли, «практически вся состояла из бесед, попыток сочинять рассказы, охоты на зайцев и фазанов, интрижек с казачками и лечения гонореи на местных водах». Бейли мило добавляет, что этот опыт сродни военным подвигам Хемингуэя, вся творческая деятельность которого была осознанной борьбой с Толстым. Оба писателя распространили свое «самопоклонство» на самые отдаленные области своего дела, вложив свои «я» в саму природу вещей, и таким образом вторглись в область фрейдовской «проверки реальности» — только без фрейдовского мудрого примирения с неизбежностью ухода.
Хаджи-Мурат, столь же великолепный в своем последнем бою, сколь и во всей своей жизни, проявляет эту мудрость так, как одни лишь герои и героини Шекспира; он бьется до конца и погибает, противясь смерти, но не теряя достоинства. Последним своим утром, когда уже совсем светло, но солнце еще не всходило, он велит седлать коней и выезжает в сопровождении пятерых своих нукеров и конвоя из пяти казаков. Он со своими людьми убивают четверых казаков и прогоняют последнего, но им не удается уйти от множества других казаков и горских милиционеров на русской службе, которые окружают их. После яростной перестрелки Хаджи-Мурат погибает:
Еще пуля попала Хаджи-Мурату в левый бок. Он лег в канаву и опять, вырвав из бешмета кусок ваты, заткнул рану. Рана в бок была смертельна, и он чувствовал, что умирает. Воспоминания и образы с необыкновенной быстротой сменялись в его воображении одно другим. То он видел перед собой силача Абунунцал-Хана, как он, придерживая рукою отрубленную, висящую щеку, с кинжалом в руке бросился на врага; то видел слабого, бескровного старика Воронцова, с его хитрым белым лицом, и слышал его мягкий голос; то видел сына Юсуфа, то жену Софиат, то бледное, с рыжей бородой и прищуренными глазами, лицо врага своего Шамиля.
И все эти воспоминания пробегали в его воображении, не вызывая в нем никакого чувства: ни жалости, ни злобы, ни какого-либо желания. Все это казалось так ничтожно в сравнении с тем, что начиналось и уже началось для него. А между тем его сильное тело продолжало делать начатое. Он собрал последние силы, поднялся из-за завала и выстрелил из пистолета в подбегавшего человека и попал в него. Человек упал. Потом он совсем вылез из ямы и с кинжалом пошел прямо, тяжело хромая, навстречу врагам. Раздалось несколько выстрелов, он зашатался и упал. Несколько человек милиционеров с торжествующим визгом бросились к упавшему телу. Но то, что казалось им мертвым телом, вдруг зашевелилось. Сначала поднялась окровавленная, без папахи, бритая голова, потом поднялось туловище, и, ухватившись за дерево, он поднялся весь. Он так казался страшен, что подбегавшие остановились. Но вдруг он дрогнул, отшатнулся от дерева и со всего роста, как подкошенный репей, упал на лицо и уже не двигался.
Он не двигался, но еще чувствовал. Когда первый подбежавший к нему Гаджи-Ага ударил его большим кинжалом по голове, ему казалось, что его молотком бьют по голове, и он не мог понять, кто это делает и зачем. Это было последнее его сознание связи с своим телом. Больше он уже ничего не чувствовал, и враги топтали и резали то, что не имело уже ничего общего с ним[431].
Оставляя в стороне объективную, почти бесстрастную силу этого пассажа, мы не можем не подивиться тому, что Толстой, несмотря на самоотождествление с героем, воздерживается от выражения какого бы то ни было потрясения, элегического сожаления или метафизического ужаса в связи с расставанием Хаджи-Мурата со своим сознанием. Его тело «не имело уже ничего общего с ним», и мы вспоминаем слова Наташи в «Войне и мире», сказанные после смерти князя Андрея: «Где он и кто он теперь?» Бейли сопровождает эти слова славным комментарием в связи со способностью Толстого к самоотождествлению: «Солипсизм — показатель бессмертия».
Смерть Хаджи-Мурата, ставшего для пожилого Толстого спасением от солипсизма, не вызывает ничего подобного мучительному двойственному вопросу Наташи. Вместо этого «(с)оловьи, смолкнувшие во время стрельбы, опять защелкали, сперва один близко и потом другие на дальнем конце».
Мы остаемся с раздавленным репьем, называющимся «татарином», среди вспаханного поля, и погребальным пением соловьев. Главное, что тонкая сила повествования Толстого, гомеровского по духу, шекспировского по психологизму, дает нам в утешение, — это образ героизма. Хаджи-Мурат — лучший в своей вселенной (что в кавказской ее части, что в русской) по всем значимым свойствам: храбрости, умению ездить верхом, находчивости, умению вести за собою, видению действительности. Ни один другой герой эпоса или саги, древний или современный, не может вполне с ним сравниться и не вызывает такого сочувствия, как он. Умирая, Хаджи-Мурат избавляется от жалости, злобы и желаний. И Толстой тоже. И мы. То обстоятельство, что именно Толстой сумел вообразить смерть, одновременно столь соответствующую его страху смерти и столь не согласующуюся с ним, есть неожиданный и обнадеживающий триумф эстетического достоинства. Как бы мы ни представляли себе каноническое, в Демократическую эпоху его средоточием является «Хаджи-Мурат».
15. Ибсен: тролли и «Пер Гюнт»
Недавно я очутился на сцене Гарвардского Американского репертуарного театра, где вроде бы обсуждали «Гедду Габлер» Ибсена. Вместе со мною выступали маститый специалист по Ибсену (мужчина), признанная феминистка из Гарварда и знаменитая красавица-актриса, только что исполнявшая роль Гедды. Я снискал успех: меня обшикала большая часть публики, когда я мягко и беззлобно заметил, что настоящими предшественниками Гедды были Шекспировы Яго и Эдмунд, поэтому, даже если норвежское общество ее времени и позволило бы ей выйти в руководители оружейной промышленности, Гедда все равно была бы садомазохисткой, интриганкой, убийцей и самоубийцей, иными словами, самою собою во всем своем ужасном очаровании.
Возможно, из некоторого озорства я добавил, что, следовательно, неважно — женщина Гедда или мужчина, и, как Гамлета игрывали актрисы, так и Гедду, возможно, еще сыграет какой-нибудь актер. Публику гораздо больше порадовала ученая феминистка, отвечавшая, что Гедда — жертва общества и природы: она несчастна в браке и беременна нежеланным ребенком. Настойчиво повторялось: «Она заперта в женском теле», а также мысль о том, что общество сделало Гедду жертвой, не дав ей никакого дела.
Моя оппонентка была не слишком оригинальна; я тоже. Наши слова еще в 1970 году предвосхитила Бриджит Брофи, написавшая, что Гедда могла бы избежать трагедии, если бы «стала главнокомандующей вооруженными силами Норвегии». Но я думаю, что почтенный автор «Черного корабля в ад» (одной из моих любимых книг) была неправа. Начальствуя над армией или над оружейным заводом, Гедда действовала бы так, как ее предшественники, Яго и Эдмунд. Ее гениальность, как и их, заключается в отрицании и разрушении. Опять же, как и они, она — драматург, пишущий чужими жизнями. Ее ум злокознен не потому, что его таким сделали социальные обстоятельства. Он таков ради ее удовольствия, ради исполнения ее воли. Если она и походила на кого-то из тех, кого Ибсен знал, то на самого Ибсена, и он отдавал себе в этом отчет.
«Гедда Габлер», написанная в 1890 году в Мюнхене, не случайно является шедевром Эстетической эпохи, этого опасного переходного периода от Демократической эпохи к Хаотической. Яго, горделиво смакующий унижение Отелло, и Эдмунд, отстраненно размышляющий о доверчивости своих отца Глостера и брата Эдгара, — заодно с Геддой, страстно надеющейся, что Левборг застрелится, по ее наущению и из ее револьвера, честь честью. Возвышение Яго до заместителя Отелло и Эдмунда до наследника Глостера лишь отсрочило бы созидаемые ими трагедии; возникли бы другие поводы. Будь Гедда министром вооружений или фельдмаршалом, она бы все равно нашла предлог погубить Левборга и себя.
Все это должно служить вступлением к разговору о важнейшей составляющей каноничности Ибсена: у него социальный колорит всего лишь маскирует преобразование шекспировской трагедии и гётевской фантазии в новый вид северной трагикомедии — драматическую поэму, откровенно высокоромантическую в случае «Бранда» и «Пер Гюнта» и столь же высоко-романтическую, только на каком-то тонком уровне, в случае «Гедды Габлер» и «Строителя Сольнеса». Вся полувековая драматургическая деятельность Ибсена прошла в тени «Гамлета» и «Фауста». Его каноничность, как и его творческая установка, всецело связаны с его борьбой за индивидуацию своей поэтической воли и почти никак не связаны с социальными энергиями его эпохи. Раздражительный, сварливый, безжалостно преданный своему дару, не слишком харизматичный Ибсен походит на Гедду лишь тем, что и он, и она смиряют некоторые из важнейших своих побуждений, чтобы ничто не препятствовало их творчеству. Ибсен не очаровал практически никого; Гёте очаровал всех, в том числе самого себя. Подобно Шекспиру, Ибсен обладал таинственным даром настоящего драматурга: способностью расточать на персонаж больше жизни, чем есть в тебе самом. Единственное убедительное драматическое произведение Гёте — это его собственная личность, или же Мефистофель в той мере, в которой он является Гёте. Ни в пьесах Гёте, ни в его драматических поэмах нет никого подобного Бранду, Пер Гюнту, императору Юлиану, Гедде Габлер, Сольнесу. Демонические, или троллеподобные, существа, они доверху набиты жизнью — шекспировское по духу собрание ролей, не знающее соперника в современной литературе. Но они несут нешекспировское бремя: неодобрение драматурга. Эрик Бентли почти полстолетия назад выделил эту главную особенность творчества Ибсена: «…он сочинял вещи все более и более субъективные и трудные, содержавшие в себе завуалированное обличение современного человека, в том числе самого поэта».
Бентли дает понять, что это обличение направлено в первую очередь на публику, которая, благодаря своим сценическим «заместителям», переживает именно то, что внушает ей Ибсен. Кьеркегор, оказавший сильное, пусть и непрямое воздействие на Ибсена, различал два отчаяния: от того, что ты не стал собою, и более глубокое, от того, что ты по-настоящему собою стал. Главные герои Ибсена определенно стали собою. Их, за исключением Пер Гюнта, ждет отчаяние. Ибсен приложил великие усилия к тому, чтобы заставить Пер Гюнта отчаяться, но это — единственный персонаж, безвозвратно ушедший от него и вступивший в литературное пространство, в котором обитают Гамлет, Фальстаф, Лиров Шут, Бернардин (из «Меры за меру»), Дон Кихот с Санчо Пансой и лишь немногие другие.
Странный комический эффект «Пер Гюнта» как драматической поэмы отчасти создается наблюдением за тем, как Ибсен упорно, но тщетно старается заставить себя и нас не одобрять Пера или относиться к нему с неприязнью. Фальстафовское остроумие оправдывает все его проступки, «смягчает» его жизнь — пока мы не задумываемся над нею; но кто станет тратить время на эти раздумья, пока Фальстаф на сцене? Бесконечные энергичность и беззаботность Пера позволяют ему выстоять против таких сверхъестественно грозных соперников, как Доврский старец, Голос из мрака, Пуговичный мастер и Посторонний пассажир, а также против всех противников, принадлежащих лишь к человеческому роду. В театре ли, в кабинете, мы — на стороне Пер Гюнта, мы совершенно поглощены его колоссальной личностью.
Ибсен — образцовый драматург Эстетического периода потому, что он — куда тоньше, чем даже Чехов, не говоря уже о Стриндберге, Уайльде и Шоу, — интуитивно понимал, как увидеть своих персонажей сквозь призму тех или иных аспектов нашего восприятия и ощущения. Он — демократический наследник аристократического Гёте, и, хотя ему не удалось сравнять свою драматическую поэму со второй частью «Фауста», он знал тайну, которую Гёте так и не раскрыл: как оживить драму в стихах в пост-Просвещенческую эпоху. Мифология второй части «Фауста» уже слишком принадлежала прошлому, чтобы обеспечить драматургическую непосредственность; Ибсен опирался на мистическую норвежскую фольклорную мифологию, которая у него выполняла те же задачи, которые многие писатели в нашу Хаотическую эпоху поручают мифологии фрейдистской.
Средоточие драматургической психологии Ибсена — образ тролля; сейчас тролли внезапно вновь сделались популярными — в виде детских кукол. Впрочем, косматые чертенята, которых я вижу в витринах, источают куда больше добродушия, чем тролли Ибсена — настоящие демоны. В своей ранней статье о народных балладах (1857) Ибсен отмечал, что фольклор его страны благоволил к «фантастическим путешествиям в жилище троллей… войне с троллями»; это переносит нас в мир «Пер Гюнта». Когда я читаю Ибсена и смотрю постановки его пьес, меня всего захватывает ощущение, что для Ибсена тролли не были ни древними фантазиями, ни современными метафорами. Подобно Гёте, Ибсен верит в своих даймонов, в сверхъестественные истоки своего гения. Вопреки предположению некоторых исследователей, тролли Ибсена — это не подобие Фрейдова бессознательного. Они ближе к более поздней Фрейдовой мифологии влечений, к Эросу и Танатосу, и, поскольку эти влечения присущи нам, в нашей природе есть что-то от троллей. Но если Фрейд пытается быть дуалистом, то Ибсен — монист; чередующиеся в нас влечения к жизни и смерти, на взгляд Ибсена, не относятся к области человеческого. Поскольку эти влечения тем не менее универсальны (или, по крайней мере, являются универсальными мифологемами), тролли — это не просто людоеды (в «Пер Гюнте» людоеды — это горные тролли). Сам Пер — полутролль, а Гедда Габлер и Сольнес, как мы увидим, — тролли; их стесняют только социальные нормы. В «Бранде» девушка Герд вызывает у нас и восхищение, и ужас, потому что человек в ней, все, что не является троллем, — это подлинная пророчица. Нечто фундаментальное в Ибсене, что-то лукаво-жутковатое, тревожно связанное с его творческим даром, — тролль чистой воды.
Вряд ли Ибсен согласился бы с тем, как некоторые современные исследователи его творчества определяют троллей. Мюриэл Брэдбрук назвала тролля «животной формой человека», но здоровое животное в бесконечно деятельном Пер Гюнте троллей не приемлет. Рольф Фьелде пошел дальше Брэдбрук, сказав о тролле, что «в новейшей истории он управлял лагерями смерти». Тролли Ибсена и вправду очень мерзки, особенно в «Пер Гюнте», но они ближе к жестоким, неуравновешенным детям, чем к методичным технократам геноцида. Проще всего сказать так: тролли существуют прежде добра и зла, а не по ту их сторону.
Самый внушительный из очеловеченных троллей Ибсена — Гедда Габлер, а Гедду злой не назовешь. Это будет так же неинтересно, как сказать, что ее предшественники, Яго и Эдмунд — те еще негодяи. Безусловно, для Ибсена героические злодеи Шекспира, в том числе Макбет, были троллями; но это — не слишком шекспировские мифологемы. Яго и Эдмунду, как и Гедде, присуще порченое игровое начало, да и в возвышенном Фальстафе, когда он поддается гнильце, появляется троллизм. Противоположность троллизму — остроумие и веселость, порождаемая ничем не замутненным остроумием. Сэр Джон, сохраняющий остроумие до самого своего конца, так и не превращается в тролля, тогда как жестокий клоун из «Как вам это понравится», Оселок, мало чем от такового отличается.
Троллизм — как у Ибсена, так и у Шекспира (видеть его у Шекспира Ибсен же нас и учит) — явление диалектическое. Как и даймоническое у Гёте, он губителен для большинства общечеловеческих ценностей и в то же время кажется неотъемлемой теневой стороной энергий и талантов, превосходящих человеческую меру. Гедда Габлер, чья неоднозначная сексуальность включает в себя садистское вожделение к Tea Эльвстед, ведет род от Лилит, которая, как гласит еврейская эзотерическая традиция, была первой женой Адама.
По одной из версий, Лилит оставила Адама в Раю, отказавшись продолжать соития в позе, которую мы теперь называем «миссионерской». Отмечая, что Гедда желает жить мужчиной, Ибсен подразумевал, что его трагическая героиня происходит от Лилит, потому что в норвежском фольклоре тайные тролли женского пола (хульдры) считаются дочерьми Адамовой первой жены. Опять же, речь не о предположительно злой натуре Гедды, но о ее сверхъестественном обаянии. Под должным режиссерским руководством и в должном исполнении Гедда должна быть такой же холодно-чарующей и нигилистически-соблазнительной, как Эдмунд, и превращать какую-то часть каждого из нас в Гонерилью или Регану. В ее троллизме — ее краса, пусть и зловещая.
Исследовательский подход и театральные постановки, превращающие Ибсена в преобразователя общества или моралиста, губительны для его художественных достижений и грозят сместить его с законного места в Западном драматургическом каноне — второго после Шекспира и, возможно, Мольера. Даже в большей мере, чем поздний Шекспир, Ибсен — драматург мистический, визионер. С самого начала и до самого конца он писал фантазии — хотя великолепия «Бранда», «Пер Гюнта» и «Кесаря и Галилеянина», кажется, не найти в буржуазных, демократических трагедиях, с которыми прежде всего ассоциируется творчество Ибсена. Отказываясь от поэзии в пользу прозы, Ибсен, по его словам, уступал современности; но никакой уступчивости в его натуре не было. Джордж Бернард Шоу ввел в заблуждение себя и других, возвестив о социальности Ибсена. Я не знаю другого по-настоящему могучего западного драматурга, который был бы так же последовательно странен, как Ибсен. Не поддающаяся одомашниванию странность, эксцентрическое мироощущение, барочная, в сущности, художественность — Ибсен выказывает эти свойства, как и все прочие титаны Западного канона. Случай Ибсена — тот же, что случаи Мильтона, Данте, Дикинсон и Толстого: мы не замечаем его самобытности, поскольку эта индивидуальность содержит нас в себе; мы частично сформированы Ибсеном. Творчество Шекспира — бесспорно, главный пример этого феномена. Но в Ибсене, что раннем, что позднем, было больше от Шекспира, чем ему хотелось признавать.
Исследователи, в общем, сходятся на том, что первая каноническая пьеса Ибсена — это свирепый «Бранд», написанный в Италии в 1865 году, когда драматургу было тридцать семь лет. «Бранд» даже больше, чем последовавший за ним «Пер Гюнт», кажется пьесой для театра рассудка, а не для настоящей сцены. Он удивительным образом прославился по-английски: его переложение поэтом Джеффри Хиллом (1978) — это самый лучший Ибсен, доступный нам в стихотворной форме. Хиллу с его необузданным красноречием впору писать мартирологи, и темперамент у него (проявляющийся в его собственных стихах) причудливо брандовский. Хилл не желает называть своего «Бранда» переводом, но он превосходит все известные нам «умышленные» переводы.
Хилл возвышенно демонстрирует, что Бранд возвышенно невыносим; когда в финале тот гибнет под лавиной, зрители или читатели испытывают только облегчение, потому что одержимый роком пастор больше не сможет, следуя высочайшим принципам, никого погубить. Ибсен не отвечает, или отвечает неопределенно, на главный вопрос своей трагедии: не является ли Бог Бранда всего лишь увеличенным Брандом? Если верить (как верю я) в то, что всякий бог, включая Яхве, когда-то был человеком (это главное прозрение мормонского пророка Джозефа Смита), то впору задуматься, не истинно ли убеждение безумной девушки Герд: Иисус не умер, а превратился в Бранда. Бранд — норвежский Иисус, или Иисус викингов; американские религиозные энтузиасты тоже веруют не в Иисуса из Назарета, а в американского Иисуса. У. X. Оден, стремившийся к досточтимому ортодоксальному христианству, заклеймил Бранда идолопоклонником (суждение отнюдь не в духе Ибсена):
Неизбежно поэтому, что в конечном счете мы воспринимаем Бранда как идолопоклонника; он поклоняется не Богу вообще, а своему Богу. Не имеет значения, идентичен его Бог с истинным или нет: пока Бранд считает Его своим, он такой же язычник, как дикарь, поклоняющийся кумиру[432].
То, как Герд понимает Бранда, расходится с пониманием Ибсена, но при этом имеет больше отношения к сути пьесы, чем интерпретация Одена. Бог Бранда — его Бог лишь в той мере, в какой Бог всякого пророка или мистика — его Бог. Как бы ни относился Бранд к своему Богу, не это отношение делает его невыносимым. Безнадежны его отношения с людьми, начиная с отношений с матерью; это касается и его брака, поскольку мы видим, что Агнес влюбляется не в человека, но в религиозного героя.
Пусть у Бранда сколь угодно норвежский дух, его религиозные взгляды кажутся мне очень американскими и постхристианскими. О Боге Бранда мы узнаем немного, но вполне достаточно, чтобы увидеть, что они оба существуют в обоюдном одиночестве — независимо от того, одной личностью они являются или двумя. Оден видит в Бранде не вполне удавшееся изображение апостола, но Бранд Ибсена никому не служит апостолом. Как и у самого Ибсена, как и у Пер Гюнта, личность Бранда — это личность тролля. Ибсен — драматургический гений, Бранд же — весьма убедительное изображение пугающего феномена, гения религиозного. Пер Гюнт, как и Дон Кихот с сэром Джоном Фальстафом, есть нечто иное: гений игры, то, что Хёйзинга назвал homo ludens. Ближайшая у Ибсена параллель к Бранду — Юлиан Отступник, другой завораживающий, но, по сути, лишенный любви и невыносимый гений духа.
Обоим этим персонажам, подобно практически всем главным героям Ибсена, присущи свойства, напоминающие нам о странностях тролльской натуры самого драматурга. Среди моих друзей предостаточно настоящих поэтов, прозаиков и драматургов, многие из них — люди со странностями, но ни один не держит у себя на столе ядовитого скорпиона под стеклом и не кормит его фруктами. Ибсен не был ни Брандом, ни императором Юлианом, но он был строителем Сольнесом и понимал, что он — заодно с троллями. Хотя Пер Гюнта он определенно задумал в лучшем случае самопародией, универсальность этого героя делает его почти что родным братом Гамлету, Фальстафу, Дон Кихоту, Санчо Пансе.
Пера с большим правом, чем Фауста Гёте (которым Ибсен восхищался), можно назвать единственным литературным персонажем XIX века, не уступающим в масштабе величайшим героям искусства Возрождения. Ни у Диккенса, ни у Толстого, ни у Стендаля, ни у Гюго, ни даже у Бальзака нет образа столь избыточного, возмутительного, жизнелюбивого, как Пер Гюнт. Он только поначалу кажется неподходящим кандидатом на столь высокое звание: мы говорим, что он — просто-напросто норвежская забубенная головушка, какой-то псевдопоэт, в юности удивительно привлекательный для женщин, самовлюбленный, абсурдно преклоняющийся перед самим собою лжец, соблазнитель, напыщенный самообманщик. Но это — мелкое морализаторство, уж слишком напоминающее ученый хор, обличающий Фальстафа. Правда, Пер, в отличие от Фальстафа, не великий остроумец (хотя очень даже умеет насмешить). Но в яхвистическом, библейском смысле плут Пер — носитель Благословения: «Больше жизни!» Бранд одержим роком, он — живая погребальная ладья викингов. Пер — даритель тепла, хотя денницей его не назовешь. Ибсен наглядно это демонстрирует через чудесный пафос сцены смерти яростной и любящей матери Пера, которую перед самым концом утешает шутливая нежность Пера. Эта сцена резко контрастирует с отвратительным и принципиальным отказом Бранда облегчить смерть своей скаредной, несчастной матери.
Значительная часть написанного о «Пер Гюнте» — просто попытки представить Пера этаким Брандом наоборот. Поскольку сущность Бранда — в словах «Не знаю компромиссов», Гюнту приписывается приспособленчество; это слабая интерпретация приказа Голоса из мрака: «В обход!» Пер потакает своим слабостям великое множество раз, но едва ли его можно назвать соглашателем в прямом смысле этого слова. Пер соответствует Демократической эпохе: он — естественный человек, слишком естественный. Но, как и Бранд с Юлианом Отступником, он также и сверхъестественный человек, которым движут троллизм и нужда этот троллизм преодолеть. Нам не слишком нравится Пер незадолго до финала, на палубе корабля, когда он без жалости говорит о команде; или Пер после кораблекрушения, когда он не без задора топит повара. Но по большей части Пер вызывает симпатию. Его жестокая сторона — отражение не только его троллизма, но и его мифологического прообраза, убийцы троллей.
Считается, что ибсеновский Пер Гюнт восходит к легендарному охотнику Пер Гюнту, герою норвежской народной сказки. Охотник встречает Голос из мрака — таинственного невидимого тролля, извилистое, змееподобное существо; но, в отличие от Гюнта Ибсена, идущего по приказу Голоса в обход, сказочный герой его убивает. Далее безжалостный охотник убивает троллей, предающихся любви с пастушками — теми самыми страстными женщинами, которые обольщают Ибсенова Пер Гюнта. Драматург смягчает жестокость первоначального Пера, при этом сохраняя за героем репутацию выдумщика и рассказчика. Ибсеновский Пер — норвежский крестьянин XIX века из пришедшей в упадок семьи, и чудесным охотником он является только в своих фантазиях. Эти мечты едва ли выдают в Пере того, кого увидел в нем Оден, — гениального художника в качестве нового драматического героя. У Ибсена Пер не художник и не гений, а Оден предпочитал блистательно заблуждаться:
Правда, Пер, которого мы видим на сцене, лишен обычных желаний или стремлений, он только играет их. Ибсен решает проблему драматического воплощения фигуры поэта, представляя нам человека, который все обращает в роль — идет ли речь о торговле рабами или идолами или о выступлении в личине восточного пророка. В реальной жизни поэт написал бы драму о работорговле, или другую — о пророке, но на подмостках процесс творчества заменяет сценическая игра[433].
Пер, с которым мы встречаемся на страницах Ибсена, поглощен восхитительно обыкновенными страстями и снами[434]и, конечно же, он куда больше естественный человек, чем поэт. Тем не менее догадка Одена никуда не девается; Сольнес из «Строителя Сольнеса» — архитектор, а Рубек из «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» — скульптор. Что же касается сожженной рукописи Левборга в «Гедде Габлер», то ни мы, ни Ибсен не считаем, что культура понесла великую утрату. Оден ищет в Пер Гюнте поэта, которого в том нет, потому что Ибсена, кажется, связывают с этим героем отношения более близкие, чем с Брандом или императором Юлианом. Человеческая и творческая тайна Ибсена отчасти в том, что в Пер Гюнта и Гедду Габлер он вложил гораздо больше себя, чем во всех остальных своих героев. Гедда — это он, как Эмма Бовари — это Флобер. Его отношение к Пер Гюнту — совсем другое, оно обретается в косой черте между словами «отождествление»/«неотождествление». У Шоу Пер Гюнт ассоциировался с Дон Кихотом и Гамлетом: дело тут в эстетической универсальности, преодолевающей границы национальных канонов. Возможно, Гамлет не есть образ шекспировского воображения; к этой пророческой напряженности ближе Макбет. О Дон Кихоте и Сервантесе гадать не приходится, ибо Сервантес закончил свою эпическую фантазию достопамятным заявлением: «Для меня одного родился Дон Кихот, как и я — для него; ему дано действовать, мне — описывать. Вдвоем с ним мы составляем одно целое…»[435]
Заменить тут слова «Дон Кихот» на «Пер Гюнт» было бы странно, и Ибсен никогда бы этого не сделал. Но все-таки для Ибсена одного родился Пер Гюнт, как и Ибсен для него, хотя, наверное, ни тому, ни другому не было дано действовать (в том смысле, который вложил в это слово Сервантес). Другие пьесы Ибсена достигают высот трагического, но ни одна из них не дает читателю так много. Эрик Бентли почти полстолетия назад точно назвал «Пер Гюнта» «шедевром и отрадой» и призвал нас читать эту величественную драматическую поэму с толикой сочувствия. Мне больше всего нравится у Бентли слово «отрада».
Современники Ибсена не оценили четвертого и пятого действий, в которых живет краса этой вещи, так и не превзойденных Ибсеном по изобретательности, которая есть суть поэзии. Взятые вместе, последние два действия заметно длиннее взятых вместе первых трех и выходят за пределы саги о юном Пере. В действиях с первого по третье мы видим Пера двадцатилетним: жизнерадостный и неукротимый, он готов потягаться и с соседями, и с троллями. Сочтя себя недостойным Сольвейг из-за своих тролльских амуров и отделенный от мира смертью матери, Пер начинает свои скитания, и пьеса становится сюрреалистической, или, может быть, ирреалистической — ближе к Беккету, чем к Стриндбергу. Великолепное и уморительное четвертое действие начинается на Марокканском побережье, продолжается в пустыне Сахара и завершается в сумасшедшем доме в Каире. Пер теперь — восхитительно развращенный американизированный работорговец средних лет, угощающий на природе обедом столь же развращенных своих подельников — британца, француза, пруссака и шведа, — которым он излагает положения гюнтианской моральной философии:
Гюнт стал собой — тут сплетены Мои желанья, страсти, сны. Гюнт стал собой — тут цел порыв, Которым только я и жив, Все, что в груди моей таится, Чтоб мне таким, как есть, явиться. Нуждался бог в земле когда-то, Чтоб в мире властвовать своем, — Так мне необходимо злато, Чтоб мог я сделаться царем[436].В Пере победил тролль, потому что он стал руководствоваться приказом Доврского старца: «Тролль, упивайся самим собой!», а не человеческим девизом: «Человек, будь собой самим!» Тем временем греки восстают против турок и по-тролльски последовательный Пер, выворачивая наизнанку Байроново геройство, предлагает оказать туркам финансовую помощь. Когда его компаньоны уходят на его груженой золотом яхте и затем взрываются вместе с нею, он благодарит Бога и тут же сетует на то, что Господа нельзя назвать экономным.
Герой первых трех действий теперь — более явный героический злодей, но он также делается существенно забавнее и даже еще обаятельнее, поскольку его злоключения нагляднейшим образом соотносятся с универсалиями человеческих фантазий. Зная, что он каким-то образом остается избранным, плут Пер залазит на дерево, и мы видим, как он отбивается от обезьян, словно от толпы троллей. Потом он беспечно, как водится, бродит по пустыне и размышляет о том, как бы ее улучшить. Мы вдруг видим, что Пер — это связующее звено между Фаустом Гёте и Польди Блумом Джойса. Все трое мечтают о новой земле, отбитой у пагубной природы. Пер превосходно обобщает морские берега Фауста, Гюнтиану и чаемый Польди новый Блумусалим в Новой Гибернии будущего:
Там, где пышней распустится зелень, Мы благородных норвежцев поселим, Раз мы, норвежцы, причислены к знати, Примесь арабская будет нам кстати. А где в залив ударяет волна, Будет Перполис построен, столица. Мир одряхлел. Так должна появиться В нем Гюнтиана, младая страна[437].Ибсен смешивает фарс, фантазию и пафос томления, когда Пер объявляет войну смерти, предвещая тем самым великолепную «задачу» пятого действия. Судьба (и Ибсен) дают Перу украденного коня и наряд императора Марокко[438]. В великолепном наряде, на коне с великолепной сбруей он превращается в пророка, окруженного пляшущими девушками во главе с Анитрой, особенно привлекательной приверженкой гюнтианства. Пер практически осуществляется в качестве пророка, но впадает в обыденность, когда пытается добиться более земных радостей от коварной Анитры, которая спасается бегством на его коне, ничем бедного Пера не одарив. Пер делается нам еще симпатичнее, когда стремительно оправляется от эротического унижения:
Застопорить время фигурами танца, Поток преградить болтовней попытаться, Вздыхать, ворковать о своем идеале, — И все для того, чтоб тебя общипали, Уж точно безумно-пророческий ход! Как куру, меня общипали![439]Оставив пророческое поприще, Пер становится «старым истористом», снимающим пенки с истории. Как некий новый Вико, он хочет обладать «итогом былого» и отправляется в Египет, чтобы услышать, как приветствует рассвет Колосс Мемнона. Этот порыв Пера — пародия на порыв Фауста во второй части поэмы Гёте, дух которой явственно ощутим в четвертом и пятом действиях пьесы Ибсена. Вместо гётевского незаурядного оживления классики с Фаустом в ипостаси любовника Елены мы получаем Пера в ипостаси норвежского туриста, записывающего в книжке:
Статуя пела, и звук был внятен, Но смысл оставался мне непонятен, Все это был, несомненно, бред. Других интересных деталей нет[440].Мемнон не относит Пера назад, в темную бездну античной истории, но лишь напоминает ему Доврского старца. Еще более впечатляющим должно было бы стать столкновение со Сфинксом Гизы — но оно тоже не становится историческим событием и кажется Перу лишь еще одной встречей с Великим кривым. «Эдипов» ответ на загадку — «Что есть человек?»[441] — дает не Пер, а Бегриффенфельдт, директор каирского сумасшедшего дома, тоже приходит к Сфинксу в поисках понимания (означаемого именем Бегриффенфельдта)[442]. Поиск завершается, когда Бегриффенфельдт провозглашает Пера «царем толковников», который разгадал тайну самой жизни, сказав о троллеподобном Сфинксе: «Он — это он сам»[443]. Сбитый с толку, но по-прежнему готовый на все, Пер попадает в дом ученых, или сумасшедший дом; Бегриффенфельдт запирает сторожей в клетки и освобождает больных, сделав перед этим грандиозное антигегельянское заявление: «Сегодня, скажу напрямик, / Дух испустил абсолютный разум».
Разум умер, потрясенный Пер воцаряется вместо него и удостаивается безумного признания от Гугу, реформатора языка, от феллаха, таскающего на спине мумию царя Аписа, и, всего лучше, от министра Хуссейна, которому мнится, что он перо. Для Ибсена все это была жестокая и злободневная политическая сатира, но теперь эти персонажи живут сами по себе в своем вдохновенном безумии. Пер отправляет Гугу к марокканским обезьянам, с которыми не так давно сражался, и велит феллаху повеситься, чтобы уподобиться царю Апису. Дело Гугу разрешается благополучно, но самоубийство феллаха приводит Пера в ужас; второго же самоубийства, совершенного человеком-пером Хуссейном, Пер перенести не может и падает в обморок. В возвышенно отталкивающей кульминации Бегриффенфельдт коронует лежащего без сознания Пера соломенным венком, и четвертое действие заканчивается всеобщей хвалой повелителю собственной плоти.
Я не знаю ни одной пьесы XX века, в которой традиция Аристофана и второй части «Фауста» воскресала бы так зримо, как в четвертом действии «Пер Гюнта». Не теряя азарта, Ибсен переносится от одного возмутительного измышления к другому. Что бы ни представлял собою Пер, было бы несправедливо по отношению к нему прибегать к морализаторству в духе Августина, как делали некоторые из лучших исследователей Ибсена. Ибсен — больше скорпион, чем моралист, и — в пределах этой пьесы — в большей степени дионисиец, чем принято считать. Эрик Бентли, возможно, слишком строг к Перу, строже Ибсена:
«Пер Гюнт» — это контр-Фауст. В нем показана оборотная сторона фаустианской устремленности — современная устремленность к деланию карьеры со всеми ее многочисленными импликациями. Пер Гюнт, отличающийся веселой неразборчивостью в средствах, авантюрным эгоизмом и обаятельным аморализмом, — это Дон Кихот частного предпринимательства; ему следовало бы быть покровителем национальной ассоциации промышленников.
На каком-то этапе Пер, действительно, великая акула капитализма, но он слишком жизнелюбив и переменчив, чтобы довольствоваться какой-нибудь одной ролью, и его поглощенность самим собою порождает беспристрастность. Пер — гений игры, тролльской и безумной игры. Ибсена, как и Сервантеса с Шекспиром, не интересует Грехопадение. Троллизм — это не бунт против Бога, даже когда он проявляется не в троллях, а в людях. Четвертое действие «Пер Гюнта» — в той же мере антихристианское, что и антигегельянское; абсолютный разум испускает дух вместе с абсолютной духовностью, а Пер живет вопреки всем ударам судьбы.
Что бы ни думали исследователи Ибсена, Пер в его глазах — не пустой человек, не неудачник. Вторая часть «Фауста» — еще более великая драматическая поэма, чем «Пер Гюнт», но, в отличие от Фауста, Пер являет собою блистательное изображение личности. Ибсен ценит в Пере то, что следует ценить в нем и нам: уникальное своеобразие, которое откажется сплавляться воедино с ограниченным и безликим; это — агонистическое содержание пятого действия. Я никак не могу принять распространенного нынче мнения, ярче всего выраженного Майклом Мейером в книге «Досье на Ибсена» (1985):
Как бы, на наш взгляд, Пер ни умер — в сумасшедшем доме или при кораблекрушении, — в пятом действии, безусловно, изображается либо его былая жизнь, проносящаяся в его сознании перед самой смертью, либо (что, возможно, то же самое) блуждание его души в чистилище.
Ибсенов Пер Гюнт не умирает — ни в сумасшедшем доме, ни при кораблекрушении; когда занавес опускается в последний раз, он очень даже жив. Подобно Одиссею и Санчо Пансе, в отличие от Дон Кихота, Фальстафа и Фауста, Пер — уцелевает, как и подобает предшественнику Леопольда Блума. Ибсен ничтоже сумняшеся погреб Бранда под лавиной, но не нашел в себе сил убить Пер Гюнта. Великие тролли — Гедда Габлер, Сольнес, Рубек — должны умереть; троллеподобный Пер, выразитель Ибсенова чувства жизни, должен жить. Все пятое действие отвергает смерть от воды, переплавки, мук чистилища. Фаустовское вознесение в ангельский, женский предел — не для Пер Гюнта; его Ибсен возвращает к женщине, которая ему и мать, и заждавшаяся невеста.
Исследователям и режиссерам не стоит бояться, что это мелодраматизм и сентиментальность; нет, это — последний возмутительный ход Ибсена в бесконечно возмутительной драме. Троллям не удается погубить Пер Гюнта потому, что за ним стоят женщины, и та же самая байроническая и гётеанская тайна не позволяет восторжествовать Постороннему пассажиру с Пуговичным мастером. Ибсен сознательно затемняет отношение Пера к его матери Осе и к праведной Сольвейг, так как нам бы все равно лучше запомнились эротические приключения героя, и в человеческой, и в тролльской ипостаси.
Связующее звено тут — задор, за который Ибсен прощает Перу практически все.
В пятом действии Пер делается мрачнее; в нем впервые появляется что-то неприглядное. Устойчивая странность «Пер Гюнта» отчасти заключается в том, что это скорее драматическая трилогия, а не одна пьеса. Двадцатилетний Пер из первых трех действий — героический жизнелюбец, не лишенный некоторой жутковатости: его энергия и его желания делают его отчасти троллем. В четвертом действии немолодой Пер — одновременно умудренный опытом шутник и низкий плут, и его фантастические приключения едва-едва остаются в пределах естественного. Сверхъестественным же проникнуто пятое действие, где постаревший Пер становится, некоторым образом за счет своего юмора, и еще неприятнее, и еще трогательнее. Притом что «Пер Гюнт» — наиболее самобытная и наименее шекспировская по духу пьеса Ибсена, это двойственное развитие Пера соответствует пути, который проходит Фальстаф по мере того, как вторая часть «Короля Генриха IV» близится к финалу.
Возвращение к морю и горам Норвегии существенно, но не полностью, определяет изменившуюся атмосферу последнего действия. Старость Пера и будущая старость Ибсена — основание печального космоса, в котором все напоминает о смерти. Представление Ибсена о бессмертии имеет откровенно элитистский характер, как и представление о нем Гёте, выраженное во второй части «Фауста» (здесь Ибсен снова оказывается у нее в долгу). Великое множество душ переплавляются в общий фонд, одухотворяющий новую жизнь; но великие, творческие души сохраняют после смерти свою индивидуальность. Эта идея восходит к Петрарке, но Гёте с Ибсеном оживляют ее, впадая в отчаянный буквализм. Возникает следующий вопрос: в чем величие Пер Гюнта, уже совсем разнузданного тролля? Что оправдывает его временный уход от Постороннего пассажира и Пуговичного мастера? Одно дело — когда Гретхен (и Гёте) спасает Фауста, но почему же, когда Сольвейг (и Ибсен) спасают Пер Гюнта, это выглядит еще убедительнее?
К чести Ибсена как драматурга надо сказать, что он не подсказывает нам ответа на этот вопрос. С Пером в пятом акте впервые неприятно иметь дело — если только вы не страшноватый Посторонний пассажир, который просит у Пера в дар его труп для сомнительных изысканий и утешает героя достопамятными словами: «Средь пятого акта герой не помрет». Но в заключительной трети последнего действия Пер встречается с Пуговичным мастером, который и придает оставшейся части пьесы окончательный вид. О том, чем Ибсен здесь обязан Гёте, проницательно написал в 1942 году А. Э. Цукер, справедливо сравнивший тон Пуговичного мастера с тоном Мефистофеля. Изобретательность Ибсена не уступает изобретательности Гёте по части сардонического и макабрического юмора и усиливается наваждением, не оставлявшим Ибсена с самого детства. Мальчиком Ибсен играл с плавильным ковшом в пуговичного мастера; то же самое, как ближе к началу пьесы говорит Осе, делал маленький Пер Гюнт[444]. Когда Пуговичный мастер говорит Перу: «Наше знакомо тебе ремесло», он прикасается к такому источнику, в котором давнее увлечение смешивается с ужасом. Задействованная тут метафора — библейская, пророческая, и подразумевает она скорее очищение, чем наказание, хотя «очищение» это ироническим образом заключается в утрате своей сущности, пугающей Пера (и Ибсена) особенно сильно.
«Тебя надо переплавлять», — насмешливо говорит Пуговичный мастер Пер Гюнту; причудливое обаяние Пуговичного мастера отчасти заключается в его терпеливости, в его готовности подождать встречи на следующем перекрестке. Он знает, что перед этим свиданием Пер повстречает изможденного, лишившегося своего престола Доврского старца и вновь услышит тролльское слово: упивайся. «Тролль, упивайся собой!» вытекает из «Тебя надо переплавлять». Когда Пер и Пуговичный мастер сходятся во второй раз, их разговор принимает направление, которое некоторые исследователи Ибсена считают христианским. Пер в искреннем замешательстве спрашивает, что значит быть собой, на что Пуговичный мастер отвечает слишком простым парадоксом: «Быть собой — значит с жизнью проститься!»
Но почему мы должны полагать, что устами Пуговичного мастера говорит Ибсен, точнее, его пьеса? Ни один главный герой Ибсена не достигает самости через самоубийство, не исключая Рубека из «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» и Гедды Габлер. Не было художника, менее расположенного к самоуничтожению, чем Ибсен, и, как я понимаю, по-настоящему главное в Пуговичном мастере — то, что он достаточно мудр, чтобы постоянно давать отсрочку. Разве Пер Гюнта сплавишь воедино со всеми остальными? Пер так боится столь незакономерной участи, что готов сдаться причудливому персонажу по прозвищу Сухопарый, Ибсеновой версии Мефистофеля; но Сухопарый находит, что Пер не достоин вечных мук, по крайней мере — инкогнито. Не то знаменитый Пер Гюнт, кихотический повелитель своей плоти — и Сухопарый отправляется на юг искать его, пущенный по ложному следу нераскрытым Пером.
Ширящийся разрыв между настоящим и легендарным Пер Гюнтами все больше кажется последним смысловым центром пьесы. Пуговичный мастер уступает в третий раз — и пришествие Сольвейг, одновременно Гретхен и Беатриче, меняет ситуацию. Тем не менее драма заканчивается антифонией голосов Сольвейг и Пуговичного мастера, пытающихся нейтрализовать друг друга. Пуговичный мастер сулит встречу на последнем перекрестке[445], а Сольвейг обнимает Пера и сулит бесконечное движение вспять[446]. У нас мало оснований считать, что Ибсен поддерживает какое-то из двух этих обещаний. Для него, как и для нас, пьеса завершается иронией, то есть бессмысленностью. Пер и не спасается, и не обрекается переплавке. Ему надлежит спать и видеть сны. Понятно, что он не будет упиваться собою и очистится; но будет ли он собою самим, уснув на груди Сольвейг?
«Пер Гюнт» примерно на пятьсот строк длиннее несокращенного «Гамлета», хотя по сравнению с «Фаустом» это короткое сочинение. Определенно, «Пер Гюнт» — это и «Гамлет» Ибсена, и его «Фауст» — пьеса, или драматическая поэма, в которой явлены все возможности воображения. Имея вступлением «Бранда», а колоссальным послесловием — «Кесаря и Галилеянина», «Пер Гюнт» — главное у Ибсена; здесь содержится все, что у него было, все, что он заготовил для прозаических пьес своего предположительно важнейшего периода. Для меня каноничность «Пер Гюнта» едина с его троллизмом, пусть даже лучшие из прозаических пьес Ибсена, в особенности «Гедда Габлер», — самые тролльские.
Вернуться к троллизму Ибсена — значит вернуться к Ибсену-драматургу, ибо настоящая квинтэссенция ибсенизма — это тролль. Чем бы ни был тролль в норвежском фольклоре, у Ибсена это образ его самобытности, роспись его духа. Тролли имели для Ибсена значение прежде всего потому, что их порой так трудно отличить от людей — а в поздних пьесах Ибсена это еще труднее. Эта трудность, во всяком случае, для Ибсена, не имела отношения ни к морали, ни к религии. Является ли троллем Бранд? Это вопрос раздражающий, но едва ли бессмысленный — и он перестает раздражать, если мы отнесем его к Хильде Вангель, Ребекке Вест, Гедде Габлер, строителю Сольнесу, Рубеку и прочим.
Троллизм у Ибсена (и для него) — часть «карты» психики. У Гёте даймоническое начало самостоятельно, но не вездесуще. У Ибсена же границ не существует, и мы не знаем, кто вполне человек, а кто «заражен» северными демонами. Впрочем, нам интереснее всего, когда в персонажах проявляется троллизм, и «формула» творчества Ибсена, таким образом, оказывается чем-то вроде сокрытого принципа, согласно которому драматическое — синоним сверхъестественного. Это очень далеко от того, что видят в Ибсене; но настоящий Ибсен как драматург походит на своего змеевидного тролля — Голос из мрака. Из этого мы должны вынести как минимум один урок: больше не следует именовать Пер Гюнта человеком нравственно слабым, увертливым, склонным к компромиссам, нереализовавшейся личностью. Он — полутролль, увертливый и жизнелюбивый, и таков же был Ибсен. Эрик Бентли давным-давно особо отмечал, что поздний Ибсен был снаружи реалист, а внутри — сплошь фантасмагория. Конечно же, Бентли был прав: в «Бранде», «Пер Гюнте» и «Гедде Габлер» то, что внутри, не отличить от того, что снаружи; разграничения в них призрачнее, а звуки — тоньше, чем в любой драме после них.
Часть IV ХАОТИЧЕСКАЯ ЭПОХА
16. Фрейд: прочтение по Шекспиру
У каждого литературоведа есть (или должна быть) любимая литературоведческая шутка. У меня это сравнение «фрейдистского литературоведческого метода» со Священной Римской империей: не священная, не Римская, не империя; не фрейдистский, не литературоведческий, не метод. Фрейд лишь отчасти виноват в редукционизме своих англо-американских последователей и не несет никакой ответственности за франко-хайдеггерианскую психолингвистику Жака Лакана и компании. Чем бы вы ни считали бессознательное — двигателем внутреннего сгорания (как американские фрейдисты), структурой фонем (как французские фрейдисты), древней метафорой (как я), — ваше толкование Шекспира отнюдь не сделается продуктивнее от того, что вы примените к его пьесам Фрейдову карту сознания или его аналитическую систему. Фрейдистская аллегоризация Шекспира столь же неудовлетворительна, сколь и нынешние фукианские («новоистористские»), марксистские и феминистские аллегоризации или прежние взгляды на его пьесы сквозь призму идеологии, будь то христианство или светская этика.
На протяжении многих лет я учу, что Фрейд — это, по сути, Шекспир в прозе: свое представление о человеческой психологии Фрейд извлек — не вполне бессознательно — из чтения шекспировских пьес. Создатель психоанализа всю жизнь читал Шекспира по-английски и признавал Шекспира величайшим из писателей. Шекспир не отпускал Фрейда так же, как он не отпускает всех нас; и умышленно, и нечаянно Фрейд цитировал (и перевирал) Шекспира в разговорах, письмах и создаваемой им литературе психоанализа. По-моему, будет некорректно утверждать, что Фрейд любил Шекспира так, как он любил Гёте и Мильтона. Я даже сомневаюсь в том, что его отношение к Шекспиру можно назвать амбивалентным. Фрейд не любил Библию и не выказывал в ее отношении никакой амбивалентности, а Шекспир куда в большей мере, чем Библия, тайно властвовал над Фрейдом, стал для него отцом, которого тот не признавал.
Сознательно или нет, на каком-то уровне Фрейд странным образом отождествлял Шекспира с Моисеем, как в статье о Моисее Микеланджело. Эти замечательные размышления о скульптуре Микеланджело были опубликованы в 1914 году в психоаналитическом журнале «Имаго» анонимно — как будто Фрейд хотел, донеся их до своих последователей, все-таки от них отречься. Сначала он отмечает ошеломляющее, озадачивающее воздействие некоторых шедевров литературы и скульптуры и, прежде чем перейти к Моисею Микеланджело, говорит о «Гамлете» как о разрешенной психоанализом проблеме. Этот огражденный анонимностью вердикт проникнут весьма неприятным догматизмом:
Вспомним «Гамлета», шедевр Шекспира, написанный более 300 лет тому назад. Я слежу за публикациями по психоанализу и присоединяюсь к точке зрения, что лишь психоанализу с его комплексом Эдипа удалось в полной мере раскрыть тайну воздействия этой трагедии на зрителя. А сколько существовало до этого различных, часто взаимоисключающих друг друга попыток его толкования, какое многообразие мнений о характере героя и замысле автора! Какому герою заставляет нас сострадать Шекспир — больному или, может быть, страдающему комплексом неполноценности, а может быть, это один из идеалистов, слишком чистый для этого мира? И какое количество попыток толкования оставляет нас совершенно холодными, не объясняя нам причины воздействия поэтических творений! Они скорее призваны убедить нас в том, что чары поэтического шедевра сводятся лишь к глубине мыслей и блеску языка. И однако — не являются ли эти опыты толкования свидетельством того, что существует насущная потребность искать другие источники этого воздействия?[447]
Вместо того чтобы оспаривать эту точку зрения, я спрошу, почему Фрейд обратился к «Гамлету» в связи с Моисеем Микеланджело. Как ни странно, он куда эффективнее наводит на размышления и мыслит куда образнее, когда толкует мраморную статую, чем когда сводит самого сложного героя Шекспира к жертве эдиповой фиксации. Возможно, воображение Фрейда возбудила самоидентификация с Моисеем, но я склонен считать, что Шекспир внушал Фрейду сильную тревогу, а Микеланджело не вызывал никакой. Впоследствии Фрейд косвенным и пугающим образом свяжет Моисея с Шекспиром; оба предстанут не теми, кем казались, и Фрейд отвергнет все конвенциональные сведения и об одном, и о другом. На последнем своем этапе Фрейд заменил в «Моисее и монотеизме» еврейского пророка из Библии египтянином, а «исторического» Уильяма Шекспира наделил существованием в качестве актера, но не писателя.
Фрейд умер в убеждении, что Моисей был египтянином, а пьесы и стихотворения, ошибочно приписывавшиеся Шекспиру, создал граф Оксфорд. Вторая идея, впервые высказанная Д. Т. Луни в книге «Опознанный Шекспир» (1921), еще безумнее первой. Тем не менее гипотеза Луни за несколько лет стала для Фрейда истиной и отстаивалась им в последнем его труде — опубликованном посмертно «Очерке психоанализа». Глупее[448], понятное дело, ничего быть не может: Эдуард де Вер, 17-й граф Оксфорд родился в 1550 году и умер в 1604-м. Следовательно, его не стало до того, как были написаны «Король Лир», «Макбет», «Антоний и Клеопатра» и поздние сказки Шекспира. Чтобы быть лунитом, нужно для начала заявить, что после смерти Оксфорда эти пьесы оставались в рукописи, и исходить уже из этого. Как мог Фрейд, лучший, возможно, ум нашего века, впасть в эдакое чудачество?
Желание Фрейда, чтобы Шекспир не был Шекспиром, принимало разнообразные формы, пока он не открыл себе на радость гипотезу Луни. Такое чувство, что Фрейд был готов прислушаться к любому мыслимому предположению о том, что сын стратфордского перчаточника, актер Уильям Шекспир, был самозванцем. Эрнест Джонс, агиограф Фрейда, пишет, что Мейнерт, у которого Фрейд изучал анатомию мозга, верил в теорию, согласно которой за Шекспира все написал сэр Фрэнсис Бэкон. При всем почтении к Мейнерту, Фрейд отказался стать бэконианцем, но по симптоматичной причине: когнитивные достижения Бэкона вкупе с величием Шекспира дали бы нам «самый мощный ум, когда-либо являвшийся в этот мир».
Не приняв бэконианского тезиса, Фрейд хватался за всякую странную идею, относившуюся к Шекспиру и обращенную против него, — в том числе предположение одного итальянского ученого, что имя Шекспира — это вариант имени «Жак Пьер»! Такое чувство, что если кто-нибудь только намекал на установление истинной личности актера из Стратфорда, Фрейд сразу был готов ему поверить. Обнаружив в 1923 году книгу Луни, он проглотил ее без всякого скептицизма. То обстоятельство, что граф Оксфорд умер до того, как был написан «Король Лир», значения не имело; то обстоятельство, что у Оксфорда, как и у Лира, было три дочери, имело огромное значение. После смерти Оксфорда пьесы дописали его друзья, к тому же у актера из Стратфорда было всего две дочери. Что в остром и мощном уме Фрейда заставило его всерьез отнестись к такому буквализму? Эдипов комплекс, десятилетия назад навязанный Фрейдом Гамлету, перешел в Оксфордов комплекс. Будучи автором «Гамлета», Оксфорд еще ребенком потерял отца и со временем отдалился от матери, вышедшей замуж повторно. Было бы бессмысленно говорить Фрейду, что это обычное для елизаветинской высшей знати дело; он хотел, он нуждался в том, чтобы создатель «Гамлета», «Короля Лира» и «Макбета» был богатым и могущественным дворянином.
Если, как я утверждаю, Фрейд действительно был обязан Шекспиру едва ли не всем, то разве его долговое бремя облегчилось бы, окажись его предшественник не провинциальным актером, а графом Оксфордом? Только ли в венском снобизме Фрейда тут дело? Предположу, что Фрейд отчаянно хотел читать эти великие трагедии как автобиографические откровения. Из стратфордского актера мог выйти автор «Виндзорских насмешниц», но не создатель домашних трагедий из жизни высокородных: Гамлета, короля Лира, Отелло, Макбета. В письме к своему старому другу Арнольду Цвейгу (от 2 апреля 1937 года) Фрейд почти теряет самообладание, не умея обратить озадаченного Цвейга в лунизм:
Можно сказать, что ему нечем обосновать свои претензии, тогда как у Оксфорда есть для этого практически все. Мне кажется совершенно немыслимым, чтобы Шекспиру все это далось «из вторых рук»: невроз Гамлета, безумие Лира, непокорность Макбета и характер леди Макбет, ревность Отелло и пр. Меня чуть ли не раздражает, что Вы поддерживаете эту идею.
Я читаю эти слова с изумлением: это мощный и изощренный ум, все еще на пике своих сил; это действительно ум нашего века, как Монтень был умом века Шекспира. Ум Шекспира — Фрейд знал это, но отказывался признавать — был умом всех веков, и грядущим столетиям никогда его не догнать. Фрейд, человек, отнюдь не чуждый воображения, называет воображение Шекспира чем-то «из вторых рук».
Защитная реакция Фрейда поразительна. Ему как будто необходимо, чтобы «Гамлет» был написан Гамлетом, «Король Лир» — королем Лиром, «Макбет» — Макбетом, «Отелло» — Отелло. Вывод из этого можно сделать следующий: у самого Фрейда «Гамлетом» было «Толкование сновидений», «Королем Лиром» — «Три очерка по теории сексуальности», «Отелло» — «Торможение, симптом и тревога», а «Макбетом» — «По ту сторону принципа удовольствия». «Человек из Стратфорда» не мог создать Фрейдову психологию; граф Оксфорд, гордый и своенравный пэр[449], тоже не мог ее создать — но, в отличие от скромного актера, он мог ее «прожить».
Если не веровать свято во Фрейда, то все это — старая, как мир, история о литературном влиянии и сопутствующих ему тревогах. Шекспир — создатель психоанализа; Фрейд — его кодификатор. Но Фрейду было мало творчески исказить написанное Шекспиром; грозного предшественника следовало разоблачить, низложить, унизить. Актер из Стратфорда был всего лишь фальсификатором и плагиатором. Оксфорд, великий неизвестный, был трагическим героем, который каким-то образом сумел описать перенесенное им. По отношению к Фрейду Оксфорд — всего лишь Илия перед Фрейдом-Мессией, вопиющий в пустыне души, возгласивший о пришествии истинного толкователя. Моисея-египтянина из фантазии Фрейда убивают евреи, и он превращается в тотемного отца, превосходящего могуществом реального пророка. Шекспир, по лунитской фантазии Фрейда, изглаживается из памяти людской и заменяется титаническим аристократом, уступавшим в могуществе реальному драматургу.
Разумеется, тут я рассуждаю о Фрейде как о писателе и о психоанализе как о литературе. Это книга посвящена Западному канону того, что в лучшие времена мы называли художественной литературой, а подлинное достижение Фрейда — это его писательское величие. В качестве терапевтического метода психоанализ умирает, возможно, уже умер: для канона он сохраняется в том, что написал Фрейд. Кто-то возразит, что Фрейд — не только сильный писатель, но и самобытный мыслитель; я отвечу, что Шекспир — мыслитель еще самобытнее. Не обязательно прибавлять достижения сэра Фрэнсиса Бэкона к достижениям Шекспира, чтобы встретиться с главным психологом в мировой истории.
Я не имею в виду, что Шекспир был всего лишь «моральным» психологом, тогда как Фрейд изобрел глубинную психологию. У Гамлета не было Эдипова комплекса, зато у Фрейда явно был Гамлетов комплекс, а психоанализ, может быть, — это Шекспиров комплекс! Как исследователь литературного влияния, я не могу переоценить влияние Шекспира на Фрейда. Оно отличается лишь в степени, не по существу, от влияния Шекспира на Гёте, Ибсена, Джойса и многих других авторов, составляющих предмет этой книги. Но я хочу пойти дальше: на Фрейда Шекспир повлиял так, как повлиял на Уитмена Эмерсон; приходится говорить о прямом предшественнике, как пришлось бы говорить о Вордсворте по отношению к Шелли, или о Шелли по отношению к Йейтсу, или о Йейтсе по отношению ко всем англо-ирландским поэтам после него, включая великолепного Шеймаса Хини. Мы уже видели, какую тревогу Шекспир вызывал у Фрейда; не будь Луни, Фрейд и сам выдумал бы какого-нибудь графа Оксфорда.
Фрейдистский литературоведческий метод в применении к Шекспиру — это небесная шутка; шекспировский метод в применении к Фрейду будет рождаться в муках, но все же явится на свет, потому что Фрейд как писатель переживет смерть психоанализа. Перенос на шамана — это древняя, распространенная по всему миру метода лечения, широко изучаемая антропологами и историками религии. Шаманизм предшествовал психоанализу и переживет его; это чистейшая форма динамической психиатрии. Сочинения Фрейда, описывающие человеческую природу во всей ее полноте, далеко превосходят поблекший фрейдианский терапевтический метод. Если в сочинениях Фрейда есть некая главная сущность, то это — идея гражданской войны в душе. Этот раскол предполагает представление о том, как устроена человеческая личность, и некоторый набор мифов, или метафор, придающих этому устройству динамический (или, если выражаться более литературно, драматический) характер. К этим фрейдовским метафорам относятся психическая энергия, влечения и защитные механизмы. Сам Фрейд, как подобает основателю, подверг анализу себя самого, чтобы раскрыть — или сотворить — драму своей личности, но прямо запретил своим последователям пытаться повторить сделанное их вождем.
Для этого первого самоанализа нужна была объединяющая драматическая парадигма, и Фрейд нашел ее там же, где находили ее европейские романтики, — в Гамлете. Предположу, что Фрейд привил Эдипа к Гамлету во многом для того, чтобы скрыть свой долг перед Шекспиром. Проведенные Фрейдом аналогии между этими двумя трагедиями представляют собою сильные творческие искажения, и, анализируя их, нельзя упускать из внимания чрезмерное значение, которое Фрейд придавал Эдипову комплексу. Гамлетов комплекс — тема очень богатая, потому что во всей западной литературе нет героя умнее. У Эдипа из драмы Софокла, возможно, есть Гамлетов комплекс (который, по моему определению, выражается в том, что человек размышляет не слишком много, но слишком хорошо), но у Гамлета, созданного человеком из Стратфорда, Эдипова комплекса определенно нет.
Шекспиров Гамлет, безусловно, любит своего отца и чтит его память, а к матери относится достаточно сдержанно. Фрейд же утверждает, что Гамлет бессознательно вожделеет к матери и бессознательно думает об убийстве отца, которое на деле совершает Клавдий. У Шекспира все гораздо тоньше; его «Эдиповы» трагедии — это «Король Лир», «Макбет», но не «Гамлет». Королева Гертруда, в защиту которой недавно выступило несколько феминистов, в оправданиях не нуждается. Она — явно носительница бурной сексуальности, возбуждавшая страсть сперва в короле Гамлете, а затем в короле Клавдии, едва ли не подчинившая их себе. Шекспир не преминул показать, что Гамлет в детстве получал мало внимания, во всяком случае от отца, но Фрейд предпочел этого не замечать. В пьесе никто, включая Гамлета и Призрака, не говорит, что прикипевший к жене отец любил своего сына. У взбалмошного короля, такого же рубаки, как Фортинбрас, похоже, на сына не оставалось времени — оно уходило на государственные дела, войну и мужеское любострастие. Так, призывая Гамлета к мести, Призрак говорит: «Коль ты отца когда-нибудь любил…»[450], но ничего не говорит о своем чувстве к принцу. Аналогичным образом Гамлет в своем первом монологе подчеркивает привязанность отца и матери друг к другу и ничего не говорит о каких бы то ни было теплых чувствах, которые они питали к нему. Его воспоминания о любви — и направленной на него, и от него исходившей — сосредоточенны исключительно на бедном Йорике, отцовском шуте, занявшем место его поглощенных друг другом родителей:
Увы, бедный Йорик! Я знал его, Горацио; человек бесконечно остроумный, чудеснейший выдумщик; он тысячу раз носил меня на спине; а теперь — как отвратительно мне это себе представить! У меня к горлу подступает при одной мысли. Здесь были эти губы, которые я целовал сам не знаю сколько раз[451].
В пятом акте, на кладбище, Гамлет практически неподвластен чувствам, даже когда спорит с Лаэртом о том, кто из них сильнее любил почившую Офелию. Печаль его холодной надгробной речи Йорику могла навести Фрейда на мысль о том, что не было других губ — Офелии ли, Гертруды, короля Гамлета, — которые бы герой целовал не зная сколько раз. Фрейдовская концепция Эдипова комплекса — шедевр (воспользуемся определением Фрейда) амбивалентности чувств, которую, как он полагал, он первым облек в слова. Мне не кажется, что Эдипов комплекс имеет какое-то отношение к Гамлету — но где Фрейд встретил изображение невероятной эмоциональной и когнитивной амбивалентности в литературе? Где, как ни в Гамлете, первом персонаже, на создание которого Шекспир употребил всю свою гениальную способность изображать амбивалентность? На протяжении уже почти четырех столетий Гамлет дает Европе и миру урок амбивалентности, и Фрейд запоздало пришел по стопам Гамлета. Фрейд, истолковывая Гамлета, не заслуживает проходного балла, Гамлет же, рассуждая о том, что заботит Фрейда, превосходит всех соперников. Начало было положено в знаменитом письме Фрейда Вильгельму Флиссу от 15 октября 1897 года:
С тех пор я продвинулся далеко вперед, но еще не достиг места, где мог бы сделать привал. Вести рассказ о неоконченном так затруднительно и он уведет меня так далеко в сторону, что я надеюсь, что Вы простите меня и удовольствуетесь той частью, в которой все доподлинно установлено. Если анализ продолжится так, как я предполагаю, то я систематически его опишу и предоставлю результаты Вам на рассмотрение. Пока что я не обнаружил ничего совершенно нового, все те же осложнения, к которым уже успел привыкнуть. Дело это непростое. Быть полностью честным с самим собою — хорошее упражнение. Мне пришла в голову лишь одна общая мысль. В моем случае я тоже обнаружил влюбленность в мать и ревность к отцу и теперь считаю этот феномен в принципе присущим раннему детству, пусть он и не всегда проявляется так рано, как у детей-истериков. (То же с «романтизацией происхождения» в случае параноиков — героев, основателей религий.) Если это так, то захватывающая сила «Царя Эдипа» — при всем протесте нашего разума против неумолимости судьбы, которую предполагает сюжет, — объясняется и делается понятно, отчего позднейшие драмы рока были столь неудачны. Наши чувства восстают против всякой случайной, частной судьбы, изображенной в «Праматери»[452] и пр., но греческий миф ставит себе на службу побуждение, которое внятно каждому, поскольку он ощущал его следы в себе самом. Всякий зритель однажды был в своих фантазиях «начинающим» Эдипом, и, видя, как это желание «осуществляется» в действительности, все ощущают ужас и всю меру вытеснения, которое отделяет их нынешнее состояние от инфантильного.
То же самое, подумал я, может быть основой «Гамлета». Я не хочу сказать, что Шекспир так и задумывал, но предполагаю, что было событие, которое заставило его написать эту пьесу; его подсознание понимало подсознание его героя. Иначе как объяснить слова истерика-Гамлета: «Так трусами нас делает раздумье…»[453] и то, что он медлит отомстить за отца, убив дядю, когда он между делом посылает на смерть своих придворных и так проворно расправляется с Лаэртом? Как объяснить это лучше, чем муками, вызванными смутным воспоминанием о том, что он думал содеять то же самое над своим отцом вследствие страсти, внушенной ему матерью? — «Если принимать каждого по заслугам, то кто избежит кнута?»[454] Его совесть есть неосознанное чувство вины. И разве его «половая» холодность в разговоре с Офелией, его отторжение родительского инстинкта, наконец, его перенос деяния с отца на Офелию, не являются типично истерическими? И разве не удается ему столь же примечательным образом, что и моим истерикам, самому навлечь на себя кару и разделить участь отца, будучи отравленным тем же соперником?
В качестве интерпретации «Гамлета» второй абзац так удивительно плох, что я моргаю и кривлюсь, но его литературная сила переживет слабое истолкование текстов соперника, который отравлял Фрейда на протяжении всей его жизни. Как отличаются друг от друга эти абзацы: «Царь Эдип» увиден отвлеченно, с огромной дистанции от текста, тогда как Гамлет дан крупно, с обилием подробностей и реминисценций. Замечания об «Эдипе» можно с тем же успехом отнести к любому литературному произведению, повествующему о трагической судьбе; в них нет ничего, что относилось бы исключительно к пьесе Софокла. Но «Гамлет» для Фрейда — это личное: эта пьеса читает его и позволяет ему анализировать себя в качестве Гамлета. Гамлет — не истерик, если не считать коротких срывов, но у Фрейда есть его истерики, его пациенты, и он приравнивает к ним Гамлета. Но куда интереснее то, что он приравнивает к Гамлету с его амбивалентностью себя. Это приравнивание продолжилось во Фрейдовом соннике, как он любил называть «Толкование сновидений» (1900), в котором впервые был подробно описан Эдипов комплекс, названный так, впрочем, только в 1910 году.
К 1900 году Фрейд научился маскировать свою задолженность перед Шекспиром; в своем соннике он весьма подробно (хотя и удивительно сухо) рассуждает о «Царе Эдипе», прежде чем перейти к Гамлету-человеку. Перед нами загадка: по-настоящему Фрейда заботит и занимает не «Царь Эдип», а «Гамлет», но термин Фрейда — все же не «Гамлетов комплекс». Мало кто в истории культуры внедрял в наше подсознание идеи и вполовину так успешно, как Фрейд. «Ну конечно, это Эдипов комплекс, он у всех есть», — привычно бормочем мы, хотя на самом деле это Гамлетов комплекс, и есть он — непременно — лишь у писателей и прочих творцов.
Почему Фрейд не назвал его Гамлетовым комплексом? Эдип по неведению убивает своего отца, Гамлет же не имеет никаких побуждений такого рода в отношении законного короля, хотя у него, принца амбивалентности, несомненно есть «контрпобуждения» в отношении всех вокруг, на каждом уровне его многообразного сознания. Но Гамлетов комплекс слишком приблизил бы грозного Шекспира к матрице психоанализа; Софокл был куда безобиднее, к тому же обеспечивал авторитет классических истоков. В «Толкование сновидений» Гамлет вошел лишь через длинное примечание к разговору об Эдипе; только в издании 1934 года опасливый Фрейд перенес разговор о «Гамлете» в основной текст в виде одного длинного, трудного для понимания абзаца:
На той же почве, что и «Царь Эдип», вырастает другая великая трагедия — «Гамлет» Шекспира. Но в измененной обработке одного и того же материала обнаруживается все различие в психической жизни двух далеко отстоящих друг от друга периодов культуры, многовековое продвижение в психической жизни человечества[455]. В «Эдипе» лежащее в его основе желание-фантазия ребенка, как и в сновидении, выплывает наружу и реализуется; в «Гамлете» оно остается вытесненным, и мы узнаем о его существовании — как и об обстоятельствах дела при неврозе — только благодаря исходящему из него тормозящему влиянию. С захватывающим воздействием более современной драмы оказалось своеобразным способом совместимо то, что можно остаться в полной неясности относительно характера героя. Пьеса построена на колебаниях Гамлета в осуществлении выпавшей ему задачи — отомстить за отца; каковы основания или мотивы этих колебаний, в тексте не объяснено; многочисленные толкования драмы не смогли решить этого. Согласно господствующему сегодня, обоснованному Гёте толкованию, Гамлет представляет собой тип человека, чья актуальная сила воли парализована излишним развитием интеллекта («От мыслей бледность поразила»). Согласно другой интерпретации, художник попытался изобразить болезненный, нерешительный, склонный к неврастении характер. Однако фабула пьесы показывает, что Гамлет ни в коем случае не должен казаться нам личностью, которая вообще неспособна действовать. Дважды мы видим его совершающим поступки: один раз, когда под влиянием резко вспыхнувшего порыва он закалывает подслушивающего за портьерой Полония, в другой раз, когда он обдуманно, даже коварно, с полной убежденностью князя эпохи Возрождения, посылает на смерть, задуманную для него самого, двух царедворцев. Итак, что же сдерживает его при осуществлении задачи, поставленной перед ним призраком отца? Здесь опять напрашивается мысль, что сдерживает особая природа этой задачи. Гамлет может все, только не исполнить месть по отношению к человеку, который устранил его отца и занял место последнего возле его матери, к человеку, на деле реализовавшему его вытесненные детские желания. Ненависть, которая должна была подвигать его на месть, заменяется у него самопопреками, угрызениями совести, напоминающими ему, что он сам, в буквальном смысле, ничуть не лучше грешника, которого он обязан покарать. Тем самым я перевожу в осознанную форму то, что бессознательно таится в душе героя; если кто-нибудь назовет Гамлета истериком, я сочту это всего лишь выводом из моего толкования. Сексуальная антипатия очень соответствует тому, что Гамлет позднее проявил в разговоре с Офелией то самое нерасположение к сексу, которое, должно быть, все больше овладевало душой поэта в последующие годы, до своего высшего проявления в «Тимоне Афинском». То, что предстает для нас в Гамлете, может быть, конечно, только собственной душевной жизнью поэта; я заимствую из труда Георга Брандеса о Шекспире (1896 г.) замечание, что драма была сочинена непосредственно после смерти отца Шекспира (1601 г.), то есть в период свежей скорби по нему и воскрешения — как мы можем предположить — детских ощущений, относящихся к отцу. Известно также, что рано умерший сын Шекспира носил имя Гамнет (идентичное с Гамлет). Подобно тому, как «Гамлет» трактует отношения сына к родителям, так «Макбет», близкий ему по времени создания, построен на теме бездетности. Впрочем, подобно тому, как любой невротический симптом и как само сновидение допускают разные толкования и даже требуют этого для полного понимания, так и всякое истинно поэтическое творение проистекает в душе[456] поэта из нескольких мотивов и побуждений и допускает несколько толкований. Я попытался здесь истолковать только самый глубокий слой побуждений в душе создающего его художника[457].
«Вытеснение в психической жизни человечества» — любопытная формулировка. Фрейд не мог подразумевать Эдипа и Гамлета — только Софокла и Шекспира. Эдип ведь не знает, кого он убил на распутье, а Гамлет не согласился бы с Фрейдом, что его амбивалентное отношение к убийству Клавдия говорит о чувстве вины, вызванной желанием самому убить своего отца. Тут можно повторить, что Гамлет не просто не уступает Фрейду в способности к самоанализу, но служит ему в этом отношении образцом для подражания. Не Гамлет лежит на знаменитой кушетке в кабинете доктора Фрейда — Фрейд парит вместе со всеми нами в гнилостных миазмах в залах Эльсинора, и у Фрейда нет никаких преимуществ перед остальными, сталкивающимися друг с другом в тамошних коридорах: это Гёте, Кольридж, Хэзлитт, А. С. Брэдли, Гарольд Годдар и все мы, поскольку каждый, кто читает «Гамлета» или смотрит его в театре, вынужден сделаться его толкователем.
Фрейд говорит, что здоровый Гамлет убил бы Клавдия, а раз Гамлет этого не делает, значит, он истерик. Я вновь обращаюсь к мысли Кольриджа, усовершенствованной Ницше: Гамлет думает не слишком много, а слишком хорошо[458], и на самой границе человеческого сознания отказывается сделаться своим отцом, который непременно заколол бы своего дядю в аналогичных обстоятельствах. Младший Фортинбрас — копия Фортинбраса-старшего, такой же задира, но принц Гамлет — едва ли всего лишь сын своего отца. Вежливо сказав, что Фрейд допускает грубое творческое искажение Гамлета и недооценивает его, мы, увы, не лишим это искажение его постоянной силы.
Фрейд отказывается видеть, сколь внушительны умы Гамлета и Шекспира, но я не недооцениваю Фрейда. Все мы теперь верим, что обладаем либидо (или что оно нами владеет), но его на самом деле не существует: не существует отдельно взятой сексуальной энергии. Реши Фрейд напитать влечение к смерти деструдо, а такая мысль у него была, носить бы нам в себе не только Эдипов комплекс с либидо, но еще и деструдо[459].
К счастью, Фрейд от деструдо отказался, обошлось, — но нам следует извлечь из этого урок. Фрейд, как предупреждал Витгенштейн, — могучий мифолог, великий мифотворец нашего времени, достойный оспаривать у Пруста, Джойса и Кафки центральное место в каноне современной литературы. Его боевой клич — последняя фраза процитированного выше абзаца, посвященного «Гамлету»; неубедительно расписавшись в толковательской скромности, вроде бы допустив, что подлинно поэтическое творение создается из «нескольких мотивов и побуждений», Фрейд очаровательно намекает на то, что своим толкованием он пытается проникнуть в самую суть, в «самый глубокий слой побуждений в душе… художника». В душе не существует «самого глубокого» пласта; у Мильтона Сатана, великий поэт, справедливо сетует на то, что на дне всякой пропасти ему зияет, грозя пожрать, иная пропасть, еще глубже. Фрейд, сам будучи скорее «мильтонианской», нежели «сатанинской» фигурой, не хуже других понимал, что «самый глубокий» — это метафора.
Речь идет, настаиваю, не об Эдипове, а о Гамлетове комплексе; Фрейд снова потревожил его в наброске к статье «Психопатические персонажи на сцене», написанной в 1905 или 1906 году, но опубликованной только после его смерти:
Первая из этих современных пьес — «Гамлет». Ее предмет — то, как нормальный человек делается невротиком в силу необычной природы поставленной ему задачи, то есть человек, чье некое побуждение, до поры успешно подавлявшееся, пытается претвориться в действие. «Гамлета» отличают три обстоятельства, кажущиеся важными в связи с тем, что мы сейчас обсуждаем, (1) Герой — не психопат, но лишь поддается психопатии по ходу пьесы. (2) Подавленное побуждение относится к тем, которые подавляет в себе каждый из нас и подавление которых есть неотъемлемая часть самой основы развития личности. Это подавление и ослабляется ситуацией пьесы. Благодаря двум этим обстоятельствам нам просто узнавать в герое себя: мы подвержены тому же конфликту, что и он, ибо «кто при известных обстоятельствах не лишается ума, тот не имел чего лишиться»[460]. (3) Для этой формы искусства непременным условием представляется следующее: пробивающемуся в сознание побуждению, как бы легко оно ни узнавалось, не должно даваться определенного наименования, дабы тот же процесс происходил и в наблюдателе, чье внимание было бы при этом отвлечено и который был бы захвачен переживаниями, а не осмысливал происходящее. Сопротивление таким образом несколько ослабляется — так во время анализа мы видим, что, благодаря ослаблению сопротивления, дериваты подавленного материала достигают сознания, асам подавленный материал этого сделать не может. В конце концов, конфликт «Гамлета» спрятан так хорошо, что я раскрыл его первым.
Тут мы оказываемся очень далеко от «Гамлета»; нас не подпускают к нему система Фрейда и его приступ «раскрывательского» догматизма. Ясно то, что Гамлет уже ничем не отличается от пациента Фрейда, даже в мере представляемого интереса! Герой западного сознания — всего лишь очередной психопат, а трагедия Шекспира сведена к случаю для анализа. Этот довольно прискорбный абзац можно было бы назвать «Крушением Гамлетова комплекса»[461], вот только я в это крушение не верю. На самом деле Гамлета заменили Лир с Макбетом, и борьба Фрейда с Шекспиром перенеслась на другие поля битвы, так как обращение к «Гамлету» еще в пяти контекстах не ознаменовалось ничем, кроме «Эдиповых» повторов, недостойных Фрейда как борца.
Первой Корделией для Фрейда была Марта Бернейс, еще не ставшая тогда его женой, а второй и более подлинной Корделией — его дочь Анна, которую он любил больше всех других своих детей и которая достойно продолжила его дело сильной книгой «Эго и механизмы психологической защиты». Фрейдово прочтение «Короля Лира» частью содержится в захватывающей статье «Мотив выбора ларца» (1913), а частью — в позднем письме к некоему Брэнсому (от 25 марта 1934 года), опубликованном в приложении к «Жизни и творениям» Фрейда Эрнеста Джонса[462]. Брэнсом написал неудачную книгу о «Короле Лире», в которой скрытым смыслом пьесы объявлялось подавленное инцестуозное вожделение Лира к Корделии, и Фрейд охотно согласился с этой безумной идеей. Вот впечатляющий своим мифологическим измерением финал «Мотива выбора ларца»:
Лир — старик. Именно поэтому, как уже было сказано выше, три сестры предстают перед ним в облике дочерей. Мотив отношения к отцу[463], который мог бы способствовать развитию многих плодотворных драматических коллизий, остается в драме нереализованным. Однако в Лире мы видим не только старого человека, перед нами предстает обреченный на смерть. Странная предпосылка, мотивирующая раздел имущества, теряет в этом случае всю свою необычность. Но обреченный на смерть Лир не хочет отказаться от любви женщины, он хочет знать, сколь сильна любовь к нему. Вспомним теперь потрясающую по силе воздействия финальную сцену, одно из высших достижений современной драматургии: Лир выносит на сцену мертвое тело Корделии. Корделия олицетворяет смерть. Если переиначить эту ситуацию, она станет нам понятнее и ближе. Ведь это же богиня смерти, выносящая павшего в бою героя с поля битвы, как Валькирия в германской мифологии. Вечная мудрость в облачении древнего мифа советует старику отказаться от любви, выбрать смерть, примириться с неизбежностью ухода.
Драматург приближает к нам древний мотив, показывая выбор старым, умирающим человеком одной из трех сестер. Регрессивная обработка древнего мифологического сюжета позволяет так глубоко высветить его первоначальный смысл, что делает возможным двумерное, аллегорическое толкование трех женских образов этого мотива. Можно было бы сформулировать это следующим образом: изображаются три неизбежных для любого мужчины типа отношения к женщине: женщина — роженица, друг и губительница. Или три формы, в которых предстает перед ним образ матери в разные периоды ее жизни — собственно мать, возлюбленная, которую мужчина выбирает по образу и подобию матери, и, наконец, мать-земля, берущая его в свое лоно. Однако напрасно старик добивается любви женщины в том виде, в каком он получил ее от матери; лишь третья из олицетворяющих судьбу женщин, молчаливая богиня смерти, примет его в свои объятия.
Суждение Фрейда, согласно которому «мотив отцовского отношения… остается в драме нереализованным», ставит меня в тупик. В «Короле Лире» речь идет о двух «отцовских отношениях» — Лира к Корделии, Гонерилье и Регане и Глостера — к Эдгару и Эдмунду. Что подавлял в себе Фрейд? Лир, хотя он и невероятно стар, до финальной сцены не обречен на смерть, и вряд ли смерть олицетворяет верная Корделия; но кому захочется спорить с великолепной фразой, которой заканчивается первый абзац? Даже у Пруста, Джойса и Кафки немногое глубже врезается в память, чем мудрые слова Фрейда, предлагающего нам «отказаться от любви, выбрать смерть, примириться с неизбежностью ухода». Отголоски этой строки звучат в красноречивом стихотворении в прозе — втором абзаце, в котором Лир и Фрейд образуют мистическую фигуру, превосходящую величиной каждого из них по отдельности, практически умирающего бога.
Увы, двадцать один год спустя нам была предложена мешанина из психоаналитического редуктивизма и лунитского оксфордизма! Брэнсом был заверен в том, что он прав в отношении Лира, а затем к инцестуозной путанице прибавилась Корделия-Анна:
Ваше предположение проливает свет не только на загадку Лира, но и на загадку Корделии. Старшие сестры уже превозмогли роковую влюбленность в отца и сделались враждебны к нему; говоря языком анализа, они не прощают ему своего разочарования в ранней любви. Корделия по-прежнему тянется к нему; любовь к нему — ее святая тайна. Когда ее просят публично в ней признаться, она дерзко отказывается и замолкает. Именно такое поведение я наблюдал во множестве случаев.
Это так нелепо, что и оспаривать не приходится; когда Фрейд в последний раз читал или смотрел эту пьесу? Вместо того чтобы накидываться на него, вникнем в более интересные его ошибки и находки. Он говорит, что в пьесе нет никаких упоминаний о матери дочерей Лира, хотя на самом деле одно есть; это, впрочем, не слишком существенно. Но вот что навело Фрейда на мысль о том, что Гонерилья беременна? И как он мог верить в то, что безумие Лира вызвано не яростью старого короля, а его едва подавленной тягой к Корделии? Возражения на этот счет меркнут на фоне сообщенных Брэнсому и нам сведений о том, что Альбани из «Короля Лира», как и Горацио из «Гамлета», следует отождествлять с лордом Дерби, зятем графа Оксфорда! «О смесь бессмыслицы и здравой мысли! / В безумье разум!»[464] Сопротивление Шекспиру, достаточно ясно проявившееся в том, что Фрейд видел в Гамлете Эдипа, достигло впечатляющей сложности в этом слиянии воедино Лира, Оксфорда и Фрейда. Что произошло с апокалиптической трагедией, сочиненной Шекспиром, и куда пропал Зигмунд Фрейд, некогда умевший читать? И пьеса, и толковательская сила Фрейда поглотились ужасной нуждой дать отпор актеру-самоучке из Стратфорда.
«Король Лир» был слишком близок к Фрейду; «Макбет» позволил ему снова стать самим собою, что выразилось в первую очередь в статье «Некоторые типы характеров из психоаналитической практики» (1916), напоминающей нам, почему Фрейд воистину канонический писатель. Задолго до ее написания он отмечал, что ключ к пониманию этой трагедии — в бездетности Макбета и леди Макбет. В статье 1916 года он сосредотачивается на леди Макбет как на персонаже, «сокрушенном успехом» и последующим раскаянием:
Вполне в духе поэтической справедливости, основанной на законе талиона, бездетность Макбета и бесплодие леди — это как бы кара за их преступление против святости рождения: Макбет не может стать отцом, потому что лишил детей отца, а отца детей, бесплодие же леди Макбет следствие того святотатства, к которому она призвала духов убийства. По моему мнению, в данном случае сразу понятно, что заболевание леди, превращение ее нечестивой гордыни в раскаяние — это реакция на ее бездетность, которая убеждает ее в бессилии перед законами природы и в то же время предостерегает, что из-за вины за свои преступления она лишится лучшей части своей добычи[465].
Сколько детей было у леди Макбет? Этот вопрос, шутливо заданный исследователем-формалистом[466], никак нельзя назвать глупым, хотя никакого определенного ответа на него дать нельзя. Фрейд пишет о ее «бесплодии», но почему же тогда она говорит, что кормила грудью?[467] Будучи женой могущественного тана, приходящегося кузеном королю, она занимает слишком высокое положение, чтобы кормить чьего бы то ни было ребенка, кроме своего собственного. Следует заключить, что по крайней мере один ребенок был, но умер. Сделаться бесплодной она тоже не могла; восхищаясь ее решимостью, Макбет призывает ее рожать лишь сыновей[468]. При этом в Макбете есть нечто, уподобляющее его Ироду. Он пытается подстроить убийство Флинса, сына Банко, и приказывает перебить детей Макдуфа. В почти гностической ненависти Макбета ко времени есть ужас перед потомством, и как ему, так и леди Макбет не дает покоя пророчество, согласно которому потомки Банко (династия Стюартов, начавшаяся в Англии с Якова I, сына Марии, королевы Шотландской) будут править Шотландией. Таким образом, Фрейд, по сути, прав, утверждая, что «Макбет» — это пьеса «о бездетности», и он впечатляет нас признанием, что не может дать пьесе полного истолкования; это признание было бы столь же уместно в его рассуждениях о «Гамлете» и «Короле Лире», но, видимо, его личное отношение к Гамлету и Лиру такого предуведомления не допускало:
Но какие же мотивы способны в столь короткое время сделать из робкого честолюбца безудержного тирана, а из твердой, как сталь, подстрекательницы раздавленную раскаянием больную — на этот вопрос, по-моему, нельзя ответить. Думаю, мы должны отказаться от попытки проникнуть сквозь трехслойную завесу, которую образуют плохая сохранность текста, неизвестные устремления художника и сокровенный смысл опоэтизированной здесь легенды. Я не хотел бы также допустить, чтобы кто-нибудь возразил, что такие исследования — праздная затея перед лицом того огромного воздействия, которое трагедия оказывает на зрителя. Правда, поэт способен захватить нас во время представления своим искусством и при этом парализовать наше мышление, но он не в состоянии воспрепятствовать нам попытаться позднее понять это воздействие, исходя из его психологического механизма. Неуместным мне кажется и замечание, что художнику позволительно как угодно сокращать естественную последовательность представляемых им событий, если он, жертвуя пошлой правдоподобностью, способен добиться усиления драматического эффекта. Ибо подобную жертву можно оправдать только там, где нарушается лишь правдоподобие, но не там, где разрушаются причинные связи, а драматический эффект вряд ли понес бы ущерб, если бы продолжительность событий была оставлена неопределенной, вместо того чтобы точные высказывания сужали ее до нескольких дней[469].
Сначала в этом пассаже звучит толковательская скромность, а затем — изрядное раздражение, когда речь идет о драматической репрезентации, главным образом — о временном ее аспекте. Мне снова кажется, что недовольство Фрейда объясняется подавлением, и я полагаю, что так проявляется его Гамлетов комплекс. Если амбивалентность (точнее, ее изображение) — это идея Шекспира, а не Фрейда, если она стала идеей Фрейда лишь благодаря опыту чтения Шекспира, то Фрейд был вынужден отвергать и искажать сильнейшие шекспировские изображения амбивалентности, а это его четыре великих «домашних» трагедии: «Гамлет», «Отелло», «Король Лир» и «Макбет». Я не знаю других литературных произведений — не исключая «Комедии» Данте, — которые бы так уверенно переносили нас в космос двусмысленности, где эмоциональная амбивалентность управляет практически всеми взаимоотношениями, а амбивалентность когнитивная — у Гамлета, Яго, Эдмунда — способствует обуславливанию того гибельного накала, что является подлинным предметом Фрейда. Ни Гамлет, ни Отелло не обнаруживают Гамлетова комплекса, не обнаруживают его и Корделия, Дездемона, Офелия и Эдгар, — но Яго, Эдмунд, Гонерилья, Регана, Макбет и леди Макбет суть бессмертные шедевры амбивалентности, вознесенные на вершины возвышенного. Фрейд, поэт-прозаик постшекспировской эры, шел у Шекспира в кильватере — и не было в наше время более видной жертвы страха влияния, чем создатель психоанализа, постоянно обнаруживавший, что Шекспир его опередил, и слишком часто не выдерживавший столкновения с этой унизительной истиной.
В «Макбете» амбивалентность играет такую преобладающую роль, что само время становится ее изображением, и Фрейд это смутно чувствовал. То, что Фрейд назвал Nachträglichkeit — ощущение, что вечно не поспеваешь к происходящему, как плохой актер, который неизменно вступает не вовремя, — есть специфическое состояние Макбета. Фрейд проницательно поставил под сомнение единственную зримую мотивировку действий Макбета и леди Макбет потому, что плоды их честолюбия ужасны, и потому, что Шекспир таинственно уходит от определения истинной природы их желаний. В них нет ничего от Тамерлана Марло или Шекспирова же Ричарда III: нет жажды славы, сопутствующей земной короне на своем челе[470]. Почему, собственно говоря, они стремятся стать королем и королевой Шотландии? Безрадостное застолье, на которое является призрак Банко, безусловно, типично для жизни Макбетова двора: оно столь же тягостно, сколь зловеще. То, на что указывает Фрейд, является самой сутью пьесы: бездетность, пустое честолюбие, убийство «отца»-Дункана, столь кроткого и доброго, что оба Макбета относятся к нему как к человеку без малейшего намека на амбивалентность. Но что бы ни было причиной их бездетности, они мстят времени узурпацией, убийством и попыткой отменить будущее: все эти завтра, завтра, завтра, чей мелкий шаг так угнетает Макбета[471]. Обуздав свой толковательский догматизм, Фрейд дал нам обильную пищу для размышлений по крайней мере об этой трагедии.
Чем, кроме осознания примата амбивалентности и ее апофеоза в Гамлетовом/Эдиповом комплексе, Фрейд был прежде всего обязан (отдавая или не отдавая себе в этом отчета) Шекспиру? Шекспир встречается у Фрейда на каждом шагу, и его присутствие ощущается куда лучше, когда он не упоминается, чем когда он цитируется. Основополагающая установка Фрейда в отношении Шекспира — это то, что он назвал «отрицанием» (Verneneinung), то есть выражение ранее вытесненной мысли, вытесненного чувства или желания, которые проникают в сознание, лишь будучи отрицаемы, дабы защитная, вытесняющая реакция не прекращалась. Подавление принимается на интеллектуальном, но не на эмоциональном уровне; Фрейд принял идеи Шекспира, отвергая их источник. Фрейдов инстинкт самосохранения требовал от него отрицать Шекспира, и тем не менее он не переставал отождествлять себя с Гамлетом (не всегда отдавая себе в этом отчет) и, в меньшей степени, с Брутом из «Юлия Цезаря», который в развитии Шекспира был своего рода пред-Гамлетом. В самоотождествлении с Гамлетом Фрейд отнюдь не был уникален; оно имело универсальный характер, не ограничивалось мертвыми белыми мужчинами-европейцами и проявлялось в удивительном множестве людей в разные времена и в разных краях. Эрнест Джонс отмечает, что любимой цитатой Фрейда, в речи и на письме, было предостережение Гамлета Горацио: «И в небе и в земле сокрыто больше, / Чем снится вашей мудрости, Горацио». Понятно, почему Фрейд сделал его негласным девизом психоанализа; оно еще более идет к делу, если восстановить контекст. Ему непосредственно предшествует следующий обмен репликами:
Горацио. О день и ночь! Все это крайне странно!
Гамлет. Как странника и встретьте это с миром.
Для Фрейда это было изображением в миниатюре исходной ситуации психоанализа: Горацио представляет собою читателей, а Гамлет — Фрейда, призывающего встретить незнакомца с приличествующей случаю теплотой. Я не припомню, чтобы где-нибудь в письмах или работах Фрейда — как и в дошедших до нас его высказываниях — было что-нибудь об этом контрасте, который мог его возмутить: неприятии психоанализа в сравнении с практически всеобщим признанием Шекспира, начавшимся еще при жизни драматурга в его стране и кончившимся всемирным апофеозом в наши дни. Помню, что, анализируя один из своих собственных снов, Фрейд нашел параллель к своему отношению к Шекспиру в бессознательной узурпации престола принцем Гарри: «…всюду, где имеется иерархия, открыт путь для желаний, нуждающихся в подавлении. У Шекспира принц у постели больного отца не может побороть искушения попробовать, к лицу ли ему корона»[472].
По давней традиции считается, что в первой постановке «Гамлета» роль призрака отца Гамлета исполнял сам Шекспир. Призрак Шекспира до сих пор преследует психоанализ, который во многом является редукционистской пародией на творчество Шекспира, потому что о творчестве Шекспира можно судить как о трансцендентальной разновидности психоанализа. Когда его персонажи меняются или стремятся перемениться под воздействием услышанного от себя же, они предсказывают ситуацию психоанализа, когда пациенты вынуждены слушать себя в ситуации переноса. До Фрейда Шекспир был нашим главным авторитетом по части любви и ее превратностей, а также по части превратностей влечения; совершенно ясно, что он по-прежнему остается для нас лучшим наставником и что он все время направлял Фрейда. Сопоставляя две фрейдовские теории тревоги, я нахожу переделанную версию более шекспировской по духу, чем ранняя, отвергнутая гипотеза. До написания работы «Торможение, симптом и тревога» (1926) Фрейд полагал, что невротическая тревога может быть строго отделена от реалистической: реалистическую тревогу вызывает настоящая угроза, тогда как невротическая является результатом запруживания либидо или неудачного вытеснения и, следовательно, не принимает участия в психических гражданских войнах.
После 1926 года Фрейд отказался от мысли, что либидо может превращаться в тревогу. Тревога уже виделась ему первичной по отношению к вытеснению и, таким образом, мотивом вытеснения. Согласно более ранней теории, вытеснение предшествовало тревоге, которая возникала лишь в том случае, если вытеснение не удавалось. Пересмотрев это представление, Фрейд навсегда отказался от обусловленного причинно-следственными отношениями разграничения реального страха и невротической тревоги. Будучи перенесена в драматургический космос Шекспира, старшая теория оказывается вполне на своем месте, особенно в высоких трагедиях, которые предпочитал Фрейд и в которых тревога так же первородна, как и амбивалентность.
Эльсинор Гамлета, Венеция Яго, Британия Лира и Эдмунда, Шотландия Макбета: везде зрители и читатели сталкиваются с атмосферой тревоги, предшествующей персонажам и событиям. Если шедевр амбивалентности — это Гамлетов/Эдипов комплекс, то шедевр тревоги — это то, что я называю Макбетовым комплексом, потому что этот героический злодей Шекспира подвержен тревоге в наибольшей мере. При Макбетовом комплексе ужас неотделим от желания, а воображение делается одновременно неуязвимо и губительно. Для Макбета фантазировать — значит перескочить через провал над волей и очутиться по ту сторону совершенного поступка. Время[473] не свободно до тех пор, пока Макбет не убит, потому что связанные со временем дурные предзнаменования в его мире всегда сбываются, даже до того, как он захватывает власть. Если в Гамлетове/Эдипове комплексе скрыто желание быть самому себе отцом, то Макбетов комплекс едва прячет жажду самоуничтожения. В работе «По ту сторону принципа удовольствия» Фрейд назвал ее влечением к смерти, но я предпочитаю одержимость роком и напряженность атмосферы, передаваемые словами «Макбетов комплекс».
Хотя Фрейд никогда не отождествлял себя с Макбетом так полно, как с Гамлетом, он цитировал некоторые поразительные «параллели» — так, в одном письме от 1910 года он предсказывает себе еще почти тридцать лет работы: «Что делать человеку в тот день, когда мысли прекратят течь и не будут приходить нужные слова? От этой перспективы так и бросает в дрожь. Потому, покоряясь судьбе, как подобает порядочному человеку, я втайне молю: пусть не будет немощи, не будет паралича умственных способностей от телесных недомоганий. Умрем бойцом, как сказал король Макбет». Выраженное тут чувство (вкупе с полным достоинства юмором) существенно отличается от апокалиптического отчаяния узурпатора Макбета:
Поистине от солнца я устал И был бы рад, чтоб мир сегодня пал. Набат! Дуй, ветер! Наступай, конец! Умрем, по крайней мере, как боец.Фрейд и умер как настоящий воин — он размышлял и писал практически до самого конца. О том, что его самоотождествление с Макбетом, каким бы незначительным оно ни было, имело положительный характер, говорят слова «как сказал король Макбет». Фрейд не единожды утверждал, что образ его опубликованных работ его пугает — Макбет кричит при виде призрачного ряда потомков Банко, королей Стюартов: «Иль эту цепь прервет лишь страшный Суд?» Тут тоже самоотождествление неотчетливо, но гордо, и свидетельствует о «заразительной» силе Макбетова воображения. Фрейд мог говорить, что тема «Макбета» — бездетность, но на более глубоком уровне он соотносил силу своего воображения с силой воображения Макбета, находя в кровавом тиране и в себе как героическое упорство, так и образную плодовитость.
Шекспир — это апофеоз эстетической свободы и самобытности. Шекспир тревожил Фрейда потому, что именно от Шекспира Фрейд узнал, что такое тревога — а также амбивалентность, нарциссизм и раскол в «я». Эмерсон по отношению к Шекспиру был свободнее и самобытнее, потому что он научился у него необузданности и странности. Будет правильно, если Эмерсон, а не столь же канонический Фрейд и произнесет заключительное слово: «В настоящее время литература, философия и вся европейская мысль шекспиризованы. Дух Шекспира есть тот горизонт, за которым мы теперь ничего не видим…»
17. Пруст: ревность как настоящая ориентация
Величайшая сила Пруста, среди множества прочих, заключается в его психологизме: соизмеримого с созданным им реестра живых личностей нет ни у одного прозаика XX века. У Джойса есть один исполинский образ — Польди, у Пруста же — целая портретная галерея: де Шарлюс, Сван, Альбертина, Блох, Бергот, Котар, Франсуаза, Эльстир, Жильберта, бабушка Батильда, Ориана Германтская, Базен Германтский, мама повествователя/Марселя, Одетта, де Норпуа, Морель, Сен-Лу, госпожа Вердюрен, маркиза де Вильпаризи и главным образом двойственный образ повествователя и его раннего «я», Марселя. Возможно, я упустил кого-то не менее важного, чем многие из перечисленных, но и без них получается два десятка персонажей, которых я не могу забыть.
«В поисках утраченного времени» (далее, для краткости, «Поиски…»), книга, которая, к сожалению, может навсегда остаться в английском языке под красивым, но сбивающим с толку шекспировским названием «Голоса былого»[474], по-настоящему соперничает с произведениями Шекспира в силе изображения личностей. По наблюдению Жермены Бри, персонажи Пруста, подобно персонажам Шекспира, не приемлют никакого психологического редукционизма. Подобно самому Шекспиру, Пруст — мастер трагикомедии: я и кривлюсь, и смеюсь, но не могу не согласиться с Роджером Шатаком в том, что комический ключ у Пруста основной, поскольку он обеспечивает ему дистанцию при обращении к полузапретной тогда теме гомосексуальности. Также Пруст, благодаря своему сверхъестественному комическому гению, соперничает с Шекспиром в живописании ревности, одного из самых канонических с точки зрения литературных задач человеческих чувств, послужившего Шекспиру для катастрофической трагедии в «Отелло» и почти катастрофической сказки в «Зимней сказке». Пруст дал нам три великолепные саги о ревности: испытания, соответственно, Свана, Сен-Лу и Марселя (я буду называть его Марселем, хотя повествователь произносит это имя лишь один или два раза на протяжении всего гигантского романа). Три эти трагикомические, неотступные пытки суть лишь одна линия колоссального труда, и тем не менее можно сказать, что Пруст, как и Фрейд, наряду с Шекспиром и Готорном-автором «Алой буквы» подтверждает каноничность ревности. Она есть ад в человеческой жизни, но в качестве materia poetica обретает душеочистительное великолепие. Шелли утверждал, что инцест — это самое поэтическое обстоятельство[475]; Пруст учит, что ревность, возможно, — самое романическое.
В 1922 году, когда умер Пруст (ему был всего пятьдесят один год), Фрейд опубликовал мощную короткую работу «О некоторых невротических механизмах при ревности, паранойе и гомосексуализме». Она открывается сравнением ревности с печалью, и Фрейд уверяет нас, что люди, которые вроде бы не выказывают двух этих универсальных чувств, подвергают их сильнейшему вытеснению, и поэтому ревность и печаль играют еще большую роль в их бессознательном. С мрачной иронией Фрейд делит ревность на три ступени: конкурирующую, спроецированную и бредовую. Первая имеет нарциссический и «эдипический» характер[476]; вторая есть проекция на партнера своей вины (реальной или воображаемой); предметом третьей, переходящей в паранойю и, как правило, вызываемой вытеснением[477], делается лицо того же пола. Как обычно, во фрейдовском анализе очень чувствуется Шекспир, хотя и не трагическая тяжесть «Отелло», пьесы, из которой Фрейд специально приводит пример спроецированной ревности[478], а скорее тон «Зимней сказки», Фрейдом не упоминаемой. В «Зимней сказке» Леонт почти последовательно проходит три Фрейдовы ступени ревности. С тремя своими величественными случаями ревности Пруст перескакивает через нормальную, или конкурирующую ее разновидность, заигрывает со спроецированной формой и яростно сосредотачивается на бредовом виде. Но Фрейд — соперник Пруста, а не его повелитель, и Прустов рассказ о ревности очень во многом принадлежит самому Прусту. Наложение идей Фрейда на ревность у Пруста — такой же дезориентирующий редукционизм, как фрейдистский анализ гомосексуальности в «Поисках…».
Наш век не знает иронии тоньше прустовской, и мифологическое уподобление в его романе евреев гомосексуалам не является выпадом в адрес тех или других. Пруст не был ни антисемитом, ни гомофобом. Его любовь к отцу-христианину была подлинной, но страсть к матери-еврейке — всепоглощающей, а любовные связи с композитором Рейнальдо Аном и Альфредом Агостинелли, прообразом Альбертины, были весьма искренними отношениями. Бежавших из Содома и Гоморры Пруст сравнивает с евреями диаспоры и совсем прямо — с изгнанными из Рая Адамом и Евой. Д. Э. Риверс настаивает на том, что сопоставление Содома, Иерусалима и Рая — смысловой центр романа Пруста, в котором присущая евреям способность к выживанию сливается с присущим гомосексуалам вековым долготерпением; таким образом, евреи и гомосексуалы обретают статус представителей того положения, в котором пребывает все человечество, так как, по словам Пруста, «настоящий рай (есть) потерянный рай»[479]. Прустовский юмор в отношении мазохистской гомосексуальности де Шарлюса или «еврейской» озабоченности неприятного Блоха может показаться злым, но мы будем жестоки к Прусту, если решим, что ему досаждало или его еврейское происхождение, или его гомосексуальная ориентация.
Впрочем, всякое суждение о нем будет жестокостью; «Поиски…» — сочинение столь созерцательное, что уходит от западных канонов суждения. Его «темперамент», как, помнится, заметил Роджер Шатак, удивительно восточный: Пруста, повествователя и Марселя объединяет имплицитная убежденность в том, что человек никогда не бывает завершен, что его сознание всегда понемногу развивается. Я знаю, что Пруст— это апофеоз французской культуры, а не индуистской мысли. Возможно, безумец Рескин внушил Прусту что-то от своего светского мистицизма; или же, что более вероятно, Прустово умение предаваться размышлениям привело его к самой границе внутреннего преображения. Я иногда гадаю, почему Прусту не было равных в умении увидеть и изобразить высокую комедию, а не низкий фарс, ревности. Созерцательный процесс, отраженный в «Поисках…», привел его к такой точке зрения, с которой муки ревности Марселя могут показаться утонченно, хотя и болезненно, комическими.
Это не означает, что в уединении и тиши своего обитого пробкой кабинета Пруст погружался в работу над чем-то, чего от него ожидать не приходилось, вроде «Бхагаватгиты» — но «Поиски…» есть наставительная литература, также как Монтень, доктор Джонсон, Эмерсон и Фрейд, в конечном счете, суть авторы, касающиеся грани между размышлением и созерцанием. Роджер Шатак говорит о «Поисках…»: «Мы можем „вчитывать“ туда столько, сколько позволят наш возраст и понимание». Достигнув конца романа, мы не уверяемся непременно в том, что повествователь познал правду или реальность, но чувствуем, что его сознание вплотную приблизилось к превращению в нечто отличное от всего, что — мне, во всяком случае, — доводилось встречать в западной литературе. Именно этому, только возникающему сознанию ревность и страстная любовь представляются нелепо (но и возвышенно) неразличимыми.
Сэмюэл Беккет пишет в конце своего эссе «Пруст» (1931), что мужчины и женщины Пруста «стремятся к чистому субъекту, так чтобы перейти от слепой воли к изображению»[480]. По Беккету, этот чистый субъект — сам Пруст: «Его воля почти не содержит примесей»[481]. Предположу, что Беккет подразумевает не повествователя и не Марселя, а Марселя Пруста, страдающего астмой, читающего Шопенгауэра и стремящегося достигнуть состояния музыки. Уолтер Пейтер, который относится к Рескину так же, как Пруст, — вот критик, который понял бы Пруста лучше всего. Пейтеров «избранный момент», обмирщенное, материалистическое откровение — вот то, чего ищут Прустовы ревнивые влюбленные, Сван и Марсель, когда предпринимают исторические и научные разыскания в чувственном прошлом. Главные герои высокой и ужасающей комедии Пруста становятся подлинными искусствоведами ревности, продолжающими свои поиски, несмотря на то что любовь давно угасла, а в случае Марселя и самого предмета любви уже нет в живых. Ревность, по мысли Пруста, — маска страха смерти: ревнивый влюбленный одержим каждой деталью места и времени предательства от страха, что места и времени не хватит ему самому. Подобно искусствоведу, обездоленный влюбленный взыскует истины минувшего озарения, но исследователь ревности вместо озарения обнаруживает тьму.
Сам Пруст считал важнейшей частью «В сторону Свана», первого тома «Поисков…», поразительный рассказ о Свановых муках ревности. Действительно, когда я думаю о Сване, то первым делом вспоминаю траекторию его спуска в ад ревности. Д. Э. Риверс говорит, что «мировоззрение Пруста — не женственно; оно андрогинно»; это отчасти верно и в отношении Шекспира. По моему впечатлению от «Поисков…», в первую очередь от их главной, посвященной Альбертине, части («Пленница» и «Беглянка»), установку повествователя можно определить исключительно как присущую лесбиянке мужского пола — частному случаю андрогинного воображения, которое Пруст одновременно проявляет и воспевает. Прустов повествователь в «Содоме и Гоморре» напоминает о транссексуальном мире комедий Шекспира: «Молодой человек, которого мы попытались нарисовать, — до того явная женщина, что женщин, которые смотрели на него с вожделением, постигает (если только сами они нормальны) разочарование, какое испытывают героини комедий Шекспира, обманутые переряженной девушкой, которая выдает себя за юношу»[482].
В своих комедиях Шекспир обычно связывает «половое» переряжение с ревностью так, что одержимости не возникает. Комедия Пруста уходит от Шекспира, обретая дерзость, допускающую свободную игру компульсивности. Ревность у Пруста лишена литературной родословной; Отелло и Леонт бесконечно далеко отстоят от Свана с Марселем. У Пруста ни один ревнивый любовник не совершит убийства: дух комедии «Поисков…» воспрещает его. Вот почему главная метафора для Свана и Марселя — ученый исследователь, искусствовед-рескинианец. Выяснение фактов как пытка — вот Прустова формула комического, поскольку оно есть самоистязание, а факты, по сути, — воображаемые догадки. Тон задает Сван:
Но в этом странном периоде любви личность другого человека приобретает такую необыкновенную глубину, что любопытство по отношению к самым мелким подробностям повседневных занятий какой-то заурядной женщины, пробуждение которого он теперь чувствовал в себе, было тем самым любопытством, с каким он изучал когда-то историю. И все поступки, которых он устыдился бы до сих пор: выслеживание под окном, а завтра — кто знает? — может быть, искусно заданные вопросы каким-нибудь случайным свидетелям, подкуп слуг, подслушивание у дверей, — казались ему теперь, подобно расшифровыванию текстов, сопоставлению показаний и интерпретации старинных памятников, только методами научного исследования, обладающими бесспорной логической ценностью и вполне позволительными при отыскании истины[483].
Далее Сванова страсть к восстановлению мелких подробностей светской жизни Одетты сравнивается со страстью «(любителя искусства, копающегося) в флорентийских документах XV века с целью глубже проникнуть в душу „Примаверы“, прекрасной „Ванны“ или „Венеры“ Боттичелли».
Сван обнаруживает, что душа Одетты непроницаема, и это неуклонно влечет за собою новые приступы мук ревности, соединенных с «более благородным» желанием знать правду. По чудеснейшей иронии Пруста, Сван обнаруживает, что «ревность оживляла в нем другую способность его любознательной юности: страсть к истине, но истине, тоже помещавшейся между ним и его любовницей, получавшей свой свет только от нее…». Такая истина — в самой матрице всякой ревности — получает лишь тьму от мрачности, исходящей от объекта любви. Фрейдово ироническое определение влюбленности — «переоценка объекта»[484] — не годится для страсти, которую ревность сначала усиливает, а потом подменяет собою. Проникая в чувственную одержимость, гений Пруста превосходит и Шекспира, и Фрейда:
Конечно, у Свана не было непосредственного сознания размеров этой любви. Когда он пытался определить их, то любовь его казалась ему иногда уменьшенной, сведенной почти к нулю; так, в иные дни к нему возвращались равнодушие и даже почти отвращение, которые внушали ему перед тем, как он полюбил Одетту, ее выразительные черты, ее блеклая кожа. «Положительно, я делаю большой шаг вперед, — говорил он себе на другой день. — Правду сказать, я не получил вчера почти никакого удовольствия, лежа с ней в кровати; престранная вещь: я нашел ее почти безобразной». Он, несомненно, был искренен, но его любовь вышла далеко за пределы физического желания. Самая личность Одетты не занимала в ней больше значительного места. Когда взгляд его встречал на столе фотографию Одетты или когда она сама приходила к нему в гости, он с трудом отожествлял ее лицо, живое или же изображенное на бристоле, с непрекращавшейся болезненной тревогой, обитавшей в нем. Он говорил себе почти с изумлением: «Это она!» — как воскликнули бы мы, если бы нам показали оторванную от нас и вынесенную наружу нашу болезнь, в которой мы не нашли бы никакого сходства с нашими действительными страданиями. «Она?» — спрашивал он себя, желая понять, что это такое; ибо тайна личности, твердят постоянно, есть нечто похожее на любовь и на смерть, скорее, чем на расплывчатые наши представления болезней, — нечто такое, что мы должны исследовать очень глубоко из страха, как бы сущность ее не ускользнула от нас. И эта болезнь, каковой была любовь Свана, до такой степени разрослась, так тесно переплелась со всеми привычками Свана, со всеми его действиями, с его мыслями, с его здоровьем, с его сном, с его жизнью, даже с тем, чего он желал для себя после смерти, так всецело слилась с ним воедино, что ее нельзя было бы исторгнуть из него, не подвергнув почти полному разрушению всего его существа; как говорят хирурги, любовь его не выдержала бы теперь операции[485].
Фрейд упоминает об усилении удовольствия «заманивающей премией», но у него речь идет о социальных и родственных им барьерах, а также о внутреннем процессе вытеснения. Пруст, по сути, говорит, что ревность есть величайшая из заманивающих премий, комическим следствием чего является обесценивание сексуального: «Самая личность Одетты не занимала в ней больше значительного места». Ее фотография, самое ее лицо противятся отождествлению с «непрекращавшейся болезненной тревогой, обитавшей в нем». Любовь и смерть опасно сближаются друг с другом, галантный Сван оказывается на краю пропасти, но нам все это кажется утонченно смешным:
Иногда он надеялся, что она безболезненно погибнет от какого-нибудь несчастного случая, так как по целым дням, с утра до вечера, она бегала по городу, пребывала в сутолоке, переходила оживленные улицы. И так как она возвращалась здоровая и невредимая, то он восхищался крепостью и ловкостью человеческого тела, которое, будучи непрестанно окружено опасностями (опасностями бесчисленными, как казалось Свану, ибо его собственное тайное желание воздвигли их на ее пути), способно избегать их и позволяет таким образом людям ежедневно и почти безнаказанно подвизаться на поприще лжи, гоняться за наслаждением. И Сван чувствовал сердечную симпатию к Магомету II, чей портрет кисти Беллини он так любил, — тому Магомету II, который, заметив, что он безумно влюбляется в одну из своих жен, заколол ее кинжалом, с целью, как простодушно сообщает его венецианский биограф, вновь обрести свободу духа. Затем он негодовал на себя за эти эгоистические мысли, и ему казалось, что испытанные им терзания не заслуживают никакой жалости, если сам он так мало дорожит жизнью Одетты[486].
Кульминация «Любви Свана», один из самых знаменитых пассажей во всем творчестве Пруста, — описание красочного сна, в котором Форшвиль, боровшийся со Сваном за Одетту, смешивается с Наполеоном III; опять же, это забавляет нас — но не бедного Свана, который наконец решает, что с него хватит:
Но через час после пробуждения, давая указания парикмахеру причесать его так, чтобы волосы не растрепались в вагоне, Сван снова стал размышлять над своим сном; он увидел так явственно, как если бы Одетта находилась подле него, ее бледное лицо, чересчур худосочные щеки, вытянутые черты, синяки под глазами, — все то, что — в течение непрерывно сменявших друг друга вспышек нежности, превративших его долгую любовь к Одетте в полное забвение первоначального впечатления, полученного им от нее, — он перестал замечать с первых дней их связи, к которым, без сомнения, во время сна возвратилась его память с целью возобновить точное представление ее облика. И со свойственной ему в былые дни грубостью, которая вновь стала появляться у него с тех пор, как он перестал быть несчастным, и на некоторое время понижала его нравственный уровень, он мысленно воскликнул: «Подумать только: я попусту расточил лучшие годы моей жизни, желал даже смерти, сходил с ума от любви к женщине, которая мне не нравилась, которая была не в моем вкусе!»[487]
Несчастье уходит, возвращается грубость, и это позволяет нам опуститься до нормального нравственного уровня. Это очаровательное наблюдение — преамбула к бессмертной жалобе Свана, способная оказать целительное воздействие на любого из нас, вне зависимости от пола или сексуальной ориентации. Одетта, безусловно, была не в его стиле, жанре, вкусе — ни достаточно высокого, ни достаточно низкого разбора для эстета и денди, живущего столь блестящей светской жизнью. Сван, увы, попался; в космосе Пруста нельзя сказать: «До свиданья, Одетта, прощаю тебя за все, что я тебе сделал» (американский способ) или «Разлюбить — один из величайших человеческих опытов; кажется, будто очнулся от сна и видишь мир по-новому» (англо-ирландский стиль). Ибо любовь Свана умирает, но ревность переживает ее; поэтому он и женится на Одетте — не вопреки, а благодаря тому, что она предавала его как с мужчинами, так и с женщинами. Прустово объяснение этого брака достойно его:
Почти все удивлялись этому браку, и это даже удивительно. Разумеется, немногим понятен чисто субъективный характер явления, которое представляет собою любовь, создание как бы дополнительной личности, не похожей на ту, что в свете носит то же имя, — личности, большая часть элементов которой заимствована нами из нас самих[488].
Ревность Свана в отношении жены предается забвению вслед за его любовью к ней, но воспоминания о ревности еще долго истязают его, и он продолжает свои разыскания:
Он продолжал разузнавать то, что его больше не интересовало, потому что его прежнее «я», впавшее в совершенную дряхлость, еще действовало по инерции, следуя внушениям, до такой степени потерявшим свою силу, что Сван даже не мог представить себе ту тревогу, некогда все же столь мучительную, что, как ему казалось, избавиться от нее было нельзя и только смерть любимой женщины (смерть, которая, как покажет в этой книге жестокий слепок с любви Свана, нисколько не уменьшает страданий ревности) могла, как он думал, расчистить его совершенно загроможденный жизненный путь[489].
Тут предвещается ад, в котором окажется из-за Альбертины Марсель, потому что Сван — предтеча Марселя, Иоанн Креститель, пророчащий распятие юного «я» повествователя на кресте ревности. Пруст осуществляет двойной переход от одной муки к другой — испытание ревностью, которому подвергается Сен-Лу во время своего романа с Рахилью, и Сваново прямое, пророческое предостережение, адресованное беспечному Марселю.
Прежде чем заняться этим переходом, уместно будет отозваться на две несправедливые претензии, предъявляемые нынче Прусту. Отчего повествователь — не еврей наполовину, как Пруст, и — что по нашим временам куда важнее — отчего повествователь гетеросексуален, тогда как Пруст был бисексуален, а гомоэротические наклонности в нем преобладали? Один из превалирующих аргументов в защиту Пруста основывается на его жажде универсальности, но он кажется не слишком состоятельным. Другой гласит, что даже в 1922 году, когда еще ощущались следствия дела Дрейфуса, гомосексуальность была клеймом. Он тоже не вполне убедителен; Пруст — художник столь великий, что его эстетическое достоинство заслуживает того, чтобы мы искали «художественные» обоснования «художественных» по своей сути решений. Выигрывает ли роман от того, что повествователь — гетеросексуальный христианин?
Биографы развеяли вздорное истолкование романа Марселя с Альбертиной как отношений между Прустом и Альфредом Агостинелли. «В цветущей роще»[490] — удачный перевод «À l’ombre des jeunes filles en fleurs», хотя он и не передает всего, что есть в «Под сенью девушек в цвету»[491]. Переиначьте это иронически в цветущую рощу мальчиков, и вы уничтожите созданную Прустом художественную тоску. Лесбиянство Альбертины, обретающее под пером Пруста пугающий блеск, с трудом поддается истолкованию как гетеросексуальные срывы Агостинелли. Пруст точно знал, что делает: Сван и Марсель составляют контраст гомосексуалу де Шарлюсу и бисексуалу Сен-Лу. Муки любви и ревности преодолевают пол и сексуальную ориентацию, да и мифологическое измерение, которое дают Содом и Гоморра, пострадало бы, не умей повествователь дистанцироваться как от гомосексуалов, так и от евреев.
Пруста в первую очередь заботили не социальная история, не сексуальное раскрепощение и не дело Дрейфуса (хотя он последовательно и деятельно Дрейфуса поддерживал). Эстетическое спасение — вот задача его огромного романа; Пруст соперничает с Фрейдом за звание первого мифотворца Хаотической эпохи. Созданная им история — это визионерская фантазия, изображающая созревание повествователя из Марселя в писателя Пруста, который в последнем томе перестраивает свое сознание и обретает способность привести свою жизнь в соответствие с новой формой мудрости. Пруст верно рассудил, что повествователь будет всего «действеннее», если сумеет занять беспристрастную позицию в отношении мифологии, поднимающей повествование до уровня космологической поэмы, как дантеанской, так и шекспирианской. Пруст оставляет позади Бальзака, Стендаля и Флобера, бросаясь в представление, в котором соединяются Содом с Гоморрой, Иерусалим и Эдем: три покинутых рая. Повествователь, гетеросексуальный христианин, наиболее убедителен в качестве провидца этой новой мифологии.
Между Сваном и Марселем, задыхающимися в недвижимом воздухе ревности, повествователь помещает Сен-Лу, который женится на Жильберте, дочери Свана и первой любви Марселя, и безвременно гибнет, пав жертвой I Мировой войны. В затухающий роман Сен-Лу и Рахили встроена самая, возможно, пронзительная Прустова апофегма, относящаяся к ревности: «Ревность, продолжающая любовь, не может быть намного содержательнее, чем другие формы воображения».
Читая это, я думаю, что Пруст — настоящий врач для всех, кто несчастен в любви, а таковым рано или поздно делается каждый, кто любит. К сожалению, его лекарство, подобно всем средствам от любви, действует лишь после того, как болезнь — даже в своей чистой форме, в форме ревности, — проходит. Пруст дает нам ретроспективное утешение: только такое мы и можем принять. Мы запоздало радуемся, когда нам говорят, что ревность — это слабое стихотворение, неспособное развить даже те три-четыре образа, что в нем содержатся. В романах, которые мы пишем своими жизнями, ревность, которая в какой-то момент нас снедает, блекнет до трагикомического пафоса, в целом присущего усопшему Эросу. Сен-Лу — не искусствовед ревности, в отличие от своего тестя, и не ее писатель, в отличие от Марселя. Любовь, в которой ревность кое-как поддерживает жизнь, вместе с ревностью и умирает, и Сен-Лу тихо переносит причудливую отраду, состоящую в том, что он сделался для Рахили привычной и успокоительной приметой прошлого:
Иногда Рахиль приходила довольно поздно и просила у своего бывшего любовника позволения поспать рядом с ним до утра. Это было большой отрадой для Робера, ибо он отдавал себе отчет, в какой все же интимной близости жили они вместе, — стоило ему, например, заметить, что, даже завладев один большей частью кровати, он нисколько не мешал ей спокойно спать. Он понимал, что ей возле его тела гораздо удобнее, чем с другими мужчинами…[492]
Трудно установить, что тут на первом месте: юмор или грусть; важнее всего то, что Сен-Лу и Рахиль не испытывают ни грусти, ни сожалений, засыпая рядом в пустоте, заменившей страсть. Былая ревность Сен-Лу опала до этого квазисемейного взаимодействия. Сван в разговоре с Марселем признает, что ему неведом даже такой смутный призрак давно минувших привязанностей:
«Люди до крайности любопытны. Сам-то я никогда не был любопытен — только уж если был влюблен и ревновал. А что это мне дало? Вы ревнивы?» Я ответил Свану, что ревность мне незнакома, что я о ней понятия не имею. «В таком случае я вас поздравляю. Когда человек ревнует чуть-чуть, это даже отчасти приятно — приятно по двум причинам. Во-первых, благодаря этому люди нелюбопытные начинают интересоваться жизнью других или, по крайней мере, жизнью одной какой-нибудь женщины…
Когда мы уже чем-то не дорожим, нам все-таки не вполне безразлично, что раньше оно было нам дорого, а другим этого не понять. Мы сознаем, что воспоминание о минувших чувствах только внутри нас, и больше нигде; чтобы воспоминание вырисовалось перед нами, нам нужно вернуться внутрь себя»[493].
В своем эстетическом солипсизме Сван как никогда кажется пародией на Рескина, чье преклонение перед искусством превращается в коллекционерское преклонение перед самим собою. По тонкой иронии Пруста, в устах Свана слово «любопытный» означает попросту «неравнодушный», и мы оставляем Свана с содроганием. Метафору, или перенос, которую Фрейд называет «влюбленностью», Пруст называет «ревностью», поэтому, когда Марсель говорит неполноценному Свану, что никогда не ревновал, он косвенно сознается в том, что не любил Жильберту. Время готовится обрушить на него свое мщение в великой романной истории о ревности, демонической пародии на поиск утраченного времени. Сага Альбертины и Марселя о собственничестве, ревности, смерти и последующей усиленной ревности начинается, как ей и полагается, с ревности, которая, как полагает повествователь, предшествует любви Марселя к Альбертине. Эта последовательность проявляется в самом начале «Пленницы»: только ради возбуждения чувства ревности Марсель вступает с любовницами Альбертины в соперничество, на победу в котором не может надеяться:
Покидая Бальбек, я думал, что покидаю Гоморру, вырываю из нее Альбертину; увы, Гоморра была рассеяна по всему лицу земли! И частью благодаря моей ревности, частью вследствие незнания этих наслаждений (случай, наблюдавшийся очень редко) я, сам того не подозревая, устроил игру в прятки, в которой Альбертина постоянно от меня ускользала[494].
Если Фрейдова любовь — это переоценка объекта, то Прустова ревность, явление гораздо более диалектическое и амбивалентное, — это одновременно недооценка объекта и нездоровое преувеличение его (ее) привлекательности для всех прочих. И, как подчеркивает Пруст, она может содержать в себе абсолютные противоречия:
Я бы не чувствовал ревности, если бы она предавалась наслаждениям подле меня, поощряемая мной, если бы знал об этих наслаждениях все подробности и был избавлен таким образом от страха услышать ложь; я бы, может быть, также не чувствовал ревности, если бы она уехала в страну мало мне известную и достаточно отдаленную для того, чтобы я мог представить себе ее образ жизни, чтобы у меня могло появиться искушение разузнать о нем. В обоих случаях сомнение было бы рассеяно либо исчерпывающим знанием, либо полным неведением[495].
Уверенность и знание одинаково убивают романтику ревности; ревность в интерпретации Пруста — сплошная романтика, как в литературе, так и на опыте. Но в чем мы можем быть уверены, кроме смерти, и что, в конце концов, мы можем знать, кроме непередаваемого опыта смерти? Почему Пруст, художник ревности, делает из компульсивности влюбленного столь безжалостную трагикомедию? Именно Пруст — не Рескин, не Пейтер, не Уайльд, не их наследники Йейтс, Джойс и Беккет — является признанным верховным жрецом религии искусства. Искусство, не физическое обладание, — вот единственное Прустово спасение от романтики ревности в жизни, а последний том, «Обретенное время», избавляет эпопею от литературной романтики ревности. Как бы Пруст ни пришел к своему квазииндуистскому мировоззрению, он вовсю наслаждается своим апокалипсисом ревности в «Пленнице» и «Беглянке», и мы вместе с ним. Но у нас этот апокалипсис также вызывает дрожь, и Пруст готовит нас к совсем другой картине мира, в которой есть место прошлому и, возможно, даже будущему, тогда как ревность знает лишь настоящее время, как бы далеко в прошлое она ни была иной раз устремлена.
Альбертина не распознает в Марселе ревности и уверяет его, что лжет исключительно от любви к нему. Повествователь не объясняет озадаченному читателю, почему Альбертина все это время остается с Марселем; она — Муза и секретов своих не раскрывает. Она бежит, и ее прощальное письмо кончается словами: «Все лучшее, что есть во мне, я оставляю Вам»; это утверждение так же правдиво и так же ложно, как и все прочее в их романе. После того как она гибнет во время конной прогулки, Марсель получает от нее два письма в ответ на то, в котором он солгал ей, что женится на Андре; в первом она одобряет его выбор, во втором — выражает желание к нему вернуться. Это совершенное противоречие, снять которое могла только смерть Альбертины, готовит Марселя и читателя к совершенно наполеоновской исследовательской кампании, которую оставшийся в живых будет вести в отношении интимной жизни своей утраченной возлюбленной, главным образом посредством расспросов Андре, однажды бывшей ее любовницей и на некоторое время перешедшей к нему.
Лишь негодный читатель осмелится произнести в адрес «Поисков…» что-нибудь морализаторское; величие и ирония этой книги защищают ее от глупцов. Но мудрость Пруста тяжка; в романе по-настоящему любят друг друга только бабушка, мать и Марсель, а больше никто. Даже дружба, кажется, так же невозможна, как любовь; настоящая ориентация — это ревность, ошеломительно сложная в случае наиболее настоящих представителей этой ориентации, стойких изгнанников из Содома и Гоморры:
Одни из них, без сомнения, с детства очень застенчивые, равнодушны к чувственной стороне наслаждения: им важно соотнести получаемое ими наслаждение с лицом мужчины. Другим, — людям, без сомнения, больших страстей — непременно требуется локализация чувственного наслаждения. От их признаний обыкновенным людям, наверное, стало бы не по себе. Наверно, они не живут всецело под спутником Сатурна, так как женщины им все-таки нужны — в отличие от первых, для которых женщины вообще не существовали бы, если бы не уменье женщин вести беседу, если бы не женское кокетство, если бы не головное чувство. Но вторые ищут женщин, которые любят женщин, женщины могут свести их с молодыми людьми и усилить наслаждение, которое им доставляет общество молодых людей; более того: женщины могут доставить им такое же удовольствие, как мужчины.
Ревность может пробудить у тех, кто любит первых, только наслаждение, которое доставил бы им мужчина, только это наслаждение воспринимают они как измену, потому что они не способны любить женщин, и если они и вступали в сношения с женщинами, то лишь по привычке и чтобы не отрезать себе пути к браку; радости супружеской жизни им непонятны, потому они и не страдают оттого, что любимый ими мужчина счастлив в супружеской жизни; между тем вторых часто ревнуют к женщинам. Дело в том, что в отношениях с женщинами они играют для женщины, любящей женщин, роль другой женщины, а женщина доставляет им почти такое же наслаждение, как мужчина; и вот ревнивый друг страдает, воображая, как его любимый прилип к той, что представляется ему почти мужчиной, и ему уже кажется, что он вряд ли к нему вернется, так как для подобного рода женщин он представляет собой нечто незнакомое: разновидность женщины[496].
Тон этого пассажа противится описанию: тут, разумеется, и ирония, и некоторая отрешенность, но основное чувство, кажется, — некое восторженное удивление. У Пруста были выдающиеся исследователи — например, Беккет, Бри, Беньямин, Жирар, Женетт, Берсани, Шатак (которого я предпочитаю остальным), — но Пруст одерживает над своими критиками еще более убедительную победу, чем Джойс. Роман длиной примерно в три тысячи страниц, не знающий себе равных по извилистости, — это практически «Тысяча и одна ночь». Единственным западным романом такой же силы (и длины!) мне кажется «Кларисса» Сэмюэла Ричардсона, но в центре «Клариссы» всего два персонажа — мученица Кларисса и ее погубитель Лавлейс. Марсель и Альбертина — две тайны «Поисков…», но роман этот — едва ли только о них. Он также не о повествователе, повзрослевшем и ставшем Марселем; диковинным образом, он — о Прусте, а тот — не совсем повествователь и не совсем Марсель. Я знаю, что думает о ревности повествователь; я не уверен, что знаю, что думает о ней Пруст, потому что повествователь — не гомосексуал и не еврей. Когда, в последнем томе, голос мудрости звучит сильнее всего, повествователь почти неуловимо сливается с писателем Прустом, и сардонический юмор в отношении ревности исчезает. Но это впереди; мы еще не разделались с настоящей ориентацией.
В «Пленнице» есть экстатический пассаж, в котором ревность вроде бы подвергается нападению, а на самом деле иронически восхваляется:
…всегда оглядывающаяся назад, ревность наша подобна историку, собравшемуся описывать эпоху, для которой у него нет ни одного документа, всегда запаздывающая, она как разъяренный бык бросается туда, где нет гордого и блестящего существа, дразнящего его своими уколами и вызывающего восторг у жестокой толпы своим великолепием и коварством. Ревность бьется в пустоте…[497]
Недееспособный историк и обманутый бык — не самые лестные для ревности метафоры, и все же повествователь, вспоминая Марселевы исследования бурно-деятельного служения Альбертины лесбийскому Эросу, решает уподобить ревность стремлению к посмертной славе:
Когда мы думаем о том, что будет после нас, то в этот момент не представляем ли мы себя по ошибке живыми? И не все ли это равно — жалеть, что женщина, которая теперь уже — ничто, не знает о том, что мы осведомлены о ее похождениях шестилетней давности, и желать, чтобы о нас, будущих мертвецах, люди все еще благосклонно отзывались столетие спустя? Реальных основании больше в этом нашем желании, но моя ревность к прошлому объяснялась той же оптической ошибкой, как и (в случае других—) желание посмертной славы[498].
Другие — это предшественники: Флобер, Стендаль, Бальзак, Бодлер, Рескин, но к ним безусловно относится и писатель Пруст, с которым сливается повествователь. «Оптическая ошибка» — болезнь не постыдная, как сказал бы Китс[499], и связь между ревностью и литературным искусством очевидна. Впрочем, ранее повествователь замечает в скобках: «Поразительно, какой недостаток воображения выказывает ревность, строящая малосущественные догадки относительно неправды, когда дело доходит до истины». Ограниченность ревности — очередная преамбула к прустинианскому призванию. Марсель, бьющийся в своей пустоте, обнаруживает: «Нет такой идеи, которая не содержала бы возможного опровержения себя, нет слова, которое не подразумевало бы значения, противоположного своему».
Наступает паралич; Марселю не становится легче, когда он утверждает: «Ложь человечеству необходима. Роль, которую она играет в его жизни, возможно, не меньше той, что играет в ней поиск наслаждений, которому она к тому же подчинена». Такое наблюдение, пожалуй, может способствовать рождению моралиста, но не писателя. Отрадный контраст ждет нас в «Обретенном времени», когда повествователь оказывается в состоянии увидеть, как полезна была ему Альбертина с литературной точки зрения: «Счастливые года суть потерянные года, чтобы работать, мы ждем страданий». Мы сознаем, что повествователь сделался одним целым с писателем Прустом, когда он отдает давно почившей Альбертине должное:
В некотором смысле у меня было основание связывать все это с ней, ибо если бы я не отправился в тот день на набережную, если бы не узнал ее, все эти идеи не получили бы развития (при условии, что они не были бы вызваны к жизни чем-то другим). Но здесь как раз и крылась ошибка, ибо производная удовольствия, которую мы ретроспективно изыскиваем в красивом женском лице, проистекает из наших собственных чувств: на самом деле страницы, которые я напишу, Альбертине, тем более Альбертине тогдашней, были бы непонятны. Но как раз благодаря тому (это, кстати, предостерегает нас от чрезмерного увлечения интеллектуальной атмосферой), что она так отличалась от меня, она оплодотворила меня горем и даже, еще прежде, простым усилием представить себе что-то отличное от себя[500].
Вот, в сущности, почему повествователю, прежде бывшему Марселем, удается сделаться писателем Прустом, а не еще одним Сваном, которому остается лишь разглядывать свою коллекцию воспоминаний о ревности. Пруст спасся от жизни сноба и параноика-ревнивца, которым он, возможно, успел побыть, благодаря колоссальному труду — одновременно терапевтическому, художественному и (иначе не скажешь) мистическому. Каждый читатель Пруста наконец слышит в «Поисках…» некие отголоски, которые Роджер Шатак точно сопоставляет с индуистскими концепциями личности. «Поиски…» суть продукт дисциплины, отвергнувшей то, что Кришна в «Бхагавадгите» называет «темнотой». В том обстоятельстве, что создатель «Поисков…» — самый подлинный из современных мультикультуралистов, преодолевший некоторые различия между Западным и Восточным канонами, тоже можно увидеть иронию — впрочем, уже не совсем в духе Пруста.
18. Борьба Джойса с Шекспиром
Джеймс Джойс, которому редко недоставало дерзости, задумал Шекспира Вергилием, а себя — Данте. Притязание это было столь грандиозно, что осуществить его не мог даже Джойс. По всеобщему мнению, соперничать с «Улиссом» и «Поминками по Финнегану» в дни нашего долгого упадка, который — если Вико и Джойс были правы — доведет нас до новой Теократической эпохи, может только «В поисках утраченного времени» Пруста. Возможно, и у Джойса, и у Пруста почти получилось достигнуть того, чего достиг в «Божественной комедии» Данте, хотя Данте этого века скорее можно назвать Кафку, которому сделать этого не удалось. Но никто из тех, кто глубоко вчитывался в Шекспира и видел должным образом поставленные и убедительно сыгранные спектакли по его пьесам, не сочтет, что Джойс закончил то, чему Шекспир положил начало. Джойс это понимал, и в его навязчивых отсылках к поэту-предшественнику, которыми переполнены и «Улисс», и «Поминки…», чувствуется известная тревога. Не будь Шекспира, Джойс и Фрейд, возможно, никогда не испытали бы того ужаса перед «заражением», который, кажется, вызывал у них один Шекспир.
Джойс относился к этому влиянию теплее, чем Фрейд, и гипотезы Луни не разделял, хотя в «Поминках по Финнегану» он обыгрывает бэконианскую теорию. Сначала Джойс предлагает нам гипотезу, которую высказывает Стивен Дедал в «библиотечной» сцене в «Улиссе», — теорию, в которой нападению подвергается не столько патернализм, сколько само понятие отцовства, а Шекспир никакому нападению не подвергается. В ответ на набивший оскомину вопрос: «Какую книгу вы бы взяли с собою на необитаемый остров, если взять можно было бы только одну?», Джойс сказал Фрэнку Баджену: «Я бы колебался между Данте и Шекспиром, но недолго. Англичанин богаче, и я бы выбрал его». «Богаче» тут — точное слово; в одиночестве необитаемого острова человеку захочется компании, а Шекспир обеспечен персонажами лучше своих ближайших соперников, Данте и Танаха. У Джойса, несмотря на всю диккенсовскую живость его второстепенных персонажей, есть лишь не вполне удачный Гамлет, Стивен, и соперница Батской ткачихи, Молли. Польди может бросить вызов Шекспиру (точнее, пытаться бросить ему вызов), но на самом деле это невозможно, поскольку во всякой литературной борьбе большая сущность поглощает меньшую. Стивен говорит, что не верит в свою собственную теорию о Шекспире и Гамлете, но Ричард Эллманн пишет, что Джойс, по словам его друзей, относился к ней весьма серьезно и не отрекся от нее. С этого и нужно начинать разговор о канонической борьбе Джойса с Шекспиром в «Улиссе» и в «Поминках по Финнегану».
Положив в основу «Улисса» одновременно «Одиссею» и «Гамлета», Джойс выказал незаурядную смелость — ведь, как отмечает Эллманн, между парадигмами Одиссея/Улисса и принца датского нет практически ничего общего. Одним из ключей к замыслу Джойса может быть то обстоятельство, что среди самых умных литературных героев вторым после Гамлета (и Фальстафа) представляется именно герой «Одиссеи», хотя Джойс хвалит его завершенность, а не умственные способности[501]. Но первый Улисс хочет вернуться домой, тогда как у Гамлета нет дома — ни в Эльсиноре, ни где бы то ни было еще. Джойсу удается соединить Улисса с Гамлетом лишь посредством удвоения: Польди — это и Улисс, и призрак Гамлета, Стивен — и Телемах, и молодой Гамлет, а вместе Польди со Стивеном образуют Шекспира и Джойса. На словах это несколько озадачивает, но вполне соответствует намерениям Джойса, желавшего вобрать Шекспира в себя. Как и Джойс, Шекспир — человек светский, заменивший Священное писание литературой всего рода человеческого, и Джойс защищает Шекспира от Фрейда, справедливо отрицая тождество Гамлета и Эдипа. Джойс, оказавшийся лучшим «критиком» Шекспира, чем Фрейд, не обнаружил никаких признаков вожделения к Гертруде или желания убить короля Гамлета в их сыне. Стивен и Блум (который Польди) тоже, кажется, не знают Эдиповой амбивалентности; если Джойс и питал соответствующие чувства к Шекспиру (а в прошлом он их питал), то он приложи л приметные усилия к тому, чтобы в «Улиссе» они не проявились.
Джойсовскую теорию «Гамлета» излагает Стивен в сцене в Национальной библиотеке из «Улисса» (часть II, g). В книге Фрэнка Баджена «Джеймс Джойс и создание „Улисса“» (1934), которая доныне остается лучшим путеводителем по роману вследствие того, что в ней так много «лично» Джойса, сказано, что «Шекспир-человек, повелитель языка, творец людей, занимал (Джойса} больше, чем Шекспир-создатель пьес». Это, конечно, Стивенов Шекспир следует устоявшейся традиции, выходя на сцену театра «Глобус» в роли призрака отца Гамлета:
— Представление начинается. В полумраке возникает актер, одетый в старую кольчугу с плеча придворного щеголя, мужчина крепкого сложения, с низким голосом. Это — призрак, это король, король и не король, а актер — это Шекспир, который все годы своей жизни, не отданные суете сует, изучал «Гамлета», чтобы сыграть роль призрака. Он обращается со словами роли к Бербеджу, молодому актеру, который стоит перед ним по ту сторону смертной завесы, и называет его по имени:
Гамлет, я дух родного твоего отца,и требует себя выслушать. Он обращается к сыну, сыну души своей, юному принцу Гамлету, и к своему сыну по плоти, Гамнету Шекспиру, который умер в Стратфорде, чтобы взявший имя его мог бы жить вечно.
И неужели возможно, чтобы актер Шекспир, призрак в силу отсутствия, а в одеянии похороненного монарха Дании призрак и в силу смерти, говоря свои собственные слова носителю имени собственного сына (будь жив Гамнет Шекспир, он был бы близнецом принца Гамлета), — неужели это возможно, я спрашиваю, неужели вероятно, чтобы он не сделал или не предвидел бы логических выводов из этих посылок: ты обездоленный сын — я убитый отец — твоя мать преступная королева, Энн Шекспир, урожденная Хэтуэй?[502]
Энн Хэтуэй — Гертруда, почивший Гамнет — Гамлет, Шекспир — призрак, двое его братьев — составной Клавдий: все это достаточно возмутительно, чтобы быть всецело убедительным, и из этого вышел лучший роман Энтони Бёрджесса, «Влюбленный Шекспир» (1964)[503] — кроме прочего, единственный удачный роман о Шекспире. Бёрджесс, любящий последователь Джойса, так по-джойсовски развивает теорию Стивена, что «библиотечная» сцена давным-давно смешалась у меня в голове с измышлениями Бёрджесса и я, перечитывая Джойса, всякий раз пугаюсь, когда не обнаруживаю того, что по ошибке рассчитываю там найти, хотя оно во всем своем великолепии явлено у Бёрджесса. Это отчасти объясняется тем, что Джойсов Стивен говорит тонкими намеками, вмещая целую концепцию жизни и творчества Шекспира в несколько брошенных походя красноречивых соображений, в которых самые тонкие указания и неожиданности скрыты из виду. Ранее Малахия Маллиган по прозвищу Бык, в котором Джойс вывел Оливера Сент-Джона Гогарти, поэта-врача и разнорабочего, объясняет эту теорию: «Он с помощью алгебры доказывает, что внук Гамлета — дедушка Шекспира, а сам он призрак собственного отца»[504]. Это не только проницательная пародия, но и точное попадание в суть, поскольку намерение Стивена состоит в том, чтобы развеять власть отцовства как такового:
Мужчина не знает отцовства в смысле сознательного порождения. Это — состоянье мистическое, апостольское преемство от едино-рождающего к единородному. Именно на этой тайне, а вовсе не на мадонне, которую лукавый итальянский разум швырнул европейским толпам, стоит церковь, и стоит непоколебимо, ибо стоит, как сам мир, макро- и микрокосм, — на пустоте. На недостоверном, невероятном. Возможно, что amor matris, родительный субъекта и объекта — единственно подлинное в мире. Возможно, что отцовство — одна юридическая фикция. Где у любого сына такой отец, что любой сын должен его любить и сам он любого сына?[505]
Стивен быстро высмеивает это представление, но высмеять его не так-то просто и не так-то просто понять, ибо импликации его бесконечны. Если в это должно верить, то развеиваются и церковь, и самое христианство, а Джойс эту мысль не отводит и не оспаривает. Покойный сэр Уильям Эмпсон протестовал против того, чему он дал чудесное наименование «кеннеровская клевета» — хотя он мог бы сказать и «элиотовская клевета», потому что T. С. Элиот раньше Хью Кеннера окрестил воображение Джойса «в высшей степени правоверным»[506]. Конечно же, Эмпсон был прав: христианизация Джойса — литературоведческая процедура жалкого пошиба. Если в «Улиссе» и есть Святой Дух, то это Шекспир; если и есть отцовство, которое можно назвать состоятельной фикцией, то Джойс хотел бы видеть себя сыном Шекспира. Но где Джойс в «Улиссе»? Разумеется, он представлен в этой книге, но странным образом разделен между Стивеном и Польди, Джойсом — художником в юности и Джойсом — отзывчивым, любознательным человеком, отринувшим насилие и ненависть. Странность этого разделения не поддается окончательному литературоведческому объяснению; на этом последнем «личностном» этапе англоязычного романа, после которого убедительные персонажи растворились в мифологии «Поминок по Финнегану» и негациях Сэмюэла Беккета, нам отчаянно дружелюбным образом демонстрируется, что отцовство есть чистая фикция, концепция эстетическая — и недостоверная.
Читатель верно чувствует, что «Улисс» имеет больше отношения к «Гамлету», чем к «Одиссее», но каковы четырехсторонние отношения — между Шекспиром, Джойсом, Дедалом и Блумом? Словесной роскоши «Улисса» хватило бы на то, чтобы изукрасить легион романов, и все же мы чувствуем, что своим центральным положением в Каноне эта книга обязана не только джойсовским стилям, как бы мастерски он ими всеми не владел. Эстетический мистицизм Пруста Джойсу не подходил, и у Беккета, наследовавшего и Джойсу, и Прусту, видно своего рода аскетическое отрицание прустовского триумфа. Джойс неизменно таинственен; его столкновение с Шекспиром кажется мне одним из немногих открытых им подступов к своей тайне.
Стивен вводит в свой экскурс о Шекспире войну между ересью и церковным богословием: «Африканец Савеллий, хитрейший ересиарх из всех зверей полевых, утверждал, что Сам же Отец — Свой Собственный Сын. Бульдог Аквинский, которого ни один довод не мог поставить в тупик, опровергает его. Отлично: если отец, у которого нет сына, уже не отец, то может ли сын, у которого нет отца, быть сыном?»[507]
Следовательно, продолжает Стивен, поэт, написавший «Гамлета», «был не просто отцом своего сына, но, больше уже не будучи сыном, он был и он сознавал себя отцом всего своего рода, отцом собственного деда, отцом своего нерожденного внука, который, заметим в скобках, так никогда и не родился»[508]. Отсюда возникает Богоподобный Шекспир, но это, по-видимому, лишь Стивенов портрет художника; Стивен, при всей своей одержимости Шекспиром, существует в книге, написанной ради Польди, а не ради него.
Если в «Улиссе» есть загадка, то она обретается в Леопольде Блуме, который относится к Шекспиру, этому смертному богу, своеобразным и озадачивающим образом. Шекспир Стивена — это пророчество о Польди. Шекспир — отец, самому себе приходящийся отцом. У него нет ни предшественника, ни последователя; это, определенно, идеализированное представление Джойса о себе как о писателе. Отец Польди — еврейская сторона его родословной — покончил с собою, не стало и сына Польди — если, конечно, не ухитриться воспринимать Стивена как его сына по духу. Единственный дух в «Улиссе» — это Шекспир, призрачный сын и призрачный отец, и мы постепенно понимаем, что дух этот сошел не на более или менее дантеанского Стивена, а на джойсоподобного Блума, чья любимая сцена у Шекспира — разговор Гамлета с могильщиками в V акте.
Что от Шекспира мы можем обнаружить в Польди? Я подозреваю, что ответ на этот вопрос должен быть как-то связан с изображением у Джойса человеческой личности во всей ее полноте, которое можно рассматривать как Шекспиров последний рубеж или заключительный эпизод долгой истории шекспирианского мимесиса в литературе на английском языке. Держал ли, на ваш взгляд, Шекспир перед природой зеркало или нет — вам непросто будет найти более полный портрет естественного человека, чем изображение Польди у Джойса. Джойсово суждение может показаться причудливым — но архетипом естественного человека для него, кажется, был Шекспир, пусть и Шекспир джойсовский.
Джойсов Шекспир был не драматург; Джойс отчего-то считал, что с точки зрения драматургии «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» Ибсена куда выше «Отелло». Идеи Джойса о драме понять непросто, и его Шекспир явно был не поэтом действия, но творцом мужчин и женщин. Для того чтобы выявить шекспирианство Польди, нужно оставить драму и сосредоточиться на изображении перемены. Думая об «Улиссе», я думаю в первую очередь о Польди, но редко — как об участнике бесед или отношений. Благодаря «всесторонности» мистера Блума, в нем равно значимы его этос, или характер, пафос, или личность, и даже логос, или мысль, клонящаяся к божественной заурядности. Незаурядно в Польди богатство его сознания, способность преобразовывать чувства и ощущения в образы. В этом-то, думается, и дело: Польди присуща шекспировская самоуглубленность, проявленная куда основательнее внутренней жизни Стивена, или Молли, или кого бы то ни было другого в романе. Героини Джейн Остен, Джордж Элиот и Генри Джеймса обладают куда более утонченной социальной чувствительностью, чем Польди, но даже они не достигают его обращенности в себя. Он все понимает — пусть даже его реакции на то, что он сознает, и не отличаются разнообразием. В этой книге нет никого, кому Джойс симпатизировал бы так, как ему — обстоятельство, которое первым подчеркнул Ричард Эллманн.
Джойс восхищался Флобером, но сознание Польди не похоже на сознание Эммы Бовари. У него удивительно древняя душа для человека, едва достигшего средних лет, и все в этой книге кажутся гораздо моложе мистера Блума. По-видимому, это как-то связано с загадкой его еврейства. С еврейской точки зрения Польди — и еврей, и нет. И его мать, и ее мать были ирландские католички; его отец Вираг был еврей, перешедший в протестантизм. Сам Польди был и протестантом, и католиком, но он солидаризируется с покойным отцом и явно считает себя евреем, хотя его жена и дочь — не еврейки. В Дублине на него, как на еврея, смотрят косо, хотя его обособленность и кажется добровольной. Он со многими знаком — такое впечатление, что знает всех и каждого — но нас тем не менее застал бы врасплох вопрос о том, с кем он дружит, потому что он постоянно погружен в себя — глубже, чем ожидаешь от по-настоящему дружелюбного человека.
Однажды я был очарован игрой Зеро Мостела в «Улиссе в Ночном Городе»: он ловко полувыплясывал свою роль в очень сильном ее творческом искажении; теперь я вынужден бороться с образом Мостела, когда перечитываю эту книгу. Джойс — не Мел Брукс, хотя он и наделил Польди отчасти еврейским чувством юмора. Мостел был очарователен, Польди не таков; но Польди трогает Джойса и трогает нас потому, что из множества ирландцев он один не являет того, что Йейтс назвал «сердцем фанатика»[509]. Хью Кеннер, в первой своей книге о Джойсе представивший Польди неким элиотовским евреем (по антисемиту T. С. Элиоту, а не по гуманной Джордж Элиот), после двадцати лет дальнейших штудий перестал считать мистера Блума образцом современной безнравственности и пришел к изящному выводу, в котором было больше от Джойса, — о том, что Джойсов протагонист был «способен жить в Ирландии без злого умысла, без ожесточения, без ненависти». Многие ли из нас сегодня способны жить — в Ирландии ли, в Соединенных ли Штатах — без злого умысла, без ожесточения, без ненависти? Кто из нас готов относиться к Польди снисходительно — как будто у нас есть другое столь же убедительное изображение всецело доброго человека, неизменно нам интересного?
Странноватый, вполне жизнерадостный, уравновешенный и бесконечно добрый, хотя и мазохист даже в своей любознательности, Польди кажется джойсовской версией не какого-то Шекспирова персонажа, но самого призрачного Шекспира, который одновременно каждый и никто, этакого Шекспира по Борхесу. Это, разумеется, не поэт Шекспир, а Шекспир-гражданин, который бродит по Лондону, как Польди бродит по Дублину. Когда Стивена во время его библиотечной речи заносит особенно далеко, он даже намекает на то, что Шекспир был еврей — предположительно, по образцу Польди, хотя Стивен не может этого знать, не опередив мистическим образом событий. Кульминация теории Стивена — выдающееся и пугающее изображение Шекспировой жизни как всезавершенности:
— Мужчины не занимают его, и женщины тоже, — молвил Стивен. — Всю жизнь свою проведя в отсутствии, он возвращается на тот клочок земли, где был рожден и где оставался всегда, и в юные и в зрелые годы, немой свидетель. Здесь его жизненное странствие завершено, и он сажает в землю тутовое дерево. Потом умирает. Действие окончено. Могильщики зарывают Гамлета-отца и Гамлета-сына. Он наконец-то король и принц: в смерти, с подобающей музыкой. И оплакиваемый — хотя сперва ими же убитый и преданный — всеми нежными и чувствительными сердцами, ибо будь то у дублинских или датских жен, жалость к усопшим — единственный супруг, с которым они не пожелают развода. Если вам нравится эпилог, всмотритесь в него подольше: процветающий Просперо — вознагражденная добродетель, Лизи — дедушкина крошка-резвушка и дядюшка Ричи — порок, сосланный поэтическим правосудием в места, уготованные для плохих негров. Большой занавес. Во внешнем мире он нашел воплощенным то, что жило как возможность в его внутреннем мире. Метерлинк говорит: Если сегодня Сократ выйдет из дому, он обнаружит мудреца, сидящего у своих дверей. Если нынче Иуда пустится в путь, этот путь его приведет к Иуде. Каждая жизнь — множество дней, чередой один за другим. Мы бредем сквозь самих себя, встречая разбойников, призраков, великанов, стариков, юношей, жен, вдов, братьев по духу, но всякий раз встречая самих себя. Тот драматург, что написал фолио мира сего, и написал его скверно (сначала Он дал нам свет, а солнце — два дня спустя), властелин всего сущего, кого истые римляне из католиков зовут dio boia, бог-палач, вне всякого сомнения, есть все во всем в каждом из нас, он конюх и он мясник, и он был бы также сводником и рогоносцем, если бы не помешало то, что в устроительстве небесном, как предсказал Гамлет, нет больше браков и человек во славе, ангел-андрогин, есть сам в себе и жена[510].
В речи Стивена, устами которого тут явно говорит Джойс, в равной мере выделяются упрек богу-палачу и последняя хвала создателю «Гамлета». Есть двое драматургов, католический Бог и Шекспир, оба — боги; но Шекспиров пророк, Гамлет, предсказывает Джойсово представление о человеке во славе, ангеле-андрогине, который есть сам в себе и жена, представление, воплощенное и в Шекспире, и в бедном Польди. Из двух фолио — мира сего и Шекспирова — Джойс предпочитает написанное его призрачным отцом, который возвращается, всю жизнь свою проведя в отсутствии, в отличие от Джойса, которому сделать этого не довелось. Дальше — тишина, изгнание завершилось и хитроумие тоже подошло к концу. Немногие фразы, даже из «Улисса», преследуют нас так неотступно, как «(м)ы бредем сквозь самих себя, встречая разбойников, призраков, великанов, стариков, юношей, жен, вдов, братьев по духу, но всякий раз встречая самих себя». Это можно сжать (с некоторыми потерями) в такой Джойсов напев: «Я бреду сквозь себя, встречая призрак Шекспира, но всякий раз встречаю самого себя». Это признание влияния и уверенности в наличии сил для того, чтобы усвоить Шекспира, можно считать лучшим комплиментом «Улисса» своему каноническому великолепию.
Исследование Западного канона, выстроенное по циклам Вико, едва ли возможно без «Поминок по Финнегану» — книги, композиционный принцип которой был отчасти перенят у Вико. Поскольку у «Поминок…» больше оснований, чем у «Улисса», чтобы считаться единственным в нашем веке настоящим соперником «В поисках утраченного времени» Пруста, речь об этой книге пойдет и здесь. Движение, по ошибке названное «мультикультурализмом», — совершенно антиинтеллектуальное и антилитературное — убирает из учебных программ большую часть сочинений, трудных для восприятия и понимания, то есть большую часть канонических книг. «Поминки по Финнегану», шедевр Джойса, с самого своего начала представляет столько трудностей, что о его выживании нельзя не тревожиться. Я подозреваю, что он окажется в обществе великой рыцарской поэмы Спенсера «Королева фей», и читать обе эти книги отныне будет лишь маленькая группа специалистов-энтузиастов. Это прискорбно, но мы движемся ко временам, когда такая же судьба может постигнуть Фолкнера с Конрадом. Одна из моих ближайших подруг, последовательница Адорно и его Франкфуртской школы, поддержала решение своего университета убрать из списка обязательной литература Хемингуэя и заменить его пустоватым сочинителем рассказов из чиканос — она сказала, что это лучше подготовит ее студентов к жизни в Соединенных Штатах. Подразумевалось, что эстетические стандарты нужны затем, чтобы мы могли наслаждаться чтением частным образом, в сфере же общественной жизни они — зло.
Рассказам Хемингуэя, как бы превосходны ни были лучшие из них, довольно далеко до «Поминок по Финнегану», и наша новая антиэлитистская мораль будет сплавлять эту книгу все меньшему и меньшему числу читателей, и это — огромная эстетическая утрата. Здесь, на нескольких страницах, я едва ли смогу отдать должное «Поминкам…» — отмечу только, что если эстетическим достоинствам случится еще когда-нибудь снова лечь в основу канона, то «Поминки…», как и Прустовы «Поиски…», окажутся так близки к высотам Шекспира и Данте, как только может быть близок к ним наш хаос. Далее я намерен лишь продолжить историю борьбы Джойса с Шекспиром, которого он почему-то считал величайшим из писателей (по крайней мере, до себя самого), но слабейшим, чем Ибсен, драматургом (возмутительное суждение, которому Джойс всегда оставался верен; впрочем, его прощаешь в благодарность за великолепное замечание: «Некоторые полагают, что в „Гедде Габлер“ Ибсен был феминистом, но он был такой же феминист, как я — архиепископ»).
Исследователи сходятся на том, что «Поминки по Финнегану» начинаются там, где кончается «Улисс»: Польди засыпает, Молли великолепно задумывается, а затем еще больший Всечеловек видит во сне книгу ночи. Этот новый Всечеловек, Хамфри Чимпден Ирвикер, слишком огромен для личности — его можно назвать личностью в той же мере, в которой можно назвать человеком Альбиона — «изначального человека» Блейкова эпоса. Это единственное, что всегда удручает меня, когда я перехожу от «Улисса» к «Поминкам…»; «Поминки…» богаче, но я теряю Польди — хотя и обретаю Джойсовскую «историею мира». Это очень своеобразная и мощная история, в том числе литературная история, моделью которой является вся литература, тогда как «Улисс» основывается на причудливой амальгаме «Гамлета» и «Одиссеи». Поскольку Шекспир и Западный канон суть одно и то же, Джойс неизбежно возвращается к Шекспиру, главному (наряду с Библией) источнику скрытых аллюзий и цитат, наводняющих страницы этой книги. За них я в долгу перед работой Д. С. Атертона «Книги в „Поминках…“» (i960), по-прежнему полезнейшим из нескольких хороших исследований, вызванных к жизни «Поминками…», и новаторской статьей Мэтью Ходгарта «Шекспир и „Поминки по Финнегану“» (1953) в «Кембридж джорнэл».
Эдэлин Глэшин в своей книге «Третья перепись „Поминок по Финнегану“» (1977) отмечает, что Шекспир — сам человек и его сочинения — был матрицей «Поминок…», то есть «скалой, внутри которой — металл, ископаемые, самоцветы». Это, разумеется, лишь один взгляд на книгу, читателям которой нужны все без исключения относящиеся к ней взгляды, но я, читая «Поминки…», всегда руководствовался именно им. Главное различие между Шекспиром в «Улиссе», которого я считаю Святым Духом этого романа, и Шекспиром в «Поминках…» определяется тем, что Джойс впервые выражает зависть к своему предшественнику и сопернику. Он не столько желает себе Шекспировых дарований и диапазона — Джойс был уверен, что тут он Шекспиру ровня, — сколько справедливо завидует Шекспировой аудитории. Эта зависть превращает «Поминки…» из комедии, которой задумывал эту книгу Джойс, в трагикомедию. Тем, как ее приняли, умирающий Джойс был разочарован, но разве могло быть иначе? Ни одно литературное произведение на английском языке после «Пророческих книг» Блейка не ставит с самого своего начала столько преград даже перед усердным, великодушным и осведомленным читателем. Уже на первых страницах великой главы «Поминок…» «Анна Ливия Плюрабель» Джойс восклицает: «Земля и облачное свидетели, до чего я хочу южницу с иголочки — мокрятье — да помясистее!»
«Южница» — это переиначенная «задница», «мокрятье» — это «проклятье», и, поскольку это говорит не только жена Ирвикера, но и река Лиффи, комментарий Атертона приходится кстати: «Джойс говорит, что хотел бы, чтобы у Лиффи был Южный берег, где литературу ценили бы так же, как на Шекспировой Темзе». У Шекспира был театр «Глобус» и его публика; у Джойса был всего лишь кружок почитателей.
Глядя на страницы «Поминок…», даже великодушный читатель должен задуматься, понимал ли Джойс, как высоко он поднял планку Фрейдовой «заманивающей премии», положенной тому, кто собрался нырнуть в его величайшее сочинение. Поразмышляв над этим в течение нескольких лет, я все-таки склонен думать, что отчаянную дерзость «Поминок…» частично обусловил вызов со стороны Шекспира. «Улисс» был попыткой вобрать в себя Шекспира на его собственной территории — на территории «Гамлета». Дублин — контекст широкий, но недостаточно широкий для того, чтобы поглотить Шекспира, о чем вполне ясно говорит кульминация эпизода «Цирцея», где действие происходит в аду Ночного Города. Сразу после того как Польди подвергается мерзости превращения в Подглядывающего Тома, наблюдая через скважину, как Буян Бойлан пашет Молли[511], пьяный Линч, Стивенов дружок, показывает на зеркало и говорит: «Зеркало перед природой». Затем мы наблюдаем столкновение между Шекспиром и двумя составляющими Джойса, Стивеном и Блумом:
Стивен и Блум смотрят в зеркало. Там появляется лицо Вильяма Шекспира, безбородое, с застывшими параличными чертами, венчаемое отражением оленьих рогов, вешалки в передней.
Шекспир (с важностью чревовещает). Так пустоту ума смех громкий выдает. (Блуму.) Мнил ты аки невидимым пребыти. Вот и глазей. (Кричит и хохочет черным каплуном.) Ягого! Как там у меня Отелло отельчески придушил свою Вездеходу! Хо-хо! Ягогого!
Блум (трем шлюхам, с уязвленной улыбкой). А когда я услышу, о чем вы шутите?[512]
Рогоносец-Шекспир (по теории Стивена) смотрит на рогоносца-Польди и нетрезвого Стивена после того, как Линч цитирует Гамлета, наставляющего актеров и напоминающего им о том, что их цель, «как прежде, так и теперь была и есть — держать как бы зеркало перед природой». Безбородый, с застывшими параличными чертами Шекспир увенчан рогами рогоносца — но он все равно величав[513], когда неверно цитирует из поэмы Оливера Голдсмита «Покинутая деревня» (1770): «И громкий смех, что выдал ум пустой» («пустой» тут следует понимать в положительном смысле — «досужий», «отдохнувший»). Шекспир порицает не только порожний ум Линча, но и пустоту Бойлана и шлюх, потешающихся над бедным Польди. Самого же Польди Шекспир остерегает сделаться вторым Отелло, побужденного Яго-Бойланом к тому, чтобы убить Молли — как Отелло «отельчески» убил «Четверговую мать»[514].
Стивен родился в четверг, поэтому перед нами два (как минимум) соединения: Стивен сливается с Блумом, а Шекспир, снова отец Гамлета, остерегает этот джойсовский сплав создать еще один сплав — Гамлета с Отелло; в Молли Блум, таким образом, соединяются покойная мать Стивена, Гертруда и Дездемона. Это, конечно, смешная шутка над несчастным Польди, но главное все равно не проясняется: почему Шекспир не только превращается в каплуна, но также делается безбородым и окаменевает лицом? Эллманн замечает: «Джойс предупреждает нас, что работает с почти полными, а не совершенными отождествлениями». Но я держусь своего высказанного выше мнения: Джойс наконец признает, что подвергся страху влияния. Шекспир-предшественник насмехается над своим последователем, Стивеном-Блумом-Джойсом, словно говоря ему: «Ты глазеешь в зеркало, пытаясь увидеть себя мною, но видишь лишь то, что ты есть: безбородую вариацию, лишенную моей былой мощи, с застывшими параличными чертами, в которых нет моего живого выражения». В «Поминках по Финнегану» Джойс, вспомнив, как Шекспир попрощался с ним в «Улиссе», пытается взять реванш в последнем раунде борьбы с Шекспиром.
Финал «Поминок по Финнегану», монолог умирающей Анны Ливии — матери, жены и реки, — исследователи часто и справедливо оценивают как самое красивое из всего написанного Джойсом. На пятьдесят восьмом году жизни Джойс написал последнюю свою вещь, по всей видимости в ноябре 1938 года. Немногим более двух лет спустя, на пороге шестидесятилетия, он умер. По тонкому замечанию Патрика Пэрриндера, «смерть, которую в предшествующих вещах Джойса встречали с любопытством, мукой, насмешкой и фиглярством, тут вызывает болезненное возбуждение, жуткий восторг». Если заменить в этой изящной фразе «Джойса» на «Шекспира», то «тут» будет относиться к смерти короля в финале «Лира». Джойсова река, возвращающаяся домой, в море, будет вариацией мертвой Корделии на руках своего обезумевшего отца, которому тоже вскоре суждено умереть.
Можно ли прожить всю историю литературы во сне — за одну ночь? В «Поминках по Финнегану» говорится «да» — и утверждается, что вся история человечества может пройти через нас одним длинным, прерывающимся сном. Энтони Бёрджесс, преданный последователь Джойса — в отличие от Сэмюэла Беккета, пошедшего своей дорогой, — говорит, что «не может быть ничего естественнее, чем увидеть доктора Джонсона с Фальстафом, которые дожидаются поезда на Чаринг-Кросс рядом с вашей соседкой». Помню свой сон в Блумовом духе: в нем я опоздал на встречу с мистером Зеро Мостелем, своим двойником, на железнодорожном вокзале Нью-Хейвена и, проснувшись, решил, что это был мой обычный тревожный сон о том, как я опаздываю на занятие, посвященное «Улиссу». На вокзале дожидались поезда все те, с кем я никогда не хотел встречаться, — как из жизни, так и из литературы.
Этот сон был не смешной; «Поминки…» — смешная книга, подчас очень смешная, на уровне Рабле или записных книжек Блейка. Впрочем, тот Шекспир, к которому она обращается, — это, как правило, не комедиограф, а автор трагедий «Макбет», «Гамлет», «Юлий Цезарь», «Король Лир», «Отелло», и поздних сказок; исключение — величайшее из комических созданий, сэр Джон Фальстаф. То, что Джойс соединял Шекспира с историей, — совершенно естественно, но или «Поминки…» — книга более мрачная, чем было задумано, или Шекспир в ней проник везде, куда ему было угодно. Ирвикер, или Всечеловек, — это и Бог, и Шекспир, и Леопольд Блум, и зрелый Джеймс Джойс, и король Лир (он же король Лири), а также Улисс, Цезарь, Льюис Кэрролл, призрак отца Гамлета, Фальстаф, солнце, море, гора и многое другое.
В «Третьей переписи…» Глэшин есть чудесный перечень под великолепным названием в духе Джойса: «Кто есть кто, когда каждый — это кто-то другой». Джойс задумал картину примирения и объединения; из других писателей нашего века один Пруст мог задумать похожую картину — но все-таки не такого космического масштаба. Но трагический Шекспир — не примиритель, а «Макбет» — особенно мрачная вещь из тех, что пробились в «Поминки…». Если Джойс был Лиром в его кельтской форме морского старца, то Корделией ему приходилась его трагически безумная дочь Лючия, и воля к комедии в нем, безусловно, временами колебалась. Он вспоминает себя юным художником, Переписчиком Шемом, одновременно Гамлетом и Стивеном Дедалом (пробирается туда и Макбет), и мы слышим, по мудрому слову Гарри Левина, «крик отчаяния великого писателя, родившегося слишком поздно»:
Ты был выведен, напитан, взлелеян и откормлен с самого святого детства на этом острове двух пасх под предостережения радостного неба и ревущего другого места (разоряют ночи твои, смущают остатки твои, все светства хороши!), а ныне, воистину, навеселемазый среди убелюдков этого презренного века, ты двазделился надвое промеж богов, скрытого и выявленного, нет, приговоренный глупец, анарх, эгоарх, тиресиарх, ты воздвигнул свое разъединенное королевство на пустоте своей собственной напряженно сомневающейся души. Держишь ли ты себя для некоего бога в яслях, Шегогем, и оттого не служишь и не даешь служить, не молишься и не даешь молиться? И вот, в уплату благочестию, следует ли и мне собраться с силами и молиться об утрате самоуважения, дабы снарядиться для ужасной необходимости стать скандализингером (мои дорогие сестры, готовы ли вы?), сбросить надежды и дрожи и всем вместе плавать в водах Содомских? <…>
Вынюхиватель падали, преждевременный гробокопатель, выискиватель гнезда зла за пазухой доброго слова, ты, спящий, когда мы бодрствуем, и воздерживающийся от пищи, когда мы пируем, ты, со своим сместившимся разумом, ловко предсказал, шутницатель в своем отсутствии, слепо погрузившись в свои многочие ожоги, волдыри и нарывы, струпья и гнойники, под покровительством сей вороной тучи, своей тени и предсказаний грачьего совета, смерть и всякие невзгоды, динамитизацию коллег, обращение анналов в пепел, уничтожение всех обычаев пламенем, возвращение множества добродушных припороховленных деяний во прах, но в твою тупоумную голову так и не штукнуло (Ад, вот и наши похороны! Зараза, я не поспею на почту!), что чем больше ты разрубаешь морковок, чем больше рассекаешь репок, чем больше оплакиваешь луковиц, чем больше забиваешь бычатины, чем больше сухарекрошишь баранины, чем больше толчешь зелени, чем яростнее огонь и чем длиннее твоя ложка и чем больше ты трудишься, не покладая рук, тем веселее поднимается пар от твоей новой ирландской похлебки.
Тут есть юмор, связанный с положением Джойса в юности, но не он действует на нас в первую очередь. Есть отчаянная горечь по отношению к Ирландии, церкви, всему контексту творчества Джойса и его яростному вкладу в свою писательскую независимость. Я подозреваю, что, подобно тому как Беккет стал писать по-французски, чтобы преодолеть влияние Джойса на свои ранние вещи, сам Джойс в «Поминках по Финнегану» порвал с Шекспировым английским. Этот разрыв был диалектичен, отчасти вдохновлен шекспировскими игрой слов и каламбурами; пир языка в «Бесплодных усилиях любви» — уже чистый Джойс. В процитированном пассаже, кроме пародии на «Атаку легкой бригады» Теннисона[515] (шпилька в адрес Церкви), и отзвука слов Стивена из «Портрета…» («Не буду служить»)[516], есть и злейшая пародия на слова апостола Павла из Первого послания к Коринфянам («Смерть! где твое жало? Ад! где твоя победа?») во взятых в скобки словах о запоздалости, на которые указывает Левин: «(Ад, вот и наши похороны! Зараза, я не поспею на почту!)». Поспели «Поминки…» на почту или нет, пока неясно, но гибель серьезного изучения литературы как литературы, возможно, обрекает на смерть и величайшее достижение Джойса. Шекспир в «Поминках…» — главный пример писателя, который поспел на почту, более того — сам сделался почтовой службой. Нам сообщается, что Шем
…не знал другого шелкопера, другого Шагспира, как довершенно отличного от своей полярной анетебезы, так и завеем похожегох (пердон!) на то, что, как ему мнилось или думалось, было тем же, чем был он сам, и что, великие скот, дикийнс и тыкиряй, хотя его обставили лисом к лису, словно крольчицу-пихарицу, со всеми кафейными львицами Блудлона, сайвенгившимися против него, будучи маляпсусом с препылким нравом, дурным грубым отеческим модным печальным безумным медведем со староярмарки тщеславия, — оследствия случая упекли воттекрестословицу в постпозицию, — замарашка, замараха, наизамарах ивсетакое-прочее, если склад будет в лад и длиния его жизни продлится, он сотрет висякого неясытеля английского, мультафонически выражаясь, с яйца земли.
Тут есть подконтрольная агрессия в отношении Шекспира и глубокое желание поиграть в замену английского на наречие «Поминок…», язык преступника, как сказал бы Джойс[517], который отменяет английских писателей XIX века (скот, дикийнс и тыкиряй: Скотт, Диккенс и Теккерей) и является одновременно антитезой Шекспиру и Шекспиром в виконианском обращении вспять. Отголосок слов Суинберна о Вийоне («Вийон — имя нашего печального, дурного, радостного, безумного брата»)[518] уместен в достаточно неубедительном изображении Джойсом своей мягкой, польдианской сущности в виде литературного преступника, Рембо или Вийона. Обмолвки тут, как и везде в «Поминках…», делаются по-шекспировски навязчивыми, словно Джойса можно было принять за одержимого языком Шекспира «Бесплодных усилий любви». Как и во многих других местах «Поминок…», свежесть впечатления тут более чем искупает темноты, даже если Джойс и не всегда поднимается в рай по ступеням удивленья[519].
Если не можешь изгнать из себя Шекспира (а кто может?) и не можешь его усвоить (урок, который дает его «зеркальное» явление в Ночном Городе), то приходится превращать его в себя — или вставать на губительный путь преображения себя в него; Ходгарт, Глэшин и Атертон показали, с каким отрадным напряжением Джойс старался превратить Шекспира в создателя «Поминок…». Одержимый читатель Западного канона, я приветствую эти усилия как самую удачную трансформацию Шекспира в истории литературы. Единственный возможный соперник — Беккет, в «Эндшпиле» дерзко и ловко присвоивший «Гамлета». Но Беккет, ранний и внимательный читатель «Поминок…», был осторожным должником своего бывшего друга и наставника, который как минимум подал ему пример.
И все же то, в какой огромной мере задействован в «Поминках…» «Великий Шарсфер», свидетельствует о некоем веселом отчаянии; я не знаю, что сталось бы с этой книгой, если бы весь Шекспир из нее ушел. Ходгарт обнаруживает по существенной аллюзии почти на каждой второй странице. Всего их там три сотни, и многие столь существенны, что выходят за рамки того, что мы обыкновенно называем «аллюзиями». Ирвикер — Бог, отец и грешник — призрак из «Гамлета», но в то же время злонамеренный Клавдий и Полоний. К тому же Ирвикер вмещает в себя убиенного короля Дункана из «Макбета», Юлия Цезаря, Лира, ужасного Ричарда III и две возвышенности: Основу и Фальстафа. Шем, или Стивен Дедал, имеет наибольшее сходство с принцем Гамлетом, но он также Макбет, Кассий и Эдмунд: демонстрируя хитроумие интерпретации, Джойс и делает Гамлета одним из героических злодеев-убийц. Шон, брат Шема — это и брат самого Джойса, многострадальный, верный и участливый Станислав, и строптивая Шекспирова четверка: Лаэрт, Макдуф, Брут и Эдгар.
Эти шекспирианские отождествления не только укрепляют Джойсов сюжет (если это можно так назвать): они обеспечивают ролями Ирвикера и его семью, в том числе Анну Ливию (Гертруду) и Изабеллу, дочь Ирвикера, к которой он испытывает инцестуозное и постыдное влечение (Офелию). Полезное описание этой ролевой игры дает Ходгарт:
Персонаж возникает в том или ином качестве, воплощаясь в «тип», который говорит его голосом, словно медиум, которым во время спиритического сеанса завладел «руководитель». <…> Когда «тип» делается главным каналом повествования, аллюзии множатся. <…> Соответственно, не приходится удивляться тому, что цитаты из Шекспира идут не в одиночку, а толпами, распространяются по фрагментам разной длины и каждая их группа возвещает о присутствии соответствующего персонажа из определенной пьесы.
Самые большие толпы маршируют из «Гамлета», «Макбета» и «Юлия Цезаря» (по убывающей). «Гамлет» уже не должен нас удивлять, но трудный вопрос — почему «Макбет», не говоря уже о «Юлии Цезаре»? — требует ответа. Все эти пьесы — об убийстве короля, тогда как Лир мучительно и постепенно умирает, растягивается на дыбе на протяжении пяти действий, каждое апокалиптичнее предыдущего, отчего, возможно, Джойс и оставляет его напоследок, чтобы тот помог ему закончить «Поминки…». Убиваемый король — это, разумеется, Ирвикер, то есть Джойс/Шекспир, и, несмотря на Гамлетов комплекс Шема, мы так и не узнаем наверняка, кто же его убивает.
Предположу, что именно поэтому «Макбет» столь важен для «Поминок по Финнегану». Джойс, превосходный читатель Шекспира и сильный его исказитель, посредством аллюзий к «Макбету» указывает на то, что убийца — это джойсовское, шекспировское, ирвикеровское воображение: исключительная и предсказательная сила воображения Макбета сама по себе убийственна, и это сказывается на всей пьесе. Первая шекспировская аллюзия в «Поминках…» — к «Макбету», последняя — к «Королю Лиру». Ходгарт отмечает, что цитаты из «Макбета» появляются в «Поминках…» всякий раз, когда Ирвикер переживает сильное эмоциональное потрясение и его тяга к самоуничтожению делается особенно заметна, как когда герой впадает в смятение в конце первой части:
Хамф — в дремоте. Слова весят нет не больше для него, чем капли дождя для Ратфарнего. Которые нам всем нравятся. Дождь. Когда мы спим. Капли. Но подожди, пока мы уснем.
«…Дункан — в могиле; / Горячка жизни кончилась, он спит…»[520]
Ратфарнем — пригород Дублина. Бой между мстителем Макдуфом и убийцей Макбетом происходит, как и полагается, примерно через двадцать пять страниц; по несколько раз появляются три ведьмы, или вещих сестры, а также три убийцы Банко. Ходгарт показывает, что знаменитый монолог Макбета из пятой сцены пятого акта («Бесчисленные „завтра“, „завтра“, „завтра“…») звучит в романе (эхом) практически полностью, как и монолог Гамлета «Быть или не быть…», но и тот и другой распылен и растянут по всему тексту «Поминок…»; это рассеяние служит целям Джойса, и в то же время это — своего рода месть Шарсферу за его повсеместное присутствие! Но мщение это возвращается от Шекспира к Джойсу:
Уж время быть — теперь, теперь, теперь. Огонь пришел бессмысленно плясать. Глэморс смутил любимого, и вот Колдорс уже не может прыгнуть. Нечем Дышать уже не может прыгнуть[521].У Льюиса Кэрролла, Джонатана Свифта и Рихарда Вагнера в «Поминках…» также позаимствовано много (хотя и не столько, сколько у Шекспира), но никто из них не дает сдачи и не уходит от Джойса так, как Шекспир. Можно сказать, что в «Поминках…» Шекспир относится к Джойсу так же, как относятся к самому Шекспиру Гамлет, Яго и Фальстаф: творение освобождается от творца. Шекспир или никем не сотворен, или сотворен всеми; и Джойс, как бы блистательно он ни сражался, на мой взгляд, уступает в этом поединке. Но и уступив, он достигает Возвышенного, когда в конце «Поминок…» умирающая Анна Ливия возвращается в детство:
Я теряю сознание. О, горький финал! Я уйду прежде, чем они поднимутся. Они не увидят. И не узнают. И не будут скучать. И он стар и стар он печален и стар он печален и устал я возвращаюсь к тебе, мой холодный отец, мой холодный безумный отец, мой холодный безумный изстрашенный отец, и близкий вид одной его величины, мойль и мойль ее моностонных, уиливает меня и вызывает носольгию и я рвусь, мой единственный, к тебе на руки. Вижу — поднимаются! Спаси меня от этих треужасных зубцов! Еще два. Еще однодва водяновения. Итак. Здравствощай. Мои листья уплыли от меня. Все. Но один еще держится. Я возьму его на себя. Чтобы напоминал мне о. Лфф! Грибной дождик утром — нашим. Понеси меня, папочка, как тогда на ярмарке! Увидь я сейчас, как он летит ко мне на всех белоподнятых крыльях как из Ковчегангельска, мне утопается, я б умерла у его ног, смиреннай глупай, преклоомывая. Да, приливремя. Там, где. Впервые. Идем в затравье по тсс сторону кустов. Тшш! Чайка. Чайки. Зов далекотца. Иду, далекотец! Тут кончу. Мы тогда. Финнал, снова! Возьми. Целуютихотебя, помнименяменяеще-помни! Еще тысечебяшлешь. Гбы. Ключи от. Вручены! П рочь о дна на конец лю бима в доль.
Кельтский бог моря Мананнан Мак Лир, однажды возникающий в фантасмагории Ночного Города в «Улиссе», — это также король Лир, «мой холодный отец, мой холодный безумный отец, мой холодный безумный изстрашенный отец», к которому Анна-Ливия-Корделия возвращается, когда Лиффи впадает в море. Поскольку в «Поминках…» Лир означает еще троих отцов — Ирвикера, Джойса, Шекспира, — а также море, в этом красивом пассаже о смерти Джойс мог сознательно намекать, что его ждет и другое великое дело, задуманный им эпос о море. Ките написал свой великолепный сонет «К морю» после того, как, перечитывая «Короля Лира», дошел до «Чу! Слышите шум моря?». Нам остается сожалеть о том, что Джойс не дожил до шестидесятилетия, чтобы написать свое «К морю», где его бесконечная борьба с Шекспиром, безусловно, приняла бы очередной оборот, столь же канонический, что и предыдущие.
19. «Орландо» Вулф: феминизм как любовь к чтению
Сент-Бёв (на мой взгляд, самый интересный из французских критиков и литературоведов) учил нас задавать в связи с любым писателем, которым мы зачитываемся, важнейший вопрос: что бы автор о нас подумал? Вирджиния Вулф написала пять замечательных романов — «Миссис Дэллоуэй» (1925), «На маяк» (1927), «Орландо» (1928), «Волны» (1931) и «Между актов» (1941), — которые, весьма вероятно, станут каноническими. В наши дни ее знают и читают главным образом как основательницу «феминистского литературоведения», в основном благодаря полемическим «Своей комнате» (1929) и «Трем гинеям» (1938). Поскольку я все еще не могу компетентно рассуждать о феминистском литературоведении, я сосредоточусь всего на одной составляющей феминистских сочинений Вулф — ее необычайной любви к чтению и аргументам в его защиту.
Литературоведческие рассуждения Вулф кажутся мне очень неровными, особенно те, что относятся к ее современникам. Оценка «Улисса» как «катастрофы» или романов Лоуренса как не обладающих «решительной силой, придающей вещам цельность» — это не то, чего ждешь от такого эрудированного и восприимчивого критика, как Вулф. Тем не менее можно утверждать, что она была наиболее полноценным литератором в нашем веке. Ее эссе и романы развивают главные традиции английской литературы в новых направлениях — ее полемические вещи в этих направлениях вообще не могли пойти. Предисловие к «Орландо» начинается с признания долга перед Дефо, сэром Томасом Брауном, Стерном, сэром Вальтером Скоттом, лордом Маколеем, Эмили Бронте, Де Квинси и Уолтером Пейтером — «первыми, кто пришел в голову». Пейтер, подлинный ее предшественник, или, как называет его Перри Мейсел, «отсутствующий отец», мог бы возглавить этот перечень, поскольку «Орландо» — безусловно, самая пейтеровская по духу проза нашей эпохи. Подобно Оскару Уайльду и юному Джеймсу Джойсу, Вулф встречает и изображает тот или иной опыт совершенно по-пейтеровски. Но были и другие влияния; возможно, важнейшее — после Пейтера — оказал на нее Стерн. Один Пейтер, кажется, вызывал у Вулф некоторую тревогу; она очень редко его упоминает и приписывает прообраз своих «моментов бытия» не Пейтеру с его «избранными моментами», или мирскими откровениями, а, как ни странно, Томасу Харди и Джозефу Конраду — в его наиболее пейтерианской ипостаси. Перри Мейсел проследил, какими затейливыми путями важнейшие метафоры Пейтера входят в самые основы и прозы, и эссеистики Вулф. Есть добрая ирония в том, что многие из провозгласивших себя ее последователями склонны отвергать эстетические критерии суждения — притом что феминистские убеждения самой Вулф основывались на ее пейтерианском эстетизме.
Может быть, в нашем веке были и другие первостепенные писатели, любившие чтение так же, как Вулф, но никто после Хэзлитта и Эмерсона не выразил эту страсть так памятно и дельно, как она. Своя комната была ей нужна именно для чтения и письма. Я по-прежнему дорожу старым «пингвиновским» изданием «Своей комнаты», купленным за девять центов в 1947 году, и не перестаю раздумывать над отмеченным мною там пассажем, в котором Джейн Остен и Шекспир сводятся в некоего желанного составного предшественника:
«Гордость и предубеждение» — превосходная книга. Во всяком случае, ни одна не устыдилась бы, поймай ее за работой над рукописью. А вот Джейн Остен — та прислушивалась к скрипу дверной петли и скорее прятала листки, пока кто-нибудь не вошел. Она стеснялась. А интересно — как сказывалась на ее работе эта вынужденная игра в прятки? Читаю страницу, другую, но нет, не замечаю, чтобы ее работа хоть малейшим образом страдала от обстоятельств. И это, пожалуй, самое удивительное. 1880 год (sic!), и женщина пишет без всякой ненависти, без страха, без горечи, без осуждения, без протеста. Так Шекспир писал, подумала я, взглянув на «Антония и Клеопатру»; и, возможно, сравнивая Шекспира и Джейн Остен, люди хотят сказать, что сознание обоих поглотило все препятствия и мы поэтому так мало о них знаем: как и Шекспир, Джейн Остен свободно живет в каждом своем слове. Если она и страдала от обстоятельств, то лишь от узости навязанной ей жизни. Женщине нельзя было ходить одной. Она никогда не путешествовала, не ездила по Лондону в омнибусе, не завтракала одна в кафе. Но, может, не в природе Джейн Остен было требовать иного. Ее дар и ее образ жизни не противоречили друг другу. А вот для Шарлотты Бронте это едва ли справедливо…[522]
На кого Вулф была больше похожа в этом отношении: на Остен или на Шарлотту Бронте? Читая «Три гинеи», книгу, в которой так много пророческой ярости, направленной на патриархат, мы вряд ли решим, что сознание Вулф поглотило все препятствия — но, читая «Волны» или «Между актов», мы можем заключить, что ее дар и ее образ жизни не противоречили друг другу. Не существует ли двух Вулф: предшественницы наших менад-литературоведов — и романистки, заслужившей больше признания, чем любая другая женщина в ее ремесле? Мне кажется, что нет, хотя по «Своей комнате» проходят глубокие трещины. Как и Пейтера с Ницше, Вулф будет правильнее всего назвать апокалиптическим эстетом, для которого человеческое существование и мир оправданы лишь как эстетические явления. Как и всякий писатель, будь то Эмерсон, Ницше или Пейтер, Вирджиния Вулф не отнесла бы свое представление о личности на счет исторических условий, даже если история и представляла бы собою бесконечную эксплуатацию женщин мужчинами. Для нее ее личности — в той же мере ее создания, что и «Орландо» с «Миссис Дэллоуэй», и всякий внимательный читатель ее критики узнает, что она не воспринимала романы, стихотворения или пьесы Шекспира как буржуазные мистификации или «культурный капитал». Человек не более верующий, чем Пейтер или Фрейд, Вулф доходит до последних пределов эстетизма, до негативности нигилизма и самоубийства. Но ее больше занимает романтика путешествия, чем пункт назначения, и лучшее в жизни для нее — чтение, письмо и беседы с друзьями, занятия не для фанатика.
Будут ли у нас еще такие самобытные и великолепные прозаики, как Остен, Джордж Элиот и Вулф, будет ли у нас еще такой выдающийся и умный поэт, как Дикинсон? Спустя полвека после смерти Вулф у нее нет соперниц среди писателей и критиков, хотя женщины и пользуются свободой, которую она пророчила. Как пишет Вулф, если у Шекспира и была сестра, то это была Остен, писавшая двумя веками позже[523]. Не существует таких социальных условий или обстоятельств, которые бы непременно споспешествовали возникновению великой литературы, хотя нам еще долго предстоит познавать эту неудобную истину. Сейчас на нас не бежит стремительный поток шедевров, и ближайшие несколько лет это подтвердят. Ни одна из ныне живущих американских писательниц, вне зависимости от расовой принадлежности и политических убеждений, не достигла эстетических высот Эдит Уортон или Уиллы Кэсер; нет у нас и современного поэта, сопоставимого с Марианной Мур или Элизабет Бишоп. Искусство попросту не прогрессивно, как отметил Хэзлитт в чудесном фрагменте 1814 года[524], в котором он говорит: «Принцип всеобщего избирательного права… никоим образом не применим к делам вкуса»; Вулф — сестра Хэзлитта по мироощущению, и ее колоссальная литературная культура имеет мало общего с кампанией под знаменем, на котором начертано ее имя.
Сегодня трудно писать о Вулф, не греша против взвешенности и выдержанности. Кажется, что «Улисс» Джойса и «Влюбленные женщины» Лоуренса далеко превосходят «На маяк» и «Между актов», но многие приверженцы Вулф попытались бы опровергнуть это суждение. Вулф — писательница лирическая: «Волны» — скорее поэма в прозе, чем роман, а лучшее в «Орландо» — те места, в которых Вулф отступает от повествования как такового. Не марксистка и не феминистка (по заслуживающему доверия свидетельству ее племянника и биографа Квентина Белла) Вулф, как и ее предшественник Уолтер Пейтер, держалась материализма эпикурейского толка. Для нее реальность мерцает и колеблется от каждого нового представления и ощущения, а идеи суть тени на границах ее избранных моментов.
Ее феминизм (если это можно так назвать) оказался действенным и устойчивым именно потому, что он — не столько идея или совокупность идей, сколько внушительный спектр представлений и ощущений. Попытка оспорить их обречена на неудачу: то, что ей представляется, и те ощущения, что она испытывает, выстроены лучше любого отклика на них, который только может прийти мне в голову. Ошеломленный ее красноречием и ее владением метафорой, я не могу, пока читаю, спорить с написанным в «Трех гинеях» — даже с тем, что заставляет меня поморщиться. Возможно, в нашем веке один Фрейд может соперничать с Вулф в качестве тенденциозного прозаика-стилиста. Замысел «Своей комнаты», как и замысел «Неудобств культуры», предполагает определенное воздействие на читателя, но никакое осознание этого замысла не убережет читателя от того, чтобы верить написанному, пребывая под воздействием полемического блеска Фрейда и Вулф. Их великолепная убедительность основывается на двух очень разных подходах: Фрейд предвосхищает ваши возражения и по крайней мере создает такое впечатление, что отвечает на них, тогда как Вулф уверенно дает понять, что, не принимая ее настойчивости, вы проявляете нечуткость.
Всякий раз, когда я перечитываю «Свою комнату» или даже «Три гинеи», меня поражает, что кому-то эти трактаты могут казаться примерами «политической теории», жанра, вызванного к жизни литераторами-феминистами, для которых полемические вещи Вулф и впрямь обрели статус Священного Писания. Возможно, Вулф была бы этим довольна, но вряд ли. Классифицировать эти книги таким образом можно, лишь убедительно переопределив понятие политики, сведя ее к «академической политике» — а ведь Вулф не относилась к академической среде и не пожелала бы относиться к ней сейчас. От радикального политического теоретика в Вулф не больше, чем в Кафке — от богослова-еретика. Они — писатели; других обязательств у них нет. Удовольствие, которое они приносят, — это трудное удовольствие, несводимое к категорическим суждениям. Меня волнует, даже приводит в трепет афористическое кружение Кафки вокруг «неразрушимого», но все же именно сопротивление «неразрушимого» истолкованию делается тем, что нуждается в истолковании. В «Своей комнате» истолкования в первую очередь требует то, что Джон Бёрт в 1982 году назвал «несовместимыми манерами мышления».
Бёрт показал, что в этой книге одновременно представлен первичный «феминистский» довод — патриархат экономически и социально эксплуатирует женщин, чтобы повысить свою неадекватную самооценку, — и вторичный романтический. Согласно вторичному, женщины суть не увеличительные стекла в руках самовлюбленных мужчин, но (как пишет Вулф) «некий стимул, обновление творческой силы, одаривать которыми дано лишь другому полу». Дар был утрачен, добавляет Вулф, но не разорительное нашествие патриархата тому причиной. Во всем виновата I Мировая война. Положим, но как тогда быть с первым, явным доводом? Чем была Викторианская эпоха — старыми недобрыми временами или старыми добрыми? Резюме Бёрта кажется мне весьма точным:
Два довода в «Своей комнате» несовместимы друг с другом, и всякая попытка совместить их будет лишь упражнением в односторонней аргументации. Но сама по себе «Своя комната» — не довод, а, как объявляет на первых ее страницах Вулф, изображение того, как рассудок пытается примириться с миром.
Вулф смогла примириться с ним лишь так, как это сделали Пейтер и Ницше: переосмыслив его эстетически. Если «Своя комната» — вещь, для Вулф типичная (а это так), то это почти такая же поэма в прозе, как «Волны», и такая же утопическая фантазия, как «Орландо». Читать ее как «культурную критику» или «политическую теорию» могут только те, кто полностью отбросил эстетические соображения или решил, что будет читать для удовольствия (трудного удовольствия) в другое время и в другом месте, когда прекратятся войны между мужчинами и женщинами, а также между соперничающими классами, расами и религиями. Сама Вулф такого отречения не совершала: как писатель и критик, она пестовала свою чувствительность, которая, среди прочего, расположила ее к комическому. Даже ее трактаты сознательно сделаны очень смешными, вследствие чего содержащаяся в них аргументация оказывается еще более действенной. Подходить к Вулф с чрезмерной серьезностью, рассматривать ее как политического теоретика или культурного критика — совсем не в духе самой Вулф.
Воистину, удивительные настали для литературоведения времена. Д. Г. Лоуренс, по сути, выступал довольно странным политическим теоретиком в эссе «Корона», в мексиканском романе «Пернатый змей» и австралийском романе «Кенгуру», очередном фашистском сочинении. Никому не захочется обменять создателя «Радуги» и «Влюбленных женщин» на политического Лоуренса или несколько более интересного Лоуренса — культурного моралиста. Тем не менее о Вулф сейчас чаще говорят как об авторе «Своей комнаты», а не как о романисте, написавшем «Миссис Дэллоуэй» и «На маяк». Нынешняя слава «Орландо» практически полностью связана с половой метаморфозой ее героя-героини и весьма немногим обязана главному в этой книге: комическому началу, психологизму и пылкой любви к важнейшим эпохам в истории английской литературы. Я не знаю другого сильного писателя, который ставил бы во главу угла свою незаурядную любовь к чтению, как это делает Вулф.
Ее верой (слабее слово тут не годится) был эстетизм в духе Пейтера: поклонение искусству. Запоздалый последователь этой слабеющей религии, я не могу не быть преданным поклонником прозы и литературоведения Вулф, поэтому хочу выступить против ее последователей-феминистов, так как считаю, что они ошиблись пророком. Разумеется, она способствовала бы тому, чтобы они боролись за свои права, — но только не обесценивая эстетику несвященным союзом с учеными-псевдомарксистами, французскими потешными философами и мультикультурными противниками всяких интеллектуальных стандартов. Под своей комнатой она подразумевала не свою кафедру в университете, а некую обстановку, в которой они могли бы подражать ей, сочиняя прозу, достойную Стерна и Остен, и литературоведческие работы, соизмеримые с тем, что писали Хэзлитт и Пейтер. Вулф, любительница прозы сэра Томаса Брауна, исстрадалась бы, сталкиваясь с манифестами тех, кто освящает ее именем свои сочинения и университетские курсы. Ее, последнюю представительницу высокого эстетизма, пожрали безжалостные пуритане, для которых красота в литературе — всего лишь разновидность косметической индустрии.
О Шелли, чей дух не оставляет сочинений Вулф (главным образом «Волн»), она пишет: «Кажется, что он сражается (пусть и доблестно) с чудовищами слегка устаревшими и, следовательно, несколько смехотворными»[525]. Похоже, то же самое можно сказать и о сражении, которое ведет сама Вулф: где те патриархи эдвардианской и георгианской эпох, с которыми она воюет? В преддверии нового тысячелетия патриархальные чудовища оставили нас, хотя исследователи-феминисты и призывают их, не покладая рук. И все же величие Шелли, как справедливо заметила Вулф, восторжествовало как «состояние бытия». Лирический прозаик, подобно поэту-лирику, существует, заново воображая некие незаурядные моменты бытия: «сферу чистого покоя, глубокого и безмятежного умиротворения».
Поиск Вулф способа достичь этой сферы был скорее пейтерианским, чем шеллианским — оттого хотя бы, что чувственная его составляющая была так ограничена. Шелли никогда не оставлял образ гетеросексуального союза, хотя он и обрел демонические черты в его поэме о смерти, иронически озаглавленной «Триумф жизни». Вулф — пейтерианка, или запоздалый романтик, и ее чувственное влечение во многом приняло форму сублимирующего эстетизма. Ее феминизм снова оказывается неотделимым от ее эстетизма: возможно, нам следует научиться говорить о ее «созерцательном феминизме», установке, по сути, метафорической. Свобода, которой она ищет, имеет как визионерский, так и прагматический характер и основывается на образе идеализированного Блумсбери, едва ли переводимого на язык современной Америки.
Текст на четвертой стороне обложки американского «пингвиновского» издания, в котором я впервые читал «Орландо» осенью 1946 года, начинается со слов: «Ни один писатель не рождался в более благоприятной среде». Вулф, как и ее последователи-феминисты, не согласилась бы с этим суждением, но оно тем не менее в значительной мере справедливо. Ее развития отнюдь не задержало то обстоятельство, что в доме ее отца толпились Джон Рескин, Томас Харди, Джордж Мередит и Роберт Льюис Стивенсон, а в родне были Дарвины и Стрейчи — и, хотя ее полемические аргументы призваны убедить нас в обратном, в Кембридже или Оксфорде тонко устроенная Вирджиния Стивен[526] переживала бы еще более частые и резкие нервные срывы, а также не получила бы там того литературного образования, которое дали ей библиотека отца и такие хорошие наставники, как сестра Уолтера Пейтера.
Ее отец Лесли Стивен не был тем патриархальным людоедом, которого изобразило ее чувство обиды, — хотя, если почитать многих наших ученых-феминистов, так не скажешь. Мне известно, что тут они следуют за самой Вулф, для которой отец был себялюбивый и одинокий эгоист, не способный смириться с тем, что из него не вышло философа. Ее Лесли Стивен — это мистер Рэмзи из «На маяк», последний викторианец, который своим детям скорее дед, чем отец. Но главное отличие Лесли Стивена от своей дочери определяется тем, что она была эстет, а он — эмпирик и морализатор, яростно отрицавший эстетическое мировоззрение и отчаянно ненавидевший великого его поборника, Пейтера.
Реакция Вулф на своего отца соединила ее эстетизм и феминизм (опять же, если это можно так назвать) так, что их уже не разнимешь. Возможно, размышлять сегодня о том, как последователи Вулф обратили ее сугубо литературную культуру в политическую Kulturkampf[527], лучше всего в ироническом ключе. Это преобразование недейственно, потому что самое подлинное свое пророчество Вулф сделала неумышленно. Ни один другой литератор XX века не показал нам с такой ясностью, что в отсутствие всякой нескомпрометированной идеологии наша культура обречена оставаться литературной. Религия, наука, философия, политика, общественные движения: живые ли это птицы у нас в руках или мертвые чучела на полке? Когда наши концептуальные режимы оставляют нас, мы возвращаемся к литературе, в которой когнитивную деятельность, восприятие и ощущение нельзя полностью отделить друг от друга. Бегство от эстетики есть очередной симптом бессознательного, но мотивированного забывания нашим обществом своей проблемы: оно скатывается в новую Теократическую эпоху. В разное время Вулф могла подавлять в себе всякое, но своего эстетического мироощущения она не подавляла никогда.
Книги непременно пишутся только о других книгах, и тот или иной опыт изображается в них, лишь будучи сначала воспринят, как книга; это правда — не вся, но истинная. В отношении некоторых книг это всецело так: одна такая книга — это «Дон Кихот», а другая — «Орландо». Дон Кихот и Орландо — великие читатели, и лишь в этом качестве являются заместителями одержимых читателей, Сервантеса и Вулф. В жизни прототипом Орландо была Вита Сэквилл-Уэст, с которой у Вулф был непродолжительный роман. Но Сэквилл-Уэст была великим садоводом, плохим писателем и, в отличие от Вулф, не вполне гениальным читателем. В ипостаси аристократа, любовника, даже писателя, Орландо — Вита, а не Вирджиния. Необыкновенным обыкновенным читателем, сочинителем/сочинительницей своей книги Орландо делает критическое сознание, объемлющее английскую литературу от Шекспира до Томаса Харди.
Авторы всех романов, написанных после «Дон Кихота», переписывали универсальный шедевр Сервантеса, даже совершенно не отдавая себе в том отчета. Я не помню, чтобы Вулф где-нибудь упоминала Сервантеса, но едва ли это имеет значение: Орландо, как и Вулф, присущ кихотизм. Сравнивать «Дон Кихота» с «Орландо» было бы несправедливо; роман, куда более смелый по замыслу и написанный так же хорошо, как игровое любовное письмо Вулф к Сэквилл-Уэст, этого сравнения тоже не выдержал бы. Дон Кихот бесконечно предается размышлениям, как и Фальстаф; Орландо ничего подобного не делает. Но сопоставить Вулф с Сервантесом стоит — так мы увидим, что обе книги принадлежат хёйзинговскому состоянию игры, о котором я подробно говорил выше, в связи с «Дон Кихотом». Ирония в «Орландо» — кихотическая: она происходит из критики, которой организованное игровое начало подвергает как социальную, так и природную действительность. «Организованное игровое начало» в случае Вулф и Сервантеса, в случае Орландо и Дон Кихота — синоним искусства читать как следует, или «феминизма» по Вулф, если угодно так это называть. Орландо — мужчина, вернее юноша, вдруг становящийся женщиной. Он также аристократ елизаветинской эпохи, в сущности, наделенный бессмертием — как и перемена пола, это воспринимается как нечто само собою разумеющееся. Когда мы узнаем Орландо, ему шестнадцать, а когда оставляем, ей тридцать шесть, но эти двадцать лет литературной биографии охватывают более чем три столетия истории литературы. Состояние игры, когда оно преобладает, торжествует над временем, а у Вулф в «Орландо» оно торжествует без труда. В этом, возможно, причина того, что единственный недостаток книги — ее слишком счастливая развязка.
Любовь в «Орландо» — это всегда любовь к чтению, даже когда она выдается за любовь к женщине или к мужчине. Изображаемый в своей основной роли, в роли читателя, мальчик Орландо — это девочка Вирджиния:
В нем рано пробудился вкус к чтению. Еще в детстве паж, бывало, заставал его за полночь с книжкой. У него отобрали свечу — он стал разводить светляков. Удалили светляков — он чуть не спалил весь дом головешкой. Короче, не тратя слов понапрасну — это уж пусть романист разглаживает мятые шелка, доискиваясь тайного смысла в их складках, — он был благородный вельможа, страдающий любовью к литературе[528].
Орландо, как и Вулф (и отнюдь не как Вита Сэквилл-Уэст), — из тех, кто подменяет эротическую реальность фантомом. Две его/ее сильные влюбленности — в неправдоподобную русскую княжну Сашу и в еще более нелепого капитана Мармадьюка Бонтропа Шелмердина — стоит рассматривать как солипсистские проекции: на самом деле в «Орландо» всего лишь один персонаж. Для Вирджинии Вулф любовь к чтению была и подлинным эротическим влечением, и светской религией. Ничто в «Орландо», как бы хороша ни была эта книга, не сравнится с заключительным пассажем эссе «Как читать книги?», последнего во второй серии «Обыкновенного читателя»:
Впрочем, кто ж читает книги с какой-то целью, пусть самой что ни на есть похвальной? Ведь не все же в человеческих устремлениях определяется целью — есть занятия, которые интересны сами по себе, удовольствия ради, и разве чтение — не одно из таких бесцельных и приятных времяпрепровождений?.. Мне часто снится сон: и вот грянул Судный день, и выстроились в очередь за наградами великие мира сего — завоеватели, законники, государственные мужи, все жаждут получить из рук Всевышнего причитающиеся им венцы, лавровые венки, мраморные таблички с их именами на вечную память, для потомков. И тут Господь замечает нас, скромно стоящих в сторонке — у каждого под мышкой книга: поворачивается он к святому Петру и говорит с легкой завистью: «Смотри, это не требует наград, и мы для них ничего не припасли. Наградой им — любовь к чтению»[529].
Первые две фразы — мое кредо с тех самых пор, как я прочел их в детстве, и нынче я уповаю на них и призываю к этому всех, кого они еще могут сплотить. Они допускают чтение ради обретения власти над собою или над другими, но лишь через удовольствие — окончательное, трудное и подлинное.
Невинность Вулф, как и Блейка, — это организованная невинность[530], и в ее представлении чтение основывается не на невинном мифе о чтении, но на той беспристрастности, которой Шекспир учит своих внимательных читателей, к которым Вулф принадлежит. По притче Вулф, на небесах не уготовано награды, которая сравнивалась бы с блаженством обыкновенного читателя, обладателя того, что доктор Джонсон назвал читательским здравым смыслом. В конце концов, нет другого такого критерия каноничности, как шекспировское величайшее удовольствие беспристрастности — состояние Гамлета в пятом действии и самого Шекспира на самых вершинах своих сонетов.
У Вулф есть вещи получше «Орландо», но нет ничего важнее, чем этот эротический гимн удовольствию от беспристрастного чтения. Сюжет двойственной сексуальности — естественная составляющая этого удовольствия, как в случае Вулф, так и в случаях Шекспира и критического отца Вулф, Уолтера Пейтера. Тревоги на сексуальной почве препятствуют самым сильным удовольствиям от чтения, а Вулф, даже во время романа с Сэквилл-Уэст, хорошо знала, что такое тревоги на сексуальной почве. Чувствуется, что в Вулф, как и в Уолте Уитмене, гомоэротическое начало — притом что оно в них преобладало — во многом сдерживалось их пылким солипсизмом. Вулф могла бы повторить за Уитменом: «Прикоснуться своим телом к другому — самый предел того, что я могу вынести». Мы не верим в восторги Орландо ни с Сашей, ни с капитаном, но нам кажется убедительной та страсть, которую вызывают в нем/ней Шекспир, Александр Поуп и возможность нового произведения. Может быть, «Орландо» — действительно самое длинное в истории любовное письмо, но написала его Вулф самой себе. В этой книге имплицитно воспевается сверхъестественная сила Вулф как читателя и как писателя. Здоровое и оправданное самоуважение Вулф подобающим образом выразилось в самом избыточном ее романе.
Сноб ли Орландо? На современном жаргоне это было бы «культурный элитист», но у Вулф есть откровенное эссе «Сноб ли я?», которое она читала Мемуарному клубу, собранию внутри Блумсберийского кружка, в 1920 году. В этом эссе соответствующее обвинение снимается насмешкой автора в свой собственный адрес; в нем также есть точно характеризующая Стивенсов фраза: «Развитая семья весьма благородного в книжном смысле происхождения». Семью Орландо развитой никак не назовешь — при этом Орландо трудно дать определение, которое говорило бы о нем больше, чем «весьма благородного в книжном смысле происхождения». В книжном смысле — вся эта книга; не следует искать в «Орландо» некий тайный сюжет; в этой истории-розыгрыше не кроется взаимоотношений матери с дочерью. Став женщиной, Орландо не начинает любить чтение как-то иначе. Именно эстетизм Орландо-женщины и приобретает замечательно наступательный и постхристианский характер:
Служение поэта — самое высокое служение, продолжала она рассуждать. Слова его поражают цель, когда другие летят мимо. Глупая песенка Шекспира больше помогает отверженным и нищим, чем все на свете проповедники и филантропы[531].
Какой бы спорной, возможно, ни казалась последняя фраза, она отражает позицию Вулф, в которой были и страсть, и юмор. Приноровим-ка ее к нынешним обстоятельствам: глупая песенка Шекспира больше помогает отверженным и нищим, чем все на свете марксисты и феминисты.
«Орландо» — не выпад, а гимн, культурным упадком превращенный в погребальный плач. Это — выступление в защиту поэзии, «полушутливое, полусерьезное», как писала в дневнике Вулф. Затянувшаяся шутка — особый жанр, которым никто не владел лучше Сервантеса (даже Стерн, подлинно присутствующий в романах Вулф). Дон Кихот — куда больше, чем Орландо, но даже Дон Кихот не смог убежать от Сервантеса так, как, возможно, ушел от Шекспира Фальстаф и как, если не брать в расчет слабого финала книги, вырвался от Вулф Орландо. Не Вита и не Вирджиния, Орландо делается воплощением эстетического мировоззрения, любви читателя к литературе. Вскоре эта страсть, возможно, будет казаться эксцентричной или устарелой, и «Орландо» уцелеет как памятник ей, на что Вулф и рассчитывала: «Да, трудная это штука — сообразоваться со временем; ощущение времени нарушается тотчас от соприкосновения с любым искусством; и не иначе как из-за своей страсти к поэзии забыла Орландо про свой список…»
Сообразование со временем, как и у Стерна, противопоставляется работе воображения, и нам не следует, дойдя до конца книги, спрашивать: может ли Орландо умереть? В этой книге-насмешке, в этом отдыхе от реальности все — шаманство, а сознание главного героя служит образцом поэзии, не знающей смерти. Но что это такое? В романе поэзия проницательно определяется как голос, отвечающий голосу[532], но Вулф предпочитает не сосредотачивать внимания на том обстоятельстве, что второй голос — это голос мертвых. Решившись раз в жизни дать себе волю как писателю, Вулф убрала из повествования всякий намек на тревогу. Тем не менее она знает, что поэзии без тревоги не бывает; знаем это и мы. Шекспир присутствует во всей книге, и мы задаемся вопросом, как он может быть в ней, не внедряя в роман ничего проблемного, ничего, чему следовало бы сопротивляться, как власти — ведь в этой книге всякая власть, кроме литературной ее разновидности, ставится под сомнение или высмеивается? Со своей тревогой, вызванной поэтическим авторитетом Шекспира, Вулф тонко работает в «Между актов», но в «Орландо» она этой темы избегает. Избегание это, однако, относится к тому, что я назвал шаманизмом этого романа; как и едва ли не все в этом евангелии веры в поэзию, оно служит превознесению ощущения и восприятия надо всем прочим.
Уникальное своеобразие Вулф, устойчивая странность ее лучшей прозы — очередной пример этого, как ни удивительно, самого канонического, литературного качества. Орландо отличается от Вулф тем, что, кажется, преодолевает стремление к литературной славе, но отдых есть отдых, а сама Вулф была непреклонна в своем стремлении присоединиться к Стерну и Хэзлитту, к Остен и к своему тайному эталону, Пейтеру. Эстетизм — это самая ее суть, ярче всего выраженная в «Своей комнате» шекспировским по духу намеком на то, что искусство есть природа: «…Может быть, в приливе безудержной фантазии (природа) лишь обозначила на стенах нашего ума симпатическими чернилами некое предчувствие, подтверждаемое великими художниками, некий набросок, который нужно поднести к пламени гения, чтобы он проявился»[533].
Для Вулф с Пейтером личность — это высший сплав искусства с природой; в куда большей мере, чем общество, она определяет собою все самое главное в жизни и творчестве писателя. В финале романа «На маяк» художница Лили Бриско, заместительница Вулф, смотрит на свой холст, он расплывается у нее в глазах — «И вдруг, вся собравшись, будто сейчас вот, на секунду, впервые — увидела, — она провела по самому центру уверенную черту. Кончено; дело сделано. Да, подумала она, кладя кисть в совершенном изнеможенье, — так мне все это явилось»[534].
Быть может, еще придет время, когда все мы поймем, что наши политические установки устарели и заместились другими, и когда в мировоззрении Вулф увидят то, чем оно, вне всякого сомнения, и являлось: восторг перед избранным моментом. Как было бы странно, начни мы сейчас говорить о «политических взглядах Уолтера Пейтера». Тогда же будет странно говорить о политических взглядах, а не о литературной борьбе, Вирджинии Вулф.
20. Кафка: каноническое спокойствие и «неразрушимость»
Если вы захотите выбрать самого репрезентативного писателя нашего века, то вам, вероятно, придется безнадежно блуждать среди легионов обездоленных. Не исключено, что наступит XXII век и читатели (если еще останутся читатели в нашем понимании этого слова) назовут нашего Данте (Кафку?) и нашего Монтеня (Фрейда?). Для этой книги я отобрал девять современных писателей: Фрейда, Пруста, Джойса, Кафку, Вулф, Неруду, Беккета, Борхеса и Пессоа. Я не утверждаю, что они — лучшие в нашем веке; они призваны представлять всех остальных, за кем можно было бы на разумных основаниях признать канонический статус.
За исключением Неруды и Пессоа, тут нет поэтов этой эпохи: Йейтса, Рильке, Валери, Тракля, Стивенса, Элиота, Монтале, Мандельштама, Лорки, Вальехо, Харта Крейна и великого множества других. Лично я предпочитаю стихи романам и пьесам, но кажется очевидным, что даже Йейтс, Рильке и Стивенс не так полно выражают этот век, как Пруст, Джойс и Кафка. У. X. Оден считал, что Кафка особенно полно воплотил в себе дух нашего века[535]. Вне всякого сомнения, слово «кафкианский» для многих из нас стало означать нечто жуткое; возможно, оно стало обозначать все, что называл «жутким» Фрейд — то, что нам совершенно знакомо и в то же время от нас отчуждено[536]. С точки зрения сугубо литературной этот век — век Кафки, даже в большей степени, чем Фрейда. Фрейд, ловко следуя за Шекспиром, дал нам карту сознания; Кафка намекнул, что она не принесет нам спасения, даже от самих себя.
Чтобы продемонстрировать, сколь важное место Кафка занимает в каноне этого века, нужно свободно перемещаться по его творчеству, поскольку его сущность не вместилась в какой-то один жанр из тех, за которые он брался. Он — великий афорист, но не чистый рассказчик, если не считать фрагментов и очень коротких рассказов, которые мы называем притчами. Его романы — «Америка», «Процесс», даже «Замок» — лучше частями, чем целиком, а повести, даже «Превращение», обычно сильнее в начале, чем в конце. Не считая афоризмов и притч, самые сильные плоды воображения Кафки — это новеллы и фрагменты, замечательно цельные фрагменты вроде «Верхом на ведре», «Сельского врача», «Охотника Гракха», «Как строилась китайская стена». Его письма, даже письма к Милене Есенской, уступают его дневникам, потому что более злополучных влюбленных, чем Кафка, практически не бывало — даже в прозе его последователя Филипа Рота. Фрейд, которого Кафка однажды пренебрежительно назвал «Раши нынешних еврейских тревог»[537], получил бы редкую возможность отыграться, если бы прочел и проанализировал любовные письма Кафки, которые вполне можно назвать самыми тревожными на свете. Чтобы познать глубинную сущность канонического литературного гения нашего века, нужно постигать его там, где он надеется быть объективнее и бесстрастнее всего, какой бы тщетной ни была эта надежда.
Познание глубочайшей сущности, а не разобщенной психики было крайне индивидуальной формой негативности Кафки, вполне подходившей писателю, среди девизов которого были «Больше никакой психологии!» и «Психология есть нетерпение». Нетерпение, утверждал Кафка, — это самый главный грех, объемлющий все прочие. Тем не менее я никак не могу читать Кафку, не вспоминая своей любимой апофегмы: «Спи быстрей! Нам нужны подушки», квинтэссенции еврейского нетерпения[538]. Яхве — нетерпеливый Бог, во всяком случае у J, и, может быть, самозваный новый каббалист Кафка видел свою тайную теургическую задачу в том, чтобы сделать иудейского Бога более терпеливой личностью. В «Разговорах с Кафкой» Густава Яноуха — книге, не заслуживающей доверия, хотя и убедительно передающей ту интонацию, которую мы слышим в прозе Кафки, — показано то, что некоторые называют еврейским гностицизмом Кафки; он также приметен у Гершома Шолема и Вальтера Беньямина, на которых Кафка оказал сильное влияние. Этот гностицизм, как и всякий другой, нетерпелив, но при этом в своем творчестве и в разговорах Кафка неизменно рекомендовал в первую очередь терпение.
Читатели Кафки ждут от него парадоксов, но «терпеливый гностицизм» — это больше, чем парадокс. Гнозис по определению есть вневременное знание — как личности внутри личности, так и потустороннего Бога, чья искра в этой глубинной сущности пребывает. На практике терпение может вести к гнозису, как, очевидно, и было в случае Кафки, но оно имеет мало общего с резкой негативностью всякого гностицизма. И к этой дилемме есть ключ; терпение, ставшее для Кафки способом познания, не привело ни к его дуалистическим негациям, ни к новой Каббале. Мы обыкновенно соотносим или объединяем гнозис с гностицизмом, но Кафка их разделял. Гнозис он называл «терпением», а гностицизм — «негативным»; первое — бесконечно медленно, второе — необычайно стремительно, поскольку оно учитывает дуализм, существование которого Кафка обнаружил в самых основах всего и вся. «Терпение» Кафки обнаруживает нечто совершенно иное:
Тебе не надо выходить из дому. Оставайся за своим столом и слушай. Даже не слушай, только жди. Даже не жди, просто молчи и будь в одиночестве. Вселенная сама начнет напрашиваться на разоблачение, она не может иначе, она будет упоенно корчиться перед тобой[539].
«Никого нельзя обманывать, в том числе и мир, насчет его победы» — но сам Кафка победы не ищет. При этом он не знает и поражения, «ибо еще ничего не произошло»[540]. Убежденность в том, что еще ничего не произошло, предельно отдаляет нас от еврейской традиции. Еврейская память подобна вытеснению по Фрейду: все уже произошло, и ничего нового быть не может. Невзирая на свой ужас перед своим семейным романом, Кафка решил писать так, словно «еще ничего не произошло». Для евреев отправным происшествием был Авраамов завет, а у Кафки Авраам особого доверия не вызывал. Возможно, Авраам, сделанный Кьеркегором героем «Страха и трепета», и побудил Кафку к его негативистским размышлениям. Они, безусловно, противоречат как иудейской, так и христианской традициям:
Но вот другой Авраам. Этот хотел бы принести жертву по всем правилам и вообще все ощущает как надо, но он не может поверить, что имеют в виду именно его, неприятного на вид старика и его сына, оборванного парня. Ему недостает не истинной веры, вера-то как раз у него есть, он бы принес жертву по всем правилам, если бы только поверил, что призывают его. Он боится, как бы, выйдя из дому в качестве Авраама с сыном, не превратиться по пути в Дон Кихота[541].
В каком-то темном смысле этот Авраам — кихотический предшественник Кафки. В том, что касается литературного влияния, Авраамом, от которого отвернулся Кафка, был Гёте; в духовной сфере Авраам воплощал Закон, или позитивный иудаизм. Кафка, оставивший Закон ради своего собственного негативного, отступился также от того Авраама, который неверно понял мир:
Вот заблуждение, в котором пребывает Авраам: он не может вынести однообразия этого мира. Известно, однако, что мир необычайно разнообразен, в чем можно убедиться, зачерпнув пригоршню этого мира и присмотревшись к нему поближе. Это, естественно, знает и Авраам. Таким образом жалоба на однообразие мира есть, собственно, жалоба на то, что недостаточно полно смешался с многообразием этого мира[542].
Кафка был слишком умным иронистом, чтобы считать, что его творчество или его существование достаточно полно смешались с мировым многообразием. Его лукавое восстание против Авраама — это протест против самого себя и своих уклонений, в том числе уклонения от иудаизма и от основной традиции литературы на немецком языке, начиная с Гёте. Кафка называл уклонение словом «терпение» — подготовительный троп, метафора его занятий литературным творчеством. Творчество это, в большей мере, чем сочинения любого другого автора сопоставимой силы, существует в диалектически напряженных отношениях с возможностью толкования. Джойс — другая крайность: он приветствует толкование и небезуспешно пытается направлять его. Беккет — у которого достало отваги и гениальности на то, чтобы соединить в себе Джойса, Пруста и Кафку, — в отношении к толкованию ближе скорее к Кафке, чем к Джойсу с Прустом; но тень Кафки преследовала автора «Мерфи», «Моллоя» и «Уотта» не так неотступно, как тени Джойса и Пруста.
Исследователь терпит от Кафки поражение, как только попадает в капкан, который тот поставил на пути лобового истолкования, — капкан своего специфического уклонения от интерпретируемости. Его ирония такова, что всякий образ у него одновременно и является, и не является тем, чем может показаться. Так, когда мы читаем поздний рассказ «Исследования одной собаки», достигающий выдающейся кульминации, когда красивая охотничья собака появляется перед повествователем — несчастным старым псом, который валяется на земле, в собственной крови и рвоте, — мы не понимаем, ни кем эта охотничья собака является, ни что она символизирует. По меньшей мере один видный исследователь творчества Кафки дерзнул написать, что красивая собака — это Бог, но, как и все прочие исследователи, усматривавшие у Кафки изображение божественного, он оказался жертвой кафкианской иронии. Можно смело сказать, что в рассказах и романах Кафки нет указаний на божественное присутствие, не говоря уже об изображении его. В них предостаточно демонов, притворяющихся ангелами или богами, в них есть загадочные животные (а также животноподобные создания), но Бога там никогда нет — он или где-то в далекой бездне, или спит, или, возможно, мертв. Кафка, фантаст почти уникально гениальный, — сочинитель фантазий и ни в коей мере не религиозный писатель. Он даже не еврейский гностик и не каббалист из тех, что воображали Шалем и Беньямин, потому что у него нет никаких надежд — ни на свой счет, ни на наш.
У Кафки все, что кажется трансцендентным, на самом деле — насмешка, но весьма диковинная; это насмешка, которая происходит из великой приятности его нрава. Хотя Кафка и боготворил Флобера, его мироощущение было куда мягче, чем у создателя Эммы Бовари. При этом его проза, и короткая, и длинная, почти неизменно жестока в описании событий, в тональности и ситуациях. Ужасное — произойдет. Суть Кафки передается во множестве пассажей, и один из них — его знаменитое письмо к необыкновенной Милене. Письма Кафки, зачастую полные муки, принадлежат к самым красноречивым в нашем веке.
Давно я Вам не писал, госпожа Милена, да и сегодня пишу только по случаю. Но оправдываться за свое молчание мне, собственно, ни к чему — Вы ведь знаете, как я ненавижу писать письма. Все несчастье моей жизни (и это вовсе не жалоба, а обобщающий назидательный вывод) происходит, если угодно, от писем или от возможности их писать. Люди меня едва ли когда обманывали, а письма всегда, причем и тут не чужие, а мои собственные.
В моем случае это особое несчастье, о нем я не буду распространяться, но в то же время оно и всеобщее. Я убежден, что уже малейшая возможность писать письма — рассуждая чисто теоретически — принесла в мир ужасный душевный разброд. Это ведь общение с призраками, причем не только с призраком адресата, но и со своим собственным призраком, который разрастается у тебя под рукой, когда ты пишешь письмо, а уж тем более серию писем, где одно письмо подкрепляет другое и уже ссылается на него как на свидетеля. И кому это пришла в голову мысль, что люди могут общаться друг с другом посредством писем! Можно думать о далеком человеке, можно коснуться близкого человека — все остальное выше сил человеческих. А писать письмо — это значит обнажаться перед призраками, чего они с жадностью и ждут.
Написанные поцелуи не доходят по адресу — их выпивают призраки по дороге. Благодаря этой обильной пище они и размножаются в таком неслыханном количестве. Человечество это чувствует и пытается с этим бороться; чтобы по возможности исключить всякую призрачность меж людьми и достигнуть естественности общения, этого покоя души, оно придумало железную дорогу, автомобили, аэропланы, но ничто уже не помогает, открытия эти явно делались уже в момент крушения, а противник много сильней и уверенней, он вслед за почтой изобрел телеграф, телефон, радио. Призракам голодная смерть не грозит, но мы-то погибнем[543].
Трудно вообразить слова более выразительные, чем «Написанные поцелуи не доходят по адресу — их выпивают призраки по дороге» или «Призракам голодная смерть не грозит, но мы-то погибнем».
Отношение Кафки к своему еврейству — возможно, величайший из его парадоксов. В его письмах к Милене есть прискорбные следы еврейской ненависти к самому себе, но они кажутся вполне объяснимыми и представляют собою в худшем случае поверхностный раздражитель. Бесконечно сложным образом все, написанное Кафкой, связано с его отношением к евреям и еврейским традициям. Это нужно ясно осознать с самого начала — потому хотя бы, что это зачастую не зафиксировано. Кафка, человек редкостно гениального религиозного мироощущения, не верил в Бога, даже в бесконечно далекого Бога гностиков. Его неверие разделяли Фрейд, Вулф, Джойс, Беккет, Пруст, Борхес, Пессоа и Неруда — другие выбранные мною канонические фигуры нашего века, — но никто не обнаружит у этого октета (даже у Беккета, на которого Кафка повлиял) ничего подобного духовной озабоченности Кафки. Гейне, до Кафки — самый важный еврейский немецкоязычный писатель, сказал, что Бог зовется Аристофаном (это соображение блистательно использовал Филипп Рот в романе «Операция „Шейлок“»). Гейне веровал и страдал; неверующий Кафка не дал Богу имени, но если бы служители Суда и Замка Кафки верили в Бога, то им бы вполне мог быть Аристофан.
Кафка говорит за (и для) тех читателей, христиан и евреев, которые не соглашаются с Фрейдом в том, что религия — это иллюзия, но сходятся с Кафкой в том, что они родились слишком поздно, чтобы принять как истину христианскую или иудейскую традицию. Кафка не знал, чем он был — концом или началом[544]; не знаем этого и мы. Один из самых сведущих исследователей Кафки, Ричи Робертсон, тонко заметил, что у автора «Замка» «религиозная образность состоятельна как выражение религиозного импульса, но вводит в заблуждение при попытке этот импульс через нее истолковать». Поскольку Кафка старается не истолковывать этот импульс и не «санкционирует» ни одно из общепринятых толкований, читатель остается один на один с изображениями этого порыва — иногда они укладываются в привычную образность, а иногда выпадают из нее. Поэтому нам весьма важно уяснить, какую позицию все же занимал Кафка (насколько он позволяет нам это понять).
Я согласен с Робертсоном в том, что касается точки отсчета: важнейшие тексты — это афоризмы 1917–1918 годов, теперь легче всего доступные на английском языке в «Тетрадях ин-октаво». Ницше, такой же сильный афорист, как Эмерсон, Кьеркегор и Кафка, осудил постоянное прибегание к афористичному письму как своего рода упадочность. Самая мощная книга Ницше, возможно, — «Генеалогия морали», три плотных по мысли эссе, но даже их сила происходит в первую очередь из афоризмов, а певучую прозу «Так говорил Заратустра» сегодня уже невозможно читать. Все остальное у Ницше — афоризмы; это и к лучшему. Кафка — в высшей степени самобытный гибрид афориста и сказителя притч, странно схожий с Витгенштейном, а также с Шопенгауэром и Ницше. За ними — Гёте в своей роли писателя-наставника и аристофанианец Гейне с нотой усвоенного Кафкой еврейского скептицизма. Но Кафку не следует называть «еврейским кем-то» — скептиком, гностиком, еретиком. С точки зрения еврейства он, по его же словам, — конец или начало, возможно — и то и другое.
Несмотря на все его отказы и изящные уклонения, он — сама еврейская литература, даже в большей степени, чем Фрейд. Когда-то я полагал, что так случилось в силу присвоения: противоборствующие силы Кафки и Фрейда заново определили еврейскую литературу, потому что задним числом стали для нас еврейской литературой. Но в этом представлении — которое, впрочем, иллюстрирует причудливость канонического, — недооцениваются бесконечные еврейские заботы Фрейда и Кафки, ставших двумя Раши для нынешних еврейских тревог. Негация у Фрейда и Кафки, как я уже писал, существенно отличается от негации у Гегеля за счет признания первичности факта. Идеализм при всей своей диалектичности не соответствует еврейскому уважению к буквальным значениям. Несмотря на силу своей фантазии, Кафка — такой же эмпирик, как Фрейд или Беккет. Еврейское состояние откровенной маргинальности у Кафки ощущается почти везде; оно ощущается в рассказе «Как строилась китайская стена», который мог бы с тем же успехом называться «Как строилась вавилонская башня»; ощущается оно и там, где этого никак не ожидаешь — в «животных» притчах.
Есть ли в неоспоримом духовном авторитете Кафки нечто фундаментально еврейское? Я согласен с Ричи Робертсоном в том, что средоточие духовного у Кафки — это его концепция «неразрушимого», которую я, впрочем, нахожу более индивидуальной и менее в духе века, чем полагает Робертсон. Вот подборка афоризмов, в которых говорится о «неразрушимом»:
Верить значит: освобождать в себе неразрушимое или, вернее: освобождать себя, или, вернее: быть неразрушимым, или, вернее, быть[545].
Человек не может жить без длительного доверия к чему-то неразрушимому в себе, причем как это неразрушимое, так и это доверие могут длительно оставаться скрытыми от него. Одно из возможных проявлений того, что они остаются скрыты, — вера в некоего персонального бога[546].
Неразрушимое это единое; это каждый отдельный человек и в это же время это все вместе; поэтому столь беспримерно неразъединима связь людей[547].
Если то, что в раю должно было быть разрушено, было разрушено, то это не было определяющим, если же это было неразрушимо, то мы живем в ложной вере[548].
Верить — значит быть, потому что нечто в глубине бытия не может быть разрушено. Но вера — это излишество, потому что личный бог — всего лишь метафора нашего ощущения неразрушимого, ощущения, объединяющего нас помимо нашей воли. Не было падения, не было, по сути, утраты бессмертия, поскольку в самой глубине нашего существа мы остаемся неразрушимыми. Что это — всего лишь очередное превозношение Шопенгауэровой воли к жизни как вещи в себе, подобной Фрейдову Эросу, или же Кафка ведет к чему-то более тонкому и менее определенному? Прослеживая не слишком отчетливые связи между творчеством Кафки и Каббалой, Робертсон обнаружил разновидность принадлежащего Ицхаку Лурии понятия тиккуна — восстановления разбитого сосуда нашего бытия — в следующем афоризме Кафки:
Нет ничего другого, кроме духовного мира; то, что мы называем чувственным миром, есть зло в мире духовном, а то, что мы называем злом, есть лишь необходимость какого-то момента нашего вечного развития[549].
Это что-то среднее между Каббалой Лурии и великим немецким мистиком Майстером Экхартом. Меня самого поражает, с каким удивлением я внимаю величайшим афоризмам из «Тетрадей ин-октаво»: как слова Кафки — из всех-то, размышлявших о духовном, — могут звучать столь обнадеживающе? Очевидный ответ — они и не могут; как он однажды сказал Максу Броду, надежды хватает, но не для нас. Надежда принадлежит сознанию, которое разрушимо, а не неразрушимому бытию. Рассказать историю о бытии, даже наикратчайшую, невозможно, будь ты хоть сам граф Лев Толстой, которому почти удалось сделать это в «Хаджи-Мурате», где герой практически сводит воедино свое бытие со своим сознанием. Мы признали Кафку самым каноническим писателем нашего века, потому что все мы олицетворяем раскол между бытием и сознанием — подлинную тему Кафки, тему, которая для него была связана с еврейством, или по крайней мере с каким-то особенно «изгнанническим» еврейством.
Когда тот же самый раскол возникает у Беккета, мы чувствуем, что он коренится в картезианстве, а не во фрейдизме, как у Кафки. Еврейский дуализм есть в некотором роде оксюморон — если под «еврейским» понимать иудаизм или одухотворенную им нормативную традицию, пульс которой (пусть и прерывистый) чувствуется у Фрейда и у Кафки. Фрейд определенно не знает о «неразрушимом» в нас; воля к жизни у него в конце концов слабнет. Тем не менее подобно Ницше и Кафке, Фрейд убежден, что глубинную сущность можно укрепить, что Эрос можно защитить от влечения к смерти. Для Фрейда сознание — такой же источник заблуждения и ложных надежд, каким оно предстает у Ницше и у Кафки. Фрейд отрицает мистическую концепцию бытия (которую пренебрежительно называет «океаническим чувством»)[550] и на ее место благородно и отчаянно ставит свой собственный милостивый авторитет, предлагает нам средство от ложного сознания. Кафка отрицает всякий авторитет (Фрейдов в том числе) и не предлагает ни себе, ни нам никакого средства. Тем не менее он говорит «от лица» бытия, неразрушимого, в манере, вероятно, чисто еврейской — еврейской негации:
Из того, что необходимо для жизни, у меня, насколько я понимаю, нет ничего, а есть одна только общая для всех человеческая слабость. Благодаря ей — а она в этом отношении является гигантской силой — я глубоко впитал из своего времени все негативное, которое мне ведь очень близко, с которым я не только никогда не боролся, но которое в какой-то мере имею право представлять. Из немногого позитивного, равно как и из предельно негативного, опрокидывающегося в позитивное, я никакой части не унаследовал. Я не был введен в жизнь — уже, правда, устало опустившейся — рукой христианства, как Кьеркегор, и не успел ухватиться за последний краешек отлетающего отсюда еврейского молитвенного покрова, как сионисты. Я — это конец или начало.
«Предельно негативное, опрокидывающееся в позитивное» — это уже полноценное негативное богословие, гностическое, христианское или еретически-каббалистическое (как у Натана из Газы, пророка лжемессии Шабтая Цви). Негативное Кафки — тоньше и богаче оттенками, сообразно духу времени. Чтобы обозначить очертания кафкианского Негативного и его «шоковую» ауру, рассмотрим его в одном из шедевров Кафки, коротком рассказе под названием «Сельский врач» (1917). Это повествование от первого лица поразительно отрывисто; в основном оно ведется в настоящем времени, хотя начало указывает на случай из прошлого. Сельскому врачу нужно срочно ехать к тяжелобольному — десять миль, суровая зима, но у него нет лошади; по крайней мере, он так думает. Диковинным образом из заброшенного свиного хлева во дворе врача появляются грубый, звероподобный конюх и два необыкновенных, могучих коня. Еще не успев запрячь их в повозку, конюх в первый раз нападает на Розу, служанку врача, — как дикий, кусает ее за щеку. Когда гигантские кони уносят врача — не вполне по его воле — конюх вламывается в дом, чтобы изнасиловать перепуганную Розу (отзвук ее имени мы услышим в описании раны, с которой врач вскоре сталкивается, но вылечить не надеется)[551].
Пациент, крестьянский мальчик, — не менее жуток и неприятен, чем его рана. Все кажется нереальным; крестьяне раздевают врача, поют ему песни с угрозами и кладут его, нагого, к мальчику в постель. Врач и пациент остаются наедине; мальчик угрожает врачу и тот спасается на лошади; другая лошадь, коляска и одежда врача тянутся следом — ужасающе медленно по сравнению с той сверхъестественной скоростью, с которой врач прибыл:
Этак мне уже не вернуться домой; на моей обширной практике можно поставить крест; мой преемник меня ограбит, хоть и безо всякой пользы, ведь ему меня не заменить; в доме у меня заправляет свирепый конюх; Роза в его власти; мне страшно и думать об этом. Голый, выставленный на мороз нашего злосчастного века, с земной коляской и неземными лошадьми, мыкаюсь я, старый человек, по свету. Шуба моя свисает с коляски, но мне ее не достать, и никто из этой проворной сволочи, моих пациентов, пальцем не шевельнет, чтобы ее поднять. Обманут! Обманут! Послушался ложной тревоги моего ночного колокольчика — и дела уже не поправишь![552].
В итоге сельского врача ждет то же, что и других главных героев Кафки — всадника на ведре, охотника Гракха, в первую очередь землемера К., — он не жив и не мертв, не движется к какой-то определенной цели и не пребывает в неподвижности. Ожидания — их и наши — сводятся на нет буквальностью, сферой факта. Мы не знаем, создавал ли Кафка таким образом аллегорию положения евреев своего времени или тех мест, где он жил (или же аллегорию своего собственного состояния как писателя). Каким-то образом мы сознаем, что негация Кафки помогает ему добиться успеха: на когнитивном уровне вытеснение приостанавливается, и судьба сельского врача или предстает образцово-еврейской — или как-то соотносится с опытной ценой утверждения Кафки в качестве писателя.
На интеллектуальном уровне это отождествление возможно и даже продуктивно, но на уровне эмоциональном оно совершенно неубедительно. Удивительным образом ни судьба врача, ни, собственно говоря, весь рассказ, не волнуют нас до глубины души. Если говорить о читательском переносе, то вытеснение продолжается; ни один из героев Кафки не вызывает приязни или сочувствия, по крайней мере — больше или меньше приязни, чем любой другой из героев Кафки. Как форму мысли, тягостное положение сельского врача можно приравнять к нашему, но солидаризироваться с ним у нас не получается. Происходящее с ним одновременно фантастично и неотвратимо. Такое может — в преображенном виде — произойти (и подчас происходит) с нами, но никто не разделит нашего пафоса, как не можем разделить его пафоса мы. Случайное начало — мы слушаемся ложной тревоги нашего ночного колокольчика — имеет телеологические последствия в повествовании о вечном настоящем, и дела поправить уже нельзя. Категория «кафкианского» — это новая форма того, что прежде называлось литературным гротеском, и в жизни мы сталкиваемся с нею не реже, чем в литературе. «Сельский врач», как рассказ, обладает чем-то вроде даймонической силы и напоминает нам о том, что подлинно даймоническое или диковинное всегда обретает канонический статус. Ницше утверждал, что запоминается только болезненное. Если применить эти слова к литературе, то мы получим непреходящее потрясение, вызываемое «Сельским врачом», где источником боли является отсутствие переживания. Благодаря самому необычному и самобытному дару Кафки его рассказы словно возвращаются к нам из забытья и неизменно оставляют такое ощущение, словно мы все никак не вспомним, какие ощущения когда-то вызвала у нас их странность.
Спустя почти семьдесят лет после своей смерти Кафка более, чем когда-либо, кажется главным писателем Хаотической эпохи по Вико, когда нас несет к новому тысячелетию — и к вероятному впадению в новую Теократическую эпоху. «Процесс» и «Замок», разумеется, и близко не достигают эстетических высот «В поисках утраченного времени», «Улисса» и «Поминок по Финнегану». Но лучшее у Кафки, рассеянное по его творчеству, — рассказы, притчи, афоризмы — вооружает нас духовностью, никоим образом не зависящей от веры или идеологии, и по этой части оставляет позади сочинения Пруста и Джойса. Для Пруста с Джойсом не существовало неразрушимого, как не существовало его для Флобера или Генри Джеймса — жрецов самого романа и таких же певцов восприятия и ощущения, каким был Уолтер Пейтер. Если с Кафкой и связана какая-то тайна, то она — в том, почему он и его сочинения обладают нынче в глазах многих духовным авторитетом, которым некогда обладали — и который утратили — Вордсворт и Толстой. Наверное, причудливо религиозная аура Кафки тоже когда-нибудь померкнет, но пока что она держится. Как мы видели, богоявления у Кафки не бывает; единственный завет, в который он верил, — это завет между ним и письмом.
Когда-то я думал, что духовная позиция Кафки, какой она нам видится, во многом порождена нашей литературоведческой ретроспекцией — подобно тому как Данте утвердился в качестве первого католического автора, несмотря на свой частный гнозис (Беатриче), а Мильтон — в качестве первого протестантского поэта, несмотря на свою морталистскую ересь[553] и монистское стремление стать самому себе сектой. Схожим образом Кафка, несмотря на свои непростые отношения с иудаизмом, казался первым еврейским писателем — в большей мере, чем кто-либо другой со времен Танаха. Но, характеризуя его таким образом, мы недооцениваем его универсальность в нашем веке. Для нас он — икона писателя, призванного к духовному поиску, и в его афоризмах для нас все еще звучат отголоски авторитета. Не говорит ли это больше о нас, чем о Кафке?
Все сводится к его метафоре — «неразрушимому». Личный витализм Толстого привел к бесконечно впечатляющему неистовому стремлению избежать смерти — гомеровскому по духу и, следовательно, архаическому, обреченному кануть в небытие. В Кафке было тихое, сильное упорство, но он, подобно своему охотнику Гракху, не протестовал против смертности. Из чего бы «неразрушимое» ни состояло, образов бессмертия в нем искать не следует. Есть нечто библейское в отсутствии у Кафки интереса к загробной жизни, мало заботившей и Яхвиста, и большинство пророков. Если у Кафки и было представление о благословении (в смысле некоего дарования, которого, как ему казалось, он был лишен), то он не дает нам знать, в чем оно заключалось. Разумеется, ни Суд, ни Замок не могут никого благословлять, даже если бы они — что маловероятно — этого хотели. Также у Кафки ни один отец не благословляет своего сына. Установки «больше жизни», времени без границ в его космосе не существует.
Если неразрушимость не предполагает ни бессмертия, ни благословения, то что же она предполагает? Ни в Шопенгауэровой воле к жизни, ни во Фрейдовой области влечений духовного авторитета нет, и я уже выражал сомнения в том, что «неразрушимое» Кафки коренится в лурианской Каббале. Несмотря на все свои негации, Кафка испытывал некоторый интерес к нашим религиозным верованиям. Он не принимал редукционистской мысли Фрейда, согласно которой религиозные импульсы всего лишь выдают тоску по отцу. Но в его афоризмах идея «неразрушимого» так и не раскрывается полностью, и даже самые чуткие исследователи его творчества сталкиваются с трудностями, объясняя ее. В одном письме к Милене Кафка защищал свое представление о неразрушимом как нечто, укоренное «в реальной почве» и отнюдь не являющееся частной навязчивой идеей. Для него оно было тем, что по-настоящему связывает людей друг с другом и выражает их глубинную тайную сущность. Я даже не знаю, как назвать такое восприятие, если не гнозисом, но ничего от гностицизма в нем, безусловно, нет, поскольку оно отвергает любую идею Бога — пусть далекого, пусть скрытого в первоначальной бездне. Кафка говорит о первоначальном человеческом свойстве, подобном божественному и в то же время мирском, о познании, в ходе которого познается неразрушимое.
Но Кафка не был ни святым, ни мистиком; он справедливо не включен в замечательную, хотя и идеалистичную, антологию Олдоса Хаксли «Вечная философия». Как и Фрейд, Кафка был буквалистом от Негативного, но его способ отрицания был диалектичнее, чем у Фрейда. Оба еврейских писателя почитали власть факта, которую отвергал Гегель, но Кафка позволил себе понимать факт шире, чем мог позволить себе Фрейд. Представление о неразрушимом в самой нашей основе было для Кафки таким же фактом, как его писательское призвание. Возможно, это отчасти объясняет статус Кафки как канонической иконы духовности: он не был религиозным писателем, но он превратил творчество в религию.
Как я говорил в связи с Данте, в таком превращении не следует искать какой-то специфически романтической или модернистской составляющей. Писатели, от которых нам никуда не деться, назначают себя в Канон отчасти благодаря тому, что делают ставку на свое творчество — во многом уподобляясь поставившему на веру Паскалю. Является ли и тут великолепным исключением Шекспир? Я бы утверждал совершенно обратное: он проторил путь Мильтону и Гёте, Ибсену и Джойсу, совершенно вверив своему творчеству всего себя. Христианизировать Шекспира-драматурга — пустая затея. Во что бы ни верил, в чем бы ни сомневался Шекспир-человек, Гамлета едва ли можно назвать христианским героем, а космос «Отелло», «Короля Лира» и «Макбета» — скорее шаманский, чем христианский. Яго, Эдмунд и Макбет внушают нам странное, но убедительное чувство, что каждый из них — гений своего места, в совершенстве воплощающий в себе все мрачнейшие потенции мироздания. Темная сторона Гамлета определяет парадигму шекспирианской трагедии. Мир расшатан, и расшатан Гамлет — тот, кому суждено его восстановить[554].
Возможно, через влияние Гёте Кафка унаследовал немецкое представление о Гамлете как о герое слишком сложном и чувствительном, чтобы одерживать победы в дурном мире. Отклоняясь от гётевского Гамлета, Кафка претворяет обходительность героя в отталкивающую агрессивность, которой определяется отношение к Суду и Замку Йозефа К. и землемера К. Такое претворение — это уже полпути в направлении «Эндшпиля», пьесы, в которой Сэмюэл Беккет переделывает Гамлета по лекалам Кафки. Его Хамм куда ближе к Йозефу К., чем к очаровательному Гамлету Гёте, который, в отличие от Гамлета Шекспира, ни в чем не повинен и не способен испытывать чувство вины за самые настоящие свои преступления: он убивает любопытного Полония, радостно посылает на казнь злополучных Розенкранца с Гильденстерном и, что хуже всего, жестоко мучит Офелию, доводя ее до безумия и самоубийства.
Гамлет винит себя только в том убийстве, которого еще не совершил. Будучи в этом отношении проницательнее, чем Гёте, Кафка, похоже, понял, что у Шекспира чувство вины безусловно и предшествует собственно преступлениям. Не христианский первородный грех, но шекспирианско-фрейдистское бессознательное ощущение вины — вот закон космоса Кафки. Вина у Кафки оказывается на первом месте потому, что это — плата за нашу «неразрушимость»; по Кафке, мы виноваты именно тем, что наша личность в глубине своей неразрушима. Я подозреваю, что и уклончивость Кафки, и его аллюзивность суть защита для его чувства неразрушимого, — чувства, переданного им лучшим вещам Беккета, «Эндшпилю», «Последней ленте Крэппа», «Мэлон умирает» и «Как есть».
Неразрушимое — это не преобладающая часть нашего существа, а, если говорить словами Беккета, продолжение, когда продолжать нельзя[555]. У Кафки продолжение почти всегда принимает ироническую форму: К. неустанно штурмует Замок, Гракх бесконечно плывет на корабле мертвых, всадник летит на ведре в ледяные выси, сельский врач едет по морозу в никуда. «Неразрушимое» обретается в нас в виде надежды или исканий, но — таков мрачнейший из парадоксов Кафки — проявления этих устремлений неизменно разрушительны, главным образом для нас самих. Для Кафки терпение — это не столько главная добродетель, сколько единственное средство выживания, подобное каноническому терпению евреев.
21. Борхес, Неруда и Пессоа: латиноамерикано-португальский Уитмен
У латиноамериканской литературы XX века, возможно, более полнокровной, чем североамериканская, трое основоположников: аргентинский рассказчик Хорхе Луис Борхес (1899–1986), чилийский поэт Пабло Неруда (1904–1973) и кубинский прозаик Алехо Карпентьер (1904–1980). Из этой матрицы возникло множество первостепенных фигур: такие непохожие друг на друга прозаики, как Хулио Кортасар, Габриэль Гарсиа Маркес, Марио Варгас Льоса и Карлос Фуэнтес; мирового значения поэты Сесар Вальехо, Октавио Пас и Николас Гильен. Я сосредоточусь на Борхесе с Нерудой, хотя время, быть может, покажет, что Карпентьер превосходил всех латиноамериканских писателей этой эпохи. Но Карпентьер был одним из многих обязанных Борхесу, а Неруда сыграл в поэзии роль такого же основоположника, каким Борхес был и для прозы, и для публицистики, поэтому я рассматриваю их здесь как литературных отцов и как репрезентативных писателей.
Борхес был поразительно литературным ребенком; свою первую опубликованную вещь он создал в семь лет — это был перевод «Счастливого принца» Оскара Уайльда. Однако умри он в сорок лет, мы бы его не помнили, а латиноамериканская литература была бы совсем другой. В восемнадцать лет он начал писать стихи в духе Уитмена и стремился сделаться певцом Аргентины. Но со временем он понял, что испаноязычным Уитменом ему не стать: эту роль уверенно присвоил Неруда. Борхес взялся писать каббалистические и гностические эссе-притчи, возможно, под влиянием Кафки, и на этой почве расцвело его своеобразное творчество.
Переломным моментом стало ужасное происшествие в конце 1938 года. Всегда страдавший от плохого зрения, он оступился на темной лестнице и упал, сильно повредив голову. Он провел две недели в больнице в тяжелом состоянии, мучился ночными кошмарами и изнурительно медленно поправлялся, сомневаясь в том, что сохранил здравый рассудок и способность писать. Так в тридцать девять лет он попробовал сочинить рассказ — чтобы убедить себя, что все в порядке. Блистательным результатом этого стал «Пьер Менар, автор „Дон Кихота“», предшественник «Тлена, Укбара, Orbius tertius» и всей прочей великолепной короткой прозы, которая ассоциируется у нас с его именем. В Аргентине его репутация как писателя начала складываться после «Сада расходящихся тропок» (1941); в 1962 году два его сборника, «Хитросплетения» и «Вымыслы», были опубликованы в Соединенных Штатах и немедленно привлекли разборчивого читателя.
Из всех рассказов Борхеса моим любимым по-прежнему остается тот, который я предпочитал остальным тридцать лет назад: «Смерть и буссоль». Как практически все его творчество, он чрезвычайно литературен: он сознает и провозглашает свою запоздалость, преемственность, которой определяются его отношения с предшествующей литературой. Бабка Борхеса по отцовской линии была англичанкой; обширная библиотека отца состояла преимущественно из английских книг. Борхес — своего рода аномалия: латиноамериканский писатель, который впервые прочел «Дон Кихота» в английском переводе и чья литературная культура, при всей универсальности, в глубинной своей основе всегда оставалась английской и североамериканской. Борхес был настроен на литературную карьеру, и все-таки его преследовала мысль о воинской славе, тяготевшей над семьями его отца и матери. Унаследовав от отца плохое зрение, не позволившее тому сделаться офицером, Борхес, кажется, унаследовал и бегство в библиотеку — убежище, где грезы могли искупить неспособность к жизни, полной свершений. Слова Эллманна об одержимом Шекспиром Джойсе (мол, тот был озабочен одним: вобрать в себя как можно больше влияний) кажутся куда более справедливыми применительно к Борхесу, который очевидным образом поглощает, а затем сознательно отражает всю каноническую традицию. Умалило ли в конце концов его достижения то, что он так объял своих предшественников, — сложный вопрос, на который я надеюсь дать предварительный ответ далее в этой главе.
Властелин лабиринтов и зеркал, Борхес был усердным исследователем литературного влияния, и, как скептик, интересовавшийся художественной литературой больше, чем религией и философией, он научил нас читать эти умозрительные рассуждения прежде всего ради их эстетической ценности. Его причудливая судьба как писателя и первостепенного зачинателя современной латиноамериканской литературы не может быть отделена ни от универсальности его творчества, ни от того, что, по-моему, надо называть его эстетической агрессивностью. Когда я перечитываю его сейчас, он очаровывает и ободряет меня даже сильнее, чем тридцать лет назад, потому что его анархистские политические убеждения (достаточно умеренные, как и у его отца) — это глоток свежего воздуха во времена, когда литературоведение полностью политизировалось и приходится опасаться политизации самой литературы.
«Смерть и буссоль» — пример самого ценного и самого таинственного в творчестве Борхеса и в нем самом. В этом одиннадцатистраничном рассказе повествуется об исходе кровной вражды между детективом Эриком Лённротом и преступником Редом Шарлахом по кличке Денди в воображаемом Буэнос-Айресе, который так часто служит средой характерной для Борхеса фантасмагории. Смертельные враги Лённрот и Шарлах — явные, хотя и противоположные друг другу двойники, на что указывает красный цвет в их именах[556]. Борхес, страстный филосемит, который иногда в шутку воображал, что он сам — еврейского происхождения (в чем его часто обвиняли фашиствующие сторонники его врага, диктатора Перона), написал еврейский криминальный рассказ — он привел бы в восторг Исаака Бабеля, автора блистательных «Одесских рассказов», в центре которых — легендарный бандит Беня Крик, такой же завзятый денди, как Ред Шарлах. У Борхеса была статья о жизни Бабеля, чье творчество (да и само имя)[557] должно было его зачаровывать, и даже краткий пересказ «Смерти и буссоли» наводит на мысль о Бабеле.
В «Отель дю Нор» убит талмудист, доктор Марк Ярмолинский. К его телу с рассеченной ножом грудью прилагается записка со словами: «Произнесена первая буква Имени»[558]. Лённрот, отчаянный рационалист наподобие Огюста Дюпена из рассказов По, устанавливает, что это отсылка к Тетраграмматону, Непроизносимому Имени ЙХВХ, Бога Яхве[559]. Обнаруживается второй труп, означающий вторую букву Имени. Эти убийства — мистические жертвоприношения, догадывается Лённрот, совершаемые, как ему представляется, безумной иудейской сектой. Вроде бы происходит и третье убийство, но труп не найден, и мы мало-помалу понимаем, что Лённрот направляется прямо в Шарлахову ловушку. Наконец ловушка захлопывается на заброшенной вилле «Трист-ле-Руа» на окраине города. Ред Шарлах раскрывает свой хитрый замысел, держащийся на трех образах, с помощью которых он заманил Лённрота: зеркалах, буссоли и лабиринте, в котором оказался детектив. Под пистолетом Шарлаха Лённрот разделяет безличную грусть преступника, хладнокровно критикует лабиринт за лишние линии и просит, чтобы в следующем воплощении враг убил его в более изящно задуманном лабиринте. Рассказ кончается убийством Лённрота под музыку слов Шарлаха: «Когда я буду убивать вас в следующий раз… я вам обещаю такой лабиринт, который состоит из одной-единственной прямой линии, лабиринт невидимый и непрерывный»[560]. Это — символ Зенона Элейского и, для Борхеса, символ самоубийства Лённрота.
О «Пьере Менаре, авторе „Дон Кихота“», своем настоящем писательском дебюте, Борхес говорил, что тот порождает ощущение усталости и скепсиса, «приближения к концу очень длинного литературного периода». В этом — ирония и аллегория «Смерти и буссоли»: Лённрот и Шарлах выстраивают свой гибельный литературный лабиринт в манере, соединяющей По, Кафку и множество других историй о дуэли двойников, связанных общей тайной. Как и великое множество других рассказов Борхеса, история Лённрота и Шарлаха — притча, демонстрирующая, что чтение — это всегда своего рода переписывание. Шарлах ловко управляет тем, как Лённрот прочитывает подсказки, которые преступник ему дает, и тем самым предвосхищает пересмотр-интерпретацию, совершаемый детективом.
В начале другого своего знаменитого рассказа — «Тлён, Укбар, Orbius tertius» — Борхес прямо говорит: «Открытием Укбара я обязан сочетанию зеркала и энциклопедии»[561]. Воображаемую страну Укбар тут можно заменить любым персонажем, местом или предметом из прозы Борхеса; в них всех зеркало сходится с энциклопедией, потому что для Борхеса всякая энциклопедия, существующая на самом деле или гипотетическая — это и лабиринт, и буссоль. Даже если бы Борхес не был главным основоположником латиноамериканской литературы (которым он является), даже если бы его рассказы не имели подлинной эстетической ценности (которую они имеют), он все равно входил бы в число канонических писателей Хаотической эпохи — потому что у него больше оснований, чем у любого другого автора (за исключением Кафки, которому он сознательно подражает), считаться метафизиком от литературы этого века. Его космологические представления явно основываются на хаосе; у него воображение явного гностика, хотя в интеллектуальном и моральном отношениях он — скептически настроенный гуманист. Истинные предшественники Борхеса — древние гностические ересиархи, в первую очередь Василид Александрийский. Короткое эссе «Оправдание Лже-Василида» завершается великолепным выступлением в защиту гностицизма:
В первые века нашей эры гностики полемизируют с христианами. Затем их уничтожают; однако мы вполне можем вообразить предположительный триумф. Тогда победа Александрии, а не Рима, безумные и нечистоплотные истории, приведенные мной выше, покажутся логичными, возвышенными и привычными. Сентенции — вроде «жизнь есть болезнь духа» Новалиса или вроде отчаянной «настоящей жизни нет, мы живем не в том мире» Рембо — будут пламенеть в канонических книгах. Представления вроде отталкивающей идеи Рихтера о звездном происхождении жизни и ее случайного попадания на нашу планету встретят безоговорочное принятие жалких лабораторий. И все же не лучший ли это дар — прозябать в ничтожестве и не вящая ли слава для Господа быть свободным от творения?[562]
Для Борхеса, как и для гностиков, Творение и Падение как космоса, так и рода человеческого суть одно и то же событие. Изначальной действительностью была Плерома, полнота, которую ортодоксальные евреи, набожные христиане и мусульмане называют Хаосом, а гностики почитали как Праматерь и Праотца. В созданиях своего воображения Борхес возвращается к этому почитанию. Участвует ли он в нем? Как и Беккет, Борхес с живым сочувствием читал Шопенгауэра, но в истолковании Борхеса Шопенгауэр полагал, что «мы — частицы какого-то Бога, который уничтожил себя в начале времени, ибо жаждал стяжать небытие»[563]. Мертвый или исчезнувший Бог, или, по гностикам, потусторонний Бог, отвернувшийся от своего лжетворения, — единственное, что у Борхеса есть от теизма. Его представления о метафизике — когда он не играет в идеализм — тоже идут от Шопенгауэра и гностиков. Мы живем в фантасмагории, в искаженном отражении Вечности, которое Борхес изображал с немалым задором. «Миропорядок внизу — зеркало миропорядка горнего; земные формы соответствуют формам небесным; пятна на коже — карта нетленных созвездий; Иуда, неким таинственным образом, — отражение Иисуса», — пишет он в рассказе «Три версии предательства Иуды»[564], где обреченный датский богослов Рунеберг разрабатывает теорию, согласно которой Бог воплотился не в Иисусе, а в Иуде, обогащая таким образом «образ Сына, который, казалось, был исчерпан <…> новыми чертами — зла и злосчастия»[565].
Ввиду того, что валентинианцы учили доктрине вырождения Божественного, Борхес пишет вполне по-гностически, хотя, может быть, и резче, чем все гностики со времен офитов, которые в истории Грехопадения пели хвалу змею. Совершенства в этом ключе Борхес достигает в рассказе «Богословы», в котором двое ученых раннехристианских теологов, Аврелиан Аквилейский и Иоанн Паннонский (выдуманные Борхесом), соперничают друг с другом в опровержении эзотерической ереси. Борхес очаровательно подводит итог их соревнованию, подчеркивая, что Аврелиан, из них менее одаренный и, соответственно, более озлобленный, одержим Иоанном: «Оба сражались в одном и том же стане, оба жаждали той же награды, воевали против того же врага, но Аврелиан не мог написать ни слова, за котором не таилось бы безотчетное стремление превзойти Иоанна»[566]. В финале рассказа Аврелиан становится виновником сожжения Иоанна на костре по обвинению в ереси, а потом умирает той же смертью в ирландском лесу, зажженном молнией. За гробом Аврелиан узнает, что для Бога они с Иоанном «были одной и той же личностью»[567], как были одной личностью Лённрот с Шарлахом. Борхес прискорбно последователен: в лабиринте его вселенной мы сталкиваемся со своими отражениями в зеркале — зеркале не только природы, но и самих себя.
Как отмечали все исследователи, лабиринт — главный у Борхеса образ, в котором сошлись все его навязчивые идеи и кошмары. Его предшественники — от По до Кафки — привлекаются для того, чтобы дополнить этот символ хаоса, ведь Борхес мог превратить в лабиринт практически все, что угодно: дома, города, пейзажи, пустыни, реки, не говоря уже об идеях и библиотеках. Главным лабиринтом был дворец, построенный легендарным изобретателем Дедалом для того, чтобы охранять и удерживать в заточении Минотавра — полубыка-получеловека. Я никогда толком не понимал, почему Джойс дал это имя своему юному альтер-эго; да, Дублин — лабиринт, и «Улисс» тоже, но Джойс, в отличие от Кафки, Борхеса и Беккета, был слишком склонен одновременно к комизму и натурализму, чтобы превозносить образ хаоса как такового. Джойс был не чужд манихейства, но он не углублялся ни в Шопенгауэра, ни в гностицизм, и своих собственных воззрений на основе гностицизма не развил.
Хотя образ лабиринта у Борхеса — в сущности, игровой, его неявные смыслы так же мрачны, как у Кафки. Если весь космос — это лабиринт, то любимый образ Борхеса связан со смертью или с фрейдистским по сути своей представлением о жизни: с мифом о влечении к смерти. Соответственно, мы встречаемся с иронией; двумя современными писателями, которых Фрейд злил сильнее всего, были Набоков и Борхес. Оба отзывались о Фрейде раздраженно и неприятно. Вот Борхес — отнюдь не на высоте:
Мне он кажется каким-то сумасшедшим, да? Корпел над сексуальной одержимостью. Ну, может быть, он не всерьез к этому относился. Может быть, для него это была своего рода игра. Я пытался его читать, и он мне казался то ли шарлатаном, то ли сумасшедшим — в каком-то смысле. В конце концов, мир слишком сложен, чтобы сводить его к этой простенькой схеме. Вот у Юнга — хотя, конечно, Юнга я читал куда больше, чем Фрейда, — у Юнга чувствуется глубокий и открытый ум. Для Фрейда все сводится к нескольким довольно неприятным фактам.
В случае Борхеса к этим нескольким довольно неприятным фактам относятся первый и единственный брак, заключенный в возрасте шестидесяти восьми лет и через три года закончившийся разводом, и поразительная близость (а также продолжительное совместное проживание) с матерью, которая умерла девяностодевятилетней в 1975 году. Ни эти факты, ни неприязнь Борхеса к Фрейду не должны особенно занимать его читателей — разве только в той мере, в какой они могут пролить свет на его отношение к литературной традиции и на лапидарность его творчества. Рассуждения Борхеса о литературе особенно хороши, когда он ставит с ног на голову прежние представления о влиянии, как в разборе воздействия Кафки на Браунинга в «Кафке и его предшественниках»:
В каждом из них[568] есть что-то от Кафки, в одних больше, в других меньше, но не будь Кафки, мы бы не заметили сходства, а лучше сказать — его бы не было. Стихотворение Броунинга[569] «Fears and Scruples» предвосхищает творчество Кафки, но, прочитав Кафку, мы другими глазами, гораздо глубже прочитали и сами стихи. Броунинг понимал их по-иному, чем мы сегодня. Лексикону историка литературы без слова «предшественник» не обойтись, но пора очистить его от всякого намека на спор или соревнование. Суть в том, что каждый писатель сам создает своих предшественников[570].
Борхес не позволил себе увидеть, что спор и соревнование направляют это созидание предшественников. В «Делателе» он назначил своим главным предшественником среди аргентинских писателей поэта Леопольдо Лугонеса, покончившего с собою в 1938 году. Посвящая эту книгу Лугонесу, Борхес очень кстати забыл о той амбивалентности, которую он и вообще его поколение выказывали в отношении старого поэта — хотя Борхес и был характерным для себя образом амбивалентен по отношению к своей амбивалентности. С возрастом Борхес стал представлять себе каноническую литературу как нечто большее, чем преемственность, — как, по сути, одно стихотворение, один рассказ, который пишется множеством рук на протяжении столетий. К 1960-м годам, когда Борхес сделался, по словам его биографа Эмира Родригеса Монегаля, «старым гуру», этот литературный идеализм достиг абсолюта, затмив более осторожные версии коллективного авторства, которое Борхес обнаружил в творчестве Шелли и Валери.
Причудливый пантеизм, относящийся в основном к писателям, захлестнул Борхеса: не только Шекспир, но любой сочинитель для него — каждый и никто, и все они — единый, живой лабиринт литературы. Подобно Лённроту и Реду Шарлаху, подобно богословам Аврелиану и Иоанну, Гомер, Шекспир и Борхес сливаются в одного автора. Думая об этом нигилистическом идеализме, я вспоминаю лучшие слова, что я читал о Борхесе, — они принадлежат Ане Марии Баренечеа: «Борхес — это замечательный писатель, посвятивший себя уничтожению действительности и превращению человека в тень». Воплотить в жизнь этот умопомрачительный замысел было бы не по силам и Шекспиру, реши он посвятить себя ему. Борхес способен ранить, но всегда одним и тем же способом — и тут мы приходим к главному недостатку Борхеса: его лучшим вещам не хватает разнообразия, хотя они и черпают из всего Западного канона и не только. Возможно, почувствовав это, в конце 1960-х годов Борхес попытался вернуться к натуралистическому реализму, но результат — сборник «Сообщение Броуди» — все равно получился в основе своей фантасмагорическим.
Что находится в центре Борхесова лабиринта? Истории, которые он рассказывает, сродни фрагментам-фантазиям, но Борхес, в отличие от Готорна, которого он ценил очень высоко, не писал фантазий, держащихся на зачарованности и недостатке знания. Борхес скептичен, очень знающ и сознательно лишает себя причуд фантазии, ее ощущения ухода за пределы. Он очень внимательно управляет своим творчеством и довольно многого в нем избегает. Ни сам Борхес, ни читатель не могут потеряться в его рассказах, в которых все рассчитано. Ужас перед тем, что Фрейд назвал семейным романом и что можно назвать семейным романом литературы, вынуждает Борхеса повторяться и чрезмерно идеализировать отношения между писателем и читателем. Быть может, именно его бесконечная суггестивность и отстраненность от культурных конфликтов и сделали его идеальным отцом для латиноамериканской литературы. Тем не менее он, возможно, обречен занимать в современной литературе положение выдающееся, но второразрядное, по-прежнему каноническое, но уже не центральное. Сравнение его рассказов и притч с рассказами и притчами Кафки, если читать их параллельно, будет отнюдь не в его пользу — но оно кажется неизбежным, отчасти потому, что Борхес так часто напоминает о Кафке, как прямо, так и косвенно. Лучшие вещи Беккета, с которым Борхес в 1961 году разделил международную премию[571], выдерживают интенсивное перечитывание, сочинения Борхеса — нет. Борхесовы ухищрения искусны, но не способны поддерживать шопенгауэрианские представления так же крепко, как тексты Беккета.
Тем не менее положение Борхеса в Западном каноне, если тот выстоит, будет так же устойчиво, как положение Кафки и Беккета. Из всех латиноамериканских писателей этого века он наиболее универсален. За исключением сильнейших современных писателей — Фрейда, Пруста и Джойса, — Борхес превосходит «заразительностью» едва ли не всех, в том числе тех, кто оставляет его далеко позади в отношении одаренности и масштаба творчества. Если читать Борхеса часто и внимательно, то делаешься эдаким борхесианцем, потому что читать его — значит проникаться таким пониманием литературы, в котором он пошел дальше всех.
Понимание это, одновременно визионерское и ироническое, трудно описать, поскольку оно разрушает дискурсивное противопоставление друг другу индивидуальности и общественного. Оно связано с осознанием того, что вся литература — до некоторой степени плагиат; этой догадкой Борхес был обязан Томасу Де Квинси, английскому эссеисту-романтику, страшно стеснительному плагиатору и, возможно, самому важному из всех предшественников Борхеса. Де Квинси писал романтическую прозу, почти барочную в своей хитросплетенной эмоциональности и музыкальности, зачастую совершенно заклинательной энергичности. Стиль прозы Борхеса — чуть ли не реактивное образование на основе стиля Де Квинси, но приемы и навязчивые идеи Борхеса весьма близки к приемам и навязчивым идеям автора «Исповеди англичанина, любителя опиума» и неоконченной «Suspiria de Profundis». Де Квинси был наиболее самобытен и тонок, когда излагал свои видения, часть которых Борхес переделал в рассказы. Один из них, «Бессмертный», — самое диковинное достижение Борхеса: практически все его навязчивые творческие идеи умещены в четырнадцать страниц. Это один из весьма немногочисленных возвышенных образцов фантастической литературы в нашем веке. Большая часть «Бессмертного» — повествование от лица Фламиния Руфа, трибуна римского легиона, расквартированного в Египте времен правления императора Диоклетиана. Его личность с самого начала вызывает удивление; рукопись, обнаруженная в 1929 году в Лондоне, была засунута в последний том шеститомной «Илиады» Александра Поупа (1720). По-видимому, автор написанного по-английски предположительно в 1920-е годы рассказа — антиквар Жозеф Картафил из Смирны, «изможденный, иссохший, точно земля, человек с серыми глазами и серой бородой и на редкость незапоминающимися чертами лица», переходящий с английского на французский, потом — «на испанский, каким пользуются в Салониках, а с него — на португальский язык Макао»[572]. В конце рассказа мы допускаем, что на редкость незапоминающиеся черты лица принадлежат Бессмертному, самому поэту Гомеру, соединившемуся с римским трибуном и, наконец (как подразумевается), с самим Борхесом; рассказ же — «Бессмертный» — соединяет Борхеса с его «оригиналами»: Де Квинси, По, Кафкой, Шоу, Честертоном, Конрадом и еще несколькими.
Рассказ «Бессмертный» мог бы называться «Гомер и лабиринт», потому что его составляют эти две сущности — автор и разрушенный, лабиринтообразный Город Бессмертных. Трибун Руф, отправившийся на поиски Города Бессмертных, видит своего двойника в довольно пугающем человеке, который оказывается Гомером, первым из бессмертных поэтов. Рональд Д. Крайст (борхесовское имя!)[573] в своей книге «Тонкое дело: искусство иллюзии у Борхеса» обнаруживает в этом рассказе конрадианско-элиотовское путешествие к символическому Сердцу Тьмы. Эта параллель полезна, если не брать во внимание моральную составляющую, которая есть у Конрада и которой в «Бессмертном» места не нашлось; она вообще редко оказывается главной у Борхеса, чье величие сопряжено с его героическим эстетизмом: он отбрасывает общепринятые моральные и социальные заботы и в игровой, иронической форме «обесценивает» Гомера, словно гомеровские эпические творения — обычное дело.
Гомер, как и Шекспир, для Борхеса — Создатель, архетипический поэт, но в то же время и архетипический человек, вроде Альбиона у Блейка или Ирвикера у Джойса; вероятно, поэтому Борхес и мог с какой-то долей иронии назвать «Бессмертного» «очерком этики для бессмертных». Эта этика оказывается всего лишь типичным для Борхеса уклонением от семейного романа литературы, идеализацией отношений влияния. Все писатели равны; самобытность маловероятна. Гомер с Шекспиром, будучи каждым и никем, делают индивидуальность невозможной, так что личность — это вышедший из моды миф. Все мы живем вечно, так что у нас будет время прочесть всех и все, как в пьесе Шоу «Назад к Мафусаилу», одном из главных источников «Бессмертного».
Этот литературный идеализм, не будь он переплетен со свирепой иронией, опреснил бы Борхеса и превратил бы «Бессмертного» в некое пародийное предвестье мультикультуралистского манифеста. Бояться нечего: этот рассказ — самый безысходный и леденящий кровь кошмар Борхеса, а ирония в духе Свифта сводит идеализацию литературы в нем к нигилистическому пессимизму, ввиду которого бессмертие предстает жутчайшим из кошмаров, сновидческой архитектурой, которая может быть только лабиринтом. Из всех Борхесовых фантасмагорий Город Бессмертных — самая ужасающая. Исследуя его, трибун Руф находит, что он «ужасен… одно то, что он есть… заражает и губит прошлое и будущее и бросает тень на звезды»[574].
Ключевое слово тут — «заражает», и основное чувство в «Бессмертном» — это ужас перед «заражением». Когда Гомер называет себя, он — немой, жалкий змееед-троглодит, а желанная река Бессмертия — всего лишь мутный поток. Как и других Бессмертных, Гомера практически погубила жизнь, ограниченная созерцанием. Если мысли Гамлета и вправду были не слишком многочисленны, но слишком мудры, то Борхесов Гомер (он же Шекспир) размышлял не слишком хорошо, но слишком бесконечно. Отчасти Борхес высмеивает «Назад к Мафусаилу», но он также уничтожает свой собственный литературный идеализм. Без соперничества и споров между Бессмертными жизни, как ни парадоксально, нет, и литература умирает. Для Борхеса все богословие — ответвление фантастической литературы. В «Бессмертном» он с великолепной иронией замечает, что иудеи, христиане и мусульмане, вопреки исповедуемой ими вере в бессмертие, почитают только этот мир, потому что по-настоящему верят только в него и связывают с ним будущие состояния лишь как награду или наказание. В 1966 году Борхес превосходно высказался о статусе онтотеологии и отвлеченной метафизики:
Однажды я составил антологию фантастической литературы. Не исключаю, что именно ее среди немногих избранниц спасет когда-нибудь новый Ной от нового потопа, но тем более должен признать свою вину: я не включил в нее непредсказуемых и несравненных мастеров жанра — Парменида и Платона, Иоанна Скота Эриугену и Альберта Великого, Спинозу и Лейбница, Канта и Фрэнсиса Брэдли. Чего, в самом деле, стоят все чудеса Уэллса либо Эдгара Аллана По — цветок, принесенный из будущего, или подчиняющийся гипнозу мертвец — рядом с изобретением Бога, кропотливой теорией существа, которое едино в трех лицах и одиноко пребывает вне времени? Что значит камень безоар рядом с предустановленной гармонией? Кто такой единорог перед Троицей, а Луций Апулей — перед множащимися Буддами Большой Колесницы? И что такое все ночи Шахразады в сравнении с одним доводом Беркли? Итак, я воздал должное многовековому созиданию Бога, но Ад и Рай (бесконечная награда и бесконечная кара) — не менее чудесные и ошеломляющие свидетельства человеческого воображения[575].
Ключевые слова, иронические и точные — «воздал должное» и повторенное «бесконечная». Созидавшийся веками Бог — возможно, величайшее произведение фантастической литературы. Яхвист не придумал Яхве, но Бог, которому поклоняются иудеи, христиане и мусульмане, — это литературный персонаж Яхве, которого Яхвист как раз создал; тот же, кто написал Евангелие от Марка, создал литературного персонажа Иисуса, которому поклоняются все христиане. К «бесконечной награде» на небесах относятся и эти литературные персонажи как часть платы — и это возвращает нас к «Бессмертному», где Борхес оставляет нам только слова. Образы, даже образы Бога, стираются из памяти; слова остаются — и всегда будут «чужими словами», потому что ни у кого из нас своих слов быть не может.
Если «Бессмертный» есть то, чем он мне кажется, — самобичевание за излишний литературный идеализм, — то что он вкупе с другими вещами Борхеса нам дает? Дает ли он эстетическое удовольствие, достаточно сильное, чтобы преодолеть нигилизм, вроде бы в нем выраженный? Борхес видит себя певцом уходящего; в его поздних стихах и рассказах часто изображается опыт делания чего-то в последний раз, видения человека или места на прощание. В творчестве Борхеса утрата всегда имела особое значение: утратить можно лишь то, чего никогда не имел, — таков рефрен его сочинений.
Никто в Западной традиции не наносил идее литературного бессмертия таких яростных ударов, как Борхес. Он возвращает читателя к своему исходному мотиву метафоры, желанию отличаться, оказаться в другом месте, сделаться писателем. Утраченное военное поприще заменилось литературным призванием, и тем не менее Борхес, аргентинский джентльмен, так и не смог примириться с агонистической истиной относительно природы поэтической самостоятельности и самобытности. Личность, индивидуальность могут проявляться в командовании на поле боя и в героизме, как, например, в случае его предков, несколько из которых погибли за безнадежные дела. Храбрость была поприщем его деда со стороны матери, Исидоро де Асеведо Лаприды, в юности сражавшегося на аргентинских гражданских войнах, долго прожившего на покое и умершего в фантасмагорическом бреду о защите своей страны: «он собрал армию буэнос-айресских призраков, / чтобы найти смерть в бою».
У Борхеса есть также стихотворения, обращенные к двум другим героическим предкам; первый был убит мятежниками на более давней гражданской войне, второй был среди победителей в сражении при Хунине во время войны за независимость Аргентины. По сравнению с этими семейными воинами Гомера с Шекспиром Борхес изображает амбивалентно. Для него их главное духовное свойство — известная неопределенность облика; размытые черты их «я» отчасти отражают недостаток биографических сведений о них, но в первую очередь их сделала таковыми потребность Борхеса «влить» их обратно в литературу. У Борхеса чувствуется великая к ним любовь, а также сильное чувство к Данте, Сервантесу, Уитмену, Кафке и прочим; но чувствуется и великая амбивалентность. Ощущение запоздалости, заставившее Борхеса осознать, что он больше напоминает своего Пьера Менара, чем Сервантеса, он перенес на всех прочих писателей, включая Гомера и Шекспира. «Я хочу, чтобы время сделалось площадью», — с тихой грустью говорит он в одном стихотворении. Торжеством борхесовского лукавства стало то, что в «Everything and Nothing» он сумел истолковать Шекспиров уход от дел в Стратфорд как следствие того, что тот устал «управлять своими сновидениями», устал от своей способности создавать «отвращение и ужас»[576], вызываемые несметными персонажами. Такой Шекспир — это обессилевший Бессмертный наподобие борхесовского Гомера. Воздадим Борхесу должное, отметив, что он начал и кончил очередным утомленным Бессмертным и обрел подлинное эстетическое достоинство благодаря своему амбивалентному вхождению в лабиринт канонической литературы.
Уолт Уитмен, не столько североамериканский Гомер (которым он хотел стать), сколько великий оригинал, опровергает, как мне кажется, борхесовское лабиринтное видение литературы как размывания личностей авторов, хотя сам Уитмен часто заявлял о желании вобрать все другие «я» в свою мессианскую обширность, емкость, вмещающую великие множества. Об этом, как было показано в главе об Уитмене, заявлял «Уолт Уитмен, американец, буян», а не самый подлинный Уитмен, не его «подлинное Я». Каким бы разным ни был Уитмен в своих стихах, еще более разнообразным было его влияние на других поэтов, как северо-, так и латиноамериканских. Важнейшее его воздействие на своих наследников почти всегда проявлялось в вытеснении, что видно по стихам Т. С. Элиота и Уоллеса Стивенса. Как бы важен Уитмен ни был для них, а также для Эзры Паунда (наперекор всем троим) и Харта Крейна (принимавшего это влияние с куда большей готовностью), можно утверждать, что самое существенное влияние Уитмен оказал на Латинскую Америку: Борхеса, Неруду, Вальехо и Паса.
Борхес, начинавший как уитменианец, от этого раннего влияния отшатнулся, но впоследствии развил зрелое и тонкое понимание Уитмена — пожалуй, лучшим его свидетельством стал его перевод фрагментов «Листьев травы» 1969 года. В 1920-х годах Борхес нападал на латиноамериканских уитменианцев за то, что те создали вокруг своего героя культ личности; он также очернил автора «Песни о себе», который якобы полагал, что называния предметов окажется достаточно для того, чтобы превратить их в нечто оригинальное, находящееся на верхних ступенях удивленья по Эмерсону. Но в 1929 году Борхес раскаялся, хотя выразилось это лишь в том, что он превратил Уитмена в обезличенного Борхеса, очередного достаточно немногословного модерниста. Будучи слишком умным, чтобы удовольствоваться таким Уитменом, Борхес предложил вторую и лучшую его трактовку в эссе «Заметки об Уитмене». В ней Борхес хорошо разграничил лирического героя, или маску, — Уолта Уитмена, и человека, или автора, — Уолтера Уитмена-младшего: «Один был целомудрен, сдержан и, пожалуй, молчалив; второй — страстен и оргиастичен. Множить различия нетрудно; важней понять, что обыкновенный бродяга-счастливчик, выведенный в стихах „Leaves of Grass“, не мог бы написать эти стихи»[577].
Но самые лучшие и больше всего объясняющие слова об Уитмене были сказаны Борхесом в интервью 1968 года:
Уитмен — один из поэтов, более всего повлиявших на меня в течение всей моей жизни. Мне кажется, существует тенденция смешивать мистера Уолтера Уитмена, автора «Листьев травы», с Уолтом Уитменом, протагонистом «Листьев травы», и мнение, что Уолт Уитмен не являет собою образа, пусть даже увеличенного образа самого поэта. В «Листьях травы» Уолтер Уитмен создал некий вид эпоса, протагонистом которого был Уолт Уитмен, — не тот Уитмен, который писал, но человек, которым он хотел бы быть. Конечно, я говорю это не в виде критики Уитмена; его произведения не следует читать как исповедь человека девятнадцатого века, но скорее как эпос, трактующий о вымышленном образе, утопическом образе, каковой в известной мере есть увеличение и проекция писателя, равно как и читателя. Вы, верно, помните, что в «Листьях травы» автор часто смешивает себя с читателем, и в этом, конечно, выражается его теория демократии, его идея, что один-единственный протагонист способен представлять целую эпоху. Значение Уитмена невозможно переоценить. Даже если принять во внимание стихи Библии или Блейка, о Уитмене можно сказать, что он был изобретателем свободного стиха. Его можно рассматривать в двух планах: один — это его гражданское лицо, тот факт, что писатель думает о толпах, о больших городах и об Америке, но есть также интимный элемент, хотя мы не можем быть уверены, вполне ли автор здесь искренен. Характер, созданный Уитменом, — один из самых достойных любви и памяти во всей литературе. Это характер, подобный Дон Кихоту или Гамлету, но не менее сложный и, возможно, более достойный любви, чем любой из них[578].
Сравнение Уолта Уитмена, героя «Листьев травы», с Дон Кихотом или Гамлетом — точно и интересно; Уитмен, действительно, является величайшим (и единственным) своим литературным персонажем, сильным творением. Гамлета, в сущности, непросто любить, сколь бы харизматичен он ни был, а вот Дон Кихота — просто, и Уолта Уитмена тоже. Все еще сложнее, чем получается у Борхеса: кто был тот доброволец-санитар, так самоотверженно помогавший раненым и умирающим в Вашингтоне во время Гражданской войны? Не был ли это одновременно Уолт Уитмен — лирический герой и Уолтер Уитмен-младший, слившиеся в тех обстоятельствах воедино? Образ Уолта Уитмена, бинтующего раны, столь же грандиозен, сколь образ убиенного Авраама Линкольна, — и, возможно, его проще полюбить. Элегик, сочинивший «Когда во дворе перед домом цвела этой весною сирень», заслужил право оплакивать Линкольна своим служением, литературным и жизненным. Лучшие стихотворения Уитмена выявляют в нем нечто диковинное и грандиозное; оно есть и в том образе Америки, который он собою представляет, — причем Америки и Южной, и Северной, как продемонстрировали латиноамериканские поэты.
Пабло Неруда — по общему мнению, самый универсальный из этих поэтов и может считаться законнейшим наследником Уитмена. Создатель «Всеобщей песни» — достойнейший его соперник среди всех, кто вышел из «Листьев травы»; мне, как любителю Харта Крейна и Уоллеса Стивенса, сделать это утверждение было нелегко. Я сомневаюсь в том, что Неруда, при всем разнообразии и напряженности своего творчества, по-настоящему достиг высот Уитмена (или Эмили Дикинсон), но в нашем веке ни один поэт Западного полушария не выдержит полноценного сравнения с ним. Его прискорбные сталинистские взгляды — в общем, нарост, эдакая бородавка на поверхности его стихов, но, за вычетом нескольких мест, они не слишком портят «Всеобщую песнь». В своем отношении к Уитмену Неруда шел по пути Борхеса: сначала ученичество, затем обличение и кульминация — сложное переосмысление творчества Уитмена в поздних стихах поэта. В интервью 1966 года с Робертом Блаем Неруда отделил латиноамериканскую поэзию (в лице себя самого и Сесара Вальехо) от стихов современных испанских поэтов, из которых многие были его друзьями: Лорки, Эрнандеса, Альберти, Сернуды, Алейсандре, Мачадо. За ними стояли великие барочные поэты испанского Золотого века — Кальдерон, Кеведо, Гонгора, — давшие имена всему существенному. Привлекательность Уитмена заключалась в том, что он учил видеть и называть то, чего прежде не видели и не называли:
Поэзия в Южной Америке — совсем другое дело. В наших странах видишь реки без названий, деревья, которых никто не знает, и птиц, которых никто не описывал. Нам легче дается сюрреализм, потому что все, что мы знаем, — ново. Следовательно, наш долг, как мы его видим, — выразить неслыханное. В Европе все уже нарисовано, в Европе все уже спето. В Америке — нет. В этом смысле Уитмен был великий учитель. Ведь что такое Уитмен? У него было не только напряженное сознание, но и широко раскрытые глаза! У него был потрясающий глаз на все — он научил нас видеть. Он был наш поэт.
Это больше похоже на идеализацию Нерудой Неруды, чем на удачное описание тонкого и уклончивого Уитмена. Впрочем, далее Неруда говорит, что «он не так прост, Уитмен, он сложный человек и лучшее у него — это когда он всего сложнее». Сложность Уитмена беспредельна; сложность Неруды — наверное, нет. Борхес с Нерудой друг друга недолюбливали; гуманный Борхес не спешил увлечься сталинизмом, а коммунист Неруда фыркал, что Борхес не живет в реальном мире, состоящем из рабочих, крестьян, Мао и Сталина. Однажды Борхес, человек не из тех, с кем хочется вступать в перепалку, ловко с Нерудой расправился:
Мне он кажется очень зловредным человеком… он написал книгу о южноамериканских тиранах, и у него было несколько строф против Соединенных Штатов. Теперь-то он понимает, что все это чушь. И ни слова против Перона. Потому что в Буэнос-Айресе на него было заведено дело — так мне потом объяснили — и он не хотел рисковать. Значит, когда ему нужно было кричать во весь голос, полный благородного негодования, у него и слова не нашлось против Перона. А ведь он был женат на аргентинке, он знал, что многие его друзья попали в тюрьму. Он все знал о том, в каком состоянии находилась наша страна — но ни слова против него.
Книга, о которой идет речь, — это «Всеобщая песнь» (1950); произнося эти слова в 1967 году, Борхес мог не без лукавства вспомнить свой великолепный рассказ «Алеф», который Энрико Марио Санти называл пророческой сатирой на Неруду: рассказ был написан в 1945 году и впервые опубликован в 1949-м, за год до энциклопедического эпоса Неруды. «Всеобщая песнь» состоит из примерно трех сотен отдельных стихотворений, распределенных по пятнадцати частям и написанных между 1938 и 1950 годами. Книга была загодя хорошо разрекламирована Нерудой и чилийской компартией, так что Борхес, безусловно, знал, чего ожидать. В «Алефе» Неруда сатирически изображен как соперник Борхеса, скудоумный Карлос Архентино Данери, невероятно плохой поэт, явно подражающий Уитмену. Очаровательным образом происходит полное уничтожение неоконченного труда Неруды; во «Всеобщей песни» делается попытка воспеть всю Латинскую Америку: ландшафт, деревья и цветы, птиц и зверей, злодеев — местных и приезжих, героев, в том числе Пабло Неруду, компартию и Великого Карателя Сталина, совершенные которым убийства Неруда, похоже, одобряет: «кара нужна». Борхес хладнокровно вершит литературную кару — заранее:
Только раз в жизни мне довелось видеть пятнадцать тысяч одиннадцатисложных стихов «Полиольбиона», топографической эпопеи, в которой Майкл Дрейтон представил фауну, флору, гидрографию, орографию, военную и монастырскую историю Англии; я убежден, что это творение, грандиозное, но все же имеющее границы, менее скучно, чем беспредельный родственный замысел Карлоса Архентино. Этот собирался объять стихами весь шар земной: в 1941 году он уже управился с несколькими гектарами штата Квинсленд, более чем с километром течения Оби, с газгольдером севернее Веракруса, с главными торговыми домами в приходе Консепсьон, с загородным домом Марианы Камбасерес де Альвеар на улице Одиннадцатого Сентября в Бельграно, с турецкими банями вблизи одного пляжа в Брайтоне. Он прочитал мне несколько трудоемких пассажей из австралийской зоны поэмы — в этих длинных, бесформенных александрийских стихах не было даже относительной живости вступления. Привожу одну строфу.
Так знайте: от столба рутинного правей (Он кажет путь тебе, коль путник ты не местный) Скучает там костяк. — А цвет? — Бело-небесный. — И вот загон овец — что твой погост, ей-ей!— Тут две смелые черточки, — вскричал он с ликованьем, — я слышу, ты уже ворчишь, но, поверь, их оправдает неминуемый успех. Одна — это эпитет «рутинный», который метко изобличает en passant неизбежную скуку, присущую пастушеским и земледельческим трудам, скуку, которую ни «Георгики», ни наш увенчанный лаврами «Дон Сегундо» никогда не посмели изобличить вот так, черным по белому. Вторая — это энергичный прозаизм «костяк» — от него с ужасом отшатнется привередник, но его найдет выше всяких похвал критик со вкусом мужественным. Да и в остальном эта строфа чрезвычайно полновесна. Во второй ее половине завязывается интереснейший разговор с читателем: мы идем навстречу его живому любопытству, в его уста вкладывается вопрос, и ответ дается тут же, мгновенно. А что ты скажешь про эту находку, про «бело-небесный»? Этот живописный неологизм вызывает образ неба, то есть важнейшего элемента австралийского пейзажа. Без него краски эскиза были бы слишком мрачны и читатель невольно захлопнул бы книгу, уязвленный до глубины души неизлечимой черной меланхолией. — Я распрощался с ним около полуночи[579].
Действительно, в худших местах «Всеобщей песни» Неруда управляется с растительностью, животными, птицами, реками, даже полезными ископаемыми Южной Америки. Комментируя «Алеф» в 1970 году, Борхес опроверг мнение, согласно которому Данери был задуман как подражатель Данте (приведенные выше стихи — явная пародия на Неруду и менее значимых подражателей Уитмену), перед этим снова проницательно отдав дань гомероподобному каталогизатору «Листьев травы»:
Когда я писал этот рассказ, мне было труднее всего сделать то, что так хорошо удалось Уолту Уитмену — составить ограниченный перечень бесчисленных предметов. Задача эта, разумеется, невыполнима, поскольку такое хаотическое перечисление можно только симулировать; всякий якобы случайный элемент должен был соединяться с соседним либо по какой-то тайной ассоциации, либо по контрасту.
Согласно резюме Борхеса, Алеф, каббалистический фетиш, или талисман, из рассказа, — это пространственный эквивалент вечности, в котором «все времена — прошлое, настоящее и будущее — сосуществуют одновременно. В Алефе все пространственное измерение вселенной находится в маленькой светящейся сфере диаметром не более дюйма». Если сравнивать с «Листьями травы» и «Всеобщей песнью», то это хорошее описание одиннадцатистраничного рассказа «Алеф», который представляет собою, среди многого прочего, критику поэтической безалаберности. Осмелюсь предположить, что Борхес имел куда больше общего — интеллектуально и формально — с Эмерсоном, чем с Уитменом.
Для Неруды Уитмен был идеализированным отцом, заменившим Неруде его настоящего отца — железнодорожника Хосе дель Кармен Рейеса. «Пабло Неруда» — псевдоним, более смелый, чем «Уолт Уитмен», сокращение от «Уолтера Уитмена-младшего». Так же как Уитмен не мог приступить к «Листьям травы», пока не узнал, что его отец, пьющий плотник-квакер Уолтер Уитмен-старший, умирает, Неруда не мог начать «Всеобщую песнь», пока не лишился своего «бедного сурового отца… могучего в дружбе, с полным стаканом». Идеализированного отца поэту лучше недопонимать, а Неруда, похоже, понимал Уитмена слишком хорошо. Творческие искажения Уитмена у Неруды были весьма осознанными; это хорошо подметила Дорис Соммер, написавшая, что Неруда пытался «уничтожить своего учителя, воскрешая старые модели, которые даже не позволяли ему раздразнить читателя обещаниями с учителем сравняться; с им подобными Уитмен распрощался еще в предисловии к своим стихотворениям». Может быть, и так — однако в лучших своих стихотворениях Неруда осмеливается напрямую сравнивать себя с Уитменом.
Все соглашаются, что лучшая часть «Всеобщей песни» — вторая, возвышенный цикл из двенадцати стихотворений, «Вершины Мачу-Пикчу». В восьмидесяти милях от перуанского города Куско, бывшей столицы империи инков, на вершинах Мачу-Пикчу в Андах лежит заброшенный город. Возвращаясь в Чили осенью 1943 года после трех лет службы генеральным консулом Чили в Мехико, Неруда остановился в Перу и поднялся на эти вершины. Прошло два года, и появились «Вершины Мачу-Пикчу». Это, наверное, лучшее на сегодняшний день введение в творчество Неруды для тех читателей, которым требуется помощь со стихами, написанными по-испански.
Джон Фельстинер отмечает, что в голосе Неруды в этой поэме звучит пафос Уитмена: «человеческое сопереживание, приветствие материальности и чувственности, внимание к обыкновенной жизни и труду, открытость будущему человечества, готовность поэта сделаться искупителем грехов». Последнее положение кажется мне самым важным, хотя у Неруды оно из самых проблемных: эмерсонианский гнозис Уитмена сильно отличается от манихейских коммунистических убеждений Неруды. Непосредственное сопоставление финалов «Вершин Мачу-Пикчу» и «Песни о себе» показывает лучшее у обоих поэтов и оказывается не в пользу Неруды:
…обо всем расскажите мне — цепь за цепью, звено за звеном и шаг за шагом, наточите ножи, что вы сохранили, вложите их в сердце мое и в руку, как реку широкую желтых сверканий, как реку истлевших давно ягуаров, дайте оплакать часы, дни, годы, века слепые, столетья созвездий. Дайте молчанье мне, воду, надежду. Дайте борьбу мне, железо, вулканы. Прильните телами ко мне, как магниты. Проникните в губы мои и вены. Говорите моими словами и кровью[580]. Я улетаю, как воздух, я развеваю мои белые кудри вслед за бегущим солнцем, Пусть течет моя плоть волнами, льется кружевными извивами. Я завещаю себя грязной земле, пусть я вырасту моей любимой травой, Если снова захочешь увидеть меня, ищи меня у себя под подошвами. Едва ли узнаешь меня, едва ли догадаешься, чего я хочу, Но все же я буду для тебя добрым здоровьем, Я очищу и укреплю твою кровь. Если тебе не удастся найти меня сразу, не падай духом, Если не найдешь меня в одном месте, ищи в другом, Где-нибудь я остановился и жду тебя.Оба поэта обращаются ко множествам людей; метафорика Неруды — смесь высокого барокко Кеведо с магическим реализмом или сюрреализмом: широкая река желтых сверканий, давно истлевшие ягуары и борьба, железо, вулканы, одушевляющие мертвых рабочих, которые в свою очередь «магнетизируют» и речь Неруды, и его желания. Это — достоверный пафос, напряженный и трудный, но менее убедительный, чем мягкая властность Уитменовых строк, сверхъестественно терпеливых и доброжелательных. Благородно призывая мертвых рабочих говорить его словами и кровью, Неруда выказывает тревогу, вызванную запоздалостью. Уитмен спрашивает, успеем ли мы высказаться прежде, чем он уйдет, не запоздаем ли мы, хотя он и ждет нас[581]. Неруда усвоил урок Уитмена — это видно по другому тексту, финалу стихотворения «Народ», превосходно дополняющему два заключительных трехстишия «Песни о себе»:
Поэтому не обижайтесь, если кажусь одиноким я, я не одинок: хоть я ни с кем, а говорю со всеми. И кто-то слушает меня, и те, кого пою, об этом знают; они рождаются, чтоб мир заполнить[582].Я не сомневаюсь, что Неруда, переводивший Уитмена, отсылает тут к нему, и сын с отцом наконец практически сливаются, во всяком случае на какое-то время. Неруда, кажется, согласился с мексиканским поэтом-литературоведом Октавио Пасом, который спорил с Борхесом и стремился соединить «общего» Уитмена с «частным» в заключительном приложении к своей книге «Лук и лира» (1956):
Уолт Уитмен — единственный великий поэт, который, похоже, пребывает в ладу с миром. Он не страдает от одиночества, его монолог — огромный хор. Несомненно, в нем уживаются по крайней мере два человека: поэт-трибун и частное лицо, скрывающее свои истинные эротические склонности. Но все же маска певца демократии — это нечто большее, чем просто маска, это его настоящее лицо. Вопреки тому, что говорилось недавно, поэтическая и историческая грезы у него полностью совпадают. Между его верованиями и окружающей действительностью нет пропасти. И это обстоятельство гораздо важнее, шире и весомее каких бы то ни было психологических нюансов. Иными словами, своеобразие поэзии Уитмена можно воспринять, только приняв во внимание иное своеобразие, еще более всеохватывающее и включающее в себя первое, — своеобразие Америки[583].
Это — замечательно неверно. Пас и Борхеса («то, что говорилось недавно») недопонял, и поэтическую сложность Уитмена недооценил. Дело не в «истинных эротических склонностях» и не в «психологических нюансах»; значение имеет Уитменова карта сознания, схема, в которой он противопоставляет друг другу два «я» и душу, отличную от обоих. Настоящее лицо Уитмена — не демократическое и не элитистское; оно — герметическое, и похоже, Неруда, вопреки себе самому, это понимал. Вероятно, латиноамериканский Уитмен представляет собою такую озадачивающую проблему для восприятия потому, что никто из ключевых авторов — Борхес, Неруда, Пас, Вальехо — не сумел прочесть «Песню о себе» и элегии из «Морских течений» достаточно внимательно.
Для контраста с латиноамериканскими поэтами я возьму великолепного поэта из Португалии — Фернандо Пессоа (1888–1935), в качестве фантастического вымысла превосходящего любое создание Борхеса. Пессоа, родившийся в Лиссабоне и происходивший по отцовской линии из евреев-конверсо, получил образование в Южной Африке и, как и Борхес, рос двуязычным. Собственно, до двадцати одного года он писал стихи только по-английски. Как поэт, Пессоа достиг высот Харта Крейна, на которого он очень похож, особенно в «Послании», цикле стихотворений о португальской истории сродни Крейнову «Мосту». Но какими бы сильными ни были многие лирические стихи Пессоа, они — лишь часть его творчества; он также создал ряд «запасных» поэтов — в их числе Алберту Каэйру, Алвару де Кампуша и Рикарду Рейша — и написал за них, или же в их качестве, целые тома стихов. Двое из них — Каэйру и Кампуш — великие поэты, совершенно не похожие ни друг на друга, ни на Пессоа, Рейш же — интересный второразрядный поэт.
Пессоа не был ни сумасшедшим, ни исключительно иронистом; он — перевоплотившийся Уитмен, но такой Уитмен, который дает «себе», своему «подлинному Я» и своей «душе» имена и пишет от них всех чудесные книги стихов, а сверх того — отдельный том под именем «Уолт Уитмен». Параллели слишком близки, чтобы счесть их совпадениями, особенно ввиду того что создание этих гетеронимов (термин Пессоа) последовало за погружением в «Листья травы». Уолт Уитмен, буян, американец, я из «Песни о себе», становится португальским евреем Алвару де Кампушем, морским инженером. Подлинное Я становится пастухом, пасторальным Алберту Каэйру, а Уитменова душа превращается в Рикарду Рейша, материалиста-эпикурейца, сочиняющего горацианские оды.
Пессоа снабдил всех троих поэтов биографиями и внешностью и дал им независимость от себя — настолько, что вместе с Кампушем и Рейшем называл Каэйру своим «повелителем», или поэтическим предшественником. Пессоа, Кампуш и Рейш испытали влияние Каэйру, а не Уитмена, а сам Каэйру не испытал ничьего влияния — он был «чистый», или прирожденный поэт, не получивший почти никакого образования и умерший в романтическом возрасте двадцати шести лет. Октавио Пас, один из апологетов Пессоа, охарактеризовал этого четверного поэта по-хорошему лаконично: «Каэйру — солнце, по орбите которого вращаются Рейш, Кампуш и сам Пессоа. В каждом из них есть частицы негации, нереальности. Рейш верит в форму, Кампуш — в ощущение, Пессоа — в символы. Каэйру не верит ни во что. Он существует».
Португальская исследовательница Мария Ирен Ромальху де Соуза Сантеш, канонический специалист по Пессоа, понимает эти гетеронимы как «истолкование — отчасти с позиции соучастника, отчасти с позиции возмущенного — не только стихотворений, но и сексуальных и политических предпочтений Уитмена». Едва подавленная гомосексуальность Пессоа нашла выход в яростном мазохизме Кампуша, склонности к которому у Уитмена не было; демократическая же идейность «Листьев травы» была для португальского визионера-монархиста неприемлема.
Ромальху де Соуза Сантеш пытается уйти от разговора об ужасе перед «заражением», который Пессоа испытывал в связи с Уитменом, но страхи влияния — дело нешуточное. Подобно Д. Г. Лоуренсу в «Исследованиях классической американской литературы», Пессоа-Кампуш выказывает колоссальную амбивалентность в отношении той смелости, с которой Уитмен пытался объять вселенную и всех в ней; и все же кажется, что Пессоа, в отличие от идеализировавших его исследователей, сознавал, что отсечь его поэтические «я» от уитменовых невозможно, несмотря на великолепно придуманные гетеронимы. Даже Ромальху де Соуза Сантеш, попытавшись по-феминистски уйти от разговора о тяготах влияния, с блеском возвращается к суровой действительности временного родства, поэтического семейного романа:
Из имплицитного диалога между «собою» и подлинным Я Уитмена Пессоа высек два отчетливо различающихся образа голоса. Уитмен — раньше — сумел, благодаря своему связующему, органическому сознанию, соединить эти два голоса в одно динамическое целое. Полвека спустя Пессоа, погруженный в потоки современной мысли и хорошо знакомый с Ницше, Маринетти и особенно с Пейтером, которого переводил, должен был искать новую стратегию самовыражения в уитменианской манере — как на техническом, так и на философском уровне. Обнаружив два потенциально противопоставляемых друг другу «я» в «Листьях травы» и, главным образом, в «Песни о себе», Пессоа нашел способ поэтически запечатлеть непрестанный ток единого сознания, мечущегося между двумя основными отношениями к Бытию. Каэйру и Кампуш перепевают «Песню о себе» дуэтом, и голос солирующего навеки оттенен неощутимым присутствием другого. Понимание одного «персонажа» как неотъемлемой части другого дает новое понимание гетеронимов.
Согласно этой точке зрения, которую я разделяю, Пессоа соглашается на роль в драме поэтического влияния, но выводит чтение Уитмена на более высокий уровень осознанности, вынося вовне духовную «картографию» своего предшественника в виде взаимодействия двух вымышленных поэтов. Я хочу сначала применить эту трактовку к стихотворениям Каэйру и Кампуша, а затем вернуться к Неруде, чье поэтическое разнообразие привлекло так много внимания исследователей. Когда Рикардо Нефтали Рейес взял псевдоним Пабло Неруда и признал Уолта Уитмена своим приемным отцом, он сделал первый шаг в направлении гетеронимического принципа Пессоа. Вне зависимости от того, будет ли «Всеобщая песнь» со временем признана песнью всеамериканской, займет ли она место «Листьев травы», как предсказывают некоторые ее почитатели, существует огромный корпус стихотворений Неруды, непохожих на его энциклопедический эпос. Его книги и периоды его весьма разнообразной карьеры состоят друг с другом в исключительно уитменианских отношениях: в стихотворениях проявляют себя очень разные «я» Неруды — подобно тому как Каэйру и Кампуш, резко отличаясь друг от друга, остаются уитменианскими «я». Каэйро, подобно подлинному Я Уитмена, находится и в игре, и вне ее — наблюдает ее и восхищается ею:
Теми словами или не теми, Кстати или некстати, Иногда мне удается сказать, что думаю. Порой неумело и путано, Я всегда пишу стихи по наитию. Писать стихи — вовсе не означает водить пером по бумаге, Стихотворство — это потребность моего существа, То, что в меня привносит солнце. Я пытаюсь поведать о том, что чувствую, Мысль моя — тоже чувство. Облекая мысли в слова, я слов не ищу — Они приходят сами, Я не прогоняю слова сквозь коридоры рассудка; Не всегда удается добыть истину. Моя мысль медленно переплывает реку! Тяжелы ей одежды, в которые ее облекли. Я стараюсь сбросить с себя все, чему обучен, Разбередить память, Соскоблить краску, которой замазаны чувства, Расцарапать истинные ощущения, Освежевать себя, чтобы стать самим собой — не Алберто Каэйро, Но человечным животным в доподлинном естестве[584].Подлинное Я Уитмена не сочиняло «Листьев травы» и насмехалось над буйным Уолтом в «Когда жизнь моя убывала вместе с океанским отливом» после того, как Уолт подверг его мастурбационному изнасилованию в «Песни о себе». Интуиция Пессоа подсказала ему, какое стихотворение это Я Уитмена могло сочинить: непроизвольное, выражающее человечное животное (или естественного человека), не содержащее в себе ни знания, ни воспоминаний, ни прежних изображений чувств. Может ли такое стихотворение быть? Понятно, что нет, и Пессоа, разумеется, это понимает; но стихотворения Каэйро суть поразительные попытки написать то, что написать нельзя. На другом выразительном полюсе, рядом с самохвальной рапсодией демонического, буйного Уолта, Пессоа располагает возмутительного Кампуша; вот, например, его «Приветствие Уолту Уитмену»:
Португалия — Всюду — Всегда, одиннадцатое июня тысяча девятьсот пятнадцатого… Эла-а-а-а-а-а! Отсюда, из Португалии, где все эпохи едины в моем мозгу, Приветствую тебя, Уолт, мой брат по Вселенной, — Я, с моноклем, в пиджаке с зауженной талией, Тебя недостоин, ты это знаешь, Уолт, Недостоин посылать тебе приветствие, мне этого не дано… Во мне слишком много инерции, я слишком часто скучаю, Но я породы твоей, ты знаешь об этом, я понимаю тебя и люблю, И хотя я не знал о тебе, рождаясь в год, когда ты умирал, Но знаю, что ты меня тоже любил и знал меня, в этом счастье мое, Я знаю, что ты меня знал, увидел меня и постиг, Я знаю, что это был я, хоть в Бруклине лет за десять до моего же рождения, Хоть на Руа-де-Оуро, в размышлениях обо всем, чего нет на Руа-де-Оуро, И так же, как чувствовал ты, — чувствую я, так пожмем же руки друг другу, Руки друг другу пожмем, Уолт, руки пожмем, а Вселенная будет в душах у нас танцевать. О всегда современный и вечный певец конкретности абсолюта, Страстный любовник растленной Вселенной, Великий развратник, причастный растленью предметов, Возбуждаемый деревом, камнем, личностью или профессией, Гон событий, случайных встреч, наблюдений серьезных, Мой основной возбудитель, на котором держится все, Мой великий герой, перепрыгнувший Смерть, Мычанием, визгом и ревом славящий Бога! Певец жестокого братства и всеобщей нежности, Демократ величайший, причастный всему душою и телом, Карнавал поступков, вакханалия тем, Близнец любого порыва, Жан-Жак Руссо природы, творящей машины, Гомер ускользающей плоти, почти что бесплотной, Шекспир ощущений, постигших котел паровой, И Мильтон, и Шелли горизонта грядущего электричества! Плацента всех выражений лица, Спазм неизбежный всего, в чем просыпаются силы, Платный сожитель Вселенной, Публичная девка звездных систем…[585].Эта фантазия 1915 года разлетелась на двести с лишним строк; к ней примыкают две более длинные уитменианские феерии, «Триумфальная ода» и тридцатистраничная «Морская ода», шедевр Кампуша и одна из главных поэм этого века. За исключением лучших частей Нерудовых «Местожительство — Земля» и «Всеобщей песни», ничто из сочиненного после Уитмена не сравнится с «Морской одой» по буйной изобретательности. «Приветствие Уолту Уитмену», уитменианское реактивное образование («публичная девка звездных систем»), возвышенной амбивалентности которого позавидовал бы Д. Г. Лоуренс, заканчивается благословением Уитмена — «любовника бессильного и страстного всех девяти харит».
Федерико Гарсиа Лорка поприветствовал Уитмена пятнадцать лет спустя (в 1930 году, тогда же, когда Харт Крейн опубликовал «Мост»), написав «Оду Уолту Уитмену», проигрывающую в сравнении с песнопениями Кампуша; впрочем, Лорка, в отличие от Пессоа, знал Уитмена только «понаслышке» и воображал «красивого старика» и «седых мотыльков бороды». Пессоа-Кампуш, весь проникшийся Уитменом и загоревшийся им, боролся с ним за свою жизнь как поэта, используя, в том числе, Борхесов метод (до Борхеса) — становясь Уолтом Уитменом, подобно тому как Борхесов Пьер Менар стал Сервантесом, чтобы присвоить авторство «Дон Кихота»[586].
Неруда понимал — так, по крайней мере, можно сказать по его уитменианским стихотворениям, — что создатель «Листьев травы» был уклончив, застенчив, раним, неизменно переменчив. Как отметил Фрэнк Менчака, «Неруда, должно быть, понимал и то, что „я“, которое в стихотворениях Уитмена якобы везде, куда ни кинь, на самом деле там нигде не найти». Возможно, смерть — часть этого «нигде» и у Уитмена, и у Неруды, но она — один из тех предметов творчества Неруды, в которых чувствуется присутствие Уитмена, бинтующего раны. В «Местожительство — Земля», высшем достижении раннего Неруды, мы видим, как он борется с мрачностью в духе элегического Уитмена, воображающего себя частью морского течения. Неруда говорил, что это «поэзия без выхода», и утверждал, что сумел справиться с отчаянием только благодаря своей помощи обреченным республиканцам во время гражданской войны в Испании. Лео Шпитцер, один из значительных современных литературоведов (которых можно пересчитать по пальцам), назвал «Местожительство — Земля» «хаотическим перечислением» — как если бы темная сторона Уитмена вышла из-под контроля, как если бы Уитменов творческий процесс свелся к тому, что Шпитцер назвал «разлагающей деятельностью», или как если бы жизнь Уитмена убыла вместе с океанским отливом.
Если вспомнить гетеронимы Пессоа, то стихотворения из «Местожительство — Земля» написаны частью Каэйру, замкнуто в Кампуше, Уитменом, заточенным внутри самого себя. Наверное, это лучше всего видно в финале безысходного стихотворения «Walking around»:
Поэтому день понедельник пылает, как озеро нефти, завидев, как я прохожу с лицом узника из одиночки, и воет — в движеньи своем, словно раненое колесо, и к ночи стремится, пульсируя, будто горячая кровь. К каким-то углам он толкает меня и к пропитанным сыростью зданьям, к больницам, где кости торчат из окна, к каким-то сапожным, которые уксусом пахнут, и к улицам жутким, как щели. Птицы есть с оперением желтым, как сера, и грязная требуха висит на дверях тех домов, которые я ненавижу, есть челюсти, зубы вставные, забытые где-то в кафе, есть зеркала, которым бы плакать пора от страха и срама, и всюду отравы, и зонтики, и пуповины. Я прохожу спокойный, глазастый, обутый в ботинки. Гневаюсь и тут же забываю про свой гнев. Я иду через конторы, и ортопедические кабинеты, И дворы, где на проволоке просыхает белье: Рубашки, кальсоны и полотенца, и все они плачут Медленными, мутными слезами[587].Сильнейшие места «Всеобщей песни» — самое действенное противоядие против этой суицидальной разновидности уитменианства у Неруды. Роберто Гонсалес Эчеваррья назвал «Всеобщую песнь» «поэтикой предательства», мрачным предвестием ужасного пафоса гибели Неруды 23 сентября 1973 года, через двенадцать дней после того как убийство чилийскими солдатами друга поэта — президента Сальватора Альенде — положило начало расправам в стране. У Уитмена тема предательства — из незначительных; в наше плохое для литературоведения время, когда все политизировалось, его интересу к политике уделяется излишне много внимания. Неруду же предательство — Испанской ли Республики, военными ли Чили — поэтически освободило, избавило от темной стороны, которую он унаследовал от Уитмена, но без Уитменовой сверхъестественной способности рождать, нынче и вечно, в себе восход[588]. Главный урок, который мы можем извлечь из влияния Уитмена на Борхеса, Неруду, Паса и множество других, состоит в том, что нужно обладать такой возмутительной самобытностью, которой обладал Пессоа, чтобы надеяться сдержать это влияние, не причинив вреда своему, или своим, «я» как поэта.
22. Беккет… Джойс… Пруст… Шекспир[589]
У Ричарда Эллманна в фундаментальной биографии «Джеймс Джойс» есть чудная виньетка о дружбе Джойса с Беккетом — первому на тот момент было пятьдесят лет, второму двадцать шесть:
Беккет не мог без молчания, Джойс тоже; они вели беседы, зачастую состоявшие из молчания, обращенного друг к другу, оба полные печали, которую у Беккета вызывал в первую очередь мир, а у Джойса в первую очередь он сам. Джойс сидел в своей привычной позе — нога на ногу, носок той, что сверху, под плюсной той, что снизу; Беккет, тоже высокий и стройный, принимал такое же положение. Внезапно Джойс спрашивал что-то вроде: «Как идеалист Юм мог писать историю?» Беккет отвечал: «Историю изображений».
Источником Эллманна был разговор с Беккетом, состоявшийся в 1953 году — прошло больше двадцати лет, — но у Беккета была ясная память. Джойс умер в 1941 году, не дожив до шестидесяти; Беккет — в 1989-м, в восемьдесят три года. Беккет всегда любил Джойса как второго отца и начинал как верный ученик мастера. Из всех книг Беккета я больше всего люблю «Мерфи», его первый опубликованный роман, написанный в 1935 году и не издававшийся до 1938-го, но эта книга — такая же джойсовская по духу, как любой роман Энтони Бёрджесса, и, безусловно, внешне имеет мало общего с творчеством зрелого Беккета — с трилогией («Моллой», «Мэлон умирает», «Безымянный»), с «Как есть», с главными пьесами («В ожидании Годо», «Эндшпиль», «Последняя лента Крэппа»). Я хочу начать разговор с «Мерфи» отчасти ввиду того удовольствия, которое я неизменно получаю от этого романа, отчасти для того, чтобы присмотреться к Бек-кету в его наиболее джойсовской форме. Сам Джойс любил этот роман — он даже запомнил наизусть описание окончательного избавления от праха Мерфи:
Несколько часов спустя Купер вынул пакет с пеплом из кармана, куда он положил его для пущей сохранности в начале вечера, и со злостью запустил в мужчину, который сильно оскорбил его. Лопнув, пакет отскочил от стены и упал на пол, где тотчас стал объектом активной единоличной обработки, передач, остановок, ударов по воротам, игры головой и даже удостоился некоторого признания со стороны джентльменского кодекса. Ко времени закрытия тело, разум и душа Мерфи свободно разошлись по всему полу зала и до того, как новый рассвет пролился на землю серым светом, были выметены с песком, пивом, окурками, стеклом, спичками, плевками и блевотиной[590].
Этот обаятельно-шокирующий пассаж призван напомнить нам (посредством упоминания «тела, разума и души») о завещании Мерфи, которое зачитывается несколькими страницами ранее:
В рассмотрении того, как распорядиться моим телом, разумом и душою, я желаю, чтобы они были преданы сожжению, помещены в бумажный мешок и доставлены в театр «Эбби», Нижняя Эбби-стрит, Дублин, и без задержки прямо в то место, которое великий добрый лорд Честерфильд именовал обителью нужды, где прошли их счастливейшие часы, с правой стороны от входа в партер, и я желаю также, чтобы по их размещении там, была дернута цепочка и спущена вода, если возможно, во время спектакля, и все это исполнено без церемоний и горестного вида[591].
То, что можно было бы назвать негативной жизнерадостностью «Мерфи», к счастью, неисчерпаемо. Красота этой книги — в буйстве языка: это «Бесплодные усилия любви» Сэмюэла Беккета. Она не слишком беккетовская — отчасти потому, что откровенно джойсовская, отчасти потому, что это — единственная основательная вещь Беккета, которая вписывается в историю изображений, роман из тех, что писали Диккенс, Флобер и ранний Джойс, а не более проблематичная «анатомическая» форма (по излюбленному определению Нортропа Фрая) Рабле, Сервантеса и Стерна. «Мерфи» — это удивительно последовательное повествование; когда же в нем появляются двое моих любимых персонажей, дублинские пифагорейцы Нири и Уайли, иногда — в обществе Кунихан и ее «жарких масляных ягодиц», Беккет позволяет им вести беседы такой живости и такой веселости, каких он больше не даст ни нам, ни себе:
— Вы оба, сядьте там, передо мной, — сказал Нири, — и не отчаивайтесь. Запомните, никакого треугольника, пусть даже с самым тупым углом, нет, а имеется окружность, отрезок которой проходит через его злосчастные вершины. Помните, один из разбойников был спасен.
— Наши медианы, — сказал Уайли, — или как их там, черт возьми, пересекаются в Мерфи.
— Вне нас, — сказал Нири. — Вне нас.
— В свете, льющемся извне, — сказала мисс Кунихан.
Теперь была очередь Уайли, но он ничего не мог подыскать.
Лишь только до него дошло, что ему не удастся найти вовремя ничего, что делало бы ему честь, как он сделал вид, будто ничего и не ищет, нет, как будто он дожидается своей очереди. Наконец Нири безжалостно произнес:
— Тебе ходить, Уайли.
— И лишить даму последнего слова! — воскликнул Уайли. — И затруднить даму поисками нового! Право слово, Нили!
— Ничего страшного, — сказала мисс Кунихан.
Теперь была чья угодно очередь.
— Очень хорошо, — сказал Нири. — К чему я, собственно, вел, что я хотел предложить, это вот что. Пусть наша беседа будет беспрецедентной как фактически, так и в литературе, каждый будет говорить, насколько он на это способен, чистую правду, насколько это позволяют его знания. Это-то я и имел в виду, когда сказал, что вы предвосхищаете тон моих слов, если не сами слова. Пришла пора нам троим расстаться — самое время[592].
Нири произносит лишь первую, оптимистическую часть любимой Беккетовой цитаты из Блаженного Августина, на которой выстроится весь этос «В ожидании Годо»: «Не отчаивайся — один из воров был спасен; не обольщайся — один из воров был проклят». Беккет как-то сказал: «Меня интересует облик идей — даже если я их не разделяю… У этой фразы чудесный облик. Облик по-настоящему важен». У протестантов, оглядывающихся на Августина, облик божественного прощения и противоречив, и произволен, а Беккет, убежденный атеист, воспитывался все же в протестантском духе. В «Мерфи», вещи упоительно атеистической, больше чистого комизма, чем в любой другой вещи Беккета. Мрачные обертоны в ней повсеместны, но постоянная бодрость удерживает их на периферии. На протяжении всей книги Джойса сдерживает другое и последнее «романическое» влияние, которое испытывал Беккет: влияние весьма отличного от Беккета Пруста, о котором в 1931 году Беккет опубликовал короткую, живую книгу. Ее апогей — представление о Прусте, составить которое мог, наверное, только последователь Джойса:
Для Пруста качество языка важнее любой этической или эстетической системы. Поистине он не пытается разделить форму и содержание. Одно — это конкретизация другого, раскрытие мира. Мир Пруста метафорически выражен ремесленником, так как метафорически постигнут художником: это непрямое, сравнительное выражение непрямого и сравнительного восприятия[593].
Если заменить «Пруста» на «Джойса» или «Беккета», то этот пассаж по крайней мере не потеряет в убедительности. В начале «Пруста» Беккет говорит о «нашей самодовольной воле к жизни»[594] и присоединяется к Прусту в его шопенгауэрианском противостоянии этой воле. Из этого монографического эссе возникло его творческое кредо — две ясные фразы, наводящие мост между Джойсом и Прустом:
Плодотворно лишь то исследование, которое сосредоточено на раскопках, погружении, стяжении духа, схождении. Художник деятелен, но в отрицательном смысле, он уходит от ничтожности лежащих за пределами круга явлений и стремится к центру водоворота[595].
Это схождение в бездну своего «я» в большей мере определяет трилогию Беккета, чем «Поминки…» или «Поиски…». В Джойсе Беккета более всего восхищало — любовь в данном случае ни при чем — то сверхъестественное мастерство, которое тот неизменно выказывал. Беккет никогда не представлял себе Джойса подавленным materia poetica — материалом, претворенным им в «Улисса» и «Поминки…». Беккетов Пруст, напротив, представлен противоположным ему литературным отцом, который имел смелость быть жертвой и пленником своего материала, принимать его с романтической тревогой. В эссе Беккета имя Джойса не упоминается, но он подразумевается под художником классической школы, противопоставленным романтику Прусту (и Беккету) и пишущим так, как те (в отличие от Джойса) живут, то есть во времени:
Художник классической школы исходит из предпосылки собственного всеведения и всесилия. Он искусственным образом возвышает себя над временем, чтобы придать рельефность хронологии своего произведения и качество причинности — механизмам его развития. За хронологией Пруста крайне сложно уследить, события развиваются судорожно, а его персонажи и темы, хотя они, казалось бы, подчиняются почти безумной внутренней необходимости, представлены с замечательным, вызывающим в памяти Достоевского, презрением к пошлости правдоподобного сцепления фактов[596].
Это даже больше относится к «Мерфи», чем к «В поисках утраченного времени», и это уже выступление в защиту трилогии. «Чем больше Джойс знал, тем больше он мог»; альтернатива — «работа с бессилием, неведением»[597]. Эти слова следует понимать как метафору неких крайне обостренных состояний сознания, породивших «В ожидании Годо», трилогию и «Как есть», вещь по-настоящему сногсшибательную.
Едва ли, на мой взгляд, эти состояния являются сущностно иными ступенями сознания — скажем так, сознания сознания, как в посткартезианской аллегории Хью Кеннера, чей Беккет — по сути, последний из модернистов, комический эпилог Паунда, Элиота, Джойса (и Уиндэма Льюиса!) и, следовательно, последний свидетель уничтожения Запада Просвещением.
Беккетово представление о наших невзгодах — мысль скорее постпротестантская, вызванная к жизни Шопенгауэром, а не Декартом. Самосознание — одна из составляющих того, как Беккету виделось наше вертиго, но самосознание у него — лишь очередной плод ненасытной воли к жизни. Даже Шопенгауэр, одержимый влечением по ту сторону принципа удовольствия и красноречиво его выражавший, был лишь очередным запоздалым его изобразителем, так же как после него — Фрейд. Властители воли к жизни, среди прочих, — Фальстаф и Макбет; точнее, Фальстаф — повелитель, а Макбет — жертва. Гамлет, который, конечно, не давал покоя Беккету, хотя тот и утверждал, что предпочитает Расина, — и повелитель, и жертва, и в этом двойном качестве он наполняет собою Беккетову каноническую пьесу «Эндшпиль». Гамлет Беккета создан по французской модели, согласно которой чрезмерная сознательность отменяет деяние, и несколько отстоит от Гамлета Шекспира. Т. С. Элиот, который был бы рад предпочитать французского Гамлета, полагал: «Гамлет Лафорга — такой подросток, а шекспировский Гамлет — нет, его этим не объяснишь и не оправдаешь»[598]. Беккетов Хамм, как и Лафоргов Гамлет, — подросток, увеличенный до масштаба сокрушенного бога или демиурга. Но Хамма обременяет не самосознание; в нем постоянна пришедшая в состояние ужасного разложения воля к жизни, всегда остававшаяся даймоном Беккета. Если вы художник, то вы страдаете от сопутствующего этому призванию причудливого усиления воли к жизни, которое поначалу является жаждой признания, а в конце концов — бессмертия. Беккет, похоже, был не худшим и не менее порядочным человеком, чем всякий другой сильный писатель, даже гораздо лучше и порядочнее многих: бесконечно сердобольный, безмерно добрый, хотя и еще более бесконечно замкнутый. Но, будучи писателем, он страдал, как страдают все писатели; чем сильнее писатель, тем сильнее страдание, — а Беккет был очень сильный писатель, его скорее, чем Борхеса и Пинчона, можно назвать последним (на сегодня) писателем, занимающим неуязвимое положение в Каноне.
Когда он начал писать по-французски и потом переводить себя обратно на английский, он стилистически освободился от Джойса, и над ним больше почти не тяготело Прустово мировоззрение, хотя они оба и «ведут род» от Шопенгауэра. Никто, столкнувшись с «Эндшпилем» или «Как есть», не найдет, что Беккету недостает странности, осязаемой самобытности. Его густая тень лежит на пьесах Пинтера и Стоппарда; его проза кажется тупиком: эту манеру никому ни расширить, ни углубить. «Эндшпиль», быть может, окажется эндшпилем последнего из главных периодов Западного канона: мы с тревогой поняли, что дожидаемся Годо, который окажется демиургом новой Теократической эпохи и чьего пришествия Беккет желал бы не больше, чем любой из нас. Что на наших набирающих силу шабашах культурных исследований будут делать с «Эндшпилем» и «Как есть»? Разве что указывать на них — а также на «В поисках утраченного времени», «Поминки по Финнегану» и сочинения Кафки — как на апофеоз старых недобрых времен, потерянные рай эстетов? Беккет, как и Джойс, предполагает читателя, знающего Данте и Шекспира, Флобера и Йейтса, а также всех прочих великих, вечно живых мужчин и женщин (если вспомнить хвалебные слова Кольриджа о Шекспире)[599]. У театра свои традиции и своя преемственность, и Беккет-драматург будет жить столько же, сколько Шекспир и Мольер, Расин и Ибсен, — и его будут больше смотреть, чем читать. Беккету-прозаику грозит то же затмение, что и его предшественникам Джойсу и Прусту, так как новые теократы будут насаждать свой квазипросвещенный мульти культурный неканон. Какие шансы у «Мэлон умирает» или «Как есть» против «Меридиана» Элис Уокер и прочего прописанного нам корректного чтения? Мой жанр — погребальный плач, и я смотрю на вещи достаточно смиренно и трезво, чтобы видеть залог «канонического» существования Беккета в «Эндшпиле», «В ожидании Годо» и «Последней ленте Крэппа», поэтому ниже, к сожалению, о поздних недраматических вещах Беккета говорить не буду.
Притом что протагонисты у Беккета поразительно разнообразны, почти все они имеют одно общее свойство: они повторяются, они обречены раз за разом рассказывать и разыгрывать одну и ту же историю. Они наследуют Вечному жиду, Старому мореходу Кольриджа, Летучему голландцу Вагнера и охотнику Гракху Кафки. Жанр Беккета — трагикомедия (недвусмысленное определение «В ожидании Годо»)[600]; при всей мрачности воздействия, его манера — не трагическая, если не считать «Эндшпиля». Нельзя сказать, что пьеса «В ожидании Годо», должным образом поставленная и сыгранная, смотрится легко; но я всякий раз хочу поскорее увидеть ее снова, а вот чтобы посмотреть даже хорошую постановку «Эндшпиля», вещи более сильной, но и более жестокой, мне приходится собираться с силами. Хамм, вздорный Гамлет «Эндшпиля», — практически идеальный солипсист, и изобразительную силу Беккета, явленную в этой пьесе, подчас трудно выдержать. Устойчивая популярность «В ожидании Годо» как-то связана с печалью двух клоунов, Гого и Диди. Но в конце концов эта пьеса — притом что она мягче «Эндшпиля» и менее апокалиптична — оказывается в своих импликациях не веселее поздних вещей Ибсена. Дожидаться Годо — это, в общем, то же, что ждать, когда мы, мертвые, пробудимся.
«Эндшпиль» выходит из шекспирианской парадигмы, в которой элементы «Короля Лира», «Бури», «Ричарда III» и «Макбета» оказываются наложены на «Гамлета»; но «В ожидании Годо», как отмечают все исследователи, восходит к водевилю, пантомиме, цирку, мюзик-холлу, немой кинокомедии, а если брать глубже, то к источнику этого всего: фарсу, средневековому и позднейшему. «В ожидании Годо» кажется вещью настолько же архаической, насколько «Эндшпиль» — пророческой: былая Теократическая эпоха встречается с тою, что всегда несется на нас снова. Все исследователи опять же сходятся на том, что «В ожидании Годо» не оставляет дух протестантской Библии: Каин и Христос как будто бы где-то рядом, но Годо не является Богом, как не является им и жуткий Поццо. Его имя — произвольно и бессмысленно; неважно, откуда оно взялось — из Бальзака ли (которого Беккет терпеть не мог), из Беккетовой ли жизни. О христианстве и «В ожидании Годо» Беккет высказался с жестокой определенностью: «Христианство есть мифология, с которой я хорошо знаком, и я ею пользуюсь. Но не в этом случае!» Никогда не следует забывать о том, что Беккет более чем разделял неприязнь Джойса к христианству и к Ирландии. Оба предпочли неверие и Париж, и обилие важных современных писателей из Ирландии Беккет объяснял тем, что страна, настолько замученная англичанами и священниками, была вынуждена петь. Спасение, на которое Беккет едва ли рассчитывал, также недоступно и Владимиру с Эстрагоном в этой наименее августиновской по духу из пьес — несмотря на афоризм о двух ворах.
Беккет опасался, что когда-нибудь «В ожидании Годо» может показаться «вещью своего времени». Я еще помню, как впервые увидел спектакль по этой пьесе, в 1956 году в Нью-Йорке, с Бертом Ларом в роли Эстрагона и Э. Г. Маршаллом в роли Владимира, которых начисто переиграли Курт Казнар в роли Поццо и Элвин Эпстейн в роли Лакки. Беккет, посетить спектакль отказавшийся, заклеймил его «ужасно неточной и вульгарной постановкой». Перечитывая пьесу в 1993 году, понимаешь, что некоторая «своевременность» в ней есть, но дело, возможно, в том, что мир сорокалетней давности, по ту сторону шестидесятых, уже кажется погруженным в бездну времен где-то на век. То, от чего тогда мне было не по себе, теперь вызывает чувства ностальгические; совсем другое дело «Эндшпиль». Хамм — одновременно шахматный король, которому все время угрожает «съедение», и дурной игрок, хотя неясно, с кем он может играть, если не считать нас, публики. Эстрагона и Владимира, играющих исключительно «на ожидание», дóлжно представлять великими артистами (и великим артистам), и между ними и публикой должна устанавливаться дружественная связь. Беккет явно не хотел, чтобы его бродяги нас очаровывали, но тогда ему следовало сделать их другими. Хамма, наименее очаровательного из солипсистов, покойный Берт Лар сыграть бы не мог; зато никто (я надеюсь) не дал бы Лару роль Поццо, предшественника Хамма.
Я увидел «В ожидании Годо» прежде, чем прочел, и помню, как мне стало не по себе от цитаты из Шелли, произнесенной Ларом, когда всходила луна: «Побледнела, устав… взбираться на небеса и глядеть на таких, как мы»[601]. Беккет, как и Джойс, не разделял презрения к Шелли, которое высказывал Элиот (как выяснилось, Элиот сам его не разделял). Слова, обращенные Шелли к луне, служат, по сути, эпилогом первого действия:
Не потому ль ты так бледна, Что над землей вставать устала, Блуждая в небесах одна, Ты улыбаться перестала, И, бесконечный обойдя простор, Остановить нигде не можешь взор?..[602]Шелли, скептик отчасти юмовского толка (вопреки репутации платоника), возможно, иронически заигрывает тут с епископом Беркли; как бы то ни было, я подозреваю, что Беккет истолковал эти слова именно в таком ключе, чем и объясняется то, что Эстрагон их цитирует. По Беркли, предметы не существуют сами по себе, они обретаются в нашем рассудке, поскольку мы их воспринимаем, — и луна у Шелли пародирует берклианское субъективное сознание, безрадностное и изменчивое оттого, что ни одному человеку не дано достигнуть постоянства предмета. «Такие, как мы» недостойны взгляда луны, поэтому мы не обретаем существования.
Блуждающая в одиночестве луна Шелли символизирует страх Эстрагона быть оставленным Владимиром, выражаемый им в угрозах Владимира бросить. Этот страх родствен суицидальной мании Эстрагона, с которой связано сравнение им себя с Христом. Биограф Беккета Дейдре Бэр пишет, что Эстрагон первоначально звался Леви, и, наверное, можно предположить, что Беккет задумал его по образу своих друзей-евреев, убитых фашистами, в частности собрата-джойсеанца Поля Леона. Существует зыбкая, но неизменно пугающая связь между «ожиданием» Годо и тем тревожным ожиданием, из которого во многом состояла скромно-героическая деятельность Беккета во французском Сопротивлении. Страх смерти явно тяготеет над «В ожидании Годо», и ироническая пародия на уход Беркли от принципа реальности — один из аспектов, не дающих этой пьесе угодить в «вещи своего времени».
Вскоре после начала второго действия Шелли возвращается: Эстрагон примеряет его образ мертвых листьев[603] ко «всем этим мертвым голосам»[604], ко всем потерянным Беккетом друзьям и любимым. Последующая истерика Поццо подкрепляет сетования на смертность: «Они упрямо рожают и рожают на погосте, день блеснет на миг, и снова кругом ночь»[605]. Ранее, в потрясающем причитании Лаки, епископ Беркли получает диалектическую отповедь: «одним словом после смерти епископа Беркли невозвратимая утрата на душу населения составляет один дюйм четыре унции на душу населения»[606]. Объективированные смертью, мы лишаемся существования, а прежде того нам не дает покоя вопрос — существуем ли мы на самом деле. Так, Владимир опасается, что он, возможно, лишь видится Эстрагону во сне, что кто-то, возможно, смотрит на него, пока он смотрит на спящего Эстрагона.
В такие моменты Беккет как драматург добивается эффекта, изобильная странность которого совершенно несоизмерима с его исходной самобытностью. Бал правит философская драма, и Беккет явно возвращается к пьесе Кальдерона «Жизнь есть сон», как и в книге о Прусте. Но пафос Беккетовых бродяг причудливо самобытен, хотя за ними и стоят тени Шекспировых шутов, в первую очередь Фесте из «Двенадцатой ночи». Своим отношением к смерти Беккет удивительным образом напоминает доктора Джонсона, чем может объясняться его ранний замысел — пьеса «Человеческие желания»[607], одним из действующих лиц которой был бы Джонсон собственной персоной. Как и у Джонсона, у Беккета была навязчивая идея связи раннего знакомства рассудка со смертностью с убежденностью в том, что любовь теряется рано, в противном случае она не терялась бы никогда. Это — лейтмотив «Последней ленты Крэппа», где вступление Беккета в сороковой год своих эстетических воззрений подается как ироническое единство с тенью объекта, павшей на «я» (цитируя из самого проницательного у Фрейда в «Печали и меланхолии»). Если первичными прообразами Эстрагона и Владимира были Беккет и его будущая жена Сюзанн, то их долгий марш протяженностью в месяц из Парижа на юго-восток Франции в ноябре 1942 года можно считать materia poetica, из которого была создана «В ожидании Годо». Горн драматургического воображения Беккета пылал так жарко, что и полвека спустя нам стоит большого труда усвоить эти сведения об истоках пьесы. Ее эстетическое достоинство по-прежнему незыблемо и мешает всяким попыткам связать реальные тревоги Беккета с воплощенной тревогой его драматургии.
Своей славой Беккет не слишком обязан своим прозаическим повествованиям (если их можно так назвать); его мировая известность как основывалась, так и основывается на его пьесах, в первую очередь — на «В ожидании Годо». Сколь бы незаурядны ни были его квазироманы, его шедевр — это, безусловно, «Эндшпиль», и именно в театре он достиг практически полного художественного своеобразия. Единственная пьеса Джойса, «Изгнанники», — это упражнение в ибсенизме, а пьеса Пруста была бы таким же кошмаром, каким оказались пьесы Генри Джеймса. Диковинное сродство с Кафкой, которое Беккет не приветствовал, в его пьесах чувствуется, но оно умерено тем, что, как мы видели, у Беккета нет кафкианского ощущения «неразрушимого». В Джойсе было нечто герметическое и манихейское; в Беккете — нет. Он не путал себя ни с Богом, ни с Шекспиром, хотя и «Гамлет», и «Буря», и «Король Лир» подвергаются пересмотру в «Эндшпиле», который соотносится с творчеством Шекспира так же тесно, как «Поминки по Финнегану».
Среди лучших драматургов нашей Хаотической эпохи — Брехта, Пиранделло, Ионеско, Лорки, Шоу — трудно найти равного Беккету. У них нет «Эндшпиля»; чтобы найти пьесу такой же непреходящей силы, придется вернуться к Ибсену. Автор «Мерфи» словно где-то рядом, когда мы дожидаемся Годо, но исчезает, когда мы входим в крысоловку Хамма, его вариант мышеловки Гамлета, которая сама была переделкой того, что называлось «Убийством Гонзаго». Мне не приходит в голову ни одного литературного произведения XX века, написанного до 1957 года, являющегося достижением хотя бы отчасти таким же самобытным, как «Эндшпиль», да и с тех пор не появилось ничего, что могло бы соперничать с ним в самобытности. Пусть Беккет и отказался от «мастерства», сочтя его невозможным после Джойса и Пруста, — в «Эндшпиле» он его достигает. После того как в 1956 году Беккету исполнилось пятьдесят, у него было пять невероятно творческих лет — период, начавшийся «Эндшпилем», в течение которого также были написаны «Последняя лента Крэппа» и «Как есть». «Эндшпилем» Беккет установил новый стандарт, вполне соответствовать которому больше не удавалось и ему самому.
Самое раннее из дошедших до нас драматических сочинений Беккета — сцена, оставшаяся от задуманной им пьесы об отношениях доктора Джонсона и миссис Трейл. Обозначенная как первое действие, под заглавием «Человеческие желания», эта сцена разворачивается в странном обиталище доктора Джонсона, где живут суетой и милостью: миссис Уильямс, миссис Демулен, мисс Кармайкл, кот Пахарь и доктор Левет. Дамы бранятся друг с другом — и мы вдруг переносимся по творческому пути Беккета почти на двадцать лет вперед: входит пьяный Левет и с трудом взбирается по лестнице; дамы реагируют так:
Между тремя женщинами — обмен взглядами.
Жесты отвращения. Открываются и закрываются рты.
Наконец они возвращаются к своему времяпрепровождению.
Миссис У. Слова нас подводят.
Миссис Д. Вот тут-то сочинитель для театра, несомненно, заставил бы нас говорить.
Миссис У. Он заставил бы нас объяснить Левета.
Миссис Д. Публике.
Миссис У. Невежественной публике.
Миссис Д. Галерке.
Миссис У. Партеру.
Миссис К. Ложам.
Отсюда — один шаг до «В ожидании Годо» и другой — до «Эндшпиля». Взгляд Беккета с самого начала был направлен через актеров на публику, никогда не наоборот. В «Эндшпиле» происходит резкая интернализация; вся эта пьеса — как бы пьеса в пьесе, только без публики на сцене; мы словно оказываемся в голове странного солипсиста Хамма — Гамлета, дошедшего до последней черты, одновременно и Просперо, утопившего свои книги, а то и Лира почти что в его последнем безумии. Беккет, как до него Джойс, обращается к Шекспиру, но отнюдь не в джойсовской манере. Явных отсылок к Шекспиру в «Эндшпиле» очень мало. Беккет переосмысливает кульминации всех трех пьес. Клов — это Калибан и Ариэль в отношении к Просперо; Горацио и могильщик, попавшиеся в диалог с Гамлетом; Шут и Глостер, напуганные Лиром. Множество перестановок: Глостер/Клов не слеп; Хамм — слеп. Хамм/Лир требует от Клова/Шута любви; Лиров Шут, при всей своей язвительности, любит Лира, как родной и единственный сын. Гамлет в финале бесстрастен и как бы не от мира сего; Хамм все время ведет себя чудовищно, но Гамлет неизмеримо опаснее его. Клов — очень нелюбящий Горацио, но, подобно Горацио, он представляет собою публику для Хамма/Гамлета. Просперо демонстрирует силу прощения[608]; Хамм враждебен всему живому и обозлен на него. Клов со своими обидами — скорее Калибан, чем Ариэль, но хотеть уйти он не может, потому что идти некуда.
Беккет с великолепным лаконизмом отсекает весь шекспировский контекст и сосредотачивает троих сильнейших его героев в одном актере. Как отмечали все исследователи, «Эндшпиль» сознательно сделан еще более театральным, чем «В ожидании Годо»: Хамм — это драматург и исполнитель в одном лице, дающий представление и одновременно вступающий с публикой в состязание (наподобие игры в шахматы) — а потом выясняется, что его представление и есть состязание. Но актер этот полон ненависти; какой бы то ни было эффект очуждения[609] в «Эндшпиле» невозможен. Перед нами нет никаких печальных клоунов-бродяг; Хамм подобен Поццо, но наделен творческим даром, который растрачивает на лжетворение. Клов вызывает немногим больше сочувствия, а Нагг и Нелл кажутся пережитками родителей, всецело Хамма достойных. Когда я перечитываю эту пьесу или смотрю ее в театре, то каждый раз поражаюсь тому, что столь антипатичные персонажи так действуют на меня — это воздействие странным образом в чем-то сродни харизматической силе Гамлета, Просперо, Лира, а еще в чем-то оно компенсирует лучшие проявления пафоса Горацио, Калибана, Шута и Глостера. Канонический «вызов» «Эндшпиля» состоит в том, что эта пьеса находится на самом краю Канона; сейчас литература находится на последнем своем рубеже (если под литературой понимать Шекспира, Данте, Расина, Пруста, Джойса). Беккет, которому, возможно, не было до всего этого дела (хотя я в этом и сомневаюсь) — пророк молчания перед ricorso Вико. Он как будто предсказывает время, когда у Данте, Пруста и Джойса больше не будет вдумчивых читателей, а Шекспира и Расина в конце концов перестанут ставить. Это будет настоящий эндшпиль, и многие из ныне живущих могут его увидеть.
Случись вам играть «Гамлета» так, как если бы его написал, или даже поставил, шахматист Беккет, вы могли бы представить себе эту пьесу как игру Гамлета с Клавдием; в эндшпиле — пятом акте — на сцене наконец не остается никого, кроме Горацио, одинокого «офицера», и Фортинбраса — короля, поставленного на доску после шаха с матом. В «Эндшпиле» у белоглазого Хамма нет сильного соперника; или он играет в шахматы с самим собою и проигрывает, или игра ведется с публикой, и победителя в ней нет. В «Гамлете» Клавдий с Гертрудой предаются за сценой неистовой любви; можно ли считать это прелюбодеянием — вопрос спорный, так как Шекспир не говорит определенно, когда началась их связь. В сравнении с этим отношения между Наггом и Нелл — куцые до гротеска; кажется, именно поэтому они и присутствуют в этой пьесе, которая, строго говоря, без них ничего бы не потеряла. Мне кажется, что Беккет ловко присвоил и «Макбета»; маленький мальчик снаружи, который тревожит Хамма[610], — Флинс этой пьесы, предок череды королей, которым, возможно, еще доведется править тем, что кажется руинами уничтоженного мира.
Отношение Клова к Хамму напомнило некоторым исследователям о том, что юный Беккет играл роль верного Горацио при солипсическом Гамлете-Джойсе. Даже не знаю, как убрать из «Эндшпиля» это обстоятельство; сила этой пьесы отчасти заключается в том, что ее суровая простота придает ей универсальный характер, и кажется, что она так или иначе сказывается на всем творчестве Шекспира, включая «Ричарда II» и «Ричарда III». Оценить объяснительную силу «Эндшпиля» можно, увидев разницу: эта пьеса по-новому освещает сочинения Шекспира, а «Улисс» и «Поминки по Финнегану», эти насквозь пропитанные Шекспиром эпосы, никакого света на них не отбрасывают. Разница эта имеет прежде всего формальный характер; Беккет создал сценический эквивалент пьес Шекспира в нашем веке. Мне не слишком понравились «Король Лир», представленный как «Эндшпиль», и «Гамлет», представленный как «В ожидании Годо», в пьесе Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», в которую Беккет буквально вселился. Было бы находчивее (и более в духе Беккета) представить «Короля Лира» как «В ожидании Годо», а «Гамлета» — как «Эндшпиль»; даже «Бурю» как «Последнюю ленту Просперо».
Но какую критику Шекспировой драматургии из «Эндшпиля» ни выводи, пьесы Шекспира останутся Писанием, а «Эндшпиль» — комментарием к нему. Это — англо-ирландско-французское толкование Шекспира с некоторыми ироническими философскими эскападами: картезианским анализом (это хорошо показано у Кеннера) и шопенгауэровской жуткой пародией на волю к жизни, которой юный Беккет воспользовался в своей работе о Прусте. Став в «Эндшпиле» самим собою, Беккет пишет драму сознания Хамма (насколько сознательным было его намерение, мы знать не можем); задачи, подобной этой, не взял на себя Ибсен — хотя в его императоре Юлиане из «Кесаря и Галилеянина» что-то такое все же сквозит.
Как бы вы ни читали «Гамлета», Гамлет приводит вас в недоумение так же, как он приводит в недоумение себя самого. Ни один догматический подход к величайшему в западной традиции изображению человеческого сознания не принес результатов. Шекспир экспериментировал с Гамлетом так радикально, что мы не понимаем, как согласовать ребячливого принца из первого акта с прокаленным стоиком из пятого, который кажется старше его на пятнадцать лет, хотя разделяет их от силы месяц-другой. Кажется, что Беккет, как и Джойс, теряет к Гамлету интерес после сцены на кладбище (если не считать того, что он запечатлевает его предсмертные слова, «Дальше — тишина»)[611]. Главный западный герой (или героический злодей) сознания, Гамлет — портрет харизма-тика. Хамм, сильная пародия на него, — нечто совершенно противоположное; единственное, что в нем точно осталось от Гамлета — это постановщик пьесы внутри пьесы; тем не менее это существенная часть Гамлета: она убеждает нас, что принц датский — единственный персонаж Шекспира, который мог бы целиком сочинить всю «свою» пьесу.
Как всем всегда было известно, все пьесы Шекспира, по крайней мере начиная с «Бесплодных усилий любви», на одном из уровней — об игре на сцене. «Да зритель вытерпит (срок) едва ли»[612], — говорит Бирон, которому Розалина велит провести год среди умирающих и больных, чтобы завоевать ее любовь. Полны театральных метафор четыре великие бытовые кровавые трагедии — «Гамлет», «Отелло», «Макбет» и «Король Лир» — словно Шекспиру требовалось опереться на то, что он знал лучше всего, чтобы призвать изобретательность, которой так много в его вершинных творениях. Драматургический импульс — и Шекспиров, и Гамлетов, и чей угодно — превосходно описывает Хамм: «Говорить, говорить, говорить, как ребенок, который себя делит надвое, натрое, чтоб было с кем разговаривать, когда страшно одному в темноте»[613].
На первый взгляд кажется, что у Беккета больше стилизации, чем у Шекспира; Беккет восхищался весьма сценичными пьесами Уильяма Батлера Йейтса в духе театра, но и доведенная до предела стилизация у него в чем-то восходит к Йейтсу. Но размышление над «Гамлетом» показывает, что стилизация — у Расина ли, у позднего Ибсена, у Йейтса или у Беккета — не может идти дальше «Гамлета» — скорее пьесы, а не принца: сам по себе он сохраняет немало непосредственности, но, гонимый вперед как посланник смерти, набирает все больше стилизации, пока пьеса не заканчивается черной мессой ритуала шпаги и отравы.
Дискурсивная жестокость Хамма «спровоцирована» жестокостью Гамлета, и судить о том, которая из этих жестокостей более стилизована, непросто. Хамм, как и Гамлет, безумен только при норд-норд-весте; когда ветер дует с юга, он очень четко все различает. Меланхолия Хамма никого не очарует так, как столетиями очаровывает меланхолия Гамлета, но никому не следует и недооценивать раненый ум Хамма, унаследованный им у Гамлета. Лучшее литературоведческое наблюдение об «Эндшпиле» принадлежит Хью Кеннеру, который видит в этой пьесе стоическую комедию (я в ней ее не вижу) и предлагает считать, что мы с самого ее начала и до конца находимся в Хаммовой голове.
Хамм — потерянный человек и, по всей видимости, плохой шахматист, но в силе его одержимости есть интеллектуальная составляющая, и его образу присущ немалый задор. Он не просто роль для актера; он сам актер, опять же по образу Гамлета, который склонен винить себя в том, что играет, сам того не желая. Джойс — в те годы, когда Беккет верно ему служил, — постоянно играл Джойса, а это значит, что он играл Переписчика Шема, Гамлета, Шекспира, Стивена и мистера Блума. Беккет, по всем свидетельствам, не играл и не переигрывал. Белаква, заместитель Беккета в его ранних рассказах, — это Обломов[614], но не Хамм. Мы никогда не узнаем, проник ли в Гамлета Шекспир (хотя это кажется вполне вероятным), зато мы знаем наверняка, что Беккет остался на расстоянии от лучшего драматического героя — не то что в случае с замечательным Крэппом, когда преграда между драматургом и персонажем рухнула — и это принесло внушительные плоды.
Хамм — сам по себе, такой же центральный мужской образ драматургии XX века, как Гедда Габлер — центральный женский образ драматургии конца века минувшего. От этого делается не по себе — и правильно: перед нами Яго в женском обличье и свергнутый король (в некотором роде), при котором состоит один-единственный слуга, не могущий сесть; сам же король слеп и не может встать. В его словах звучит безумное самоотождествление одновременно с Эдипом и Христом, которых Уильям Батлер Йейтс считал одновременно противоположными друг другу и друг с другом связанными. Хамму хочется быть свирепым диктатором, но мы не можем быть уверены в том, что это — не сценическое желание, не актерский каприз, а по-настоящему злая воля. При всей отчетливости своего изображения, Хамм, пожалуй, изображен не миметически, вне этических и психологических координат, сообразуясь с которыми, его можно было бы оценивать и анализировать. Шекспиров мимесис позволяет Гамлету и играть себя, и быть собою; Хамм, вероятно, может только себя играть.
Если Хамм создан по модели Гамлета, а Гамлета мы считаем поэтом, то как нам исключить Хамма из категории писателей, вообще художников? Этот вопрос (обстоятельно рассмотренный Сидни Хомэном) меня тревожит, потому что мы (как и Беккет) прожили век «художников»-разрушителей, Хаммов гигантского масштаба: Гитлера, Сталина, Муссолини. Хамм кое-чем им обязан; еще большим он обязан королю Убю Альфреда Жарри. Чем он обязан слепому Мильтону и полуслепому Джойсу — неясно. Хомэн зловеще настаивает на том, что Хамм — творец, и я боюсь, что он прав, даже когда добирается в своих размышлениях до Шекспира: «Удел Хамма, удел драматурга — та самая ситуация, на которую сетует в своих сонетах Шекспир, — заключается в том, чтобы все выражать, проституировать свои чувства в угоду публике». Этим Хамм тоже отличается от Беккета, не желавшего в своей драматургии быть до такой степени шекспирианцем. Но все-таки чья же это пьеса, Беккета или Хамма — или, если обострить эту мысль, Беккета или Шекспира? Джойс цитирует слова Дюма-отца о том, что после Бога Шекспир создал больше всех[615]. Не является ли «Эндшпиль» частью Шекспирова творенья?
В древнем гностицизме — самом негативном из еретических религиозных учений — было понятие лжетворца, Демиурга (пародия на созидателя из «Тимея» Платона), по чьей оплошности Падение и Творение оказались одним и тем же, единовременным событием. Очевидно, — на это указывали многие исследователи — «Эндшпиль» отсылает к библейской истории о Ное и его сыне Хаме, проклятом за то, что он стал свидетелем Первичной Сцены в исполнении отца с матерью (а возможно, и за более возмутительный проступок в отношении Ноя). Мы не знаем (потому что Беккет ничего на этот счет не говорит), является ли слепота Хамма следствием его Эдипова проклятия, и не можем сказать наверняка, насколько Ной и Потоп значимы для «Эндшпиля». Для гностиков (как, я думаю, Беккету было известно) Потоп был делом рук Демиурга, хаммоподобного лжетворца, желавшего уничтожить все живое: людей, животных, природу. В рассказе Борхеса «Тлён, Урбис, Orbis Tertius» говорится, что гностикам зеркала и отцы были равно ненавистны, ибо и те и другие умножали число людей[616]. Это очень напоминает «макбетовскую» позицию Хамма, которого приводит в ужас уцелевший мальчик за окном — «будущий производитель»[617].
Клов и Горацио выступают на стороне публики, посредничая между нами и Хаммом с Гамлетом. Если Клов уйдет, то «Эндшпиль» должен закончиться, но он, хотя и объявляет о своем уходе, стоит молча, в дорожной одежде, глядя на Хамма, когда опускается занавес. По всей видимости, Клов не уходит, и с Хаммом остаются не только платок — «Старая тряпка!» — и публика. Калибан и Просперо, как выясняется, нераздельны: они суть приемыш и приемный отец-учитель — и публике приходится гадать, может ли Клов отделиться от Хамма. В «Гамлете» есть момент, который всякий раз кажется мне самым удивительным во всей пьесе: Горацио хочет покончить с собою, поняв, что Гамлет умирает. Гамлет же, выказывая решимость и силу, поразительные, если учесть, что он повторяет: «Я гибну», отбирает у него яд — не из сердечной привязанности, а для того, чтобы Горацио жил и поведал Гамлетову повесть Фортинбрасу и другим оставшимся жить. Хамму не нужно, чтобы Клов рассказывал его историю, и я очень сомневаюсь, что увиденный в окно мальчик заменит Клова (как предполагают некоторые исследователи).
В «Эндшпиле» нет ничего сложнее отношений между Хаммом и Кловом; назвав их вариантом гегелевской диалектической связи между господином и рабом, мы мало чего добьемся. Если соединить друг с другом Гамлета-Горацио и Просперо-Калибана, то сочетание неизбежно получится нестабильным и противоречивым. Если Хамм — создатель, то Клов может быть только творением; остальное творение Клову весьма не по душе. Широко известно, что Беккет назвал «Эндшпиль» вещью «довольно трудной и полной умолчаний, держащейся в основном на способности текста царапать, более бесчеловечной, чем „Годо“». Эта пьеса — сплошной эллипсис, и никакой предыстории в ней совершенно сознательно не дается (в отличие от «Годо»). У Шекспира всегда есть искусная предыстория, без которой мы бы никогда не поняли, почему Гарри охладевает к Фальстафу перед началом первой части «Короля Генриха IV» или почему Шут озлобленно подталкивает Лира к безумию. Беккет нам в какой бы то ни было предыстории отказывает, но, если назначение мною Шекспира в соавторы «Эндшпиля» имеет хотя бы какой-то смысл, то построить догадку о предыстории этой изумительной и канонической пьесы должно быть возможно.
Адорно понимал «Эндшпиль» как изображение борьбы сознания со смертью. Кеннер видел в этой пьесе свидетельство отчаяния. Ни то, ни другое суждение не кажется мне верным; в пьесе преобладают тревожные ожидания, а тревога — это и не отчаяние, и не схватка со смертью. Фрейд пишет, что тревога — это реакция на опасность потери объекта, а Хамм боится потерять Клова. Мне нравится наблюдение Фрейда, согласно которому тревога — лишь ощущение, но ощущение возможности тревоги[618]. Дожидаясь Годо, пребываешь в кеноме; предыстория «Эндшпиля» — это «Годо», и мы возвращаемся в кеному, сухой потоп, опустошенность без остатка. Когда Гамлет сердится на Розенкранца с Гильденстерном, он подготавливает эндшпиль, месть самому себе: «О боже, я бы мог замкнуться в ореховой скорлупе и считать себя царем бесконечного пространства, если бы мне не снились дурные сны»[619]. Вот — существование в ореховой скорлупе, в энтропии сознания Гамлета:
Хамм. Пойди масленку принеси.
Клов. Зачем это?
Хамм. Колесики смазать.
Клов. Вчера смазывал.
Хамм. Вчера! Что это значит? Вчера!
Клов (сердито). А то и значит — день поганый перед другим таким же. Я слова так употребляю, как ты меня учил. А если они уже ничего не значат — по-другому научи. Или дай помолчать. (Пауза.)
Xамм. Я знавал одного сумасшедшего, который считал, что уже настал конец света. Художник. Очень я его любил. Навещал его в сумасшедшем доме. Возьму его за руку, подведу к окну. Смотри! Ну! Хлеба колосятся! А там! Смотри! Рыбачьи парусники! Красота какая! (Пауза.) А он руку выдернет и опять забьется в свой угол. От ужаса сам не свой. Всюду видел одно пепелище. (Пауза.) Его одного пощадили. (Пауза.) Просто забыли. (Пауза.) Кажется, наш случай… его случай не такой уж… не такой уж редкий.
Клов. Сумасшедший? Когда это?
Хамм. A-а, давным-давно. Тебя еще на свете не было.
Клов. Вот славное было времечко!
Пауза. Хамм снимает тюбетейку.
Хамм. Очень я его любил. (Пауза. Надевает тюбетейку. Пауза.) Художник.
Клов. Каких только ужасов не бывает.
Хамм. Ну нет, не так уж их много осталось[620].
Хамм и Клов, Просперо и Калибан, соединяются тут в Макбета наоборот, а два «вчера» относятся ко всем тем вчера, что безумцам освещали путь к пыльной смерти[621]. Не обращая внимания на рассерженность Клова, Хамм поминает «переписанного» Уильяма Блейка: в сумасшедшем доме тот никогда не был, но сумасшедшим его считали многие. Блейк, художник и гравер[622], был визионером апокалипсиса, он видел сквозь природу пепелище гностического Творения-Падения.
Самая важная фраза, одна из самых существенных в пьесе, — слова Хамма о Блейке: «Его одного пощадили».
В них выражена гностическая, или шопенгауэрианская, составляющая «Эндшпиля» (насколько о ней можно судить). Хамм перенимает точку зрения Блейка: то, что тебя пощадили, не означает, что ты обрел спасение, но, во всяком случае, ты не обманут — ни природой, ни собою самим. Подобно Лиру, Хамм лишился королевства, но обрел презрение к обличьям иллюзорного мира. В преддверии эндшпиля для него остается не так уж много ужасов именно потому, что он видит все больше ужасов и осознает их как таковые. Подлинная предыстория «Эндшпиля» — некая версия «Короля Лира», притом что по ту сторону финала этой пьесы видится вариант «Бури». В промежутке мы находимся в пьесе Хамма, второй пьесе внутри «Гамлета» и постоянном явлении того, что Рескин назвал «сценическим пламенем».
Эпилог «Эндшпиля», если он вообще есть в последующих драматических вещах Беккета, — это автобиографический сценический монолог «Последняя лента Крэппа» (1958). Кеннер тонко выявляет в этой вещи протестантское наследие атеиста Беккета, научившегося у Шопенгауэра не доверять воле к жизни, но не сумевшего спастись от протестантской воли, которая предполагает огромное значение внутреннего света — частного случая Светильника Господня, Божьей свечи[623]. Крэпп — тоже исследователь одной свечи[624], только в бродяжьей вариации, а не в эмерсоновском или стивенсовском обличье. Слушая, как Патрик Маги (для которого была написана эта роль) поет Крэппа как минимум в трех разных тональностях, по трем возрастам человека, зритель по-новому понимал художественный лаконизм Беккета, славную меньшесть, способную сокращаться до мнимой бесконечности[625].
Беккет задумал «Последнюю ленту Крэппа» как замену «Действия без слов I» во второй части спектакля с «Эндшпилем», но для такой функции пьеса, пожалуй, слишком сильна, потому что даже «Эндшпилю» ее не затмить. Вероятно, ввиду того что «Последняя лента Крэппа» сочинялась для англоязычного Маги, эта пьеса стала первой пьесой Беккета за двенадцать лет, написанной по-английски. Ее язык овеян свободой и в ней есть прустовский, практически вордсвортовский возврат к своему личному прошлому, к Ирландии, к смерти матери и, похоже, к утрате великой любви, по всей видимости — его кузины Пегги Синклер, умершей в 1933 году. Самый трогательный и самый лучший фрагмент записи проигрывается дважды, передавая воспоминание о волшебном чувственном переживании, но в конце мы слышим слова, в которых, мне кажется, нет никакой иронии:
Возможно, мои лучшие годы прошли. Когда была еще надежда на счастье. Но я бы не хотел их вернуть. Нет. Теперь, когда во мне этот пламень. Нет, я бы не хотел их вернуть[626].
Ничего подобного этому у Беккета — ни у раннего, ни у позднего — нет. Чем бы это ни было — пафосом, иронией, соединением одного с другим, — оно удивительно прямолинейно. В качестве эпилога «Эндшпиля», «Гамлета» нашей элегической эпохи, оно поражает воображение. Это не Хамм; это одновременно и Беккет, и не Беккет. Можно ли определить этот пламень словами, взятыми из области искусства, — тоже неясно. В заключение одной из своих работ о Беккете Кеннер уверяет себя и нас, что автор раннего «Пруста» и зрелого «Эндшпиля» не был последователем «религии искусства» и, таким образом, как бы совпадал с Т. С. Элиотом. Наверное, я мог бы беспокоиться из-за того, что грядущие Новые Теократы, возможно, попытаются пойти дальше Кеннера и обратить Беккета в свою веру посмертно, но состоявшаяся странность «Эндшпиля» избавит его от этой участи.
Часть V КАТАЛОГИЗАЦИЯ КАНОНА
23. Элегическое заключение
Я не составляю «программу чтения на всю жизнь»[627], хотя сегодня это определение обрело старомодный шарм. Всегда будут (хочется надеяться) неуемные читатели, которые будут читать, несмотря на распространение новейших отвлекающих технологий. Я иногда пытаюсь вообразить столкновение доктора Джонсона или Джордж Элиот с рэпом на MTV или их погружение в Виртуальную Реальность — и приободряюсь, не сомневаясь, что они бы иронически и твердо отказались от таких иррациональных развлечений. Всю жизнь преподавая литературу в одном из наших главных университетов, я отнюдь не уверен, что литературное образование переживет свои нынешние недомогания.
Моя преподавательская карьера началась почти сорок лет назад, когда в академической среде преобладали идеи Т. С. Элиота — идеи, которые приводили меня в ярость и с которыми я сражался как мог рьяно. Очутившись нынче в окружении профессоров хип-хопа, слепков с галльско-немецкой теории, идеологов гендера и разнообразных сексуальных ориентаций, мультикультуралистов без границ, я понимаю, что раздробленность литературоведения уже необратима. Все эти негодующие на эстетическую ценность литературы никуда не денутся — и взрастят институциональных негодующих себе на смену. Как старый институциональный романтик, я по-прежнему отрицаю элиотовскую ностальгию по теократической идеологии, но не вижу оснований спорить с кем бы то ни было о литературных предпочтениях. Эта книга не рассчитана на представителей академического мира, поскольку лишь малая их толика еще читает из любви к чтению. Тот, кого Джонсон и потом Вулф называли Обыкновенным Читателем, еще существует и, возможно, по-прежнему рад советам насчет того, что можно почитать.
Такой читатель читает не ради простых удовольствий, не затем, чтобы искупить социальную вину, но затем, чтобы распространить свое уединенное существование. Академический мир сделался таким фантастическим, что я слышал, как этого читателя порицает видный литературовед: он сказал мне, что читать без конструктивной общественной задачи неэтично, и призвал меня переучиться, погрузившись в чтение Абдула Джана Мохаммеда, главы школы культурного материализма в Бирмингеме (Англия). Как человек, который без чтения не может и читает все, я повиновался, но спасения не обрел и не могу говорить ни о том, что читать, ни о том, как — лишь о том, что прочел сам и что, на мой взгляд, заслуживает перечитывания; может быть, другой проверки на каноничность и не существует.
Мне кажется, что где «культурная критика» с «культурным материализмом», там и понятие «культурного капитала». Но какая «прибавочная стоимость» безвозмездно присваивается для накопления «культурного капитала»? У марксизма, который, как известно, является криком боли, а не наукой[628], были свои поэты, но ведь они были и у всех прочих значимых религиозных ересей. Слова «культурный капитал» следует понимать либо как метафору, либо буквально, а это неинтересно. Если понимать их буквально, то они относятся не к чему иному, как к нынешнему рынку издателей, литературных агентов и книжных клубов. Как фигура речи они остаются криком отчасти боли, отчасти вины из-за принадлежности к интеллектуалам, порожденным верхушкой французского среднего класса, или же вины, которую испытывают те представители нашего академического мира, что отождествляют себя с этими французскими теоретиками и, по сути, забыли, в какой стране они, собственно говоря, живут и преподают. Существует ли, существовал ли когда-нибудь какой бы то ни было «культурный капитал» в Соединенных Штатах Америки?
Век Хаоса — потому наш век[629], что мы всегда несли в себе хаос, даже в Демократическую эпоху. «Листья травы» — это «культурный капитал»? А «Моби Дик»? Официального американского литературного канона никогда не было и быть не может, потому что в Америке сфера эстетики — одинокая, сугубо частная, обособленная. «Американский классицизм» — это оксюморон, тогда как «французский классицизм» — целостная традиция.
Мне не кажется, что у литературоведения как такового есть будущее, но это не означает, что литературная критика умрет. Критика останется жить как разновидность литературы, но, наверное, не в наших учебных заведениях. Исследования западной литературы тоже будут продолжаться, но в куда более скромном масштабе, масштабе современных кафедр классической литературы. То, что сейчас называется «кафедрами англоязычной литературы», будет переименовано в кафедры «культурных исследований», где комиксы про Бэтмена, мормонские тематические парки, телевидение, кино и рок-музыка заменят Чосера, Шекспира, Мильтона, Вордсворта и Уоллеса Стивенса. В главных, некогда элитистских университетах и колледжах по-прежнему будет несколько курсов по Шекспиру, Мильтону и равным им, но читать их будут на кафедрах из трех-четырех ученых на положении преподавателей древнегреческого и латыни. Негодовать на такое развитие событий не приходится; студентов, поступающих нынче в Йель с подлинной страстью к чтению, можно пересчитать по пальцам. Нельзя научить любви к великой поэзии того, кто приходит к тебе без этой любви. Разве можно научить одиночеству? Настоящее чтение — дело одинокое; гражданскому самосовершенствованию оно не учит. Возможно, эпохи чтения — Аристократическая, Демократическая, Хаотическая — кончаются, и культура возрожденной Теократической эпохи будет почти полностью устной и визуальной.
В Америке «кризис литературоведения» имеет ту же отличительную черту, что и религиозное возрождение (или Великое пробуждение) и рост преступности. Все это — события, созданные журналистами. Религиозное возрождение наша страна переживает вот уже два столетия; ее пристрастие к домашнему и уличному насилию еще старше и сильнее; наконец, на протяжении почти пятидесяти лет, миновавших с тех пор, как я погрузился в литературоведение, это занятие беспрестанно вызывало у общества всякого рода сомнения и большинством голосов признавалось бесполезным. Кафедры англоязычной литературы вкупе с родственными им никогда не могли определить, что они такое, и им никогда не хватало мудрости не кидаться на все, что им казалось съедобным.
Есть ужасная справедливость в том, что эта прожорливость оказалась для них губительной: изучение стихотворений, пьес, рассказов и романов сейчас вытесняется чирлидингом в пользу всяческих социальных и политических кампаний. В других случаях артефакты популярной культуры подменяют собою сложные создания великих писателей в качестве учебного материала. Не «литература» нуждается в переопределении; если вы, читая, не узнаете ее, вам никто не поможет ее узнать или полюбить. Идеалисты-постмарксисты предлагают разрешить «кризис» при помощи «общедоступной культуры», но разве «Потерянный рай» или вторая часть «Фауста» смогут когда-нибудь сделаться общедоступными? Самая сильная поэзия слишком сложна с когнитивной и художественной точек зрения, чтобы вдумчиво читать ее могли не только относительно немногие — вне зависимости от класса, пола, цвета кожи и этнического происхождения.
Во времена моего детства Шекспиров «Юлий Цезарь», практически повсеместно входивший в школьную программу, был крайне вразумительным «предисловием» к трагедиям Шекспира. Сейчас учителя рассказывают мне о школах, в которых эту пьесу уже не читают, потому что ученикам не хватает на нее внимания. В двух местах, как мне донесли, чтение и обсуждение этой пьесы было заменено изготовлением картонных щитов и мечей. Никакой национализации средств производства и потребления литературы не превозмочь такой порчи начального образования. Нравственная задача литературоведения в современном его изводе заключается в том, чтобы подвигнуть всех заменить трудные удовольствия удовольствиями общедоступными — именно потому, что они проще. Троцкий призывал своих соратников-марксистов читать Данте; в нынешних наших университетах он бы не встретил радушного приема.
Настоящий литературовед-марксист — это я, только опираюсь я на Граучо, а не на Карла[630], и мой девиз — великолепное предупреждение Граучо: «Что бы это ни было — я против!» Я был против, в хронологическом порядке, неохристианской «новой критики» Т. С. Элиота и его академических последователей; деконструктивизма Поля де Мана и его клонов; яростных нападок нынешних «новых левых» и «старых правых» на мнимую несправедливость, да и безнравственность, литературного Канона. Весьма немногочисленные сильные исследователи не расширяют, не переиначивают и не исправляют Канон, хотя, безусловно, пытаются это делать: они лишь — осознанно или неосознанно — ратифицируют настоящую канонизацию, осуществляемую постоянной борьбой между прошлым и будущим. Не существует такого социоэкономического процесса, которому Джон Эшбери, Джеймс Меррилл или Томас Пинчон были бы обязаны своим присоединением к смутной, эфемерной и все равно притягательной идее американского канона, который, возможно, все же будет существовать. Поэзия Уоллеса Стивенса и Элизабет Бишоп нашла своих наследников в Эшбери и Меррилле, так же как поэзия Эмили Дикинсон выбрала Стивенса и Бишоп. Про лучшие вещи Пинчона можно сказать, что в них Сидни Перельман[631] соединяется с Натанаэлом Уэстом, но канонический потенциал романа «Выкрикивается лот 49» в большей мере определяется возникающим у нас странным ощущением, что роман Уэста «Подруга скорбящих» представляет собою подражание Пинчону.
Шекспир и Данте — безусловные исключения из правил канонического наследования; нам никогда не кажется, что они слишком внимательно читали Джойса, Беккета или кого-нибудь еще. Так я иными словами повторяю то, что был вынужден не единожды сказать в этой книге: Западный канон — это и есть Шекспир и Данте. Кроме них, он — это то, что они «поглотили» и что «поглотило» их. Переопределение «литературы» — пустая затея, потому что вам не присвоить столько когнитивной силы, чтобы охватить умом Шекспира с Данте, а они суть литература. Хотите переопределять их — в добрый путь. В этом начинании уже далеко продвинулись «новые истористы»: получился французский Шекспир с Гамлетом в тени Мишеля Фуко. Французскому Фрейду, или Лакану, и французскому Джойсу, или Деррида, мы уже порадовались. Мне больше по вкусу еврейский Фрейд и ирландский Джойс; английский Шекспир, или всеобщий Шекспир, — тоже. Французский Шекспир — это такой восхитительный абсурд, что впору почувствовать себя неблагодарным оттого, что не ценишь столь комичную выдумку.
Отчего литературоведы сделались политологами-любителями, несведущими социологами, негодными антропологами, посредственными философами и сверхдетерминированными культурными историками — загадка, но кое-какие домыслы на этот счет построить можно. Они негодуют на литературу, или стыдятся ее, или попросту не очень-то любят читать. Чтение стихотворения, романа, пьесы Шекспира для них — упражнение в контекстуализации, но не в разумном смысле поиска надлежащих «фонов». Контекстам — как бы они ни подбирались — придается больше ценности и силы, чем поэме Мильтона, роману Диккенса, «Макбету». Я не могу с уверенностью сказать, что означает или заменяет метафора «социальные энергии», но, как и Фрейдовы влечения, эти энергии не могут ни читать, ни писать, да и вообще ничего не могут делать. Либидо — миф, и «социальные энергии» тоже. Вопиюще ветреный Шекспир был живым человеком, который сумел написать «Гамлета» и «Короля Лира». Это вопиющее обстоятельство неприемлемо для того, что нынче сходит за теорию литературы.
Или существовали эстетические ценности — или существует лишь сверхдетерминированность расы, класса и пола. Приходится выбирать — ведь если думать, что вся та ценность, которую приписывают стихотворениям, пьесам, романам и рассказам, есть не более чем мистификация, работающая на правящий класс, то зачем вообще читать, почему бы сразу не отправиться исправлять отчаянное положение эксплуатируемых классов? Мысль о том, что ты приносишь пользу униженным и оскорбленным[632], читая вместо Шекспира автора такого же, как они, происхождения, — одна из страннейших иллюзий, когда-либо насаждавшихся нашими образовательными учреждениями.
Глубочайшая истина относительно формирования светского канона заключается в том, что оно совершается не критиками, не профессорами и уж точно не политиками. Писатели, художники и композиторы сами определяют каноны, наводя мосты между сильными предшественниками и сильными последователями. Возьмем наиболее значительных современных американских авторов — поэтов Эшбери и Меррилла и сочинителя эпической прозы Пинчона. Я склонен объявить их каноническими, но знать наверняка еще нельзя. Каноническое пророчество должно пройти проверку примерно двумя поколениями после смерти писателя. Уоллес Стивенс (1879–1955) — определенно канонический поэт, возможно, главный американский поэт после Уолта Уитмена и Эмили Дикинсон. Единственными его соперниками кажутся Роберт Фрост и Т. С. Элиот; с Паундом и Уильямом Карлосом Уильямсом сложнее, с Марианной Мур и Гертрудой Стайн (если говорить только о ее стихах) тоже, а Харт Крейн слишком рано умер. Стивенс поучаствовал в становлении Меррилла и Эшбери, а также Элизабет Бишоп, А. Р. Эммонса и прочих, кому удались настоящие свершения. Но еще слишком рано судить о том, возникают ли долговечные поэты из их влияния, хотя мне и кажется, что это так. Неоспоримое возникновение по крайней мере одного укрепит позиции Стивенса, но — еще — не Меррилла с Эшбери, во всяком случае не в той же мере.
Это причудливый процесс, и я подвергну сомнению свое собственное о нем представление, спросив: а что же Йейтс? Англо-ирландские поэты после него крайне опасаются его влияния и, кажется, сумели от него отбиться. Ответ — опять же — таков: должно пройти время, прежде чем можно будет просто разглядеть влияние. Йейтс умер в 1939 году; больше чем полвека спустя я вижу его влияние на тех, кто его отвергал, — на Элиота и на Стивенса; их же влияние было весьма плодотворным, как в случае с их совместным воздействием на Харта Крейна, чей специфический «акцент» разносится практически повсюду, хотя относятся к нему и по-разному. Культурные установки Элиота и Стивенса отчаянно противоречили друг другу, Крейн же и вовсе был почти полной противоположностью Элиота. Но социополитические обстоятельства могут опрокидываться канонотворческими отношениями влияния. Крейн не принимал элиотовских представлений, но не мог уйти от элиотовской манеры. Великого стиля достаточно для каноничности, потому что он обладает «заразительной» силой, а «заразительность» — это прагматическое мерило участия в формировании канона.
Погрузитесь — скажем, на несколько дней подряд — в чтение Шекспира, а потом перейдите к какому-нибудь другому автору из живших до него, или после, или из его современников. Эксперимента ради беритесь за лучших из каждой группы: за Гомера или Данте, Сервантеса или Бена Джонсона, Толстого или Пруста. Опыт чтения будет различаться и в степени, и по существу. Это различие, повсеместно ощущающееся с Шекспировых дней до наших, и обыкновенные, и искушенные читатели связывают с ощущением того, что хочется назвать «естественностью». Доктор Джонсон уверял нас, что ничто не может тешить долго, кроме верного изображения всеобщей природы. Это уверение по-прежнему кажется мне неопровержимым, хотя многое из того, что нынче еженедельно превозносится, не соответствует джонсоновскому стандарту. Изобразительность Шекспира, средствами которой предположительно имитируется то, что считается самой нашей сутью, ощущается чем-то более естественным, чем отражение действительности у любого другого автора со времен первых постановок Шекспировых пьес. Переходя от Шекспира к Данте, к Сервантесу, даже к Толстому, испытываешь чувство утраты непосредственности восприятия. Мы оглядываемся на Шекспира и сожалеем, что ушли от него, потому что это кажется уходом от действительности.
Мотивы чтения, как и письма, весьма разнообразны и зачастую не вполне понятны даже самым «самосознательным» читателям и писателям. Возможно, главный мотив метафоры, или письма и чтения на образном языке, — желание отличаться, желание быть не здесь. Это положение я взял у Ницше, предупреждавшего нас о том, что мы уже покончили с тем, для чего у нас есть слова, поэтому во всяком говорении есть гран презрения. С Ницше соглашается Гамлет; и тот и другой мог бы распространить это презрение на письмо. Но читаем мы не затем, чтобы излить душу, поэтому в чтении презрения нет. Традиции говорят нам, что свободная и обособленная личность пишет для того, чтобы преодолеть смертность. Я думаю, что личность, стремящаяся к свободе и обособленности, читает с одной-единственной целью: встретиться лицом к лицу с величием. Встреча эта едва-едва маскирует желание присоединиться к величию, которое есть основа эстетического опыта, прежде называвшегося Возвышенным: стремления к преодолению границ. Наш общий удел — старость, болезнь, смерть, забвение. Наша общая надежда, робкая, но стойкая, состоит в том, чтобы в некотором смысле избежать смерти.
Встреча с величием через чтение — интимный и затратный процесс, и в «критической» моде она никогда не была. Она особенно не в моде сейчас, когда поиск свободы и обособленности клеймят политически некорректным, эгоистичным и неуместным в нашем исстрадавшемся обществе. Величие западной литературы сосредоточено в Шекспире, который задал стандарт для всех, кто был до и после него — драматургов, лирических поэтов, рассказчиков. Он не имел настоящих предшественников в создании характера, если не считать Чосера, давшего ему несколько подсказок, и никто после него не миновал его способов изображения человеческой природы. Его самобытность усваивалась и усваивается так легко, что обезоруживает нас и не дает нам осознать, как сильно она нас поменяла и продолжает менять. Многое в западной литературе после Шекспира представляет собою — в той или иной степени — среди прочего защиту от Шекспира, чье влияние может быть таким подавляющим, что заглушит всех вынужденных быть его учениками.
Тайна Шекспира — в его универсальности: фильмы Куросавы по «Макбету» и «Королю Лиру» — это во всех отношениях Куросава и во всех отношениях Шекспир. Даже если воспринимать персонажи Шекспира как роли для актеров, а не как драматические характеры, то все равно невозможно объяснить человеческую убедительность Гамлета или Клеопатры, сравнивая их с ролями, написанными Ибсеном, безусловно, первым европейским драматургом после Шекспира. Перейдя от Гамлета к Пер Гюнту, от Клеопатры к Гедде Габлер, мы чувствуем, что индивидуальности убыло, что шекспировское даймоническое превратилось в ибсеновский троллизм. Чудо шекспировской универсальности в том, что она не приобреталась ценой какого бы то ни было преодоления обусловленностей: великие персонажи и их пьесы не противятся укорененности в истории и в обществе, но сопротивляются всякой редукции: исторической, социологической, теологической, нашим запоздалым психологизаторству и морализаторству.
У Фальстафа есть большая часть тех гадких недостатков, которые исследователи по примеру принца Гарри в нем обнаруживают, но при этом Фальстаф — одновременно великий острослов, сильный мыслитель и подлинный юморист — равен Гамлету как носитель самобытного сознания. Мало сказать, что Фальстаф — это великолепная роль: он — космос, а не украшение, и держит зеркало не столько перед природой, сколько перед нашей предельной открытостью живой жизни. В излишестве — красота, писал Блейк; если руководствоваться этим принципом, то драматического персонажа красивее, чем сэр Джон Фальстаф, не найти. Чрезмерностью сэр Джон не уступает великанам Рабле, только его выступления ограничены сценой, а Панург носится по воображаемой Франции. То, что Уильям Хэзлитт называл задором, «силой или страстью, которыми определяется всякий предмет», и находил главным образом у Шекспира, он приписывал Боккаччо и Рабле в обход всех прочих прозаиков. Хэзлитт также внушал нам, что искусство не прогрессивно — мысль, которой запоздалые века вроде нашего пытаются противиться.
Что толку исследователю-одиночке, столь запоздалому по отношению к традиции, каталогизировать Западный канон, каким он его видит? Даже наши элитные университеты сдаются на милость наступающих армий мультикультуралистов. Тем не менее даже если нынешняя мода пребудет во веки веков, «канонический отбор» произведений прошлого и настоящего интересен и привлекателен сам по себе, потому что он — часть непрерывного состязания, которым является литература. У каждого человека есть, или должен быть, список книг для необитаемого острова, на тот день, когда он, спасаясь от врагов, будет выброшен на его берег, или когда он, отвоевав свое, поковыляет проводить остаток своих дней за мирным чтением. Если бы я мог взять с собою всего одну книгу, то я бы взял полное собрание сочинений Шекспира; если две — то его и Библию. А если три? Тут начинаются сложности. У Уильяма Хэзлитта, одного из немногих критиков, бесспорно, входящих в Канон, есть превосходное эссе «О чтении старых книг»:
Книга отнюдь не падает в моих глазах оттого, что на поколение-другое пережила своего автора. Я больше доверяю мертвым, чем живым. Современных писателей можно в общем поделить на два сорта — наших друзей и наших врагов. О первых мы невольно думаем слишком хорошо, о вторых же склонны думать слишком плохо, чтобы получать много удовольствия от чтения или справедливо судить о достоинствах тех и других.
Хэзлитт выражает озабоченность, приличествующую критику в эпоху все возрастающей запоздалости. Переизбыток книг (и писателей), причина которого — длина и сложность документированной истории человечества, сейчас, как никогда, обуславливает все канонические дилеммы. Вопрос уже — не «Что мне читать?», потому что в эпоху телевидения и кино мало кто читает. На деле вопрос теперь звучит так: «На какие книги мне не стоит тратить время?»
Если хотя бы отчасти принять догму Школы ресентимента, согласиться с тем, что всякий эстетический выбор лишь маскирует социальные и политические предопределенности, то ответы на эти вопросы найдутся очень быстро. Если перефразировать закон Грешема[633], то плохая литература вытесняет хорошую, и социальным преобразованиям служит Элис Уокер, а не какой-нибудь другой писатель — поталантливее и с более дисциплинированным воображением. Но какими указаниями будут руководствоваться социальные преобразователи, делая свой выбор? Политические дела, к нашему всеобщему сожалению, стремительно устаревают, подобно газете за прошлый месяц, и очень редко сохраняют актуальность. Возможно, в литературной политике все время что-то происходит, но политические установки не сильно сказываются на странно задушевном семейном романе великих писателей, которые влияют друг на друга, особо не задумываясь о сходстве или различии политических позиций.
Литературное влияние — это «политика духа»: формирование канона, даже если оно и не может не отражать политических интересов, — феномен весьма амбивалентный. Центральная фигура в истории англо-американского поэтического канона — Мильтон, а не один из двух величайших английских поэтов, не Чосер и не Шекспир. Аналогичным образом, важнейший ранний писатель в истории всего Западного литературного канона — не один из величайших поэтов, не Гомер, не Данте, не Чосер и не Шекспир, а Вергилий, великий посредник между эллинистической поэзией (Каллимах) и европейской эпической традицией (Данте, Тассо, Спенсер, Мильтон). Вергилий и Мильтон — поэты, вызывавшие сильнейшие двойственные чувства у тех, кто писал после них, и эти двойственные чувства определили их центральное положение в каноническом контексте. Вопреки утверждениям тех, кто идеализирует канон, — начиная с книжника Ездры и кончая покойным Нортропом Фраем — канон существует не затем, чтобы избавить читателя от тревоги. Напротив, канон есть состоявшаяся тревога, так же как всякое сильное сочинение есть состоявшаяся тревога своего автора. Литературный канон не делает нас адептами культуры; он не избавляет нас от культурной тревоги. Более того, он подтверждает наши культурные тревоги — но также помогает нам придать им форму и связность.
Идеология играет в формировании канона существенную роль — если утверждать, что эстетические представления сами по себе являются идеологией, как обыкновенно утверждают представители всех шести направлений Школы ресентимента: феминисты, марксисты, лаканианцы, «новые истористы», деконструктивисты и семиотики.
Разумеется, есть представления и представления, и ревнители, считающие, что литературоведение должно превратиться в открытую кампанию за социальные преобразования, имеют представления, явственно отличающиеся от той постэмерсонианской разновидности представлений Уайльда и Пейтера, которую разделяю я. Насколько это отличие существенно, мне до конца не ясно: мы, кажется, сходимся с социальными преобразователями на том, что из современных американских писателей канонический статус имеют Пинчон, Меррилл и Эшбери. Люди ресентимента предлагают альтернативных кандидатов на места в каноне — из числа афроамериканцев и женщин, — но как-то не вполне искренне.
Если литературные каноны суть производные от классовых, расовых, гендерных и национальных интересов, то, видимо, обо всех прочих эстетических традициях, не исключая музыки и визуальных искусств, можно сказать то же самое. В таком случае Матисс и Стравинский могут уйти в небытие вместе с Джойсом и Прустом: четырьмя мертвыми белыми мужчинами-европейцами меньше. Недоумевая, гляжу на толпы нью-йоркцев на выставке Матисса: неужели они явились на нее вследствие социальной сверхдетерминированности? Когда Школа ресентимента займет в искусствоведческой среде такое же главенствующее положение, как в литературоведческой, опустеют ли залы с Матиссом, потому что мы толпами повалим смотреть на мазню «Guerilla Girls»?[634] Безумие этих вопросов вполне очевидно ввиду выдающегося положения, которое занимает Матисс; Стравинскому же определенно не стоит опасаться того, что мировые балетные компании предпочтут его вещам политически корректную музыку. Отчего же тогда литература так уязвима перед натиском наших идеалистов-общественников? Одно из объяснений — расхожее заблуждение, гласящее, что как для производства, так и для понимания художественной литературы (как это раньше называлось) требуется меньше знаний и навыков, чем в случае с другими искусствами.
Если бы мы говорили музыкальными нотами или мазками кисти, то Стравинский и Матисс, наверное, могли бы подвергнуться той причудливой опасности, в которой нынче оказались канонические писатели. Пытаясь читать множество сочинений, выдвинутых людьми ресентимента в качестве альтернативы Канону, я понимаю: их честолюбивые авторы убеждены, что всю свою жизнь говорили прозой или же что их непритворные страсти — уже стихотворения, которые нужно лишь слегка переписать. Перехожу к своим спискам в надежде, что уцелевшие грамотеи обнаружат в них какие-то имена и названия, которые им еще не встречались, и будут вознаграждены тем, что может дать только каноническая литература.
ПРИЛОЖЕНИЯ
А. Теократическая эпоха
Здесь нет многих ценных произведений древнегреческой и древнеримской литератур, но у обыкновенного читателя едва ли будет время их читать. По мере удлинения истории «старший» канон неизбежно сужается. Поскольку мой предмет — литературный канон, я включаю лишь те религиозные, философские, исторические и научные сочинения, которые сами по себе представляют большой эстетический интерес. Я полагаю, что из всех книг, составивших первый список, важнейшей для читателя, уже ознакомившегося с Библией, Гомером, Платоном, афинскими драматургами и Вергилием, является Коран. Ввиду ли его эстетической и духовной силы, ввиду ли того влияния, которое он окажет на будущее всех нас, не знать Корана глупо и все более опасно.
Я включил сюда несколько переводов с санскрита — священных и основополагающих литературных текстов, оказавших влияние на Западный канон. Колоссальные богатства древнекитайской литературы — область, в основном не соприкасающаяся с западной литературной традицией и редко находящая адекватное отражение в доступных нам переводах[635].
ДРЕВНИЙ БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Эпос о Гильгамеше
Книга мертвых
Библия
Апокрифы
Пиркей авот
ДРЕВНЯЯ ИНДИЯ
Махабхарата
Бхагавадгита
Рамаяна
ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ
Гомер
Илиада
Одиссея
Гесиод
Труды и дни; Теогония
Архилох, Сапфо, Алкман
Пиндар
Оды
Эсхил
Орестея
Семеро против Фив
Прометей прикованный
Персы
Просительницы
Софокл
Царь Эдип
Эдип в Колоне
Антигона
Электра
Аякс
Трахиянки
Филоктет
Еврипид
Киклоп
Геракл
Алькеста
Гекуба
Вакханки
Орест
Андромаха
Медея
Ион
Ипполит
Елена
Ифигения в Авлиде
Аристофан
Птицы
Облака
Лягушки
Лисистрата
Всадники
Осы
Женщины в народном собрании
Геродот
История
Фукидид
История Пелопоннесской войны
Досократики (Гераклит, Эмпедокл)
Платон
Диалоги
Аристотель
Поэтика
Никомахова этика
ЭПОХА ЭЛЛИНИЗМА
Менандр
Самиянка
Псевдо-Лонгин
О возвышенном
Каллимах
Гимны, эпиграммы
Феокрит
Идиллии
Плутарх
Сравнительные жизнеописания
Моралии
Эзоп
Басни
Лукиан
Сатиры
РИМ
Плавт
Псевдол
Хвастливый воин
Канат
Амфитрион
Теренций
Девушка с Андроса
Евнух
Свекровь
Лукреций
О природе вещей
Цицерон
О природе богов
Гораций
Оды
Послания
Сатиры
Персий
Сатиры
Катулл
«Аттис» и другие стихотворения
Вергилий
Энеида
Буколики
Георгики
Лукан
Фарсалия
Овидий
Метаморфозы
Наука любви
Героиды
Ювенал
Сатиры
Марциал
Эпиграммы
Сенека
Трагедии, особенно «Медея» и «Геркулес в безумье»
Петроний
Сатирикон
Апулей
Золотой осел
СРЕДНИЕ ВЕКА: ЛАТЫНЬ, АРАБСКИЙ И НАРОДНЫЕ ЯЗЫКИ ДО ДАНТЕ
Коран
Тысяча и одна ночь
Старшая Эдда
Песнь о Нибелунгах
Беовульф
Песнь о моем Сиде
Аврелий Августин
О граде Божием
Исповедь
Снорри Стурлусон
Младшая Эдда
Вольфрам фон Эшенбах
Парцифаль
Кретьен де Труа
Ивейн, или Рыцарь со львом
Кристина Пизанская
Книга о Граде женском
Диего де Сан-Педро
Темница любви
В. Аристократическая эпоха
Это период протяженностью в пятьсот лет, от «Божественной комедии» Данте до второй части «Фауста» Гёте, эпоха, давшая нам обильную пищу для чтения из пяти первостепенных литератур: итальянской, испанской, английской, французской и немецкой. В этом и последующих списках я иногда не упоминаю сочинений того или иного канонического мастера по отдельности, а в каких-то случаях пытаюсь привлечь внимание к авторам и книгам, которые кажутся мне каноническими, но недооцененными. Начиная с этого списка, многие хорошие писатели, занимающие не вполне центральное положение, не включаются. Мы также впервые встречаемся с феноменом «вещи своего времени», напастью, распространившейся в Демократическую эпоху и грозящую удушить нас в нашем веке. Писатели, высоко ценимые в свое время и в своей стране, иногда продолжают жить в других временах и народах, но часто мельчают до уровня вышедших из моды кумиров. Я наблюдаю по крайней мере несколько десятков таких на нашей современной литературной сцене, но их достаточно упомянуть, не называя имен, и я еще обращусь к этой теме в предисловии к моему последнему списку.
ИТАЛИЯ
Данте
Божественная комедия
Новая жизнь
Петрарка
Лирика
Джованни Боккаччо
Декамерон
Маттео Мария Боярдо
Влюбленный Роланд
Лудовико Ариосто
Неистовый Роланд
Микеланджело Буонаротти
Сонеты и мадригалы
Никколо Макиавелли
Государь
Мандрагора
Леонардо да Винчи
Записные книжки
Бальдассаре Кастильоне
О придворном
Гаспара Стампа
Сонеты, мадригалы
Джорджо Вазари
Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих
Бенвенуто Челлини
Жизнь Бенвенуто, сына
маэстро Джованни Челлини, флорентийца, написанная им самим во Флоренции
Торквато Тассо
Освобожденный Иерусалим
Джордано Бруно
Изгнание торжествующего зверя
Томмазо Кампанелла
Стихотворения
Город Солнца
Джамбаттиста Вико
Основания новой науки об общей природе наций
Карло Гольдони
Слуга двух господ
Витторио Альфьери
Саул
ПОРТУГАЛИЯ
Луиш де Камоэнс
Лузиады
Антонио Феррейра
Стихотворения
ИСПАНИЯ
Жизнь Ласарильо с Тормеса: его невзгоды и злоключения
Хорхе Манрике
Строфы, которые сложил дон Хорхе Манрике на смерть магистра ордена Сант-Яго дона Родриго Манрике, своего отца
Фернандо де Рохас
Селестина
Франсиско де Кеведо
Сновидения и рассуждения об истинах, обличающих злоупотребления, пороки и обманы во всех профессиях и состояниях нашего века
Сатирическое письмо о цензуре
Луис де Леон
Стихотворения
Святой Иоанн Креста
Стихотворения
Луис де Гонгора
Сонеты
Уединения
Мигель де Сервантес
Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский
Назидательные новеллы
Лопе де Вега
Доротея
Фуэнте Овехуна
Наказание — не мщение
Рыцарь из Ольмедо
Тирсо де Молина
Севильский озорник, или Каменный гость
Педро Кальдерон де ла Барка
Жизнь есть сон
Саламейский алькальд
Волшебный маг
Врач своей чести
Сестра Хуана Инес де ла Крус
Стихотворения
АНГЛИЯ И ШОТЛАНДИЯ
Джеффри Чосер
Кентерберийские рассказы
Троил и Крессида
Сэр Томас Мэлори
Смерть Артура
Уильям Данбар
Стихотворения
Джон Скелтон
Стихотворения
Сэр Томас Мор
Утопия
Сэр Томас Уайетт
Стихотворения
Сэр Генри Говард, граф Сарри
Стихотворения
Сэр Филип Сидни
Аркадия
Астрофил и Стелла
Защита поэзии
Фулк Гревилл, лорд Брук
Стихотворения
Эдмунд Спенсер
Королева Фей
Малые поэмы
Сэр Уолтер Рэли
Стихотворения
Кристофер Марло
Стихотворения и пьесы
Майкл Дрейтон
Стихотворения
Сэмюэл Дэниэл
Стихотворения
В защиту рифмы
Томас Нэш
Злополучный скиталец, или Жизнь Джека Уилтона
Томас Кид
Испанская трагедия
Уильям Шекспир
Пьесы
Поэмы
Сонеты
Томас Кэмпион
Песни
Джон Донн
Стихотворения
Проповеди
Бен Джонсон
Поэмы, пьесы, маски
Фрэнсис Бэкон
Опыты, или Наставления нравственные и политические
Роберт Бертон
Анатомия меланхолии
Сэр Томас Браун
Вероисповедание врачевателей
Гидриотафия, или Погребение в урнах
Сад Кира
Томас Гоббс
Левиафан
Роберт Геррик
Стихотворения
Томас Кэрью
Стихотворения
Ричард Лавлейс
Стихотворения
Эндрю Марвелл
Стихотворения
Джордж Герберт
Храм
Томас Траэрн
Сотницы, поэтические сочинения и благодарения
Генри Воэн
Стихотворения
Джон Уилмот, 2-й граф Рочестер
Стихотворения
Ричард Крэшо
Стихотворения
Фрэнсис Бомонт и Джон Флетчер
Пьесы
Джордж Чапмен
Комедии, трагедии, стихотворения
Джон Форд
Как жаль ее развратницей назвать
Джон Марстон
Недовольный
Джон Уэбстер
Белый дьявол
Герцогиня Мальфи
Томас Мидлтон и Уильям Роули
Оборотень
Сирил Тернер
Трагедия мстителя
Филип Мессинджер
Новый способ платить старые долги
Джон Беньян
Путь паломника
Исаак Уолтон
Искусный рыболов
Джон Мильтон
Потерянный рай
Возвращенный рай
Люсидас Комос
Стихотворения
Самсон-воитель
Ареопагитика
Джон Обри
Краткие жизнеописания
Джереми Тейлор
Смерть в святости
Сэмюэл Батлер
Гудибрас
Джон Драйден
Стихотворения и пьесы
Критические эссе
Томас Отуэй
Спасенная Венеция, или Раскрытый заговор
Уильям Конгрив
Так поступают в свете
Любовь за любовь
Джонатан Свифт
Сказка бочки
Путешествия Гулливера
Эссе, памфлеты и письма
Стихотворения и поэмы
Сэр Джордж Этеридж
Щеголь, или Сэр Порхающий модник
Александр Поуп
Стихотворения
Джон Гей
Опера нищего
Джеймс Босуэлл
Жизнь Сэмюэла Джонсона
Дневники
Сэмюэл Джонсон
Сочинения
Эдвард Гиббон
История упадка и разрушения Римской империи
Эдмунд Бёрк
Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного
Размышления о революции во Франции
Морис Морган
Опыт о драматическом характере сэра Джона Фальстафа
Уильям Коллинз
Стихотворения
Томас Грей
Стихотворения
Джордж Фаркер
Хитроумный план щеголей
Офицер-вербовщик
Уильям Уичерли
Провинциалка
Прямодушный
Кристофер Смарт
Jubilate Agno
Песнь Давиду
Оливер Голдсмит
Векфильдский священник
Ночь ошибок, или Унижение паче гордости
Путешественник
Покинутая деревня
Ричард Бринсли Шеридан
Школа злословия
Соперники
Уильям Купер
Поэтические сочинения
Джордж Крабб
Поэтические сочинения
Даниэль Дефо
Радости и горести знаменитой Молль Флендерс
Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо…
Дневник чумного года
Сэмюэл Ричардсон
Кларисса, или История молодой леди
Памела, или Награжденная добродетель
История сэра Чарльза Грандисона
Генри Филдинг
История приключений Джозефа Эндруса и его друга Абраама Адамса
История Тома Джонса, найденыша
Тобайас Смоллетт
Путешествие Хамфри Клинкера
Приключения Родрика Рэндома
Лоренс Стерн
Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена
Сентиментальное путешествие по Франции и Италии
Фанни Берни
Эвелина
Джозеф Аддисон и Ричард Стил
Эссе из журнала The Spectator
ФРАНЦИЯ
Песнь о Роланде
Жан Фруассар
Хроники
Франсуа Вийон
Стихотворения
Мишель де Монтень
Опыты
Франсуа Рабле
Гаргантюа и Пантагрюэль
Маргарита Наваррская
Гептамерон
Жоашен Дю Белле
Сожаления
Морис Сэв
Делия, предмет высочайшей добродетели
Пьер де Ронсар
Оды, элегии, сонеты
Филипп де Коммин
Мемуары
Теодор Агриппа д’Обинье
Трагические поэмы
Робер Гарнье
Марк Антоний
Иудейки Пьер
Корнель Сид
Полиевкт
Никомед
Гораций
Цинна
Родогуна
Франсуа VI де Ларошфуко
Максимы
Жан де Лафонтен
Басни
Мольер
Мизантроп
Тартюф, или Обманщик
Школа жен
Ученые женщины
Дон Жуан, или Каменный гость
Школа мужей
Смешные жеманницы
Мещанин во дворянстве
Скупой
Мнимый больной
Блез Паскаль
Мысли
Жак-Бенинь Боссюэ
Надгробные речи
Никола Буало-Депрео
Поэтическое искусство
Налой
Жан Расин
Федра
Андромаха
Британик
Афалия
Пьер Карле де Шамблен де Мариво
Семь комедий
Жан-Жак Руссо
Исповедь
Эмиль
Новая Элоиза
Вольтер
Задиг
Кандид
Философские письма
Поэма о гибели Лиссабона
Аббат Прево
История кавалера де Грие и Манон Леско
Мари Мадлен де Лафайет
Принцесса Клевская
Себастьен-Рош Николя де Шамфор
Максимы и мысли. Характеры и анекдоты
Дени Дидро
Племянник Рамо
Пьер Амбруаз Франсуа Шодерло де Лакло
Опасные связи
ГЕРМАНИЯ
Эразм — голландец, живший в Швейцарии и Германии, а писавший на латыни, — помещен сюда произвольно,
но отчасти потому, что оказал влияние на Лютеранскую Реформацию
Эразм Роттердамский
Похвала глупости
Иоганн Вольфганг фон Гёте
Фауст, первая и вторая части
Поэзия и правда:
Из моей жизни
Эгмонт
Избирательное сродство
Страдания юного Вертера
Стихотворения
Годы учения Вильгельма Мейстера
Годы странствий Вильгельма Мейстера
Итальянское путешествие
Драмы в стихах
Герман и Доротея
Римские элегии
Венецианские эпиграммы
Фридрих Шиллер
Разбойники Мария
Стюарт Валленштейн
Дон Карлос, инфант Испанский
О наивной и сентиментальной поэзии
Готхольд Эфраим Лессинг
Лаокоон, или О границах живописи и поэзии
Натан Мудрый
Фридрих Гёльдерлин
Стихотворения
Генрих фон Клейст
Пять пьес
Повести
С. Демократическая эпоха
Демократическая эпоха по Вико, на мой взгляд, начинается в литературе в XIX столетии после Гёте, когда литература Италии и Испании увядает, уступая первенство литературе Англии с ее возрождением Возрождения в романтизме и, в меньшей степени, Франции и Германии. Также в этот период крепнут и русская, и американская литературы. Я противился ретроспективному набору в рамках нынешних канонических кампаний, направленных на возвышение некоторого числа прискорбно негодных писательниц XIX столетия, а также ряда немудреных прозаических и поэтических сочинений, написанных афроамериканцами. Расширение Канона, как я не раз говорил в этой книге, имеет тенденцию к вытеснению из него хороших, а иногда и лучших писателей, поскольку никто из нас, кем бы мы ни были, не располагает временем, чтобы читать абсолютно все, — как бы ни была велика наша страсть к чтению. К тому же у большинства из нас, в первую очередь у измученной молодежи, негодные авторы отнимут силы, которые следовало бы потратить на писателей посильнее. Практически все, воскрешенное или открытое литературоведами-феминистами или литературоведами-афроамерикацами, слишком определенно относится к категории «вещей своего времени»; оно столь же устарело в художественном отношении сейчас, сколь немощно было уже в момент своего возникновения.
ИТАЛИЯ
Уго Фосколо
Гробницы
Последние письма Якопо
Ортиса
Оды, Грации
Алессандро Мандзони
Обрученные
Об историческом романе
Джакомо Леопарди
Эссе и диалоги
Стихотворения
Нравственные очерки
Джузеппе Джоакино Белли
Римские сонеты
Джозуэ Кардуччи
Гимн Сатане
Варварские оды
Рифмы и ритмы
Джованни Верга
Сельские новеллы
Мастро дон Джезуальдо
Семья Малаволья
Волчица
ИСПАНИЯ И ПОРТУГАЛИЯ
Густаво Адольфо Беккер
Стихотворения
Бенито Перес Гальдес
Фортуната и Хасинта
Леопольдо Алас-и-Уренья (Кларин)
Регентша
Жозе Мария Эса де Кейрош
Семейство Майя
ФРАНЦИЯ
Бенжамен Констан
Адольф
Красная тетрадь
Франсуа Рене де Шатобриан
Атала
Рене
Гений христианства
Альфонс де Ламартин
Размышления
Альфред де Виньи
Чаттертон
Стихотворения
Виктор Гюго
Стихотворения
Отверженные
Собор Парижской Богоматери
Вильям Шекспир
Труженики моря
Конец Сатаны
Бог
Альфред де Мюссе
Стихотворения
Лоренцаччо
Жерар де Нерваль
Химеры
Сильвия
Аврелия
Теофиль Готье
Мадемуазель де Мопен
Эмали и камеи
Оноре де Бальзак
Златоокая девушка
Луи Ламбер
Шагреневая кожа
Отец Горио
Кузина Бетта
Блеск и нищета куртизанок
Евгения Гранде
Урсула Мируэ
Стендаль
О любви
Красное и черное
Пармская обитель
Гюстав Флобер
Госпожа Бовари
Воспитание чувств
Саламбо
Простая душа
Жорж Санд
Чертово болото
Шарль Бодлер
Цветы зла
Парижский сплин
Стефан Малларме
Стихотворения, проза
Поль Верлен
Стихотворения
Артюр Рембо
Стихотворения
Тристан Корбьер
Кривая любовь
Жюль Лафорг
Стихотворения, проза
Ги де Мопассан
Рассказы
Эмиль Золя
Западня
Жерминаль
Нана
СКАНДИНАВИЯ
Генрик Ибсен
Бранд
Пер Гюнт
Кесарь и Галилеянин
Гедда Габлер
Строитель Сольнес
Дочь моря
Когда мы, мертвые, пробуждаемся
Август Стриндберг
На пути в Дамаск
Фрекен Юлия
Отец
Пляска смерти
Соната призраков
Игра снов
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Роберт Бернс
Стихотворения
Уильям Блейк
Стихотворения, проза
Уильям Вордсворт
Стихотворения
Прелюдия
Сэр Вальтер Скотт
Уэверли
Эдинбургская темница
Редгонтлет
Пуритане
Джейн Остен
Гордость и предубеждение
Эмма
Мэнсфилд-парк
Доводы рассудка
Сэмюэл Тэйлор Кольридж
Стихотворения, проза
Дороти Вордсворт
Грасмирский дневник
Уильям Хэзлитт
Эссе, критика
Лорд Байрон
Дон Жуан
Стихотворения
Уолтер Сэвидж Лэндор
Стихотворения
Воображаемые разговоры
Томас Де Квинси
Исповедь англичанина, любителя опиума
Избранная проза
Чарльз Лэм
Эссе
Мария Эджуорт
Замок Рэкрент
Джон Гэлт
Наследство
Элизабет Гаскелл
Крэнфорд
Мэри Бартон
Север и Юг
Джеймс Хогг
Исповедь оправданного грешника
Чарльз Роберт Метьюрин
Мельмот Скиталец
Перси Биши Шелли
Стихотворения
В защиту поэзии
Мэри Уолстонкрафт Шелли
Франкенштейн
Джон Клэр
Стихотворения
Джон Китс
Стихотворения
Письма
Томас Ловелл Беддоуз
Книга шуток со смертью
Стихотворения
Джордж Дарли
Непенф
Стихотворения
Томас Гуд
Стихотворения
Томас Уэйд
Стихотворения
Роберт Браунинг
Стихотворения
Кольцо и книга
Чарльз Диккенс
Посмертные записки Пиквикского клуба
Дэвид Копперфильд
Приключения Оливера Твиста
Повесть о двух городах
Холодный дом
Тяжелые времена
Николас Никльби Домби и сын
Большие надежды
Мартин Чезлвит
Рождественские повести
Крошка Доррит
Наш общий друг
Тайна Эдвина Друда
Альфред Теннисон
Стихотворения
Данте Габриэль Россетти
Стихотворения, переводы
Мэтью Арнольд
Стихотворения
Эссе
Артур Хью Клаф
Стихотворения
Кристина Россетти
Стихотворения
Томас Лав Пикок
Аббатство кошмаров
Усадьба Грилла
Джерард Мэнли Хопкинс
Стихотворения, проза
Томас Карлейль
Проза
Sartor Resartus
Джон Рескин
Современные художники
Камни Венеции
Последнему, что и первому
Королева эфира
Уолтер Пейтер
Ренессанс. Очерки искусства и поэзии
Оценки
Воображаемые портреты
Марий-эпикуреец
Эдвард Фицджеральд
«Рубайат» Омара Хайяма
Джон Стюарт Милль
О свободе
Автобиография
Джон Генри Ньюмен
Apologia pro Vita Sua
Грамматика согласия
Идея университета
Энтони Троллоп
Барсетширские хроники
Романы о Плантагенете
Паллисере
Ферма Орли
Как мы теперь живем
Льюис Кэрролл
Все произведения
Эдвард Лир
Большая книга чепухи
Джордж Гиссинг
Новая Граб-стрит
Алджернон Чарльз Суинберн
Стихотворения, письма
Шарлотта Бронте
Джейн Эйр
Городок
Эмили Бронте
Стихотворения
Грозовой перевал
Уильям Мейкпис Теккерей
Ярмарка тщеславия
История Генри Эсмонда
Джордж Мередит
Стихотворения
Эгоист
Фрэнсис Томпсон
Стихотворения
Лайонел Джонсон
Стихотворения
Роберт Бриджес
Стихотворения
Гилберт Кит Честертон
Стихотворения
Человек, который был Четвергом
Сэмюэл Батлер
Едгин
Путь всякой плоти
Уильям Швенк Гилберт
Все пьесы Гилберта и Салливана
Баллады Беба
Уилки Коллинз
Лунный камень
Женщина в белом
Без имени
Ковентри Пэтмор
Оды
Джеймс Томсон (Биши Ванолис)
Город страшной ночи
Оскар Уайльд
Пьесы
Портрет Дориана Грея
Критик как художник
Письма
Джон Дэвидсон
Баллады и песни
Эрнест Доусон
Стихотворения
Джордж Элиот
Адам Бид
Сайлес Марнер
Мельница на Флоссе
Мидлмарч
Даниэль Деронда
Роберт Луис Стивенсон
Эссе
Похищенный
Странная история доктора Джекила и мистера Хайда
Остров сокровищ
Новые арабские ночи
Владетель Баллантрэ
Уир Гермистон
Уильям Моррис
Стихотворения
Земной рай
Колодец на краю света
Вести ниоткуда
Брэм Стокер
Дракула
Джордж Макдоналд
Лилит
Страна северного ветра
ГЕРМАНИЯ[636]
Новалис (Фридрих фон Гарденберг)
Гимны к ночи
Афоризмы
Якоб и Вильгельм Гримм
Сказки
Эдуард Мёрике
Стихотворения
Моцарт на пути в Прагу
Теодор Шторм
Иммензее
Стихотворения
Готфрид Келлер
Зеленый Генрих
Сказки
Э.Т.А. Гофман
Эликсиры сатаны
Сказки
Иеремия Готхельф
Черный паук
Адальберт Штифтер
Бабье лето
Сказки
Фридрих Шлегель
Критика, афоризмы
Георг Бюхнер
Смерть Дантона
Войцек
Генрих Гейне
Стихотворения
Рихард Вагнер
Кольцо нибелунга
Фридрих Ницше
Рождение трагедии из духа музыки
По ту сторону добра и зла
Генеалогия морали
Воля к власти
Теодор Фонтане
Эффи Брист
Стефан Георге
Стихотворения
РОССИЯ
Александр Пушкин
Сказки
Стихотворения
Евгений Онегин
Поэмы
Николай Гоголь
Рассказы и повести
Мертвые души
Ревизор
Михаил Лермонтов
Поэмы
Герой нашего времени
Сергей Аксаков
Семейная хроника
Александр Герцен
Былое и думы
С того берега
Иван Гончаров
Фрегат «Паллада»
Обломов
Иван Тургенев
Записки охотника
Месяц в деревне
Отцы и дети
Накануне
Первая любовь
Федор Достоевский
Записки из подполья
Преступление и наказание
Идиот
Бесы
Братья Карамазовы
Повести
Лев Толстой
Казаки
Война и мир
Анна Каренина
Исповедь
Власть тьмы
Повести
Николай Лесков
Рассказы
Александр Островский
Гроза
Николай Чернышевский
Что делать?
Александр Блок
Стихотворения
Двенадцать
Антон Чехов
Рассказы
Главные пьесы
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Вашингтон Ирвинг
Записная книжка
Уильям Каллен Брайант
Стихотворения
Джеймс Фенимор Купер
Зверобой
Джон Гринлиф Уиттьер
Стихотворения
Ральф Уолдо Эмерсон
Природа
Эссе
Представители человечества
Нравственная философия
Дневники
Стихотворения
Эмили Дикинсон
Стихотворения
Уолт Уитмен
Листья травы (первое издание)
Листья травы (третье издание)
Полное собрание стихотворений
Памятные дни
Натаниэль Готорн
Алая буква
Рассказы
Мраморный фавн
Записные книжки
Герман Мелвилл
Моби Дик
Рассказы на веранде
Билли Бад
Стихотворения
Кларель
Эдгар Аллан По
Стихотворения
Рассказы
Эссе
Рецензии
Повесть о приключениях
Артура Гордона Пима
Эврика
Джонс Вери
Эссе
Стихотворения
Фредерик Годдард Такерман
Стихотворения
Генри Дэвид Торо
Уолден, или Жизнь в лесу
Стихотворения
Эссе
Ричард Генри Дана
Два года на палубе
Фредерик Дуглас
Повесть о жизни Фредерика Дугласа, американского раба
Генри Уодсворт Лонгфелло
Стихотворения
Сидни Ланир
Стихотворения
Френсис Паркман
Франция и Англия в Северной Америке
Орегонская тропа
Генри Адамс
Воспитание Генри Адамса
Мон-Сен-Мишель и Шартр
Амброз Бирс
Проза
Луиза Мэй Олкотт
Маленькие женщины
Чарльз У. Чеснатт
Рассказы
Кейт Шопен
Пробуждение
Уильям Дин Хоуэллс
Возвышение Сайласа Лэфема
Современная история
Стивен Крейн
Алый знак доблести
Рассказы, стихотворения
Генри Джеймс
Женский портрет
Бостонцы
Княгиня Казамассима
Неудобный возраст
Послы
Крылья голубки
Золотая чаша
Повести
Рассказы
Гарольд Фредерик
Проклятие Терона Уэра
Марк Твен
Рассказы
Приключения Гекльберри Финна
Что такое человек?
Таинственный незнакомец
Простофиля Вильсон
Янки из Коннектикута при дворе короля Артура
Уильям Джеймс
Многообразие религиозного опыта
Прагматизм
Фрэнк Норрис
Спрут
Сара Ори Джуитт
Рассказы
Трамбл Стикни
Стихотворения
D. Хаотическая эпоха: каноническое пророчество
Относительно этого списка уверенности у меня меньше, чем относительно трех предшествующих. Культурное пророчество — это всегда искушение судьбы. Не все сочинения тут могут оказаться каноническими; литературное перенаселение угрожает многим из них. Но я не включал и не исключал ничего, руководствуясь соображениями какой бы то ни было культурной политики. То, что я опустил, на мой взгляд, обречено остаться «вещами своего времени»: даже их приверженцы-«мультикультуралисты» восстанут против них поколения через два, чтобы расчистить место для литературы получше. Вошедшее сюда несомненно отражает некоторое воздействие моего личного вкуса, но отнюдь не представляет в полной мере моих индивидуальных предпочтений. Роберт Лоуэлл и Филип Ларкин вошли сюда потому, что я, кажется, единственный из ныне живущих литературоведов, который считает их переоцененными, поэтому я, вероятно, неправ и должен допустить, что ослеплен внеэстетическими соображениями; этого я не выношу и пытаюсь избегать. Впрочем, я бы не удивился, если бы через полвека вернулся из мертвых и обнаружил, что написанное Лоуэллом и Ларкиным суть «вещи своего времени», как и многое из того, что я не включил. Но литературоведы не создают канонов, как не могут создавать их и сети ресентимента, — и, может статься, будущие поэты подтвердят канонический статус Лоуэлла и Ларкина, обнаружив, что от их влияния им не уйти.
ИТАЛИЯ
Луиджи Пиранделло
Лиола
Это так (если вам так кажется)
Генрих IV
Шесть персонажей в поисках автора
Каждый по-своему
Габриэле Д’Аннунцио
Майя
Дино Кампана
Орфические песни
Умберто Саба
Малая проза
Джузеппе Томази ди Лампедуза
Леопард
Джузеппе Унгаретти
Стихотворения
Эудженио Монтале
Стихотворения
Эссе
Сальваторе Квазимодо
Рассуждение о поэзии
Стихотворения
Томмазо Ландольфи
Жена Гоголя и другие истории
Леонардо Шаша
День совы
Контекст
Рассказы
Пьер Паоло Пазолини
Стихотворения
Чезаре Павезе
Стихотворения
Диалоги с Леуко
Примо Леви
Если не сейчас, то когда?
Стихотворения
Периодическая система
Итало Звево
Самопознание Дзено
Дряхлость
Джорджо Бассани
Цапля
Наталия Гинзбург
Семья
Элио Витторини
Женщины из Мессины
Альберто Моравиа
1934
Андреа Дзандзотто
Стихотворения
Итало Кальвино
Невидимые города
Барон на дереве
Если однажды зимней ночью
Путник
Т нулевое
Антонио Порта
Стихотворения
ИСПАНИЯ
Мигель де Унамуно
Назидательные новеллы
Житие Дон Кихота и Санчо
Антонио Мачадо
Стихотворения
Хуан Рамон Хименес
Стихотворения
Педро Салинас
Голос, тобой рожденный: стихотворения
Хорхе Гильен
Стихотворения
Висенте Алейсандре
Стихотворения
Федерико Гарсиа Лорка
Стихотворения
Кровавая свадьба
Йерма
Дом Бернарды Альбы
Рафаэль Альберти
Стихотворения
Луис Сернуда
Стихотворения
Мигель Эрнандес
Стихотворения
Блас де Отеро
Стихотворения
Камило Хосе Села
Улей
Хуан Гойтисоло
Эссе
КАТАЛОНИЯ
Карлес Риба
Стихотворения
Жозеп Висенс Фош
Стихотворения
Жоан Перучо
Естественная история
Мерсе Родореда
Площадь Диамант
Пере Жимферрер
Стихотворения
Сальвадор Эсприу
Стихотворения
ПОРТУГАЛИЯ
Фернандо Пессоа
Стихотворения и поэмы
Проза
Книга непокоя
Жоржи ди Сена
Стихотворения
Жозе Сарамаго
Воспоминание о монастыре
Жозе Кардозо Пирес
Баллада Собачьего пляжа
Эужениу де Андраде
Стихотворения
ФРАНЦИЯ[637]
Анатоль Франс
Остров пингвинов
Таис
Ален-Фурнье
Большой Мольн
Марсель Пруст
В поисках утраченного времени
Андре Жид
Имморалист
Коридон
Подземелья Ватикана
Фальшивомонетчики
Дневник
Колетт
Рассказы
Возвращение к себе
Жорж Батай
Небесная синь
Луи-Фердинанд Селин
Путешествие на край ночи
Рене Домаль
Гора Аналог
Жан Жене
Богоматерь цветов
Дневник вора
Балкон
Жан Жироду
Ундина
Интермеццо
Безумная из Шайо
Аполлон Беллакский
Альфред Жарри
Стихотворения, пьесы, проза
Жан Кокто
«Адская машина» и другие пьесы
Гийом Аполлинер
Стихотворения
Андре Бретон
Стихотворения
Манифесты сюрреализма
Поль Валери
Об искусстве
Стихотворения
Проза
Рене Шар
Стихотворения
Поль Элюар
Стихотворения
Луи Арагон
Стихотворения
Жан Жионо
Гусар на крыше
Мишель Лейрис
Возраст мужчины
Раймон Радиге
Бал графа Д’Оржель
Жан-Поль Сартр
За закрытыми дверями
Тошнота
Святой Жене
Слова
Идиот в семье: Г. Флобер от 1821 до 1857
Симона де Бовуар
Второй пол
Альбер Камю
Посторонний
Чума
Падение
Бунтующий человек
Анри Мишо
Стихотворения
Эдмонд Жабес
Книга вопросов
Стихотворения
Сен-Жон Перс
Анабасис
Птицы
Стихотворения
Пьер Реверди
Стихотворения
Тристан Тцара
Семь манифестов дада
Макс Жакоб
Стихотворения
Пьер Жан Жув
Стихотворения
Франсис Понж
Стихотворения
Жак Превер
Слова
Филипп Жакоте
Стихотворения
Шарль Пеги
Мистерия о милосердии Жанны Д’Арк
Бенжамен Пере
Стихотворения
Андре Мальро
Завоеватели
Королевская дорога
Удел человеческий
Надежда
Голоса безмолвия
Франсуа Мориак
Тереза Дескейру
Пустыня любви
Фарисейка
Жан Ануй
Бекет, или Честь Божья
Антигона
Эвридика
Репетиция, или Наказанная любовь
Эжен Ионеско
Лысая певица
Стулья
Урок
Амедей, или Как от него избавиться
Жертвы долга
Носороги
Морис Бланшо
Темный Фома
Пьер Клоссовски
Законы гостеприимства
Бафомет
Раймон Руссель
Locus Solus
Антонен Арто
Стихотворения
Письма
Статьи
Клод Леви-Стросс
Печальные тропики
Ален Роб-Грийе
Соглядатай
Ревность
В лабиринте
Ластики
Проект революции в Нью-Йорке
За новый роман
Натали Саррот
Дар речи
Планетарий
Клод Симон
Трава
Ветер
Дороги Фландрии
Маргерит Дюрас
Любовник
Сквер
Модерато кантабиле
Летний вечер, половина одиннадцатого
Обед госпожи Андесмас
Робер Пенже
Басня
Либера
Этот голос
Мишель Турнье
Лесной царь
Пятница, или Тихоокеанский лимб
Маргерит Юрсенар
Последняя милость
Воспоминания Адриана
Жан Фоллен
Стихотворения
Ив Бонфуа
Словесный камень
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ИРЛАНДИЯ
Уильям Батлер Йейтс
Стихотворения
Видение
Мифологии
Пьесы
Джордж Бернард Шоу
Критика
Дом, где разбиваются сердца
Пигмалион
Святая Иоанна
Майор Барбара
Назад к Мафусаилу
Джон Миллингтон Синг
Пьесы
Шон О’Кейси
Юнона и Павлин
Плуг и звезды
Тень стрелка
Джордж Дуглас Браун
Дом с зелеными ставнями
Томас Харди
Любимая
В краю лесов
Возвращение на родину
Мэр Кэстербриджа
Вдали от обезумевшей толпы
Тэсс из рода д’Эрбервиллей
Джуд Незаметный
Стихотворения
Редьярд Киплинг
Ким
Рассказы
Пак с Волшебных холмов
Стихотворения
Альфред Эдвард Хаусман
Стихотворения
Макс Бирбом
Зулейка Добсон, или Оксфордская история любви
Семеро и еще двое
Джозеф Конрад
Лорд Джим
Тайный агент «Ностромо»
Глазами Запада
Победа
Роберт Фирбенк
Цветок под ногами
Печаль под ярким солнцем
Вэлмут
Искусственная принцесса
О причудах кардинала
Пирелли
Форд Мэдокс Форд
Конец парада
Солдат всегда солдат
Уильям Сомерсет Моэм
Рассказы
Луна и грош
Джон Каупер Поуис
Вольф Солент
Любовь в Гластонбери
Саки (Гектор Хью Манро)
Рассказы
Герберт Уэллс
Фантастические романы
Дэвид Линдсей
Путешествие к Арктуру
Арнольд Беннет
Повесть о старых женщинах
Уолтер Де Ла Мар
Стихотворения
Воспоминания Малыша
Уилфред Оуэн
Стихотворения
Айзек Розенберг
Стихотворения
Эдвард Томас
Стихотворения
Роберт Грейвс
Стихотворения
Царь Иисус
Эдвин Мюир
Стихотворения
Дэвид Джонс
В скобках
Анафемата
Джон Голсуорси
Сага о Форсайтах
Эдвард Морган Форстер
Говардс-Энд
Поездка в Индию
Фрэнк О’Коннор
Рассказы
Дэвид Герберт Лоуренс
Стихотворения
Исследования классической американской литературы
Рассказы
Сыновья и любовники
Радуга
Влюбленные женщины
Вирджиния Вулф
Миссис Дэллоуэй
На маяк
Орландо
Волны
Между актов
Джеймс Джойс
Дублинцы
Портрет художника в юности
Улисс
Поминки по Финнегану
Сэмюэл Беккет
Мерфи
Уотт
Моллой
Мэлон умирает
Безымянный
В ожидании Годо
Эндшпиль
Последняя лента Крэппа
Как есть
Элизабет Боуэн
Рассказы
Д. Г. Фаррелл
Осада Кришнапура
Генри Грин
Ничто
Любовь
Дорожная вечеринка
Ивлин Во
Пригоршня праха
Сенсация
Мерзкая плоть
Не жалейте флагов
Энтони Бёрджесс
Влюбленный Шекспир
Д. Б. Эдвардс
Книга Эбенезера Ле Пажа
Айрис Мёрдок
Школа добродетели
Сон Бруно
Грэм Грин
Брайтонский леденец
Суть дела
Сила и слава
Кристофер Ишервуд
Берлинские рассказы
Норман Дуглас
Южный ветер
Олдос Хаксли
Эссе
Шутовской хоровод
Контрапункт
О дивный новый мир
Лоренс Даррелл
Александрийский квартет
Уильям Голдинг
Воришка Мартин
Дорис Лессинг
Золотая тетрадь
Мервин Пик
Горменгаст
Джанет Уинтерсон
Страсть
У. X. Оден
Стихотворения
Рука красильщика и другие эссе
Рой Фуллер
Стихотворения
Гэвин Юарт
Стихотворения
Бэзил Бантинг
Стихотворения
Уильям Эмпсон
Стихотворения
Бог Мильтона
Несколько версий пасторали
Джордж Уилсон Найт
Колесо огня
Горящий оракул
Р. С. Томас
Стихотворения
Фрэнк Кермоуд
Ощущение конца
Стиви Смит
Стихотворения
Ф. Т. Принс
Стихотворения
Филип Ларкин
Стихотворения
Дональд Дейви
Стихотворения
Джеффри Хилл
Стихотворения
Джонатан Спенс
Смерть женщины Ван
Дворец памяти Маттео Риччи
Элизабет Дженнингс
Стихотворения
Кит Дуглас
Стихотворения
Хью Макдиармид
Стихотворения
Луис Макнис
Стихотворения
Дилан Томас
Стихотворения
Найджел Денис
Удостоверения личности
Шеймас Хини
Стихотворения
Полевые работы
Остров покаяния
Томас Кинселла
Стихотворения
Пол Малдун
Стихотворения
Джон Монтегю
Стихотворения
Джон Арден
Пьесы
Джо Ортон
Пьесы
Флэнн О’Брайен
Архив Долки
Третий полицейский
Том Стоппард
Травести
Гарольд Пинтер
Сторож
Возвращение домой
Эдвард Бонд
Глупец
Спасенные
Джордж Оруэлл
Эссе
1984
Эдна О’Брайен
Сердце фанатика
ГЕРМАНИЯ[638]
Гуго фон Гофмансталь
Драмы и либретто
Проза
Стихотворения
Райнер Мария Рильке
Стихотворения
Сонеты к Орфею
Записки Мальте Лауридса Бригге
Новые стихотворения
Герман Брох
Лунатики
Смерть Вергилия
Гофмансталь и его время
Георг Тракль
Стихотворения
Готфрид Бенн
Стихотворения
Франц Кафка
Америка
Рассказы
Тетради ин-октаво
Процесс
Дневники
Замок
Притчи, фрагменты, афоризмы
Бертольд Брехт
Стихотворения
Трехгрошовая опера
Добрый человек из Сычуани
Мамаша Кураж и ее дети
Жизнь Галилея
Кавказский меловой круг
Артур Шницлер
Пьесы
Рассказы
Франк Ведекинд
Дух земли
Ящик Пандоры
Пробуждение весны
Карл Краус
Последние дни человечества
Гюнтер Айх
Кроты
Томас Манн
Волшебная гора
Иосиф и его братья
Доктор Фаустус
Признания авантюриста Феликса Круля
Рассказы
Альфред Дёблин
Берлин, Александрплац
Герман Гессе
Игра в бисер
Нарцисс и Златоуст
Роберт Музиль
Душевные смуты воспитанника Тёрлеса
Человек без свойств
Йозеф Рот
Марш Радецкого
Пауль Целан
Стихотворения
Томас Бернхард
Лесоповал
Генрих Бёлль
Бильярд в половине десятого
Ингеборг Бахман
В буре роз
Ганс Магнус Энценсбергер
Стихи для людей, которые не читают стихов
Вальтер Беньямин
Озарения
Роберт Вальзер
Рассказы
Криста Вольф
Кассандра
Петер Хандке
Медленное возвращение домой
Макс Фриш
Штиллер
Человек появляется в эпоху Голоцена
Гюнтер Грасс
Жестяной барабан
Камбала
Фридрих Дюрренматт
Визит старой дамы
Иоганнес Бобровски
Земля теней и рек
РОССИЯ
Анна Ахматова
Стихотворения
Леонид Андреев
Рассказы
Андрей Белый
Петербург
Осип Мандельштам
Стихотворения
Велимир Хлебников
Стихотворения
Владимир Маяковский
Стихотворения
Клоп
Михаил Булгаков
Мастер и Маргарита
Михаил Кузмин
Александрийские песни
Максим Горький
Воспоминания о Толстом, Чехове, Андрееве
Автобиографическая трилогия
Иван Бунин
Рассказы
Исаак Бабель
Рассказы
Борис Пастернак
Доктор Живаго
Стихотворения
Юрий Олеша
Зависть
Марина Цветаева
Стихотворения
Михаил Зощенко
«Нервные люди» и другие сатирические рассказы
Андрей Платонов
Котлован
Александр Солженицын
Один день Ивана Денисовича
Раковый корпус
Архипелаг ГУЛАГ
Август Четырнадцатого
Иосиф Бродский
Часть речи
СКАНДИНАВИЯ
Исак Динесен (датчанка, но писала по-английски)[639]
Зимние сказки
Семь готических историй
Мартин Андерсен-Нексё
Пелле-завоеватель
Кнут Гамсун
Голод
Пан
Сигрид Унсет
Кристин, дочь Лавранса
Гуннар Экелёф
Путеводитель по подземному миру
Тумас Транстрёмер
Стихотворения
Пер Лагерквист
Варавва
Ларс Густафссон
Стихотворения
СЕРБОХОРВАТСКИЕ АВТОРЫ[640]
Иво Андрич
Мост на Дрине
Васко Попа
Стихотворения
Данило Киш
Могила для Бориса Давидовича
ЧЕХИЯ
Карел Чапек
Война с саламандрами
R.U.R.
Вацлав Гавел
Большое опустошение
Милан Кундера
Невыносимая легкость бытия
Ярослав Сейферт
Стихотворения
Мирослав Голуб
Муха
ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК
Бруно Шульц
Улица крокодилов
Санатория под клепсидрой
Чеслав Милош
Стихотворения
Витольд Гомбрович
Фердидурка
Порнография
Космос
Станислав Лем
Следствие
Солярис
Збигнев Херберт
Стихотворения
Адам Загаевский
Дрожь
ВЕНГРИЯ
Аттила Йожеф
На ветке пустоты
Ференц Юхас
Стихотворения
Ласло Немет
Вина
НОВОГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК
Константинос Кавафис
Стихотворения
Йоргос Сеферис
Стихотворения
Никос Казандзакис
Христа распинают вновь
Одиссея: современное продолжение
Яннис Рицос
Изгнание и возвращение
Одисеас Элитис
То, что я люблю: избранные стихотворения
Ангелос Сикелианос
Стихотворения
ИДИШ
Шолом-Алейхем
Тевье-молочник
Железнодорожные рассказы
Иоселе-соловей
Менделе Мойхер-Сфорим
Путешествие Вениамина Третьего
Ицхок-Лейбуш Перец
Рассказы
Яков Глатштейн
Стихотворения
Моше Лейб Гальперн
Стихотворения
Г. Лейвик (Лейвик Гальперн)
Стихотворения
Исроэл-Иешуа Зингер
Братья Ашкенази
Йоше-телок
Хаим Граде
Цемах Атлас
Семён Ан-ский
Меж двух миров (Дибук)
Манн-Лейб
Стихотворения
Шолом Аш
Ист-ривер
Исаак Башевис Зингер
Рассказы
Папин домашний суд
Семья Мускат
Поместье
Усадьба
Сатана в Горае
ИВРИТ
Хаим Нахман Бялик
Поэмы
Шмуль Йосеф Агнон
В сердцевине морей
Рассказы
Аарон Аппельфельд
Бессмертный Бартфус
Баденхайм в 1939 году
Яков Шабтай
Прошедшее длительное
Иехуда Амихай
Стихотворения
Путешествия
Авраам Иегошуа
Поздний развод
Амос Оз
Верный отдых
Т. Карми
У камня утрат
Натан Зах
Стихотворения
Далия Равикович
Одежда
Дан Пагис
Стихотворения
Давид Шахар
Чертог разбитых сосудов
Давид Гроссман
См. статью «Любовь»
Йорам Канюк
Его дочь
АРАБСКИЙ ЯЗЫК
Нагиб Махфуз
Переулок Мидак
Фонтан и могила
Пансионат «Мирамар»
Адонис
Стихотворения
Махмуд Дарвиш
Музыка человеческой плоти
Таха Хусейн
Дни
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
Рубен Дарио
Стихотворения
Хорхе Луис Борхес
Алеф
Создатель
Вымыслы
Хитросплетения
Личная антология
Алехо Карпентьер
Век Просвещения
Потерянные следы
Превратности метода
Царство земное
Гильермо Кабрера Инфанте
Три грустных тигра
Картина рассвета в тропиках
Северо Сардуй
Майтрейя
Рейнальдо Аренас
Чарующий мир
Пабло Неруда
Всеобщая песнь
Местожительство — Земля
Двадцать стихотворений о любви и одна песня отчаяния
Полномочный представитель
Избранные стихотворения
Николас Гильен
Стихотворения
Октавио Пас
Стихотворения
Лабиринт одиночества
Сесар Вальехо
Стихотворения
Испания, да минует меня чаша сия
Мигель Анхель Астуриас
Маисовые люди
Хосе Лесама Лима
Рай
Хосе Доносо
Непристойная ночная птица
Хулио Кортасар
Игра в классики
Все огни — огонь
Рассказы
Габриэль Гарсиа Маркес
Сто лет одиночества
Любовь во время холеры
Марио Варгас Льоса
Война конца света
Карлос Фуэнтес
Смена кожи
Terra Nostra
Карлос Друммонд де Андраде
Стихотворения
КАРИБЫ
Сирил Джеймс
Черные якобинцы
Будущее в настоящем
В. С. Найпол
Излучина реки
Дом для мистера Бисваса
Дерек Уолкотт
Стихотворения
Уилсон Харрис
Гайанский квартет
Майкл Телвелл
Тернистый путь
Эме Сезер
Стихотворения
АФРИКА
Чинуа Ачебе
И пришло разрушение
Стрела Бога
Покоя больше нет
Воле Шойинка
Танец леса
Амос Тутуола
Путешествие в Город Мертвых, или Пальмовый Пьянарь и его Упокойный Винарь
Кристофер Окигбо
Лабиринты и тропы грома
Джон Пеппер Кларк
Потери
Айи Арма
Прекрасные еще не родились
Нгуги Ва Тхионго
Пшеничное зерно
Габриэль Окара
Рыбачье заклинание
Надин Гордимер
Рассказы
Джон Максвелл Кутзее
Мистер Фо
Атол Фугард
Учиться у алоэ
Леопольд Седар Сенгор
Стихотворения
ИНДИЯ
(на английском языке)
Р. К. Нарайан
Гид
Салман Рушди
Дети полуночи
Рут Правер Джабвала
Жара и пыль
КАНАДА
Малькольм Лаури
У подножия вулкана
Робертсон Дэвис
Дептфордская трилогия
Мятежные ангелы
Элис Манро
Давно хотела тебе сказать
Нортроп Фрай
Предания об идентичности
Анна Эбер
Стихотворения
Джей Макферсон
Стихи, прочитанные дважды
Маргарет Этвуд
Всплытие
Дэрил Хайн
Стихотворения
АВСТРАЛИЯ И НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Майлз Франклин
Моя блестящая карьера
Кэтрин Мэнсфилд
Рассказы
А. Д. Хоуп
Стихотворения
Патрик Уайт
Едущие в колеснице
Бахрома из листьев
Фосс
Кристина Стид
Человек, который любил детей
Джудит Райт
Стихотворения
Лес Мюррей
Стихотворения
Томас Кенилли
Постановщик
Ковчег Шиндлера
Дэвид Малуф
Воображаемая жизнь
Кевин Харт
Стихотворения
Питер Кэри
Оскар и Люсинда
Враждебная громадина
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Эдвин Арлингтон Робинсон
Стихотворения
Роберт Фрост
Стихотворения
Эдит Уортон
Рассказы
Эпоха невинности
Итан Фром
В доме веселья
Обычай страны
Уилла Кэсер
Моя Антония
Дом профессора
Погибшая леди
Гертруда Стайн
Три жизни
Географическая история Америки
Становление американцев
Нежные пуговицы
Уоллес Стивенс
Стихотворения
Необходимый ангел
Посмертное
Пальма на краю сознания
Вэчел Линдсей
Стихотворения
Эдгар Ли Мастерс
Антология Спун-Ривер
Теодор Драйзер
Сестра Керри
Американская трагедия
Шервуд Андерсон
Уайнсбург, Огайо
Рассказы
Синклер Льюис
Бэббит
У нас это невозможно
Элинор Уайли
Стихотворения
Уильям Карлос Уильямс
Стихотворения
Весна и все остальное
Патерсон
Эзра Паунд
Маски
Cantos
Эссе о литературе
Робинсон Джефферс
Стихотворения
Марианна Мур
Стихотворения
Хильда Дулитл (X. Д.)
Стихотворения
Джон Кроу Рэнсом
Стихотворения
Т. С. Элиот
Стихотворения
Пьесы
Эссе
Кэтрин Энн Портер
Рассказы
Джин Тумер
Тростник
Джон Дос Пассос
США
Конрад Эйкен
Стихотворения
Юджин О’Нил
Лазарь смеялся
Продавец льда грядет
Долгий день уходит в ночь
Э. Э. Каммингс
Стихотворения
Джон Б. Уилрайт
Стихотворения
Роберт Фицджеральд
Весенняя тень: Стихотворения
Луис Боган
Стихотворения
Леони Адамс
Стихотворения
Харт Крейн
Стихотворения
Письма
Проза
Аллен Тейт
Стихотворения
Ф. Скотт Фицджеральд
Рассказы
Великий Гэтсби
Ночь нежна
Уильям Фолкнер
Когда я умирала
Святилище
Свет в августе
Авессалом, Авессалом!
Шум и ярость
Дикие пальмы
Рассказы
Поселок
Эрнест Хэмингуэй
Рассказы
Прощай, оружие!
Фиеста (И восходит солнце)
Райский сад
Джон Стейнбек
Гроздья гнева
Зора Нил Херстон
Их глаза видели Бога
Натанаэл Уэст
Подруга скорбящих
Целый миллион, или Расчленение Лемюэла Питкина
День саранчи
Ричард Райт
Сын Америки
Черный
Юдора Уэлти
Рассказы
Помолвка в Дельте
Жених-разбойник
Нерешительное сердце
Лэнгстон Хьюз
Стихотворения
Большое море
Брожу по свету и удивляюсь
Эдмунд Уилсон
Берега света
Патриотический пыл
Кеннет Бёрк
Контраргумент
Риторика мотивов
Джозеф Митчелл
В старой гостинице
Авраам Каган
Взлет Давида Левинского
Кей Бойл
Безумный охотник
Тело жениха
Решение
Эллен Глазго
Бесплодная земля
Железная порода
Джон П. Марканд
Г. М. Пулам, эсквайр
Джон О’Хара
Рассказы
Свидание в Самарре
Генри Рот
Зовите это сном
Торнтон Уайлдер
Наш городок
На волосок от гибели
Сваха
Роберт Пенн Уоррен
Вся королевская рать
Достанет времени и места
Стихотворения
Делмор Шварц
Стихотворения
Уэлдон Киз
Стихотворения
Элизабет Бишоп
Стихотворения
Джон Берримен
Стихотворения
Пол Боулз
Под покровом небес
Рэндалл Джаррелл
Стихотворения
Чарльз Олсон
Максимус
Стихотворения
Роберт Хейден
Стихотворения
Роберт Лоуэлл
Стихотворения
Теодор Рётке
Стихотворения
Записные книжки
Джеймс Эйджи
Отпусти меня в путешествие
Теперь восхвалим славных мужей (совместно с Уокером Эвансом)
Джин Гэрриг
Стихотворения
Мэй Свенсон
Стихотворения
Роберт Данкен
Натянуть тетиву
Ричард Уилбер
Стихотворения
Ричард Эберхарт
Стихотворения
М. Б. Толсон
Гарлемская галерея
Кеннет Кох
Времена года на Земле
Фрэнк О’Хара
Стихотворения
Джеймс Шайлер
Стихотворения
Джеймс Болдуин
Цена билета
Сол Беллоу
Лови момент
Приключения Оги Марча
Герцог
Джон Чивер
Рассказы
Буллет-Парк
Ральф Эллисон
Невидимка
Трумен Капоте
Хладнокровное убийство
Карсон Маккалерс
Баллада о горестном кабачке
Сердце — одинокий охотник
Фланнери О’Коннор
Рассказы
Царство Небесное силою берется
Мудрая кровь
Владимир Набоков
Лолита
Бледный огонь
Гор Видал
Майра Брекинридж
Линкольн
Д. Д. Сэлинджер
Над пропастью во ржи
Девять рассказов
Райт Моррис
Церемония в Лоун-три
Норман Мейлер
Самореклама
Песня палача
Вечера в древности
Джон Хоукс
Каннибал
Вторая кожа
Уильям Гэддис
Признания
Теннесси Уильямс
Стеклянный зверинец
Трамвай «Желание»
Лето и дым
Артур Миллер
Смерть коммивояжера
Эдвин Джастас Майер
Дети тьмы
Гарольд Бродки
Почти классические рассказы
Урсула Ле Гуин
Левая рука тьмы
Рэймонд Карвер
Если спросишь, где я
Роберт Кувер
Отшлепать горничную
Дон Делилло
Белый шум
Весы
Бегущий пес
Мао II
Джон Краули
Маленький, большой
Эгипет
Любовь и сон
Гай Давенпорт
Татлин!
Джеймс Дикки
Раннее движение
Центральное движение
Э. Л. Доктороу
Книга Даниила
Всемирная выставка
Стэнли Элкин
Что-то невероятное
Уильям Гасс
В сердце сердца страны
Удача Оменсеттера
Рассел Хобан
Ридли Уокер
Денис Джонсон
Ангелы
Фискадоро
Сын Иисуса
Кормак Маккарти
Кровавый меридиан
Саттри
Дитя божье
Уильям Кеннеди
Железный бурьян
Олбанийский цикл
Тони Моррисон
Песнь Соломона
Глория Нэйлор
Женщины поместья Брюстер
Джойс Кэрол Оутс
Они
Уокер Перси
Кинозритель
Грейс Пейли
Маленькие человеческие неприятности
Томас Пинчон
V.
Выкрикивается лот 49
Радуга тяготения
Синтия Озик
Зависть, или Идиш в Америке
Мессия из Стокгольма
Ишмаэл Рид
Мумбо-юмбо
Филип Рот
Случай Портного
Моя мужская правда
Романы о Цукермане
Другая жизнь
По наследству
Операция «Шейлок»
Джеймс Солтер
Одинокие лица
Светлые годы
Роберт Стоун
Псы войны
Флаг на заре
Джон Барт
Плавучая опера
Конец пути
Торговец дурманом
Уолтер Абиш
Алфавитная Африка
Сколь это по-немецки
Лихорадка затмения
Я — пыль под твоими ногами
Дональд Бартельми
Сорок рассказов
Мертвый отец
Томас М. Диш
На крыльях песни
Пол Теру
Берег москитов
Джон Апдайк
Иствикские ведьмы
Курт Воннегут
Колыбель для кошки
Эдмунд Уайт
Забыв Елену
Ноктюрн для неаполитанского короля
Джеймс Маккорт
Оставшееся время
Джеймс Уилкокс
Современные баптисты
А. Р. Эммонс
Стихотворения
Поэмы
Сфера: форма движения
Джон Эшбери
Стихотворения и поэмы
Дэвид Мэмет
Американский бизон
Пошевеливайся
Дэвид Рэйб
Неудачники
Сэм Шепард
Похороненный ребенок
Проклятье голодающего класса
Зуб преступления
La turista
Языки
Дикая любовь
Настоящий Запад
Огаст Уилсон
Ограды
Джо Тернер приходит и уходит
Энтони Хект
Ранние стихотворения
Эдгар Боуэрс
Жизнь вдвоем: новые и избранные стихотворения
Дональд Джастис
Избранные стихотворения
Джеймс Меррилл
Из первых девяти книг
Переменчивый свет над Сандовером
У. С. Мервин
Стихотворения
Джеймс Райт
Стихотворения
Галвэй Киннелл
Избранные стихотворения
Ирвин Фельдман
Стихотворения
Дональд Холл
Один день
Старые и новые стихотворения
Элвин Фейнман
Стихотворения
Ричард Ховард
Неозаглавленные предметы
Находки
Джон Холландер
Размышления о шпионаже
Избранные стихи
Смальта
Гэри Снайдер
Стихотворения
Чарльз Симик
Стихотворения
Марк Стрэнд
Стихотворения
Темная гавань
Чарльз Райт
Мир десяти тысяч вещей
Джей Райт
Измерения истории
Двойное изобретение Комо
Избранные стихотворения
Книга Элейн
Болеро
Эмми Клэмпитт
На запад
Ален Гроссман
Эфирный купол и другие стихотворения: новые и избранные
Ховард Мосс
Стихотворения
Джеймс Эпплуайт
Стихотворения
Дж. Д. Макклатчи
Остаток пути
Альфред Корн
Зов среди толпы
Дуглас Крэйз
Ревизионист
Рита Дав
Стихотворения
Филиас Мосс
Стихотворения
Эдвард Хирш
Земные меры
Тони Кушнер
Ангелы в Америке
Указатель имен[641]
Августин, Св. (Блаженный) 40, 95, 99, 100, 102, 104, 108, 110, 112,
122, 124, 127, 128, 421, 568, 573
«Исповедь» 40, 95, 104
Адорно, Теодор 485, 586
Алейсандре, Висенте 549
Алигьери, Данте — см. Данте
Альберт Великий 544
Альберти, Рафаэль 549
Анджелу, Майя 26 Апулей 544
Ариосто, Лудовико 9, 162, 612
Аристотель 20, 77, 183, 218, 240
Аристофан 27, 189, 218, 267, 421, 520
«Лягушки» 267
Арто, Антонен 45, 631
Атертон, Д. С. 486, 487, 493
Ауэрбах, Эрих 52, 99, 154–155, 156, 173
Бабель, Исаак 392–393, 533–534
Баддели, Д. 393, 398, 399
Баджен, Фрэнк 475, 477
«Джеймс Джойс и создание "Улисса“» 477
Байрон, Джордж Гордон 41, 252, 253, 255, 258, 272, 290, 373, 418
Бальзак, Оноре де 9, 169, 361, 373, 466, 472, 573
Барбер, К. Л. 297, 298
Баренечеа, Ана Мария 540
Баролини, Теодолина 117
Барт, Ролан 43, 55, 76, 307
Барток, Бела 307
Бах, Иоганн Себастьян 307
Бейли, Джон 403, 404, 406
Бейт, Уолтер Джексон 221, 224, 236
Бейтсон, Грегори 127
Беккет, Сэмюэл 9, 10, 15, 43, 55, 93, 94, 95, 99, 166, 229–230, 239, 272, 294, 323, 361, 404, 417, 458–459, 469, 471, 479, 489, 491, 493, 513, 517, 520, 521, 523, 529, 530, 536, 538, 540–541, 565–589, 597
«В ожидании Годо» 565, 568, 569, 572–575, 576, 578, 579, 580, 581
«Как есть» 230, 530, 565, 569, 571, 572
«Мерфи» 229, 517, 5б5-5б9. 577, 633
«Последняя лента Крэппа» 294, 530, 565, 572, 576, 577, 583, 588-589
«Пруст» 458–459, 568–569, 576, 581, 589
«Уотт» 230, 517
«Человеческие желания» 576, 577—578
«Эндшпиль» 10, 93, 493, 529, 530, 565, 570, 571, 572–573, 576, 577, 578–588, 589
и Борхес 536, 540-541
и Джойс 565–571, 573, 574, 577, 578, 580, 581, 583
и Джонсон 576, 577
и Кафка 517, 520, 523, 529, 530, 577
и Пруст 458–459, 568–569
и Шекспир 93, 570, 576–588
и Шелли 574-575
Трилогия «Моллой», «Мэлон умирает», «Безымянный» 230, 404, 530, 565, 569
Белл, Квентин 501
Беллоу, Сол 377
Бен-Сирах 110
Беннет, Бенджамин 246, 247, 264
Бентли, Эрик 336, 409, 417, 421, 426
Беньямин, Вальтер 515, 518
Беньян, Джон 75, 375
«Путь паломника» 75, 164, 375
Бербедж, Ричард 477
Беркли, Джордж 544, 574, 575
Бермел, Альберт 198
Бетховен, Людвиг ван 307
Бёрджесс, Энтони 229, 478, 489, 565
«Влюбленный Шекспир» 229, 478
Бёрк, Кеннет 227, 290, 325
Бёрт, Джон 502
Бодлер, Шарль 9, 52, 175, 307, 472
Бэкон, сэр Фрэнсис 77, 79, 432, 434, 475
Бэр, Дейдре 575
Бичер-Стоу, Гарриет 75, 397
«Хижина дяди Тома» 75, 397
Бишоп, Элизабет 44, 49, 307, 321, 322, 330, 333, 341, 342, 360, 500, 597, 599
Блай, Роберт 549
Блейк, Уильям 9, 35, 41, 47, 59, 60, 62, 76, 103, 139, 209, 232, 246, 257, 259, 269, 275, 308, 311, 312, 322, 336, 341, 353, 364, 376, 384, 485, 486,489, 509, 542, 548, 587–588, 602
«Бракосочетание Рая и Ада» 209
и Гёте 257, 269, 275
и Уитмен 47, 311–312, 322
и Чосер 139
Бойл, Николас 253
Боккаччо, Джованни 39, 99, 130, 132, 133, 135, 602
«Декамерон» 133
Болла, Питер де 17-18
Борхес, Хорхе Луис 9, 55, 70, 71, 98–99. 180, 364, 366, 482, 513, 520, 531–548, 549–553, 555–556, 562, 564, 571, 584, 585
«Алеф» 99, 550–552
«Бессмертный» 541–545
«Богословы» 537
«Встреча во сне» 98
«Вымыслы» 539
«Делатель» 539
«Заметки об Уитмене» 547
«Кафка и его предшественники» 538–539
«Оправдание Лже-Василида» 535–536
«Пьер Менар, автор „Дон Кихота"» 180, 532, 534, 546, 562
«Сад расходящихся тропок» 532
«Смерть и буссоль» 532, 533–534, 534
«Сообщение Броуди» 540
«Тлён, Укбар, Orbius tertius» 532, 535, 584–565
«Три версии предательства Иуды» 536
«Хитросплетения» 532
«Everything and Nothing» 70, 546
и Беккет 536, 540–541
и Гомер 542–543, 545–546
и Де Квинси 541
и Кафка 531, 535, 538–539, 540, 541
и Неруда 549-553
и Уитмен 564
и Фрейд 538
и Шекспир 531, 546-549
Босуэлл, Джеймс 218, 220, 223, 227, 238, 228, 230, 235, 238
«Жизнь Сэмюэла Джонсона» 218, 220, 227, 229
Брандес, Георг 441
Браунинг, Роберт 9, 21, 162, 163, 246, 307, 362, 370, 371, 372, 538–539
«Роланд до Замка черного дошел» 162, 163, 370
«Fears and Scruples» 539
Браунинг, Элизабет Барретт 49, 342
Брехт, Бертольд 49, 73, 94, 577, 579
Бри, Жермена 455
Брод, Макс 523
Бронте, Шарлотта 499
Бронте, Эмили 498
Брофи, Бриджит 407
Брэдбрук, Мюриэл 411
Брэдли, А. С. 219, 442
Брэдли, Фрэнсис 544
Буркхардт, Якоб 15, 31, 55
Бушнелл, Хорас 331
Вагнер, Рихард 495, 572
Вайганг, Герман 245
Валезио, Паоло 101
Валери, Поль 307, 513, 539
Вальехо, Сесар 513, 531, 541, 549, 556
Ван ден Берг, Я. X. 213
Варгас Льоса, Марио 531
Вега, Лопе де 88, 91, 93, 172, 251
Вергилий 31, 40, 55, 71, 100, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 116, 120, 122, 123, 125–126, 178, 204, 244, 274, 475, 604
«Энеида» 116, 125, 204
Видал, Гор 33
Вийон, Франсуа 492
Вико, Джамбаттиста 8–9, 10, 59, 100, 121, 253, 259, 273, 279, 289, 419, 475, 484, 492, 526, 565, 579
«Основания новой науки об общей природе наций» 8, 10
Вирсавия 13-14
Витгенштейн, Людвиг 19–20, 341, 349, 392, 399“400, 443, 521 Вольтер 74, 92
Вордсворт, Уильям 9, 15, 41, 42, 59, 115, 230, 239–240, 244, 246, 279–294, 298, 300, 301–302, 305, 308, 322, 328, 337, 340, 343, 351–353, 366, 374–376, 389, 403, 434, 527, 589, 595
«Жители пограничья» 280, 287–288
«Майкл» 280, 284, 287, 291–294, 374
«Отголоски бессмертия по воспоминаниям раннего детства» 280, 302
«Разрушившийся дом» 280, 284–290, 291, 204, 374, 376, 389
«Старый камберлендский нищий» 280, 283, 284, 289, 291,
294, 374, 389
«Элегические строфы» 351, 352
и Байрон 290, 244
и Гёте 239-240
и Джордж Элиот 374–378, 389
и Дикинсон 351-353
и Остен 280, 293, 294, 301–302 и Толстой 291, 389, 527
и Шекспир 287–289
и Шелли 434
Вулф, Вирджиния 10, 97, 361, 365, 382, 497–512, 513, 520, 594
«Волны» 497, 499, 501, 504
«Как читать книги?» 508
«Между актов» 497, 499, 501, 511
«Миссис Дэллоуэй» 497, 499, 503
«На маяк» 365, 497, 501, 503, 505, 512
«Орландо» 497–498, 499, 501, 503, 505, 506–511
«Своя комната» 497, 498, 499, 501, 502–503, 512
«Три гинеи» 497, 499, 501, 502
и Джордж Элиот 382
и Остен 498–499, 500
и Пейтер 498, 501, 503–505, 509, 511–512
и Сервантес 507, 510
и Уитмен 509 и Фрейд 501
и Шекспир 498–499, 500, 511
и Шелли 504
Вулф, Том 33
Гарсиа-Беррио, Антонио 94
Гарсиа Лорка, Федерико 260, 307, 513, 549, 562, 577
Гарсиа Маркес, Габриэль 531
Гауэр, Джон 132
Гегель, Г. В. Ф. 20, 74, 82, 88–89, 521, 529, 585
«Лекции по эстетике» 88
Гейне, Генрих 27, 74, 239, 520, 521
Георге, Стефан 15, 106, 239
Герберт, Джордж 66
Гесиод 15, 49, 272
Гёльдерлин, Фридрих 44, 94, 239, 308
Гёте, Иоганн Вольфганг фон 9, 19, 55, 59, 72, 74, 77, 87–88, 91, 92,
94, 105, 119, 157, 175, 201, 204, 209, 219, 239–275, 279, 308, 328, 329, 373, 397, 402–403, 408–409, 410–412, 414, 418, 420, 423–424, 426, 430, 434, 440, 441, 513, 517, 521, 529, 530
«Годы учения Вильгельма Мейстера» 250, 252
«Западно-восточный диван» 241, 243, 246
«Максимы и размышления» 241–242
«Трилогия страсти» 244
«Фауст» 204, 242, 243, 244–275; Первая часть 251, 255, 256, 260–262, 266, 272; Вторая часть 10, 248, 249, 251–260, 262–275
«Шекспир, и несть ему конца!» 87, 250
и Байрон 258
и Блейк 257
и Вордсворт 244
и Данте 272, 274–275
и Джойс 258-259
и Ибсен 273, 408–409, 410–412, 414, 418, 420, 423–424, 426
и Кафка 529, 530
и Толстой 397, 402–403
и Уитмен 261
и Шекспир 87–88, 242, 246, 250–252, 254, 256, 257, 260
Гильен, Николас 531
Гинзберг, Аллен 308, 326
Гитлер, Адольф 584
Гишарно, Жак 190, 195
Глэшин, Эдэлин 486, 490, 493
Гольдман, Люсьен 199
Голдсмит, Оливер 229, 488
«Покинутая деревня» 488
Гомер 13, 15, 16, 26, 39, 43, 47, 49, 55, 74, 76, 95, 100, 105, 111, 119, 218, 231–233, 234, 239, 244, 245, 253, 256, 267, 272, 323, 390, 394, 401, 406, 527, 539, 542–543, 545, 546, 552,561, 600, 604
«Илиада» 31, 42, 46, 55, 230, 231, 232, 390, 542
«Одиссея» 106, 392, 476, 479, 486
Гонгора-и-Арготе, Луис де 93, 549
Гончаров, Иван 361, 583
Гораций 31, 105
Горький, Максим 387–388, 389, 401, 403
Готорн, Натаниэль 32, 93, 215, 307, 333, 361, 456, 540
Грамши, Антонио 34-35
Гринблатт, Стивен 11
Гриффин, Роберт 233
Гюго, Виктор 9, 45, 74, 75, 92, 106, 175, 254, 361, 373, 415
Данте 9, 12, 15, 16, 26, 27, 30–31, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 51, 55, 59, 63, 64–65, 67, 95-128, 130, 132, 258, 323, 328, 336, 337, 378, 383, 390, 403, 412, 449, 475, 476, 485, 513, 527, 529, 546, 552, 565, 571, 579, 597, 598, 600, 604
«Ад» 65, 77, 83, 101, 106, 108, 112, 117, 120, 123, 126, 138
«Божественная комедия» 10, 15, 30–31, 47, 51, 64–65, 76, 77, 82,
95-128, 133, 323, 378, 392, 475
«Новая жизнь» 111, 119
«Пир» 109
«Рай» 99, 103, 108, 117, 123, 272, 274, 383
«Чистилище» 65, 83, 112, 116, 117, 118
и Борхес 98-99
и Вергилий 31,71, 100, 105–106, 109, 112, 11б, 120, 122, 123, 125–126
и Гёте 239, 249, 257, 264, 272, 274, 275
и Джордж Элиот 378, 381, 383
и Петрарка 112, 126–128, 131, 289
и Сервантес 102–103
и Чосер 130
и Шекспир 98, 110, 128
Давид, царь 13, 97, 208
Де Квинси, Томас 498, 541, 542
Деррида, Жак 598
Дефо, Даниэль 497
Джеймс, Генри 9, 21, 32, 296, 307, 317, 322, 333, 361, 373, 377, 385, 386, 393, 481, 527, 577
Джеймс, Уильям 331
Джойс, Джеймс 8, 9, 10, 15, 19, 68, 78, 93, 95, 99, 105, 229, 246, 258, 259, 272, 273, 296, 307, 323, 324, 361, 365, 404, 418, 434, 443, 446, 455, 469, 471, 475-496, 498, 501, 513, 517, 520, 527, 529, 532, 537–538, 541, 542, 565–571, 573, 574, 577, 578, 580, 581, 583, 584, 597, 598, 605
«Изгнанники» 577
«Поминки по Финнегану» 9, 10, 258–259, 404, 475, 476, 479,
484-487, 489–496, 527, 569, 571, 577, 580
«Улисс» 10, 93, 229, 296, 323, 475, 476–484, 485, 486, 487, 488, 489, 492, 496, 497, 501, 527, 538, 569, 580
и Беккет 565–571, 573, 574, 577, 578, 580, 581, 583
и Гёте 258–259
и Диккенс 365, 476
и Ибсен 418–419, 485
и Шекспир 475-496
Джонс, Эрнест 431, 444, 451
Джонсон, Бен 9, 38, 65, 71, 77, 79, 190, 229, 252, 362, 369, 600
Джонсон, Сэмюэл 9, 10, 37, 41, 68, 69, 80–81, 83, 218–238, 266, 280, 298, 300, 305, 400, 458, 489, 509, 576, 577, 593, 594, 600
«Жизнеописание Мильтона» 233
«Жизнеописания виднейших английских поэтов» 227–228, 233
«Лондон» 229
«На смерть друга» 226
«Расселас» 229
«Тщета человеческих желаний» 229, 230, 232, 576
и Беккет 576, 577
и Мильтон 220, 221, 228, 232, 233–234
и Остен 280, 298, 300, 305
и Шекспир 219, 221–226, 229, 230, 235–238
Дикинсон, Эмили 9, 40, 49, 94, 114, 272, 280, 307, 308, 322, 333, 336–360, 376, 385, 412, 500, 549, 497, 599
и Вордсворт 351–352, 353
и Кафка 339, 340, 341
и Ницше 356
и Стивенс 339, 340, 341, 342, 352, 360
и Эмерсон 340, 341, 342, 343, 349, 352, 353, 356, 360
стихотворение 258 350–354
стихотворение 419 345–347
стихотворение 627 354-359
стихотворение 761 («От Пустоты к Пустоте») 337-340
стихотворение 799 358
стихотворение 1109 343-345
стихотворение 1153 347-349
стихотворение 1733 359-360
Диккенс, Чарльз 9, 10, 75, 282, 291, 361–373, 414, 476, 492,576, 598
«Дэвид Копперфильд» 362, 363, 365, 367
«Повесть о двух городах» 366
«Посмертные записки Пиквикского клуба» 369
«Холодный дом» 362–371
и Браунинг 362, 370–371, 372
и Джойс 365, 476
и Кафка 363–364, 366
Доддс, Э. Р. 245
Дональдсон, Э. Тэлбот 62, 134, 138, 144
«Лебедь у колодца» 62
Достоевский, Фёдор 9, 42, 65, 75, 89, 92, 137, 146, 157, 215, 361, 369, 373, 400, 569, 599
«Идиот» 157
Драйзер, Теодор 33, 333
Драйден, Джон 41, 69, 79, 131, 201, 228, 229, 230, 232
Дэй, Лари 74
Еврипид 105, 218, 267, 272
Жарри, Альфред 584
«Жизнь Ласарильо с Тормеса» 167
Ибсен, Хенрик 9, 10, 19, 55, 59, 64, 92, 94, 201, 222, 272–273, 323, 407–426, 434, 481, 485, 529, 571, 572, 576–577, 581, 582, 602
«Бранд» 408, 411, 412, 413–414, 426
«Гедда Габлер» 407, 408, 416, 417, 426
«Кесарь и Галилеянин» 412, 426
«Когда мы, мертвые, пробуждаемся» 418, 425, 481
«Пер Гюнт» 10, 272, 392, 408, 409, 410, 411, 412, 413–426
и Гёте 272, 323
и Джойс 418–419, 485
и Шекспир 408–409, 411, 412, 423
Иезекииль, пророк 116
Иоахим Флорский 119
Исайя, пророк 30, 42
Йейтс, Уильям Батлер 8, 9, 44, 99, 106, 126, 182, 246, 257, 306, 307, 322, 347, 361, 433, 434, 469, 482, 513, 571, 582, 583, 599
Кавальканти, Гвидо 64–65, 75, 100
Кальдерон де ла Барка, Педро 66, 88, 93, 105, 209, 251, 253, 272, 549, 576
«Жизнь есть сон» 576
Кант, Иммануил 8, 20, 119, 544
Капоте, Трумен 33
Карлейль, Томас 239, 242, 252, 273
Карпентьер, Алехо 161
Каули, Абрахам 228
Кафка, Франц 10, 15, 43, 50, 55, 93, 94, 44, 45, 46, 166, 323, 339–341, 364, 366, 369, 443, 446, 475, 502, 54-530, 531, 535, 537, 538–539, 540, 541, 542, 546, 571, 572, 577
«Америка» 514
«Верхом на ведре» 514, 525
«Замок» 514, 520, 525, 526, 529, 530
«Исследования одной собаки» 518
«Как строилась китайская стена» 514, 521
«Охотник Гракх» 514, 525, 527, 530, 572
«Правда о Санчо Пансе» 156
«Превращение» 514
«Процесс» 516, 526, 529
«Сельский врач» 514, 524–526
«Тетради ин-октаво» 517, 520, 522–523
афоризмы 514, 516, 520–523, 526, 527, 528
и Беккет 517, 520, 523, 529, 530, 577
и Борхес 531, 535, 538–539, 540, 541
и Гёте 529, 530
и Дикинсон 339-341
и Диккенс 364, 366
и Сервантес 155–156, 516
и Фрейд 514, 516, 520, 521, 523, 528–529
и Шекспир 514, 530
письма 514, 518–519, 528
Кеннер, Хью 479, 482, 570, 581, 583, 586, 588, 589
Кермоуд, сэр Фрэнк 11, 12, 380
«Формы внимания» 11
Килгур, Мэгги 183
Китс, Джон 41, 217, 258, 284, 308, 320, 348, 358, 372, 496
«К морю» 496
Коллинз, Уильям 31, 41, 228
Кольридж, Сэмюэл Тэйлор 41, 219, 247, 284, 337, 339, 340, 342, 352, 389, 441, 442, 571, 572
«Уныние» 339
Конгрив, Уильям 219
Конрад, Джозеф 21, 147, 361, 395, 402, 485, 498, 542
Кортасар, Хулио 531
Крабб, Джордж 229
Крайст, Рональд Д. 542
Крейн, Харт 21, 47, 60, 307, 308, 329, 332, 333, 341, 360, 513, 546, 549, 556, 562, 599, 600
«Мост» 329, 332
Кроче, Бенедетто 100
Куинни, Лора 400
«Мрачность истины» 400
Куоллз, Барри 375, 378
Купер, Уильям 41, 300
Куросава, Акира 601
Курциус, Эрнст Роберт 31, 55, 100, 120–121, 125, 239, 240, 241, 244, 253, 272, 273
«Европейская литература и латинское Средневековье» 31
«Критические статьи о европейской литературе» 272
«Поэзия и увековечение» 55
Кьеркегор, Сёрен 72–73, 82, 282, 322, 348, 363, 366, 409, 516, 520, 524
«Страх и трепет» 516
Кэрролл, Льюис 490, 495
Кэсер, Уилла 333, 500
Ла Боэси, Этьен де 183
Лакан, Жак 429, 598
Лампедуза, Джузеппе Томази ди 26
Леопарди, Джузеппе 92, 307
Лоуренс, Д. Г. 9, 27, 323, 334, 361, 365, 373, 380, 501, 503, 558, 562
«Влюбленные женщины» 374, 501, 503
«Кенгуру» 503
«Корона», эссе 503
«Пернатый змей» 503
«Радуга» 503 и Джордж Элиот 373–374
и Уитмен 334
Ле Гуин, Урсула 340
Левин, Гарри 490, 492
Лейбниц, Готфрид Вильгельм 544
Лентриккия, Фрэнк 46
Лерну, Герт 78
Лессинг, Дорис 378
Лугонес, Леопольдо 539
Лукач, Дьёрдь 260
Лукреций 18, 48, 119, 125–126
Луни, Д. Томас 77, 431–434, 475
«Опознанный Шекспир» 431
Льюис, К. С. 40, 96
Льюис, Уиндем 570
Лэндор, Уолтер Сэвидж 367
Люти, Герберт 182
Мадарьяга, Сальвадор де 93
Майерс, Ф. У. Г. 376
Макмастер, Джульетт 295
Маколей, лорд 497
Малкольм, Норман 392
Малларме, Стефан 25
Маллинс, Эдгар Янг 331
Ман, Поль де 37, 45, 597
Мандельштам, Осип 513
Мандзони, Алессандро 74, 92, 361
Манн, Томас 157, 242–243, 253, 361, 397, 402–403
«Гёте и Толстой» 242, 397, 402–403
«Гёте как представитель бюргерской эпохи» 242–243
«Доктор Фаустус» 243
«Признания авантюриста Феликса Круля» 243
«Фантазия о Гёте» 242–243
«Фрейд и будущее» 243
Мао Цзедун 550
Марвелл, Эндрю 41
Марк, Св. 14, 96, 544
Маркс, Граусо 597
Маркс, Карл 56, 284, 597
Марло, Кристофер 19, 48, 60–61, 65, 66, 71, 78, 79, 131, 145, 201, 206, 212, 213, 217, 252, 255, 450
Матисс, Анри 307, 605, 606
Мачадо, Антонио 549
Машо, Гийом де 132
Мейер, Майкл 422
Мейлер, Норманн 33, 181, 267, 326
«Вечера в древности» 267
Мейсел, Пери 7, 498
Мелвилл, Герман 9, 21, 32, 53, 89, 109, 157, 164–165, 169, 307, 312,
333, 361, 367
«Моби Дик» 109, 164–165
Менчака, Фрэнк 562
Мередит, Джордж 189, 505
«Эссе о комедии» 189
Меррилл, Джеймс 333, 597, 599, 605
Мёрдок. Айрис 376
Миддлтон, Томас и Микеланджело 390, 430–431
Миллер, Генри 326
Милль, Джон Стюарт 363, 383
Мильтон, Джон 9, 15, 16, 19, 31, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 55, 67, 69–71, 75, 94, 95, 97, 103, 105, 106, 121, 153, 183, 201–217, 220, 221, 228, 232–234, 244, 249, 253, 256, 257, 258, 272, 279, 280, 289, 308, 319, 322, 323, 328, 335, 337–341, 403, 412, 430, 443, 527, 529, 561, 584, 595, 598, 604
«Адам, лишенный рая» 212, 213
«Возвращенный рай» 204
«К Шекспиру» 203
«Потерянный рай» 10, 16, 38, 39, 40, 41, 47, 70, 105, 121, 164, 202, 204–217, 220, 222, 227, 249, 323, 338, 392, 596
«Самсон-борец» 204, 205
и Джонсон 220, 221, 228, 232, 233-234
и Марло 212, 213
и Фрейд 201, 204, 206, 430, 443
и Шекспир 69–71, 201–217
Мод, Эйлмер 394
Молан, Энн 300, 304
Молина, Тирсо де 93
Мольер 9, 10, 19, 64, 72, 75, 92, 94, 153, 161, 175, 179, 185, 189–200
«Дон Жуан» 72, 191, 199
«Мизантроп» 191–200
«Мнимый больной» 189
«Тартюф» 190, 191, 192, 194, 199
и Монтень 153, 177, 190–191, 199–200
и Шекспир 92, 175, 177, 191, 193–195, 198
Монтале, Эудженио 307, 513
Монтень, Мишель 9, 10, 43, 55, 71, 153, 174, 175, 176–189, 190–191, 197, 199–200, 218, 219, 220, 226, 322, 433, 458, 513
«Наши чувства устремляются за пределы нашего "Я“» 183
«О скорби» 183
«О стихах Вергилия» 178
«О физиогномии» 184
«Об опыте» 180, 182, 184, 187–188, 199, 200
«Опыты» 176, 177, 179, 183, 186, 191
и Мольер 153, 177, 190–191, 199–200
и Паскаль 179–181, 187–188
и Фрейд 178, 189, 513
Морган, Сьюзен 302
Морган, Морис 238
Мохаммед, Абдул Джан 594
Моцарт, Вольфганг Амадей 60, 307
Мур, Марианна 322, 333, 341, 500, 599
Мур, У. Г. 195–196
Муссолини, Бенито 584
Мэнн, Джил 136
Мэннинг, Мари 367
Набоков, Владимир 10, 538
Найт, Л. С. 448
Найт, Уилсон 227
Наттол, Энтони 61
Неруда, Пабло 9, 10, 94, 307, 308, 323, 334, 513, 531, 547, 549–556, 559, 561, 562, 564
«Вершины Мачу-Пикчу» 553–554
«Всеобщая песнь» 549, 550–552, 553, 559, 561, 564
«Местожительство — Земля» 561, 562–563
«Народ» 555
и Борхес 549–553
и Уитмен 308, 334, 547
Ницше, Фридрих 9, 12, 15, 22, 29, 52, 53, 56, 72, 82, 146, 176, 181, 214, 219, 236, 241, 247, 253, 254, 258, 273, 291, 293, 322, 324, 353, 356, 357, 360, 374, 388, 442, 499, 503, 520–521, 523, 526, 558, 601
«Воля к власти» 356
«Генеалогия морали» 12, 29, 521
«Так говорил Заратустра» 247, 324, 521
Овидий 105, 106, 131
Оден, У.Х. 25–26, 96, 413–414, 416, 513
Оксфорд, граф 9, 77–79, 431–434, 447
Олсон, Чарльз 53
О’Нил, Юджин 333
Ортега-и-Гассет, Хосе 93, 171
«Размышления о „Дон Кихоте“» 170–171
Остен, Джейн 10, 135, 279–306, 348, 361, 383, 384, 481, 498–499, 500, 504, 511
«Гордость и предубеждение» 295, 304, 498
«Доводы рассудка» 280, 287, 293–301, 303–305
«Мэнсфилд-парк» 295, 297, 298, 299, 300, 304
«Эмма» 295, 300, 302, 304
и Вордсворт 280, 293, 294, 301–302
и Вулф 498–499
и Джонсон 280, 298, 300, 305
и Джордж Элиот 384
и Чосер 135
и Шекспир 498-499
Павел, св. 31, 62, 144-145, 183, 211, 235, 491
Пас, Октавио 531, 547, 555-558, 557, 584
«Лук и лира» 555–556
Паскаль, Блез 179-181, 187, 188, 197, 199, 529
«Мысли» 179–180
Парменид 544
Паунд, Эзра 21, 99, 105, 308, 322, 333, 546, 570, 599
Пейтер, Уолтер 10, 45, 217, 266, 459, 469, 498, 499, 501, 503, 504, 505, 509, 511–512, 527, 558, 605
Пессоа, Фернандо 10, 513, 520, 556–562, 563, 564
«Морская ода» 561
«Послание» 556
«Приветствие Уолту Уитмену» 560–561
«Триумфальная ода» 561
«Walking around» 563
и Уитмен 558-562
Петрарка, Франческо 9, 30, 94, 99, 112, 122, 127–128, 130, 132, 161, 279, 289, 347, 423
Пиндар 15, 37, 40, 44, 47, 105, 106
Пинтер, Гарольд 571
Пинчон, Томас 32, 55, 75, 333, 571, 597, 599, 605
«Выкрикивается лот 49» 32, 597
«Радуга тяготения» 75
Пиранделло, Луиджи 577
Платон 15, 20, 42, 46, 47, 50, 55, 56, 73, 178, 179, 182, 187, 218, 544, 584
Плутарх 181
По, Эдгар Аллан 333, 372, 544
Поуп, Александр 41, 69, 220, 221, 228, 229–233, 290, 509, 542
«Дунсиада» 230
«Илиада» (перевод) 230–232
«Опыт о человеке» 230
«Похищение локона» 231
«Эпистолы о нравственности» 231
Пруст, Марсель 9, 10, 15, 44, 55, 94, 175, 185, 215, 239, 307, 323, 361, 443, 446, 455–474, 475, 479, 485, 490, 513, 517, 520, 527, 541, 568–569, 570, 571, 576, 577, 579, 581, 589, 600, 605
«Беглянка» 459, 469, 472
«В поисках утраченного времени» 10, 392, 455–474, 475? 484,
485, 527, 569, 571
«В сторону Свана» 459, 460, 462
«Германт» 467
«Любовь Свана» 463
«Обретенное время» 457, 469, 473
«Пленница» 459, 468, 469, 472
«Под сенью девушек в цвету» 464, 465
«Содом и Гоморра» 459–460, 468, 470–471
и Беккет 458–459, 568–569
и Фрейд 456–457, 458, 461–462, 466, 468
и Шекспир 455–456, 459-4б0, 461
Псевдо-Лонгин 9
Пуарье, Ричард 318
Пушкин, Александр 9, 74, 92, 175, 290, 390
Пэрриндер, Патрик 489
Рабле, Франсуа 9, 43, 144, 175, 177, 489, 567, 602
Райт, Джеймс 334
Расин, Жан 9, 72, 88, 91, 92, 175, 179, 197, 199, 244, 570, 571, 579, 582
Раши 514, 521
Рембо, Артюр 78, 60, 492, 536
Рескин, Джон 239, 294, 458, 459, 468, 469, 472, 505, 588
Риверс, Д. Э. 457, 459
Рильке, Райнер Мария 239, 307, 347, 513
Рич, Эдриен 44, 49, 341
Ричардсон, Сэмюэл 280, 298, 471
«Кларисса» 298, 299, 365, 471
Робертсон, Ричи 520, 521, 522
Родригес Монегаль, Эмир 539
Ромальху де Соуза Сантеш, Мария Ирен 557-558
Рорти, Ричард 357
Россетти, Данте Габриэль 99, 126
Рот, Филипп 333, 514, 520
«Операция "Шейлок“» 520
Рохас, Фернандо де 93, 163
Руофф, Джин 301
Руссо, Жан-Жак 9, 175, 198, 561
Санктис, Франческо де 100
Сантаяна, Джордж 119, 121, 125
«Три философа-поэта» 119
Санти, Энрико Марио 550
Сапфо 49
Свенсон, Мэй 49, 322, 333, 341, 342
Свифт, Джонатан 9, 135, 153, 224, 228, 495, 543
«Сказка бочки» 153
Сенека 105, 169, 181
Сент-Бёв, Шарль 497
Сервантес, Мигель де 9, 16, 39, 40, 43, 55, 71, 75, 79, 91, 93, 94, 102–103, 129, 44, 153–174, 175, 180, 244, 249, 258, 373, 417, 506–507, 510, 546, 562, 567, 600
«Дон Кихот» 39, 62, 91, 93, 94, 102–103, 144, 153–174, 249, 392, 409, 44, 437, 421, 506–507, 510, 532, 548, 562
и Вулф 506–507
и Данте 102–103, 117
и Кафка 155–156, 516
и Мелвилл 164-165
и Шекспир 71, 153, 154, 161–162, 166, 169–170
Сернуда, Луис 549
Синглтон, Чарльз 99, 100, 117, 120
Скотт, Вальтер 361, 492, 497
Скрич, М. А. 177
Смит, Джозеф 331
Смоллетт, Тобайас 156
Снелль, Бруно 27, 218, 245
«Открытие духа» 218
Сократ 50, 55, 177, 182, 184, 187, 188, 483
Соммер, Дорис 553
Софокл 88, 105, 435, 438, 439, 441
Спенсер, Эдмунд 9, 41, 42, 138, 201, 484, 604
«Королева фей» 484
Стайн, Гертруда 51, 599
Сталин, Иосиф 550, 551, 584
Стендаль 74, 92, 157, 296, 361, 373, 415, 416, 472
Стерн, Лоренс 156, 361, 497, 498, 504, 510, 511, 567
Стивенс, Уоллес 22, 40, 46, 47, 51, 61, 67, 78, 99, 105, 182, 203, 244, 247, 270, 283, 337, 307, 308, 309, 320–321, 330, 333, 339–341, 342, 352, Зб0, 513, 546, 549, 588, 595, 597, 599, 600
«Анекдот с банкой» 46
«Осенние зори» 51, 340, 588
«Стихи нашего климата» 46, 342, 352
и Дикинсон 339–341, 352
и Уитмен 308, 309, 320–321
Стивенсон, Роберт Льюис 505
Стоппард, Том 571, 580
«Розенкранц и Гильденстерн мертвы» 580
Стравинский, Игорь 307, 605
Стэнфорд, У. Б. 105
Суинберн, Алджернон Чарльз 492
Сьюэлл, Ричард 351
Сэвидж, Ричард 228
Сэйерс, Дороти Л. 96
Сэквил-Уэст, Вита 506, 507, 508, 509
Твен, Марк 21, 32, 157, 333
Тейв, Стюарт 296, 298, 301–302
Теккерей, Уильям Мейкпис 492
Теннисон, Альфред 21, 49, 105, 229, 324, 491
«Ода на смерть герцога Веллингтона» 49
Тербер, Джеймс 114
Тёрнелл, Мартин 197
Тициан 74 Толкин, Дж. Р. Р. 96
Толстой, Лев 9, 10, 11, 26, 38, 42, 43, 55, 59, 68, 71, 73-76, 79, 92, 94, 97, 201, 242, 258, 272, 280, 291, 296, 307, 323, 361, 362, 373, 387–406, 412, 415, 523, 527, 600
«Война и мир» 74, 392, 393, 403, 406
«Воскресение» 388
«Дьявол» 388, 391
«Крейцерова соната» 388, 391
«О Шекспире и о драме» 73–75, 395-396
«Хаджи-Мурат» 10, 83, 92, 323, 390–406, 523
«Что такое искусство?» 74–75, 390, 401
и Вордсворт 389
и Гёте 397, 402–403
и Гомер 390, 394, 401
и Данте 390
и Хемингуэй 392, 404
и Шекспир 73–76, 92, 390, 395–397, 403–404
Томсон, Джеймс 41
Торо, Генри Дэвид 329, 331, 333
Тракль, Георг 239, 513
Троцкий, Лев 284, 323, 597
Тургенев, Иван 74, 92, 361, 393
Уайльд, Оскар 26, 80, 81, 253, 274, 410, 469, 498, 531, 605
Уайт, Хейден 52
Уайт, Элен Хармон 331
Уилбур, Ричард 193–195
Уильямс, Теннесси 333
Уильямс, Уильям Карлос 308, 333, 599
Уильямс, Чарльз 96, 104, 114, 118, 122–123
«Образ Беатриче» 96
Уимсет, Уильям К. 343
Уитмен, Уолт 9, 12, 16, 21, 26, 40, 47–48, 49, 59, 94, 175, 181, 229, 261, 272, 280, 307–335, 336, 337, 340, 341, 342, 343, 349, 354, 366, 434, 509, 531, 546–550, 552–564, 599
«Барабанный бой» 317
«Из колыбели, вечно баюкавшей» 308, 320, 330
«Когда во дворе перед домом цвела этой весною сирень» 49, 308, 315, 319, 321, 322, 330–333, 335, 354, 548
«Когда жизнь моя убывала вместе с океанским отливом» 307, 315, 330, 560
«Листья травы» 307, 309, 311, 317–318, 321, 329–330, 547–548, 549, 552, 553, 557, 558, 559, 560, 562, 595
«На Бруклинском перевозе» 307, 329
«Песня о себе» 47, 307–310, 313–316, 322, 323–327, 329, 331, 547, 554, 555, 556, 557, 558, 560, 564
«Последняя мольба» 318–319
«Поэма об Уолте Уитмене, американце» 315
«Спящие» 307, 309–312, 315, 326
«Я сам по себе» 316
«Ясная полночь» 309
и Блейк 47, 311–312, 322
и Борхес 564
и Вулф 509
и Гёте 261
и Лоуренс 334
и Неруда 308, 334, 547
и Пессоа 558–562
и Стивенс 309, 320–321, 330
и Хопкинс 326
и Эмерсон 309–310, 315, 317–318, 321–322, 324, 326, 332, 336
Унамуно, Мигель де 155, 157, 159, 160–161, 162, 163, 165–166, 169
Уокер, Элис 44, 75–76, 378, 603
«Меридиан» 44, 75–76, 572
Уортон, Эдит 505
Уэбстер, Джон 11, 68, 90, 206
«Белый дьявол» 206
Уэлш, Александр 378
Уэст, Натанаэл 32, 333, 597
Фаулер, Алистер 32–34
Фельстинер, Джон 553
Фергюсон, Фрэнсис 99
Фернандес, Рамон 196
Филдинг, Генри 156, 280
Филдс, У. К. 292
Фицджеральд, Ф. Скотт 21, 32, 333, 380
«Ночь нежна» 380, 381
Флетчер, Джон 78, 93, 158
Флетчер, Энгус 158, 344
«Цвета разума» 158
Флобер, Гюстав 9, 157, 175, 296, 307, 323, 361, 363, 373, 417, 466, 472, 481, 518, 527, 567, 571
Фолкнер, Уильям 21, 32, 307, 333, 361, 485
Фома Аквинский 99, 100, 102–103, 122, 480
Форстер, Джон 370
Форстер, Э. М. 365
Фосколо, Уго 100
Фостер, Кенелм 120
Фрай, Нортроп 66, 227, 369, 567, 604
Фрейд, Зигмунд 9, 10, 17, 19, 20, 28, 30, 36, 37, 43, 50, 52, 72, 77–78, 84, 86, 93, 104, 114, 124, 136–137, 155, 164, 178, 181, 184, 189, 190, 204, 206, 217, 218, 222–223, 226, 243, 247, 260, 273, 303, 311, 314, 322, 328, 344, 346, 356, 360, 361, 404, 410, 429–454, 456–457, 461, 462, 466, 468, 476, 487, 499, 501, 513, 514, 516, 520–523, 528–529, 538, 540, 541, 570, 576, 586, 598
«Анализ конечный и бесконечный» 164
«Моисей и монотеизм» 77, 431
«Мотив выбора ларца» 84, 444-445
«Некоторые типы характеров из психоаналитической практики» 447, 449
«Неудобства культуры» («Недовольство культурой») 204, 501
«О некоторых невротических механизмах при ревности, паранойе и гомосексуализме» 456–457
«Печаль и меланхолия» 346, 361, 576
«По ту сторону принципа удовольствия» 433, 453
«Психопатические персонажи на сцене» 443
«Толкование сновидений» 77, 433, 439, 441
«Торможение, симптом и тревога» 433, 452
«Три очерка по теории сексуальности» 433
и Борхес 538
и Вулф 501
и Кафка 520–523, 528–529
и Мильтон 201, 204, 206, 430, 443
и Монтень 178, 189, 513
и Пруст 456–457, 462, 466, 468
и Шекспир 37, 77–78, 84, 93, 222–223, 429–454, 456–457, 476
Фрейм, Дональд М. 178–179, 181, 188, 199
«Открытие человека» 181
Френкель, Ганс 245
Фреччеро, Джон 40, 99, 100, 101, 104, 120, 126–127, 279
Фридрих, Хуго 183
Фрост, Роберт 40, 283, 291, 307, 333, 599
Фуко, Мишель 32, 37, 52, 55, 56, 68, 76, 284, 598
Фуэнтес, Карлос 531
Фьелде, Рольф 411
Хаксли, Олдос 528
Хант, Ли 367
Харди, Томас 334, 361, 365, 498, 505, 506
Харт, Кевин 20
Хеллер, Эрих 244–245, 247, 255
Хемингуэй, Эрнест 21, 32, 320, 333, 392, 404, 485
«По ком звонит колокол» 392
Хёйзинга, Йохан 62, 159, 414, 507
«Homo Ludens» 62, 159, 414
Хиггинсон, Томас
Уэнтворт 336, 357
Хилл, Джеффри 413
Хини, Шеймас 433
Ховард, Дональд Р. 129–130, 131, 135, 137, 139, 141, 146
Ходгарт, Мэтью 486, 493-495
Холландер, Джон 7, 194
Хомэн, Сидни 584
Хопкинс, Джерард Мэнли 326
Хэзлитт, Уильям 41, 48, 90, 149, 219, 233–234, 236, 237, 279, 284, 290, 441, 498, 500–501, 504, 511, 602, 603
«Персонажи Шекспировых пьес» 48
«О поэзии вообще» 149
«О чтении старых книг» 603
Целан, Пауль 239, 339, 347
Цукер, А. Э. 424
Чапмен, Джордж 252
Чейз, Ричард 325
Черити, А. К. 120
Честертон, Г. К. 131, 147–148, 362, 542
Чехов, Антон 9, 410
Чосер, Джеффри 9, 38, 39, 40, 41, 43, 55, 61, 62–63, 69, 99, 118, 129–152, 192, 217, 362, 404, 595, 601, 604
«Дом славы» 133, 134
«Кентерберийские рассказы» 39, 61, 118, 129, 131, 133–134, 136–152
«Книга о королеве» 132
«Троил и Крессида» 133, 151
и Блейк 139
и Боккаччо 132, 133, 135
и Данте 99, 130, 132–133, 134, 136
и Остен 135
и Шекспир 62–63, 130–131, 134–138, 140, 143-146, 148–149, 152
Пролог и рассказ Батской ткачихи 137–145
Пролог и рассказ Продавца индульгенций 145-152
Шатак, Роджер 455, 458, 471, 474
Шекспир, Уильям 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 27, 30, 32, 35, 37–38, 39, 40, 41, 42, 43, 44–45, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 59–94, 95–99, 104, 105, 111, 112, 118, 121, 123, 128, 129, 130–131, 134–138, 140, 143–146, 148–152, 153–154, 157, 161–162, 166, 169–170, 174, 175, 176, 177, 185, 189, 190, 191, 193–195, 198, 201–217, 219, 220, 221–226, 229, 230, 232, 233, 234, 235–237, 242, 244, 246, 249, 250–252, 253, 254, 255, 256–258, 260, 272, 279, 280, 287–288, 297, 298, 299, 322, 324, 328, 335, 336, 340, 342, 362, 363, 369, 372, 373, 390, 395–397, 398, 400, 402, 403–404, 405, 407, 4°8, 411, 412, 421, 429–454, 455, 456, 459, 460, 475–496, 498–499, 500, 506, 509, 510, 511, 513, 514, 529–530, 532, 539, 540, 542, 543, 545, 546, 561, 570, 571, 576–588, 595, 596, 597–598, 599, 600, 601–602, 603, 604
«Антоний и Клеопатра» 60, 121, 162, 402, 431, 499
«Бесплодные усилия любви» 60, 61, 257, 491, 492, 566, 582
«Буря» 66, 572, 577, 578–579, 581, 588
«Венецианский купец» 60, 66
«Гамлет» 44–45, 54, 60, 63, 66, 67, 68, 72, 76, 78, 80–81, 82, 86, 89, 91–92, 121, I56, 175–176, 179, 191, 193–196, 198, 202, 209, 211–214, 222, 245, 250–251, 255–256, 260, 274, 349, 392, 400, 408,417, 425, 447, 448, 449, 451, 452, 489, 493, 495, 529–530, 543, 548, 570; и «Улисс» 476–480, 483–484, 486, 487–488, 598, 601, 602; и «Эндшпиль» 572, 577-589; прочтение Фрейда 430–444, 451
«Два знатных родича» 78
«Двенадцатая ночь» 65, 287, 576
«Зимняя сказка» 456, 457
«Как вам это понравится» 162, 224, 297, 411
«Карденио» 93
«Кориолан» 37
«Король Генрих IV» 19, 60, 67, 144, 158, 423, 586
«Король Генрих V» 140
«Король Иоанн» 60
«Король Лир» 20, 60, 65, 66, 67, 73–75, 76, 77, 79, 82–87, 89–91, 117, 121, 140, 145, 154, 217, 280, 340, 392, 397, 400, 431, 432, 433, 436, 448, 449, 489, 494, 496, 529, 572, 577, 580, 581, 582, 588, 598, 601; прочтение Фрейда 444-447
«Макбет» 60, 66, 67, 76, 82, 201, 202, 217, 223, 288, 417, 431, 432, 433, 43б, 441, 489, 529, 570, 572, 580, 582, 587, 598, 601; и «Поминки по Финнегану» 490, 493–495; и «Потерянный Рай» 204–206, 209, 211, 215; прочтение Фрейда 447–450, 453–454, 570, 587 «Мера за меру» 66, 83, 169, 235–236, 409
«Обесчещенная Лукреция» 67
«Отелло» 19, 60, 67, 135, 145, 206, 280, 288, 408, 433, 449, 456, 481, 487–489, 529, 571, 582; и «Потерянный Рай» 202, 205–211, 214–215
«Ричард III» 19, 60, 572, 580
«Ромео и Джульетта» 60, 87–88, 194
«Сон в летнюю ночь» 60
«Тит Андроник» 19, 60, 145, 202
«Тимон Афинский» 441
«Цимбелин» 123, 208
«Юлий Цезарь» 73, 451, 489, 494, 596
и Беккет 93, 570, 576–588
и Борхес 531, 546–549
и Вордсворт 287–289
и Вулф 498–499, 500, 511
и Гегель 88-89
и Гёте 87–88, 242, 246, 250–252, 254, 256, 257, 260
и Данте 98, 110, 128
и Джойс 475-496
и Джонсон 219, 221–226, 229, 230, 235–238
и Ибсен 408–409, 411, 412, 423
и Кафка 514, 530
и Мильтон 69–71, 201–217
и Мольер 92, 175, 177, 191, 193–195, 198
и Остен 498–499
и Пруст 455–456, 459-460, 461
и Сервантес 71, 153, 154, 161–162, 166, 169–170
и Толстой 73–76, 92, 390, 395–397, 403–404
и Фрейд 37, 77–78, 84, 93, 222–223, 429–454, 456–457, 476
и Чосер 62–63, 130–131, 134–138, 140, 143–146, 148–149, 152
Шелли, Перси Биши 41, 49, 74, 99, 105, 112–113, 115, 118, 240, 258, 284, 286, 294, 308, 334, 344, 400, 434, 456, 504, 539, 561, 574-575
«Аластор» 286
«Божественная комедия», перевод 112–113
«Триумф жизни» 112, 504
«Эпипсихидион» 105 и Беккет 574-575
и Вордсворт 209, 284, 286
и Вулф 504
Шеллинг, Фридрих 156 Шёнберг, Арнольд 307
Шиллер, Иоганн Фридрих 88
Шкловский, Виктор 391–392, 579
Шопенгауэр, Артур 459, 521, 522, 528, 536, 538, 541, 568, 570, 571, 581, 588
Шоу, Джордж Бернард 64, 75, 164, 410, 412, 417, 542, 543, 577
«Назад к Мафусаилу» 543
Шоф, Р. А. 147
Шпитцер, Лео 120–121, 173, 563
Эдвардс, Ли 383-384
Элиот, Джордж 10, 75, 294, 296, 307, 361, 369, 373–386, 389, 482, 500, 593
«Адам Вид» 75, 301, 389
«Даниэль Деронда» 375, 378, 384
«Мидлмарч» 365, 372, 373–386
«Сайлес Марнер» 374
и Вордсворт 374–376, 389
и Вулф 382
и Данте 378, 381, 383
и Лоуренс 373–374
и Остен 384
Элиот, Т. С. 21, 47, 96, 99, 100, 119, 179, 180–181, 218, 220, 227, 229, 307, 308, 315. 330, 333, 342, 479, 482, 513, 546, 570, 574, 589, 597, 599-600
«Бесплодная земля» 119, 229, 322, 342
«Убийство в соборе» 130, 180
Эллманн, Ричард 382, 476, 481, 488, 532
«Джеймс Джойс» 532
Эмерсон, Ральф Уолдо 10, 20–21, 28, 48, 56, 72, 73, 82, 93, 104, 176, 177, 181–182, 214, 219, 227, 229, 230, 239, 254, 273, 299, З09-310, 315, 317–318, 321–322, 324, 326,327,332, 336, 337,339, 340, 341, 342, 343, 349, 352, 353, 356, 357, 360, 434, 454, 458, 492, 498, 499, 520, 547, 553, 588
«Обращение к студентам богословского колледжа» 327
«Опыт» 182
«Представители человечества» 56, 93, 214
«Путь жизни» 48, 318
«Шекспир, или Поэт» 56
и Дикинсон 340, 341, 342, 343, 349, 352, 353, 356, 360
и Уитмен 309–310, 315, 317–318, 321–322, 324, 326, 332, 336
Эммонс, А. Р. 330, 333, 334, 599
Эмпедокл 48, 125–126
Эмпсон, Уильям 39, 208, 247, 323, 341, 479
«Бог Мильтона» 39
Эриугена, Иоанн Скот 544
Эрнандес, Мигель 549
Эчеваррья, Роберто Гонсалес 7, 167, 564
Эшбери, Джон 55, 308, 315, 330, 333, 334, 597, 599, 605
Яноух, Густав 515
J (Яхвист, автор Танаха) 12–14, 16, 43, 84, 87, 95, 96, 116, 135, 165, 208, 249, 291, 390, 402, 415, 515, 528, 544
Примечания
1
Блум дописывает мрачную картину из «Второго пришествия» У. Б. Йейтса; ср.: «Все рушится, основа расшаталась, / Мир захлестнули волны беззаконья…» (пер. Г. Кружкова). — Здесь и далее, если не указано иное, постраничные примечания принадлежат переводчику.
(обратно)2
Об этом см., например: Гронас М. Диссенсус. Война за канон в американской академии 80-х — 90-х годов // НЛО. 2001. № 51. С. 6–18.
(обратно)3
В русском переводе труда Вико (М.; Киев: Ирис, REFL-book, 1994) — Век Богов, Век Героев и Век Людей.
(обратно)4
А. Волохонский, частично переведший этот роман на русский, дал ему другое название (см.: Джойс Д. Уэйк Финнеганов: опыт отрывочного переложения российскою азбукой. Переложение Анри Волохонского. Тверь: KOLONNA Publications, 2000), но я предпочитаю пользоваться тем, которое устоялось в русской традиции.
(обратно)5
Ср.: «Правда, в ранее сделанном предположении, что автором произведений Шекспира был человек из Стратфорда, я с тех пор усомнился» (Фрейд З. Царь Эдип и Гамлет // Фрейд 3. Художник и фантазирование. М.: Республика, 1995. С. 18).
(обратно)6
Блум отсылает к трактату Псевдо-Лонгина «О возвышенном».
(обратно)7
Так у В. Набокова в комментарии к шестой главе «Евгения Онегина» (XXIII, «романтизм») (Набоков В. Комментарии к «Евгению Онегину» Александра Пушкина. М.: НПК «Интелфак», 1999. С. 593).
(обратно)8
Блум отсылает к книге Стивена Гринблатта «Шекспировские сделки: циркуляция социальной энергии в Англии эпохи Возрождения» (Greenblatt S. Shakesperean Negotiations: The Circulation of Social Energy in Renaissance England. Berkeley: University of California Press, 1989).
(обратно)9
В случаях, когда не указано русское издание и/или имя переводчика, перевод цитат мой. — Примеч. пер.
(обратно)10
Блум отсылает к «Генеалогии морали» Ф. Ницше, ср.: «Восстание рабов в морали начинается с того, что ressentiment (жажда мести) становится творческой и порождает ценности: ressentiment (жажда мести) таких существ, которые на самом деле не способны к настоящей реакции, которые поэтому вознаграждают себя воображаемой местью. <…>…человек ressentiment (жажды мести) не откровенен, не наивен и не честен, и не прям сам с собою. Душа его косит; ум его любит закоулки, тайные дороги и задние двери, все скрытое нравится ему, как его мир, его безопасность, его утеха; он умеет молчать, не забывать, ждать, предварительно унижаться и смиряться» (Ницше Ф. Генеалогия морали / Ницше Ф. Избранные произведения: В 2 т. М.: Сирин, 1990. Т. 2. С. 24).
(обратно)11
Ср.: «АГОН (греч. борьба, состязание). Отличительная черта греческого быта — неудержимое стремление к любым состязаниям почти во всех сферах общественной жизни. Главную роль играли спортивные (гимнастические), художественные (поэтические и музыкальные) и конные соревнования. Агоном или агонистикой называлось просто стремление к спортивным успехам, в отличие от атлетики, профессионального спорта…» (Словарь античности. М.: Прогресс, 1989. С. 14).
(обратно)12
Строго говоря, «the anxiety of influence» — это не «страх влияния», а скорее «тревога, вызванная мыслью о влиянии», но это определение слишком громоздко, а «тревога влияния» звучит нескладно. Словосочетание «страх влияния» некорректно, но гладко, а главное, оно, кажется, успело утвердиться в русском литературоведческом языке. Книга Блума, в которой формулируется знаменитая концепция (1973), была переведена вместе с другой его работой, см.: Блум Х. Страх влияния. Карта перечитывания. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 1998.
(обратно)13
Блум цитирует стихотворение У. Уитмена «Когда я, как Адам». Нужный ему образ содержится в названии стихотворения, озаглавленного по первому стиху; в переводе К. Чуковского этот образ создается первым и вторым стихами, ср.: «Когда я, как Адам, / Крепко выспавшись, выхожу на рассвете из лесного моего шалаша…»
(обратно)14
Блум вольно цитирует «Потерянный рай» Д. Мильтона, ср. в переводе А. Штейнберга: «Мы времени не ведаем, когда / Нас не было таких, какими есть; / Мы саморождены, самовозникли <…> Вся наша мощь / Лишь нам принадлежит» (Милтон Д. Потерянный рай // Милтон Д. Потерянный рай. Возвращенный рай. Другие поэтические произведения. М.: Наука, 2006. С. 156).
(обратно)15
Здесь и далее Блум использует слово «misreading», буквально — неверное прочтение; для него оно — явление вполне положительное, по крайней мере конструктивное, ибо способствует возникновению новых литературных произведений (другое дело, что неверные прочтения бывают как «сильными», так и «слабыми»). В вышеупомянутом русском издании двух работ Блума это слово было переведено как «перечитывание»; это еще менее точно, чем «страх влияния», и пользоваться этим определением не стоит даже условно.
(обратно)16
Блум также называет его словом «клинамен»: «Я позаимствовал эту слово у Лукреция, в поэме которого оно означало отклонение атомов, создающее возможность изменений во Вселенной. Поэт отклоняется от своего предшественника, читая его стихотворения так, что по отношению к нему исполняется клинамен. Он проявляется в исправлении поэтом собственного стихотворения, исходящем из предположения, что до определенного момента стихотворение предшественника шло верным путем, но затем ему следовало бы отклониться как раз в том направлении, в котором движется новое стихотворение» (Блум Х. Указ. соч. С. 18).
(обратно)17
Блум цитирует «Литературу и общественные задачи» («Letters and Social Aims», 1876) P. У. Эмерсона; cp.: «Самобытность не самобытна. <…> Только изобретатель умеет заимствовать, и каждый человек является или должен быть изобретателем».
(обратно)18
Блум отсылает к стихотворению У. Стивенса «Мотив для метафоры» («The Motive for Metaphor», 1947).
(обратно)19
Cp.: «Это побуждение к образованию метафор — это основное побуждение человека, которого нельзя ни на минуту игнорировать, ибо этим самым мы игнорировали бы самого человека — на самом деле вовсе не побеждено тем, что мы из его обесплоченных созданий — из понятий — выстроили новый, окоченелый мир, как тюрьму для него; оно даже едва этим обуздано. Оно ищет для своей деятельности нового царства и другого русла и находит его в мифе и вообще в искусстве» (Ницше Ф. Об истине и лжи во вненравственном смысле // Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни. Сумерки кумиров, или как философствовать молотом. О философах. Мн.: Харвест; М.: ACT, 2000. С. 370.).
(обратно)20
Ср.: «Дней лет наших — семьдесят лет, а при большей крепости — восемьдесят лет…» (Псалом 89:10).
(обратно)21
Из «Морского ветра» (1865); пер. Е. Кольчужкина.
(обратно)22
Ср. название книги: Мерод Д. Политические обязательства литературоведа (Merod J. The Political Responsibility of the Critic. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1987).
(обратно)23
Из интервью M. Ньюмену (опубликовано в: The Paris Review. 1974. № 57). Аналогичную мысль Оден выразил в эссе «Чтение», вошедшем в сборник «Рука красильщика и другие эссе» («The Dyer’s Hand and other essays», 1962): «Нападки на плохую книгу не только пустая трата времени — это портит характер» (Оден У. Х. Чтение. Письмо. Эссе о литературе. М.: Издательство «Независимая газета», 1998. С. 38).
(обратно)24
Цитата неточная. Ср. хрестоматийный перевод «Портрета Дориана Грея» М. Абкиной (1960): «Всякое искусство совершенно бесполезно».
(обратно)25
Цитата опять же неточная. Ср.: «Плохая поэзия всегда возникает от искреннего чувства».
(обратно)26
В русских переводах романа эта фраза звучит иначе, ср.: «Раз мы хотим, чтоб все осталось как есть, нужно, чтобы все изменилось» (пер. Г. Брейтбурда); «Если мы хотим, чтобы все осталось по-старому, нужно все поменять» (пер. Е. Дмитриевой; в этом переводе роман называется «Гепард»). Вообще говоря, эти слова произносит не князь, а его племянник, и обращается он не к окружению, а к своему дяде.
(обратно)27
Ср.: «Горе нам! День уже склоняется, распростираются вечерние тени» (Иер. 6:4); «Господи, да пребудешь Ты с нами весь этот день, пока не распрострутся тени и не настанет вечер…» (из «Книги общей молитвы» («The Book of Common Prayer», 1928)). «Вечерняя земля» — стихотворение Д. Г. Лоуренса («The Evening Land», 1922). Название знаменитого труда О. Шпенглера «Der Untergang des Abendlandes» («Закат Европы») может быть переведено как «Сумерки вечерних земель» (англ. «Twilight of the Evening Lands»; так называется книга о Шпенглере, написанная в 1972 году Д. Феннели (J. F. Fennely). Ср. также у Булгакова в «Мастере и Маргарите» (по слову самого автора, его «закатном романе», 1928(?)-1940): «Как грустна вечерняя земля!»
(обратно)28
Ср.: «Две партии, на которые разделилась страна, партия Консерватизма и партия Новизны, весьма стары и спорят за владение миром с самого его основания. <…> Столь непримиримая вражда должна, конечно же, не менее глубоко гнездиться и в человеческом устройстве. Это — противостояние Прошлого и Будущего, Памяти и Надежды, Понимания и Разумения» (Р. У. Эмерсон, «Консерватор» («The Conservative») (лекция, прочитанная 9 декабря 1841 года в Бостонской масонской ложе).
(обратно)29
Ср.: «<Ч>ем-то средним между бегством и осуждением является вытеснение…» (Фрейд 3. Основные психологические теории в психоанализе. Очерк истории психоанализа. СПб.: Алетейя, 1999. С. 108).
(обратно)30
Ср.: «„Вжигать, чтобы сохранилось в памяти: только то, что не перестает болеть, сохраняется в памяти“ — такова основа древнейшей (к сожалению, и продолжительнейшей) психологии на земле» (Ницше Ф. Генеалогия морали. С. 44).
(обратно)31
Ср.: «Тревога имеет несомненное отношение к ожиданию; это боязнь чего-то (Die Angst hat eine unverkennbare Beziehung zur Erwartung; sie ist Angst vor etwas). Ей присущ характер неопределенности и беспредметности. Когда тревога находит свой объект, то это слово заменяется в нашей речи словом боязнь» (Фрейд 3. Торможение, симптом, тревога / Пер. А. Боковикова // Фрейд 3. Собрание сочинений в 10 т. Т. 6: Истерия и страх. М.: Фирма СТД, 2006. С. 302).
(обратно)32
Труд Курциуса «Европейская литература и латинское Средневековье» (1948) содержит раздел «Экскурсы».
(обратно)33
«Злую нам участь назначил Кронион, что даже по смерти / Мы оставаться должны на бесславные песни потомкам!» (пер. Н. Гнедича).
(обратно)34
«Муза смерти не даст славы достойному…» (пер. Г. Церетели).
(обратно)35
См.: Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. М.: Интрада, 1996. С. 138.
(обратно)36
Ср. название сборника: «Английская литература: вскрытие канона» («English Literature: Opening Up the Canon», 1979).
(обратно)37
Грамши А. Тюремные тетради. Часть первая. М.: Изд-во политической литературы, 1991. С. 329.
(обратно)38
Блум отсылает к поэме Блейка «Вала, или Четыре Зоа».
(обратно)39
Здесь и далее Блум вторит А. Бергсону, противопоставлявшему различия по существу различиям в степени («Материя и память»).
(обратно)40
Так называется книга Льюиса, опубликованная в 1952 году («Mere Christianity»).
(обратно)41
Блум намекает на знаменитую статью Р. Барта «Удовольствие от текста» (1973).
(обратно)42
Ср.: «Безвестный край, откуда нет возврата / Земным скитальцам…» («Гамлет», акт III, сцена I. Здесь и далее «Гамлет» цитируется в переводе М. Лозинского).
(обратно)43
Неточная цитата из У. Пейтера, ср.: «Что ж! Мы все condamnés, как говорит Виктор Гюго. Мы все осуждены на смерть, — les hommes sont tous condamnés mort avec des sursis indéfinis; нам отпущен срок, a затем наше место пустеет» (Пейтер У. Ренессанс. Очерки искусства и поэзии. СПб.: Б.-С.-Г. — Пресс, 2006. С. 359).
(обратно)44
Ср.: «Я банку водрузил на холм / В прекрасном штате Теннесси…» (пер. Г. Кружкова).
(обратно)45
Блум отсылает к книге Ф. Лентриккии «Ариэль и полиция» и стихотворению У. Стивенса «Стихи нашего климата».
(обратно)46
Один из двенадцати «малых» библейских пророков.
(обратно)47
Ср.: «…и возопили сыны Израилевы к Господу, и сказали Моисею: разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне?» (Исход, 14:11).
(обратно)48
«Nothing is got for nothing» — цитата из «Пути жизни» Эмерсона («Conduct of Life», 1860). Ср. также слова короля Лира: «Из ничего и выйдет ничего» в переводе Б. Пастернака или «Ничто родит ничто» в переводе М. Кузмина, в оригинале: «Nothing will come of nothing» (I, 1). Ср. также: «ИЗ НИЧЕГО И ВЫЙДЕТ НИЧЕГО. С латинского: Ex nihilo nihilfit (экс нихило нихиль фит). Слова древнеримского поэта-философа Лукреция (98–55 до н. э.), содержащиеся в его сочинении „Природа вещей“, в 1-й и 2-й книгах. Сама же эта мысль была им позаимствована у древних авторов (Эпикура, Мелисса, Эмпедокла), говоривших, что „из несуществующего не может получиться ничего“. Вариант этого выражения есть в сочинении „Рассуждение о самом себе“ римского мыслителя, императора Марка Аврелия (121–180): „Из ничего не выходит ничего, так же как ничто не переходит в ничто“. Часто это выражение встречается в лапидарной форме: „De nihilo nihil“ (дэ нихило нихиль), то есть „из ничего — ничто“» (Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений / Авт. — сост. В. Серов. М.: Локид-Пресс, 2003).
(обратно)49
Пер. К. Чуковского.
(обратно)50
В терминологии Фрейда — то же, что «принцип реальности».
(обратно)51
Слово negation далее переводится и как «негация», и как «отрицание»; Блум имеет в виду и отрицание позитивного (например, воли к жизни), и сильную «отрицательную энергию» того или иного персонажа. — Примеч. ред.
(обратно)52
Цитата неточная. У Стивенса — «An isolation which only the two could share» («The Auroras of Autumn») («Отъединенность, что разделить можно лишь вдвоем» («Осенние зори»)).
(обратно)53
Понятие культурного капитала принадлежит французскому социологу Пьеру Бурдьё. За год до выхода в свет «Западного канона» была опубликована книга Д. Гиллори «Культурный капитал: проблема формирования литературного канона» (Guillory J. Cultural Capital: the Problem of Literary Canon Formation. Chicago: University of Chicago Press, 1993).
(обратно)54
Блум намекает на другую знаменитую статью Барта, «Смерть автора» (1968).
(обратно)55
Так называется эта главка в русском переводе «Культуры Италии в эпоху Возрождения» (с. 138).
(обратно)56
Эмерсон Р. Шекспир, или Поэт // Сочинения Эмерсона. Т. 2. Представители человечества. СПб.: Типография А. С. Суворина, 1903. С. 79.
(обратно)57
Пер. А. Сергеева («Бракосочетание Рая и Ада»).
(обратно)58
Энтони Наттол (1937–2007) — английский филолог, шекспировед. — Примеч. ред.
(обратно)59
Блум отсылает к названию стихотворения У. Стивенса «Men Made Out of Words» (в пер. А. Ждановой — «Люди из слов»).
(обратно)60
Имеется в виду ограбление, в котором участвует Фальстаф.
(обратно)61
Ср.: «Каждый оставайся в том звании, в котором призван» (1-е коринфянам, 7:20).
(обратно)62
Здесь и далее цитируется перевод И. Кашкина и О. Румера.
(обратно)63
Здесь и далее цитируется перевод Б. Пастернака.
(обратно)64
Пер. А. Сергеева.
(обратно)65
См.: Шекспир У. Исторические хроники. М.: Правда, 1987. С. 200.
(обратно)66
Там же. С. 246.
(обратно)67
Ср.: «Мы входим, хотя и не по собственной инициативе, в состояние игры» (Хёйзинга Й. Homo Ludens. Статьи по истории культуры / Пер., сост. и вступ. ст. Д. В. Сильвестрова; коммент. Д. Э. Харитоновича. М.: Прогресс — Традиция, 1997. С. 139).
(обратно)68
Ср. в прологе Батской ткачихи: «Как в юности, все сердце обомрет, / И сладко мне, что был и мой черед» (пер. И. Кашкина).
(обратно)69
Ср.: «За Гвидо новый Гвидо высшей чести / Достигнул в слове; может быть, рожден / И тот, кто из гнезда спугнет их вместе» (здесь и далее — за исключением ряда случаев, о которых сказано ниже, — «Божественная комедия» цитируется в переводе М. Лозинского).
(обратно)70
Блум отсылает к словам Эдмунда, обращенным к Гонерилье: «До гроба ваш» (Действие IV. Сцена II. Здесь и далее «Король Лир» цитируется в переводе М. Кузмина).
(обратно)71
Из «Заметок о превосходном вымысле» («Notes Toward a Supreme Fiction», 1942).
(обратно)72
В русских переводах это определение утрачено.
(обратно)73
Так в переводе Т. Стамовой (см.: Милтон Д. Указ. соч. С. 492).
(обратно)74
Там же.
(обратно)75
Ср.: «История добавляет, что накануне или после смерти он (Шекспир) предстал перед Господом и обратился к нему со словами: — Я, бывший всуе столькими людьми, хочу стать одним — собой. — И глас Творца ответил ему из бури: — Я тоже не я; я выдумал этот мир, как ты свои созданья, Шекспир мой, и один из призраков моего сна — ты, подобный мне, который суть все и никто» (Борхес X. Л. Everything and Nothing // Борхес X. Л. Проза разных лет. М.: Радуга, 1984. С. 232).
(обратно)76
Ср. в «Потерянном рае»: «Урания! Всегда руководи / Моею песней; для нее сыщи / Достойных слушателей, пусть немногих!» (Милтон Д. Указ. соч. С. 191).
(обратно)77
Ницше Ф. Сумерки идолов, или Как философствуют молотом / Пер. И. Полилова // Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 1996. Т. 2. С. 607.
(обратно)78
Эмерсон Р. Платон, или Философ // Сочинения Эмерсона. С. 17.
(обратно)79
Ср. в «Юлии Цезаре»: «На всю страну монаршим криком грянет: / „Пощады нет!“ — и спустит псов войны» (пер. М. Зенкевича).
(обратно)80
Толстой Л. Н. О Шекспире и о драме // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М.: Худож. лит., 1950. Т. 35. С. 258, 267, 272.
(обратно)81
Блум отсылает к третьей сцене пятого действия «Короля Лира», когда Лир входит с мертвой Корделией на руках; ср.:
Кент. Не мира ли конец?
Эдгар. Его ужасный образ?
(обратно)82
См.: Толстой Л. Н. Что такое искусство? // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. 1951. Т. 30. С. 160.
(обратно)83
См.: Там же. С. 161.
(обратно)84
Ср.: «Третье же и главное условие (без которого „не может быть никакого произведения искусства“) — искренность — совершенно отсутствует во всех сочинениях Шекспира. Во всех их видна умышленная искусственность, видно, что он не in earnest, что он балуется словами» (Толстой Л. Н. О Шекспире и о драме. С. 258).
(обратно)85
Ср.: «Во мраке бездны безысходной, / Свершая грех непервородный, / Блуждаем и рыдаем мы — / Тебя мой Спектр ждет в царстве тьмы» («Спектр и Эманация». Пер. В. Топорова).
(обратно)86
Блум случайно или намеренно приписывает концепцию «смерти автора» и авторство соответствующей статьи Фуко вместо Ролана Барта.
(обратно)87
Блум вольно цитирует «Божественную комедию», ср.: «Я увидал: учитель тех, кто знает, / Семьей мудролюбивой окружен» («Ад», IV, 130). (Речь идет об Аристотеле и других мудрецах.)
(обратно)88
Слово «loony», омофон фамилии автора, имеет значения «безумец», «глупец».
(обратно)89
Ср. название книги: Лерну Г. Французский Джойс (Lernout G. The French Joyce. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1992).
(обратно)90
Цит. по: Урнов М. В., Урнов Д. М. Некоторые споры о Шекспире // Урнов М. В., Урнов Д. М. Шекспир. Его герой и его время. М.: Наука, 1964. С. 191.
(обратно)91
Ср.: «Не будьте также и слишком вялы, но пусть ваше собственное разумение будет вашим наставником, сообразуйте действия с речью, речь с действием, причем особенно наблюдайте, чтобы не переступать простоты природы; ибо все, что так преувеличено, противно назначению лицедейства, чья цель как прежде, так и теперь была и есть — держать как бы зеркало перед природой, являть добродетели ее же черты, спеси — ее же облик, а всякому веку и сословию — его подобие и отпечаток» («Гамлет», III, 2).
(обратно)92
Фрейд 3. Мотив выбор ларца // Фрейд 3. Художник и фантазирование. С. 216.
(обратно)93
В оригинале — «unnatural hags»; М. Кузмин опустил прилагательное, ограничившись «ведьмами».
(обратно)94
Ср. слова Альбани: «Воочию, коль небо не пошлет / Нам духов, чтоб остановить злодейства, — / Настанет час, / Что люди пожирать друг друга станут, / Как чудища морские» (IV, 2).
(обратно)95
На самом деле эти слова произносит Альбани.
(обратно)96
Имеется в виду статья «Шекспир, и несть ему конца!».
(обратно)97
Гегель Г. Ф. В. Собр. соч.: В 14 т. М., 1958. Т. 14. С. 390.
(обратно)98
Американским Возрождением в американском литературоведении называется период с 1830-х по 1860-е годы. — Примеч. ред.
(обратно)99
Отсылка к эссе Вирджинии Вулф «Обыкновенный читатель» (1925).
(обратно)100
Борхес X. Л. Девять эссе о Данте // Вопросы философии. 1994. № 1. С. 145.
(обратно)101
Ср.: «Когда Беатриче умерла, Данте потерял ее навсегда и, чтоб уменьшить свою печаль, хотел встретить любимую в воображении; по-моему, он воздвиг тройной храм своей поэмы, чтобы туда вставить эту встречу» (Там же).
(обратно)102
Там же. С. 146.
(обратно)103
Так в переводе М. Лозинского и далее в тексте. В православной традиции — Лукия.
(обратно)104
Ср.: «Есть в небе Благодатная Жена; / Скорбя о том, кто страждет так сурово, / Судью склонила к милости Она» («Ад», II, 94–96).
(обратно)105
Сервантес Сааведра М. де. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. С прибавлением «Лжекихота» Авельянеды. М.: Наука, 2003. Кн. 2. С. 402.
(обратно)106
Ср.: «Здесь изнемог высокий духа взлет; / Но страсть и волю мне уже стремила, / Как если колесу дан ровный ход, / Любовь, что движет солнце и светила» («Рай», XXXIII, 142–145).
(обратно)107
Блум обыгрывает название книги Фреччеро «Поэтика обращения» («The Poetics of Conversion», 1986).
(обратно)108
Ср.: «Урания! Воистину ли так / Зовешься ты, — с Небес ко мне сойди! / Я взвился над Олимпом, вдохновлен / Твоим волшебным голосом; парил / Пегаса крыл превыше. Суть зову / Твою — не имя…» (Книга седьмая).
(обратно)109
Блум ошибается: Бурым Бесом (Brown Demon) Шелли назвал Элизабет Хитчнер (в письме к Т. Хоггу от 4 декабря 1812 года).
(обратно)110
Ср.: «Спрошу их я; то, что тебя тревожит, / И сам я понял; а на твой вопрос / Они, как греки, промолчат, быть может».
(обратно)111
А мы, соответственно, отступаем от перевода М. Лозинского.
(обратно)112
Ср.: «Здесь не бывал никто по эту пору: / Минерва веет, правит Аполлон, / Медведиц — Музы указуют взору» («Рай», II, 7–9).
(обратно)113
Ср.: «Теперь, учитель, я вполне уверен, — / Ответил я. — Уж я и сам постиг, / И даже так спросить я был намерен: / Кто в том огне, что там вдали возник, / Двойной вверху, как бы с костра подъятый, / Где с братом был положен Полиник?» / «В нем мучатся, — ответил мой вожатый, — Улисс и Диомед, и так вдвоем, / Как шли на гнев, идут путем расплаты; / Казнятся этим стонущим огнем / И ввод коня, разверзший стены града, / Откуда римлян вышел славный дом, / И то, что Дейдамия в сенях Ада / Зовет Ахилла, мертвая, стеня, / И за Палладий в нем дана награда» («Ад», XXVI, 49–63).
(обратно)114
Ср.: «Ты будешь знать, как горестен устам / Чужой ломоть, как трудно на чужбине / Сходить и восходить по ступеням» («Рай», XVII, 58–60).
(обратно)115
Так аттестует Ахава Фалек; в русском переводе И. Бернштейн — неточность: «…не набожный, но божий человек» (Мелвилл Г. Моби Дик, или Белый Кит // Мелвилл Г. Собр. соч.: В 3 т. Л.: Худож. лит., 1987. С. 128).
(обратно)116
Контаминация стихов 33:15 и 44:1.
(обратно)117
Ср.: «…воистину о ней можно было бы сказать слова стихотворца Гомера: „Она казалась дочерь не смертного человека, но бога“» (Данте. Новая жизнь / Пер. А. Эфроса. М., 1965. С. 35).
(обратно)118
Данте. Новая жизнь. С. 146.
(обратно)119
См.: «Ад», 1, 79–87.
(обратно)120
Соответствующее место в переводе М. Лозинского:
Остановись, я перешел ручей Глазами, чтобы видеть, как растенья Разнообразны в свежести своей. И вот передо мной, как те явленья, Когда нежданно в нас устранена Любая дума силой удивленья, Явилась женщина, и шла одна, И пела, отбирая цвет от цвета, Которых там пестрела пелена. «О женщина, чья красота согрета Лучом любви, коль внешний вид не ложь, Но сердца достоверная примета, — Быть может, ты поближе подойдешь, — Сказал я ей, — и станешь над стремниной, Чтоб я расслышать мог, что ты поешь? Ты кажешься мне юной Прозерпиной, Когда расстаться близился черед Церере — с ней, ей — с вешнею долиной». (обратно)121
Ср.: «Вместе с юношеским развитием и формированием до того времени латентных женских половых органов наступает в этих случаях усиление первоначального нарцизма, неблагоприятно действующего на развитие настоящей, связанной с сексуальной переоценкой любви к объекту. Особенно в тех случаях, где развитие сопровождается расцветом красоты, вырабатывается самодовольство женщины, вознаграждающее ее за то, что социальные условия так урезали ее свободу в выборе объекта.
Строго говоря, такие женщины любят самих себя с той же интенсивностью, с какой их любит мужчина. У них и нет потребности любить, а есть потребность быть любимой, и они готовы удовлетвориться с мужчиной, отвечающим этому главному для них условию. Значение этого женского типа в любовной жизни людей нужно признать очень большим. Такие женщины больше всего привлекают мужчин не только по эстетическим мотивам, так как они обычно отличаются большой красотой, но также и вследствие интересной психологической констелляции. А именно нетрудно заметить, что нарцизм какого-нибудь лица, по-видимому, очень привлекает тех людей другого типа, которые отказались от переживания своего нарцизма в полном его объеме и стремятся к любви к объекту; прелесть ребенка заключается в значительной степени в его нарцизме, самодовольстве и недоступности так же, как и прелесть некоторых животных, которые производят впечатление, будто им все в мире безразлично, как, например, кошки и большие хищники, и даже великие преступники, и юмористы в поэзии захватывают нас благодаря той нарцистической последовательности, с которой они умеют отстранять от своего Я все их принижающее» («О нарциссизме», 1914, пер. А. Вяхирева и И. Полякова).
(обратно)122
Блум отсылает к эпизоду из второй главы Четвертой книги Царств, в котором Елисей подбирает с земли милоть (плащ) пророка Илии после того, как тот возносится на небо, что символизирует его превращение из помощника Илии в самостоятельного пророка.
(обратно)123
«Дант, оттого что отошел Виргилий, / Не плачь, не плачь еще; не этот меч / Тебя для плача жребии судили» («Чистилище», XXX, 55–57).
(обратно)124
Ср.: «Природа и искусство не дарили / Тебе вовек прекраснее услад, / Чем облик мой, распавшийся в могиле» («Чистилище», XXXI, 49–51).
(обратно)125
Ср. в «Песни к Западному ветру» Шелли (1819): «Развей среди людей мой гимн свободный… / Пророческой трубою прозвучи, / Что за Зимой, и тусклой, и бесплодной, / Для них блеснут Весенние лучи!» (пер. К. Бальмонта).
(обратно)126
Ср. в «Бесплодной земле» Т. С. Элиота (1922): «Обрывками этими я укрепил свои камни» (пер. А. Сергеева).
(обратно)127
См.: «Ад», II, 76–78. В переводе М. Лозинского: «Единственная ты, кем смертный род / Возвышенней, чем всякое творенье, / Вмещаемое в малый небосвод…»
(обратно)128
Блум отсылает к первой строке 86-го сонета Шекспира: «Was it the proud full sail of his great verse…». В русских переводах сочетание этих формулировок не сохранено.
(обратно)129
Ср.: «Бунтарская сверхкомпенсация мужчины вызывает одно из сильнейших сопротивлений переносу. Он отказывается подчинить себя заменителю отца или чувствует себя должником перед ним за что-то и в результате отказывается принять от врача свое выздоровление» (пер. А. Ускова).
(обратно)130
Блум отсылает к Евангелию от Матфея (11:12): «От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется…»
(обратно)131
Ср.: «…(Марс) так часто, сраженный / Вечною раной любви, на твое склоняется лоно; / Снизу глядя на тебя, запрокинувши стройную шею, / Жадные взоры свои насыщает любовью, богиня, / И, приоткрывши уста, твое он впивает дыханье. / Тут, всеблагая, его, лежащего так, обойми и, отрадные речи / С уст изливая, проси, достославная, мира для римлян…» (Тит Лукреций Кар. О природе вещей. Пер. Ф. Петровского).
(обратно)132
Ср. у Гераклита: «Бессмертные — смертны, смертные — бессмертны; смертью друг друга они живут, жизнью друг друга они умирают» (пер. М. Дынника).
(обратно)133
«На склоне дня в великом круге тени…» (пер. И. Н. Голенищева-Кутузова).
(обратно)134
Блум обыгрывает понятие «небезразличного различия», введенное ученым Грегори Бейтсоном, который таким образом определил информацию, точнее, минимальную ее единицу.
(обратно)135
Ср.: «В слезах былые времена кляну, / Когда созданью бренному, беспечный, / Я поклоняться мог и жар сердечный / Мешал полет направить в вышину» (сонет CCCLXV, пер. А. Эфроса).
(обратно)136
Томас Бекет (1118–1170) — канцлер Генриха II, впоследствии архиепископ Кентерберийский. Канонизирован Католической церковью спустя три года после его убийства. Герой пьес «Убийство в соборе» Т. С. Элиота (1935) и «Бекет, или Честь Божья» Жана Ануя (1959).
(обратно)137
Блум обыгрывает термин «новелла».
(обратно)138
Пер. Б. Пастернака.
(обратно)139
«А gentil Pardoner». В русском переводе эпитет утерян, ср: «С ним Продавец был индульгенций папских, / Он приставу давно был предан рабски» (пер. И. Кашкина).
(обратно)140
В русском переводе эпитет опущен.
(обратно)141
Ср.: «Господь прости, была я похотлива, / И молода еще, и говорлива, / Бойка, умна, красива, редкозуба / (То, знаете, Венерин знак сугубый)» (пер. И. Кашкина).
(обратно)142
В русском переводе это опущено.
(обратно)143
Из «Описательного каталога» (1809).
(обратно)144
В русском переводе иначе, ср.: «Чтоб рассказать и горесть и напасти…» («Experience, though no authority…»).
(обратно)145
В русском переводе этот момент немного сглажен, ср.: «Пяти мужей науку я прошла, / Шестого я покуда не нашла» («Of full five husbands tutoring am I. / Welcome the sixth whenever come he shall»).
(обратно)146
Чосер Д. Кентерберийские рассказы / Пер. И. Кашкина и О. Румера. М.: Правда, 1988. С. 299.
(обратно)147
Блум отсылает к трактату «Ступени совершенства» Уолтера Хилтона (ок. 1343–1396).
(обратно)148
В русском переводе иначе, ср.: «Ему и сотни поцелуев мало…».
(обратно)149
В русском переводе иначе, ср.: «А чтобы той проклятой книги сила / Нас не поссорила, ее сожгла / И лишь тогда покой найти смогла».
(обратно)150
Чосер Д. Указ. соч. С. 292.
(обратно)151
Имеется в виду библейская притча о богаче и Лазаре, к которой Фальстаф не единожды отсылает.
(обратно)152
Ср.: «Нигилизм стоит за дверями: откуда идет к нам этот самый жуткий из всех гостей?» (Ницше Ф. Воля к власти. М.: Культурная революция, 2005. С. 29).
(обратно)153
Аллюзия к роману Д. Оруэлла «1984» (здесь и далее мы пользуемся переводом В. Голышева).
(обратно)154
Ср. в русском переводе: «За кварту эля он бы разрешил / Блудить пройдохе, хоть бы тот грешил / Напропалую…»
(обратно)155
Хэзлитт У. О поэзии вообще / Пер. Н. Дьяконовой // Хэзлитт У. Застольные беседы. М.: Наука, 2010. С. 401.
(обратно)156
Чосер Д. Указ. соч. С. 260.
(обратно)157
Там же. С. 271.
(обратно)158
Ср.: «И вот под деревом в кустах нашли / Не смерть, а золото…»
(обратно)159
На самом деле это фольклорный сюжет. Русскому читателю он знаком в обработке С. Маршака (стихотворение «Змея»). — Примеч. ред.
(обратно)160
Ср.: «…Лучше потроха / Свои отрежь, ведь ты же без греха. Я, так и быть, вкрутую их сварю, / За здравие твое их водворю / В свинячьем брюхе, и скопцом, мощой / Ходить ты будешь, праведник святой».
(обратно)161
В русском переводе возникает не слишком уместная легкомысленная интонация: «А продавец молчал, краснел и дулся, / От злости он словами поперхнулся».
(обратно)162
Здесь и далее «Отелло» цитируется в переводе М. Лозинского.
(обратно)163
Эта распространенная версия не учитывает разницы между грегорианским и юлианским календарями. В действительности Шекспир и Сервантес умерли с разницей в десять дней. — Примеч. ред.
(обратно)164
Ауэрбах Э. Мимесис / Пер. А. Михайлова. М.: Прогресс, 1976. С. 361.
(обратно)165
Ср. определение кихотизма у Унамуно: «Но нигде не встречалось мне такого сжатого, живого, мощного выражения истоков кихотизма, этого безумного стремления к увековечению и прославлению имени, как в одной из наших драм, которая сама по себе является чудом сжатости, живости и мощности выражения. Я имею в виду „Юношеские годы Сида“ Гильена де Кастро, где Родриго Ариас, сраженный в поединке, произносит перед смертью такие слова: „Пусть я умру! Пусть слава будет вечной!“» (Унамуно М. де. Житие Дон Кихота и Санчо по Мигелю де Сервантесу Сааведре, объясненное и комментированное Мигелем де Унамуно / Пер. А. Косс и др. СПб.: Наука, 2002. С. 250).
(обратно)166
Блум отсылает к названию книги Унамуно «О трагическом чувстве жизни у людей и народов» (1912).
(обратно)167
Ср.: «Господь мой Дон Кихот, я грудь народа / Пронзил Евангелием как копьем» (Унамуно М. де. Указ. соч. С. 297).
(обратно)168
Там же. С. 250.
(обратно)169
Ср.: «Дон Кихот нуждался в Санчо. Нуждался в нем, чтобы обрести возможность говорить, то есть думать вслух со всей откровенностью, чтобы слышать самого себя и чтобы слышать живой отголосок слов своих в мире. Санчо был для него тем же, что хор для героя в античном театре, Санчо был для Дон Кихота всем человечеством. И в лице Санчо он любит все человечество.
„Люби ближнего своего, как самого себя“, — так было нам сказано, а не „люби человечество“; ибо человечество — абстракция, которую каждый конкретизирует в собственной особе, и, соответственно, проповедовать любовь к человечеству равноценно проповеди самолюбия. А Дон Кихоту самолюбие было присуще в величайшей степени… и весь его жизненный путь не что иное, как самоочищение. Он научился любить всех своих ближних, любя их в Санчо…» (Унамуно М. де. Указ. соч. С. 43).
(обратно)170
Об отношении Достоевского к Дон Кихоту см., например, в Примечаниях к: Достоевский Ф. М. Идиот. Рукописные редакции. Вечный муж. Наброски 1867–1870 // Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1974. Т. 9. С. 358, 400–402.
(обратно)171
См.: «Король Генрих IV». Часть первая, V, 4.
(обратно)172
Сервантес Сааведра М. де. Указ. соч. Кн. 2. С. 165.
(обратно)173
Хёйзинга Й. Указ. соч. С. 26.
(обратно)174
Подробнее о признаках игры см.: Там же. С. 26–32.
(обратно)175
Унамуно М. де. Указ. соч. С. 25.
(обратно)176
В оригинале — «great chivalric romance». Назвать это стихотворение Роберта Браунинга «рыцарским романом» (или «рыцарской поэмой») было бы неверно; слово «romance» Блум использует весьма охотно и вольно, лишая его, по сути, привычных терминологических значений. Далее это слово будет переводиться как «сказка», «рыцарский роман» или попросту «фантазия», в зависимости от контекста.
(обратно)177
Пер. В. Давиденковой.
(обратно)178
В русском переводе этот мотив утрачен.
(обратно)179
Сервантес Сааведра М. де. Указ. соч. Кн. 1. С. 29.
(обратно)180
Блум отсылает к статье Фрейда «Анализ конечный и бесконечный» (1937).
(обратно)181
В рассказе «Пьяцца» (1856).
(обратно)182
Мелвилл Г. Указ. соч. С. 161.
(обратно)183
В русском переводе Унамуно говорится о «возвеличении собственной чести»; к слову «чести» сделана сноска: «В переводе Г. Лозинского: „славы“» (Унамуно М. де Указ. соч. С. 25).
(обратно)184
Унамуно М. де Указ. соч. С. 25.
(обратно)185
Сервантес Сааведра М. де. Указ. соч. Кн. 1. С. 150.
(обратно)186
Там же. С. 151.
(обратно)187
Сервантес Сааведра М. де. Указ. соч. Кн. 1. С. 152.
(обратно)188
Там же. С. 154.
(обратно)189
Унамуно М. де. Указ. соч. С. 78.
(обратно)190
Сервантес Сааведра М. де. Указ. соч. Кн. 1. С. 155.
(обратно)191
Там же. Кн. 2. С. 34.
(обратно)192
В оригинале — «confidence man». Блум отсылает к названию романа Г. Мелвилла (1857).
(обратно)193
Блум отсылает к рассказу Э. По «Демон извращенности» («The Imp of the Perverse», 1845. Пер. К. Бальмонта).
(обратно)194
В русском переводе несколько иначе.
(обратно)195
Сервантес Сааведра М. де. Указ. соч. Кн. 2. С. 150.
(обратно)196
В русском переводе несколько иначе.
(обратно)197
См.: Ортега-и-Гассет X. Эстетика. Философия культуры. М.: Искусство, 1991. С. 129.
(обратно)198
Сервантес Сааведра М. де. Указ. соч. Кн. 2. С. 156.
(обратно)199
Там же. С. 151.
(обратно)200
Сервантес Сааведра М. де. Указ. соч. Кн. 2. С. 156.
(обратно)201
Ауэрбах Э. Указ. соч. С. 357.
(обратно)202
Ауэрбах Э. Указ. соч. С. 358.
(обратно)203
Ср. слова Доранта в «Критике „Школы жен“»: «Одним словом, если автор серьезной пьесы хочет, чтобы его не бранили, ему достаточно в красивой форме выразить здравые мысли, но для комедии этого недостаточно — здесь нужно еще шутить, а заставить порядочных людей смеяться — это дело нелегкое» (пер. А. М. Арго).
(обратно)204
См. примеч. на с. 72.
(обратно)205
Эмерсон Р. Монтень, или Скептик // Сочинения Эмерсона. С. 63.
(обратно)206
Монтень М. Опыты / Пер. А. Бобовича, Н. Рыковой. М.: Наука, 1979. Кн. 3. С. 110.
(обратно)207
Паскаль Б. Мысли / Пер. с фр. Ю. Гинзбург. М.: Изд-во имени Сабашниковых, 1995. С. 267.
(обратно)208
Монтень М. Указ. соч. Кн. 3. С. 310.
(обратно)209
Ср.: «Главным противником, с которым Паскаль сражался со времен своих первых бесед с господином де Саси, был Монтень. Конечно, Паскаля разрушить нельзя; но среди всех авторов Монтень — один из тех, кто поддается разрушению в наименьшей степени. С таким же успехом можно пытаться рассеять туман, бросая в него гранаты <…> Паскаль изучал его с целью его разгромить» (Элиот Т. «Мысли» Паскаля // Элиот Т. Избранное: Религия, культура, литература. М.: РОССПЭН, 2004. С. 370–371).
(обратно)210
Там же. С. 371.
(обратно)211
Там же. С. 372.
(обратно)212
Монтень М. Апология Раймунда Сабундского // Монтень М. Указ, соч. Кн. 2. С. 392.
(обратно)213
Блум отсылает к стихотворению У. Б. Йейтса «Среди школьников», ср.: «Лишь там цветет и дышит жизни гений, / Где дух не мучит тело с юных лет…» (пер. Г. Кружкова).
(обратно)214
Эмерсон Р. Опыт // Эмерсон Р., Торо Г. Эссе. Уолден, или Жизнь в лесу. М.: Худож. лит., 1986. С. 295.
(обратно)215
Монтень М. Указ. соч. Кн. 3. С. 252.
(обратно)216
Там же. С. 274.
(обратно)217
См.: Фрейд 3. Я и Оно // Фрейд 3. Собр. соч. в 10 т. Т. 3: Психология бессознательного. С. 291–352.
(обратно)218
Монтень М. Указ. соч. Кн. 3. С. 277.
(обратно)219
Там же. С. 287.
(обратно)220
Монтень М. Указ. соч. Кн. 3. С. 289.
(обратно)221
Там же. С. 302.
(обратно)222
Там же. С. 304.
(обратно)223
Там же. С. 305.
(обратно)224
Там же. С. 307.
(обратно)225
Монтень М. Указ. соч. Кн. 3. С. 311.
(обратно)226
Тут это слово следует понимать в его философском, а не литературоведческом значении.
(обратно)227
Ошибка Блума: Мольер умер в 51 год. — Примеч. ред.
(обратно)228
Мольер Ж.-Б. Поли. собр. соч.: В 3 т. М.: Искусство, 1986. Т. 2. С. 193. Пер. Т. Л. Щепкиной-Куперник.
(обратно)229
Мольер Ж.-Б. Указ. соч. С. 206.
(обратно)230
Анахронизм: и те и другие возникнут лишь в конце XVIII века.
(обратно)231
Ср. слова Сатаны в «Потерянном рае»: «Еще во мне решимость не иссякла / В сознанье попранного моего / Достоинства, и гордый гнев кипит, / Велевший мне поднять на битву с Ним / Мятежных Духов буйные полки…» (Милтон Д. Указ. соч. С. 10).
(обратно)232
Перевод Ю. Корнеева:
К чему тебе, Шекспир наш бесподобный, Величественный памятник надгробный? <…> В сердцах у нас себе воздвиг ты сам Нетленный и слепящий взоры храм. (обратно)233
Блум отсылает к заглавию книги 3. Фрейда «Неудобства культуры» (или «Недовольство культурой») (1930).
(обратно)234
Термин «американская религия» принадлежит Блуму и будет подробнее разъяснен ниже. — Примеч. ред.
(обратно)235
Форд Д. Белый дьявол // Елисаветинцы. Вып. I. М.: Центрифуга, 1916. С. 186. Блум неточен: персонаж, которому принадлежат эти слова (Людовиго), не погибает, а отправляется в тюрьму.
(обратно)236
См.: Фрейд 3. Тотем и табу // Фрейд 3. Собр. соч. в 10 т. Т. 9. Вопросы общества и происхождение религии. С. 287–444.
(обратно)237
Милтон Д. Указ. соч. С. 148. Здесь и далее «Потерянный рай» цитируется в переводе А. Штейнберга.
(обратно)238
Ср.: «Заметь, что Мильтон в темнице писал о Боге и Ангелах, а на свободе — о Дьяволе и Геенне, ибо был прирожденным Поэтом и, сам не зная того, сторонником Дьявола» (пер. А. Сергеева).
(обратно)239
Ср.: «Скажи, богиня: что произошло, / Когда примером грозным остерег / Приветливый Архангел Рафаил / Адама…» (Милтон Д. Указ. соч. С. 191).
(обратно)240
Милтон Д. Указ. соч. С. 150.
(обратно)241
Блум отсылает к роману Д. Оруэлла «1984», ср.: «таймс 03.12.83 минус-минус изложен наказ с. б. упомянуты нелица переписать сквозь наверх до подшивки».
(обратно)242
Милтон Д. Указ. соч. С. 156.
(обратно)243
«I am not what I am». В переводе Пастернака — «Не то я, чем кажусь».
(обратно)244
I Кор., 15:10.
(обратно)245
Милтон Д. Указ. соч. С. 93.
(обратно)246
Там же. С. 95.
(обратно)247
Марло К. Трагическая история доктора Фауста // Марло К. Сочинения. М.: Худож. лит., 1961. С. 224.
(обратно)248
В оригинале — «the mouth of Hell» (упоминается трижды). В русском переводе — «проем Ада», «пасть Гееннская», «бездонные адские недра» (Милтон Д. Указ. соч. С. 287, 299, 349).
(обратно)249
См. «О свободе христианина» Лютера (1520).
(обратно)250
См.: Иер. 31:33.
(обратно)251
Рекузанты — противники англиканской церкви в XVII веке.
(обратно)252
Блум отсылает к заглавию эссе Р. У. Эмерсона «Доверие к себе» (1841).
(обратно)253
Эмерсон Р. Шекспир, или Поэт // Сочинения Эмерсона. С. 77.
(обратно)254
Там же. С. 78.
(обратно)255
Подглядывающий Том — персонаж легенды о Леди Годиве, подсмотревший за тем, как она обнаженной проехала по улицам Ковентри, и поплатившийся за это слепотой. В современном английском — нарицательное обозначение вуайериста. — Примеч. ред.
(обратно)256
Милтон Д. Указ. соч. С. 105.
(обратно)257
Блум отсылает к названию книги Д. Хэрриота «О всех созданиях — больших и малых» (1972).
(обратно)258
Имеется в виду предисловие Джонсона к изданному им собранию сочинений Шекспира. — Примеч. ред.
(обратно)259
Блум отсылает к строкам из Второй книги «Потерянного рая»: «…Сидел / Всех выше — Сатана; он вознесен / На пагубную эту высоту / Заслугами своими…» (Милтон Д. Указ. соч. С. 33).
(обратно)260
Ср.: «…всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит» (Мф., 12:25). Эти слова цитирует А. Линкольн в своей речи «Дом разделенный» (1858).
(обратно)261
«I» (я), «ауе» (да), «еуе» (глаз) — омофоны (ай). О глазном яблоке см. эссе «Природа» (Эмерсон Р. У. Природа // Эстетика американского романтизма. М.: Искусство, 1977. С. 181).
(обратно)262
Блум отсылает к словам Джона Драйдена из предисловия к «Древним и современным преданиям» (1700): «…мысли, какие ни есть, бегут ко мне, толпясь, так быстро, что единственная трудность состоит для меня в том, чтобы выбрать или отвергнуть, направить их в стихи или придать им иную гармонию — прозы».
(обратно)263
Блум отсылает к мифу об Эдипе, встретившем, не узнавшем и убившем своего отца, Лая.
(обратно)264
2-е Тимофею (4:7, 8).
(обратно)265
Пер. Т. Щепкиной-Куперник.
(обратно)266
Ср. в «Словаре античности»: «ПАФОС (греч. страдание), страсть, к-рая вызывает деяние, влекущее за собой страдание, а также и само испытываемое страдание — осн. элемент трагич. в античности. Если П. находится в середине трагич. действия, то это патетич. трагедия (в отличие от этич., в к-рой важнее характер и его развитие)» (с. 416).
(обратно)267
См., например, стихотворение Шелли «К жаворонку» (1820) в переводе К. Бальмонта.
(обратно)268
Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое / Пер. С. Л. Франка // Ницще Ф. Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 1. С. 260.
(обратно)269
Гёте И. В. Западно-восточный диван. М.: Наука, 1988. С. 217.
(обратно)270
В русский перевод «Максим и размышлений» (см.: Гёте И. В. Избранные философские произведения. М.: Наука, 1964) эти максимы (или размышления) не вошли.
(обратно)271
Манн Т. Собр. соч.: В 10 т. М.: Худож. лит., 1961. Т. 10. С. 38.
(обратно)272
Там же. С. 39.
(обратно)273
Там же. С. 68.
(обратно)274
Там же. С. 395.
(обратно)275
Манн Т. Фрейд и будущее / Пер. С. Апта // Иностранная литература. 1996. № 6. С. 243
(обратно)276
Манн Т. Путь Гёте как писателя // Манн Т. Собр. соч.: В 10 т. Т. 10. С. 88. Также этот вопрос звучит в статье «Страдания и величие Рихарда Вагнера» (Там же. С. 140).
(обратно)277
Блум отсылает к «Заметкам о превосходном вымысле» Стивенса.
(обратно)278
Пер. В. Рогова.
(обратно)279
Пер. Г. Кружкова.
(обратно)280
Пер. Т. Стамовой.
(обратно)281
В переводе Б. Пастернака — Дух земли.
(обратно)282
Ср.: «В моей душе как будто шла борьба, / Мешавшая мне спать…» (V, II).
(обратно)283
Блум отсылает к поэме Д. Чепмена «Овидиев пир чувства» (1595).
(обратно)284
Блум отсылает к стихотворению У. Стивенса «О современной поэзии»: «Стихотворение ума во время поисков / Того, чего будет достаточно».
(обратно)285
Блум отсылает к заглавию книги У. Эмпсона «Семь видов двусмысленности» (1930).
(обратно)286
Гёте И. В. Избранные произведения: В 2 т. М.: Правда, 1985. Т. 2. С. 610 (пер. Б. Пастернака).
(обратно)287
Блум отсылает к названию одноименной автобиографии психоаналитика Т. Райка (1949).
(обратно)288
Гёте И. В. Собр. соч.: В 10 т. М.: Худож. лит., 1980. Т. 10. С. 312 (пер. Н. Ман).
(обратно)289
Гёте И. В. Собр. соч.: В 10 т. 1978. Т. 7. С. 199.
(обратно)290
Блум отсылает к «Деяниям» (17:28), ср.: «Ибо мы Им живем и движемся и существуем…»
(обратно)291
См. его дневник (запись от 26 июня 1940 года).
(обратно)292
В оригинале игра со значениями слова «directed»: «поставленный, срежиссированный» и «направленный». — Примеч. ред.
(обратно)293
Гёте И. В. Избранные произведения. Т. 2. С. 628.
(обратно)294
Ср.: «Из женских глаз доктрину вывожу я: / Лишь в них сверкает пламя Прометея…» («Бесплодные усилия любви», IV, 2. Здесь и далее цитируется перевод Ю. Корнеева).
(обратно)295
Блум отсылает к стихотворению Ф. Г. Лорки «Плач по Игнасьо Санчесу Мехиасу» (1935) (пер. М. Зенкевича).
(обратно)296
Гёте И. В. Избранные произведения. Т. 2. С. 263.
(обратно)297
Гёте И. В. Фауст: Драматическая поэма / Пер. Н. П. Маклецовой. Ч. 1. Петроград: «Вестник знания», 1914. С. 81. В переводе Б. Пастернака Мефистофель, в общем, не позволяет себе лишнего, ср.: «…Со всем сравниться и потом / С высот свалиться кувырком — / Куда, сказал бы мимоходом, / (с презрительным жестом) / Но этого простейший стыд / Мне выговорить не велит» (Гёте И. В. Избранные произведения. Т. 2. С. 264).
(обратно)298
Согласно некоторым апокрифам.
(обратно)299
«Классической» Вальпургиева ночь названа в переводе Б. Пастернака, для которого синонимичность «классического» и «античного» была самоочевидна. Ниже сохранен эпитет из пастернаковского перевода, но «классическая» всюду нужно понимать как «античная». — Примеч. ред.
(обратно)300
Гёте И. В. Избранные произведения. Т. 2. С. 388
(обратно)301
Там же. С. 390.
(обратно)302
Там же.
(обратно)303
См.: Гёте И. В. Избранные произведения. Т. 2. С. 620.
(обратно)304
В русском переводе не совсем так.
(обратно)305
Гёте И. В. Избранные произведения. Т. 2. С. 426.
(обратно)306
Ср.: «По сути, правда, и у нас стыда нет, / Но древность лишней жизненностью ранит. / По моде скрыть бы выпуклость фигур! / Все это откровенно чересчур» (Там же).
(обратно)307
Гёте И. В. Избранные произведения. Т. 2. С. 427.
(обратно)308
У Гёте: «Grau, grämlich, griesgram, greulich, Gräber, grimmig».
(обратно)309
В русском переводе не совсем так.
(обратно)310
Гёте И. В. Избранные произведения. Т. 2. С. 468.
(обратно)311
Блум отсылает к заглавию стихотворения У. Стивенса («How to live. What to do»).
(обратно)312
Гёте И. В. Избранные произведения. Т. 2. С. 482.
(обратно)313
Там же. С. 484.
(обратно)314
Гёте И. В. Избранные произведения. Т. 2. С. 610.
(обратно)315
Там же. С. 625.
(обратно)316
Отрывки из этого и следующего стихотворений Вордсворта даются в подстрочном переводе.
(обратно)317
Блум отсылает к «Деяниям любви» С. Кьеркегора (1847).
(обратно)318
На самом деле ими заканчивается авторское предисловие к этому стихотворению.
(обратно)319
Блум отсылает к словам Вордсворта из «Эссе, дополняющего Предисловие» (1815): «…всякий автор, коль скоро он велик и в то же время самобытен, взял на себя труд создать вкус, сообразно с которым им следует наслаждаться…». Знаменитая формула Пушкина из письма к А. А. Бестужеву (1825) — «Драматического писателя должно судить по законам, им самим над собою признанным» — напрямую к утверждению Вордсворта восходить, по-видимому, не может: Пушкин увлекся Вордсвортом только в конце 1820-х годов, достаточно изучив английский язык; об этом см., например: Долинин А. Пушкин и Англия. М.: Новое литературное обозрение, 2007.
(обратно)320
В русском переводе иначе, см.: Хэзлитт У. Лорд Байрон // Хэзлитт У. Застольные беседы. С. 428.
(обратно)321
Вордсворт У. Избранная лирика. М., 2001. С. 277 (пер. А. Карельского).
(обратно)322
Там же. С. 279.
(обратно)323
Вордсворт У. Избранная лирика. С. 303.
(обратно)324
Там же. С. 305.
(обратно)325
Блум отсылает к «Монблану» П. Б. Шелли (1816), ср. в переводе Я. Пробштейна: «Всем существам, что дышат и растут, / Дано родиться и угаснуть в срок. / Однако недоступное, в покое / Живет Могущество от нас вдали, / И этот обнаженный лик земли, / И первозданность гор передо мною, — / Все учит ум пытливый».
(обратно)326
Гермес, среди прочего, «считался богом красноречия и мышления и в качестве такового — богом-покровителем школ и палестр» (Словарь античности. С. 132).
(обратно)327
Оригинальное название романа «Доводы рассудка».
(обратно)328
В оригинале — «affection», в русском переводе (Е. Суриц) — «дружба», «согласие и любовь», «привязанность», «нежность» и т. д.
(обратно)329
Остен Д. Доводы рассудка / Пер. Е. Суриц. М.: ACT, 1998. С. 39.
(обратно)330
Вариант перевода изречения греческого философа Гераклита (ок. 554–483 до н. э.) (фрагмент 119). В переводе В. Нидлендера оно звучит так: «Нрав для человека — его Божество», в переводе М. Дынника — «Образ мыслей человека — его божество», в переводе А. Лебедева — «Нрав человека — его божество» (с примечанием: «дословно „этос человека — его даймон“» (Лебедев А. В. Логос Гераклита. Реконструкция мысли и слова. СПб.: Наука, 2014. С. 187).
(обратно)331
Остен Д. Указ. соч. С. 290.
(обратно)332
Блум вновь отсылает к стихотворению У. Б. Йейтса «Второе пришествие». Ср. перевод Г. Кружкова: «Вновь тьма нисходит; но теперь я знаю, / Каким кошмарным скрипом колыбели / Разбужен мертвый сон тысячелетий, / И что за чудище, дождавшись часа, / Ползет, чтоб вновь родиться в Вифлееме».
(обратно)333
Пер. Б. Слуцкого. В оригинале не просто «океан», а «океан жизни».
(обратно)334
Пер. В. Левика.
(обратно)335
«Люсидас» (1637) — элегия Мильтона на смерть его друга Эдварда Кинга; «Адонаис» (1821) — элегия Шелли на смерть Китса.
(обратно)336
Блум цитирует эссе Эмерсона «Поэт», ср.: «Однако же стихотворение создают не стихотворные размеры, а мысль, сама создающая эти размеры, мысль столь живая и страстная, что она, как и душа растения или животного, обладает ей одной присущим строением и вносит новое добавление в природу» (Эмерсон Р. У. Поэт // Эстетика американского романтизма. С. 306).
(обратно)337
Пер. А. Старостина.
(обратно)338
Эмерсон Р. У. Поэт. С. 320.
(обратно)339
Блум отсылает к 27-му разделу «Листьев травы». В переводе Чуковского ошибка, ср.: «Прикоснуться своим телом к другому — такая безмерная радость, какую едва может вместить мое сердце» (курсив мой. — Примеч. пер.).
(обратно)340
Пер. К. Бальмонта.
(обратно)341
Пер. К. Чуковского.
(обратно)342
Пер. О. Чухонцева.
(обратно)343
Здесь и далее окончательная редакция «Песни о себе» цитируется в переводе К. Чуковского
(обратно)344
Ср.: I Кор. 13:10: «(К)огда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. <…> Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан».
(обратно)345
Пер. В. Куприянова.
(обратно)346
«Темная ночь души» — стихотворение христианского мистика Святого Иоанна Креста (1542–1591) и его же трактат-комментарий к этому стихотворению.
(обратно)347
Пер. Н. Булгаковой.
(обратно)348
Имеется в виду стихотворение «Догадка о гармонии в Ки-Уэсте» (1934).
(обратно)349
Перевод Г. Кружкова:
Блаженный зуд выстраивать в слова Язык соленых звезд и тусклых волн — И нашим смутным бедам придавать Хоть призрачный, но звучный лад и строй. (обратно)350
Блум отсылает к «Оде соловью», хотя там говорится об окнах, пусть и «дверообразных» (casements), ср. в переводах Е. Витковского («Та песня, что не раз / Влетала в створки тайного окна…») и Г. Кружкова («Будила тишину / Волшебных окон…»).
(обратно)351
Из стихотворения «Как украшения на негритянском кладбище» («Like Decorations in a Nigger Cemetery», 1935).
(обратно)352
Блум отсылает к стихотворению Э. Бишоп «Конец марта», перекликающемуся со стихотворением Стивенса «Обычный вечер в Нью-Хейвене»; из этой переклички и возникает уитменовский образ «льва-солнца» (см. предисловие Блума к: Elizabeth Bishop: Comprehensive Research and Study Guide. Chelsea House Publishers, 2002).
(обратно)353
Cp. в «Сирени»: «И все же сохраню навсегда каждую, каждую ценность, добытую мной этой ночью…» Здесь и далее цитируется перевод К. Чуковского.
(обратно)354
Ницше Ф. Сумерки идолов… С. 601.
(обратно)355
В оригинале — «headland». В переводе Чуковского — «далекая полоска земли».
(обратно)356
Ср.: «Зелень такая богатая, кипящая жизнью, густо разрослась у дороги, / И простерлись далеко вокруг могучие, широкие, золотые пейзажи» («Песня о себе»).
(обратно)357
Пер. В. Левика.
(обратно)358
Пер. Б. Слуцкого.
(обратно)359
В переводе «мать» превратилась в «старуху»: «Неистовая старуха, не прекращай своих рыданий…»
(обратно)360
Ср., например: «По-твоему, я противоречу себе? / Ну что же, значит, я противоречу себе. / (Я широк, я вмещаю в себе множество разных людей.)» («Песня о себе»).
(обратно)361
Ср.: «Проходя мимо песни, что пела отшельница-птица в один голос с моей душой…»; «Мое знание в моем живом теле, оно в соответствии со смыслом всего естества…».
(обратно)362
Блум отсылает к каббалистическим вместилищам Божественного света, ср.: «…Так как Божественный план вещей предусматривал сотворение конечных существ или форм, каждой со своим собственным, отведенным ей местом в идеальной иерархии, то эти обособленные потоки света улавливались и держались в особых „чашах“, созданных — или, вернее, эманированных для этой особой цели. Сосуды, предназначенные для трех высочайших сфирот, принимали их свет, но когда пришла очередь нижних сфирот, свет хлынул с такой силой, что сосуды не выдержали и разбились вдребезги» (Шолем Г. Основные течения в еврейской мистике. М.: Мосты культуры, 2004. С. 331).
(обратно)363
Здесь и далее Блум использует слово «blank».
(обратно)364
За исключением случаев, когда имеющийся стихотворный перевод настолько близок к подлиннику, что им можно пользоваться для передачи на русском анализа Блума, мы прибегаем к подстрочным переводам, а стихотворные даем в примечаниях. Вот 761-е стихотворение Дикинсон в переводе Я. Пробштейна. — Примеч. ред.:
К Пробелу от Пробела — Без Нити Путь — Я ставлю механически стопу — Чтоб стать — погибнуть — иль шагнуть — Не важно мне ничуть. Когда бы преуспела — Была бы вне предела Всех невозможностей — Закрыв глаза — наощупь шла — Слепые зрят ясней — (обратно)365
Блум отсылает к Третьей книге «Потерянного рая», ср. в русском переводе: «Подобно туче, беспросветный мрак / Меня окутал…» (Мильтон Д. Указ. соч. С. 69). В 1805 году Н. И. Гнедич перевел фрагмент из этой книги, озаглавив его «Мильтон, сетующий на свою слепоту».
(обратно)366
Блум отсылает к его одноименному рассказу.
(обратно)367
См.: Эмерсон Р. У. Природа. С. 220.
(обратно)368
Ср. в оригинале: «And still I gaze — and with how blank an eye!»; в переводе В. В. Рогова: «И все смотрю — но безучастен взгляд!..»
(обратно)369
В «Короле Лире» Кент говорит: «Вглядись получше, Лир, и мне позволь / Мишенью быть для глаз». «Мишень для глаз» — «the true blank of thine eye».
(обратно)370
Блум отсылает к стихотворению Стивенса «Человек с голубой гитарой».
(обратно)371
Блум отсылает к стихотворению Дикинсон «Бог есть далекий — величавый Возлюбленный» (357).
(обратно)372
Блум отсылает к стихотворению «Два раза я теряла все» (49) (пер. Г. Кружкова).
(обратно)373
В «Стихах нашего климата».
(обратно)374
Блум отсылает к стихотворению Дикинсон «Мое — по Праву Белого Избрания!» (411).
(обратно)375
Ср.: «Помните, мы говорили, что мечтатель тщательно скрывает свои фантазии от других, потому что ощущает основания стыдиться их. Теперь добавлю: даже если бы он сообщил их нам, он не смог бы доставить нам такой откровенностью никакой радости. Нас, если мы узнаем такие фантазии, они оттолкнут и оставят в высшей степени равнодушными. Но когда художник разыгрывает перед нами свою пьесу или рассказывает нам то, что мы склонны объявить его личными грезами, мы чувствуем глубокое, вероятно, стекающееся из многих источников удовольствие. Как это писателю удается его сокровеннейшая тайна; в технике преодоления упомянутого отторжения, которое, конечно же, имеет дело с границами, поднимающимися между отдельными Я, заключена подлинная Ars poetica. Мы способны расшифровать двоякий способ такой техники: художник с помощью изменений и сокрытий смягчает характер эгоистических грез и подкупает нас чисто формальной, то есть эстетической, привлекательностью, предлагаемой нам при изображении своих фантазий. Такую привлекательность, делающую возможным вместе с ней рождение большего удовольствия из глубоко залегающих психических источников, можно назвать заманивающей премией или предварительным удовольствием. По моему мнению, все эстетическое удовольствие, доставляемое нам художником, носит характер такого предварительного удовольствия, а подлинное наслаждение от художественного произведения возникает из снятия напряженностей в нашей душе. Быть может, именно это способствует тому, что художник приводит нас в состояние наслаждения нашими собственными фантазиями, на этот раз без всяких упреков и без стыда» (Фрейд 3. Художник и фантазирование / Пер. Р. Додельцева // Фрейд 3. Художник и фантазирование. С. 132–133).
(обратно)376
Пер. Г. Кружкова.
(обратно)377
В статье «Печаль и меланхолия» (1917).
(обратно)378
Речь идет о стихотворении «Четыре возраста человека» (1934).
(обратно)379
В некоторых изданиях к этому стихотворению добавляют еще одну строку — разночтение, дополнение или отброшенный вариант: «Remit me this and this» («Отпусти/прости мне это и это»). Поэтический перевод А. Пустогарова, не вполне совпадающий с трактовкой Блума, выполнен с учетом этой строки:
Две вещи удостоверяют — смогла порывами терпенья достичь бестрепетного счастья и пустоту вдохнуть — мне после мрачного триумфа одна досталась во владенье, а смерть твоя дала поблажку и сократила путь — одно мне отпустили и другое— Примеч. ред.
(обратно)380
Блум отсылает к названию книги С. Кьеркегора «Болезнь к смерти» (1849), главная тема которой — отчаяние.
(обратно)381
Перевод Г. Кружкова:
Есть Наклон лучей особый В зимнем Предвечерье — Что томит как звук Органа В опустевшей Церкви — Боль томит Небесной Раны — Хоть не видно Шрама — Только все внутри иначе — Холодно и странно. Этому Никто не учит — Это та Остуда, Что нам Царственное Горе Шлет — из Ниоткуда — Как подует — Скалы вздрогнут, Роща притаится — Как замрет — в Дали огромной Смерть зашевелится (обратно)382
В русском переводе В. Рогова («Элегические строфы, внушенные картиной сэра Джорджа Бомонта, изображающей Пильский замок во время шторма») — ошибка, ср.: «И если бы художником я был, / Я б написать в то время был готов / Свет, что по суше и воде скользил, / Поэта грезу, таинство миров».
(обратно)383
В переводе М. Лозинского он назван «гостем».
(обратно)384
Из стихотворения «Помахать рукой — прощай, прощай, прощай» (1935).
(обратно)385
Перевод А. Эфроса.
(обратно)386
Блум отсылает к стихотворению 1129: «Tell all the truth but tell it slant» (cp. пер. Г. Кружкова: «Скажи всю Правду до конца — / Но исподволь…»).
(обратно)387
См.: Эмерсон Р. У. Природа. С. 222.
(обратно)388
Перевод Я. Пробштейна:
Оттенок — наилучший — чужд— Цвет столь далек от глаз, Что отвезла бы на Базар — Гинею за показ — Изыскан и неуловим Наряд — пестрит в глазах, Как будто Клеопатры свита — Проходит — в небесах — Мгновения Всевластия К Душе подходят близко, Чтобы уйти к Досаде — Не описать изыска — Вглядишься пристальней — в Пейзаж Сокрывший Тайну вчуже Как Колесницу подавив — Чтоб не рвалась наружу — Как все Прошенья Лета — Иль Снега все Проделки — Закроет Тайну Тюлем, Чтоб не прознали Белки, Изводит Непостижность — Пока Глаза в презренье Век не смежат — в Могиле — Открыв другое зренье — (обратно)389
Ницше Ф. Воля к власти. С. 546.
(обратно)390
Ричард Рорти (1931–2007) — американский философ-прагматист.
(обратно)391
Блум отсылает к словам Китса из письма к Б. Бейли от 22 ноября 1817 года: «…мы и по смерти будем радоваться, ибо то, что мы на земле звали счастьем, повторится на более изысканный лад…».
(обратно)392
Все стихотворение в переводе Я. Пробштейна:
Нет, смертный трепета не зрил, В жилище не был вхож, Однако по соседству с ним Природа смертных все ж. При мысли о жилье ужасном Стремишься наутек — Лишает воли к жизни даже Не мысль — один намек. А к возвращенью указать И Дух не в силах путь — Перевести лишь дух — наш труд — Работа лишь вздохнуть. (обратно)393
В оригинале — «rough beast»; Блум снова отсылает к «Второму пришествию» Йейтса.
(обратно)394
Блум цитирует «Печаль и меланхолию» 3. Фрейда, ср.: «Тень объекта пала таким образом на „я“, которое в этом случае рассматривается упомянутой особенной инстанцией также, как оставленный объект. Таким образом, потеря объекта превратилась в потерю „я“, и конфликт между „я“ и любимым лицом превратился в столкновение между критикой „я“ и самим измененным, благодаря отождествлению, „я“» (Психология эмоций. Тексты / Под ред. В. К. Вилюнаса, Ю. Б. Гиппенрейтер. М.: Изд-во Моск, ун-та, 1984. С. 242).
(обратно)395
Ср.: «Пытаясь его (Скимпола. — Примеч. пер.) изобразить, он взял на себя огромную и неотложную задачу. Я сказал „пытаясь“, потому что не убежден, удалось ему это или нет. Как я уже говорил, ему не давались психологические нюансы, характеры его героев одни и те же сейчас и во веки веков. Критики справедливо сетовали на то, что Скимпол очень уж откровенно подл с Джо и мистером Бакетом. И впрямь, не стоило совершать столь неуклюжего предательства, чтобы получить взятку, — надо бы просто обратиться к мистеру Джарндису. И вообще Скимпол так давно потерял честь, что незачем было ее продавать» (Честертон Г. К. Чарльз Диккенс / Пер. Н. Трауберг. М.: Радуга, 1982).
(обратно)396
Герои комедий Б. Джонсона «Вольпоне» (1605) и «Алхимик» (1610) соответственно.
(обратно)397
Блум цитирует «Повторение» (1843) С. Кьеркегора.
(обратно)398
Блум отсылает к пояснению У. Блейка к его утраченной картине «Видения Страшного Суда», ср.: «Заблуждение созидается. Истина вечна. Заблуждение, или Созидание, Сгорит, и тогда, не Ранее, возникнет Истина, или Вечность. Сгорит она в тот Миг, когда Люди прекратят ее созерцать».
(обратно)399
Ср. в «Портрете художника в юности»: «Но я буду стараться выразить себя в той или иной форме жизни или искусства так полно и свободно, как могу, защищаясь лишь тем оружием, которое считаю для себя возможным, — молчанием, изгнанием и хитроумием» (Джойс Д. Портрет художника в юности // Джойс Д. Собр. соч.: В 3 т. М.: Знаменитая книга, 1993. Т. I. С. 438).
(обратно)400
Ср.: «Есть два главных человеческих греха, из которых вытекают все прочие: нетерпение и небрежность. Из-за нетерпения люди изгнаны из рая, из-за небрежности они не возвращаются туда. А может быть, есть только один главный грех: нетерпение. Из-за нетерпения изгнаны, из-за нетерпения не возвращаются» (пер. С. Апта).
(обратно)401
Имеется в виду Микобер, герой романа «Дэвид Копперфильд».
(обратно)402
На самом деле Мэннинг была швейцарка.
(обратно)403
Диккенс Ч. Холодный дом / Пер. М. Клягиной-Кондратьевой // Диккенс Ч. Собр. соч.: В 30 т. М.: Худож. лит., 1960. Т. 18. С. 432.
(обратно)404
Пер. В. Давыденковой.
(обратно)405
Диккенс Ч. Холодный дом. С. 452.
(обратно)406
Там же. С. 454.
(обратно)407
Ср.: «Они освободились от христианского Бога и полагают, что тем более должны удерживать христианскую мораль: это английская последовательность; мы не будем осуждать за нее моральных самок à 1а Элиот. В Англии за каждую маленькую эмансипацию от теологии надо снова ужасающим образом восстанавливать свою честь в качестве фанатика морали. Там это штраф, который платят. Для нас, иных людей, дело обстоит иначе. Отрекаясь от христианской веры, выдергиваешь этим у себя из-под ног право на христианскую мораль. Последняя отнюдь не понятна сама по себе — нужно постоянно указывать на это, наперекор английским тупицам» (Ницше Ф. Сумерки идолов… С. 596).
(обратно)408
Элиот Д. Мидлмарч / Пер. И. Гуровой и Е. Коротковой. М.: Худож. лит., 1981. С. 169.
(обратно)409
Ср.: «Лидгейт еще не сложился не только как мидлмарчский доктор или как свершитель бессмертного научного подвига, но и как человек: многие его достоинства и недостатки в дальнейшем могли развиться или исчезнуть. Надеюсь, из-за этих недостатков ваш интерес к нему не угаснет. Разве среди наших самых ценимых друзей не найдется таких, кто чуть-чуть излишне самоуверен и нетерпим, чей высокий ум не свободен от некоторой пошлости, а широта взглядов и суждений кое-где стеснена и искажена предрассудками, или чьи силы иной раз под влиянием минутных соображений отдаются на служение не тому, чему следовало бы?» (Элиот Д. Указ. соч. С. 175).
(обратно)410
В оригинале Лидгейт говорит: «…that is the sort of shell I must creep into and try to keep my soul alive in it» (вот раковина, в которую мне следует заползти — и постараться сохранить там жизнь своей душе).
(обратно)411
Вулф В. Джордж Элиот / Пер. Н. Рейнгольд // Вопросы литературы. 2010. № 4. С. 241.
(обратно)412
Элиот Д. Указ. соч. С. 22.
(обратно)413
Элиот Д. Указ. соч. С. 879.
(обратно)414
Героини романов соответственно «Женский портрет» (1881) и «Крылья голубки» (1902).
(обратно)415
Горький М. Лев Толстой // Горький М. Собр. соч. в 30 т. Т. 14. М.: ГИХЛ. 1949. С. 260–261.
(обратно)416
Из неоконченного и неотправленного письма к В. Короленко.
(обратно)417
Блум отсылает к строкам из оды «Уныние»: «Мы то лишь получаем, что даем, / Жива Природа с нашим бытием: / Мы и фату и саван ей дарим!» (пер. В. Рогова; Кольридж С. Т. Стихи. М.: Наука, 1974. С. 135).
(обратно)418
Блум отсылает к «Отголоскам бессмертия по воспоминаниям раннего детства», ср.: «Для Взрослого уже погас и он (отблеск небесного света) — / И мир в потемки будней погружен».
(обратно)419
Ср., например: «Впоследствии, когда биограф Толстого, П. И. Бирюков, спросил его, чем он занимался в Шамардине, „совсем сконфузившись, топотом, чтобы никто не слыхал, с заблестевшими глазами, он сказал: „Я писал Хаджи Мурата““. Это было сказано тем тоном… каким школьник рассказывает своему товарищу, что он съел пирожное; он вспоминает испытанное наслаждение и стыдится признаться в нем. <…> В письме к С. А. Толстой от 21 ноября 1897 г. он писал: „Мысли же все и занятия мои направлены на кавказскую повесть, которой мне совестно заниматься, тем более, что она не идет, но от которой не могу отстать“. <…> По возвращении в Ясную Поляну в письме к брату С. Н. Толстому от 29 июня 1902 г.
Лев Николаевич пишет: „Хочу кончить рассказ о Хаджи Мурате. Это баловство и глупость, но начато и хочется кончить“» (Хаджи-Мурат. Неизданные тексты / Публикация А. Сергеенко // Литературное наследство. М.: Изд-во АН СССР, 1939. Т. 35/36. С. 520, 522, 524).
(обратно)420
Шкловский В. Строение рассказа и романа // Шкловский В. Развертывание сюжета. (Б. м.): Издание «ОПОЯЗ», 1921. С. 11.
(обратно)421
См.: Малкольм Н. Людвиг Витгенштейн: Воспоминания // Людвиг Витгенштейн: Человек и мыслитель. М.: Прогресс-Культура, 1993. С. 47.
(обратно)422
Бабель И. Э. <О творческом пути писателя> // Бабель И. Э. Собр. соч.: В 4 т. М.: Время, 2005. Т. 3. С. 395.
(обратно)423
Русский перевод — 2010 (М.: Центрполиграф).
(обратно)424
Толстой Л. Н. Письма 1844–1855 // Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. 1935. Т. 59. С. 132.
(обратно)425
Ср.: «С самого начала при чтении какой бы то ни было драмы Шекспира я тотчас же с полной очевидностью убеждался, что у Шекспира отсутствует главное, если не единственное средство изображения характеров, „язык“, то есть то, чтобы каждое лицо говорило своим, свойственным его характеру, языком. У Шекспира нет этого. Все лица Шекспира говорят не своим, а всегда одним и тем же шекспировским, вычурным, неестественным языком, которым не только не могли говорить изображаемые действующие лица, но никогда нигде не могли говорить никакие живые люди.
Никакие живые люди не могут и не могли говорить того, что говорит Лир, что он в гробу развелся бы с своей женой, если бы Регана не приняла его, или что небеса прорвутся от крика, что ветры лопнут, или что ветер хочет сдуть землю в море, или что кудрявые воды хотят залить берег, как описывает джентльмен бурю, или что легче нести свое горе и душа перескакивает много страданий, когда горе имеет дружбу, и перенесение (горя) — товарищество, что Лир обездетен, а я обезотечен, как говорит Эдгар, и т. п. неестественные выражения, которыми переполнены речи всех действующих лиц во всех драмах Шекспира.
Но мало того, что все лица говорят так, как никогда не говорили и не могли говорить живые люди, они все страдают общим невоздержанием языка.
Влюбленные, готовящиеся к смерти, сражающиеся, умирающие говорят чрезвычайно много и неожиданно о совершенно не идущих к делу предметах, руководясь больше созвучиями, каламбурами, чем мыслями» (Толстой Л. Н. О Шекспире и о драме. С. 239).
(обратно)426
Ср.: «Фальстаф действительно вполне естественное и характерное лицо, но зато это едва ли не единственное естественное и характерное лицо, изображенное Шекспиром.
Естественно же и характерно это лицо потому, что оно из всех лиц Шекспира одно говорит свойственным его характеру языком. Говорит же он свойственным его характеру языком потому, что говорит тем самым шекспировским языком, наполненным несметными шутками и незабавными каламбурами, который, будучи несвойственен всем другим лицам Шекспира, совершенно подходит к хвастливому, изломанному, развращенному характеру пьяного Фальстафа. Только поэтому лицо это действительно представляет из себя определенный характер. К сожалению, художественность этого характера нарушается тем, что лицо это так отвратительно своим обжорством, пьянством, распутством, мошенничеством, ложью, трусостью, что трудно разделять чувство веселого комизма, с которым относится к нему автор» (Там же. С. 246).
(обратно)427
Ср.: «Несомненно — ненависть Толстого к Шекспиру, возникшая гораздо раньше, чем обычно принято думать, это бунт против всеобъемлющей и всеутверждающей природы, ревность морально-истерзанного человека к мировой славе и иронии самодержавного творца; в ней выражено стремление уйти от природы, от наивности, моральной индифферентности — к духу, то есть к нравственному признанию даже социальных ценностей» (Манн Т. Гёте и Толстой. Фрагменты к проблеме гуманизма // Манн Т. Собр. соч.: В 10 т. М.: Худож. лит., 1960. Т. 9. С. 518).
(обратно)428
Горький М. Указ. соч. С. 295.
(обратно)429
Толстой Л. Н. Хаджи-Мурат // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 35. С. 46.
(обратно)430
Манн Т. Гёте и Толстой. С. 543.
(обратно)431
Толстой Л. Н. Хаджи-Мурат. С. 116.
(обратно)432
Оден У. Гений и апостол / Пер. И. Васильевой-Южиной // Судья и строитель. Писатели России и Запада о Генрике Ибсене. М.: Рудомино, 2004. С. 444.
(обратно)433
Оден У. Гений и апостол. С. 434.
(обратно)434
Блум отсылает к реплике Пер Гюнта: «Гюнт стал собой — тут сплетены / Мои желанья, страсти, сны» (пер. П. Карпа).
(обратно)435
Сервантес Сааведра М. де. Указ. соч. Кн. 2. С. 404.
(обратно)436
Ибсен Г. Пер Гюнт / Пер. П. Карпа // Ибсен Г. Драмы. Стихотворения. М.: Худож. лит., 1972. С. 127.
(обратно)437
Там же. С. 129.
(обратно)438
В русском переводе не совсем так.
(обратно)439
Там же. С. 155.
(обратно)440
Ибсен Г. Пер Гюнт. С. 158.
(обратно)441
В русском переводе не совсем так.
(обратно)442
Begriff (нем.) — понятие, представление.
(обратно)443
В русском переводе не совсем так.
(обратно)444
В русском переводе «пуговичный» мотив в этом месте утрачен, ср.: «Кари! Мне ковшик плавильный попался! / Прежде любил он играть с ним, бывало. / Плавил в нем вечно и отлил немало».
(обратно)445
В русском переводе «последний» перекресток превратился в «еще один».
(обратно)446
Ср. слова Сольвейг: «Спи, мой мальчик, спи, дорогой, / Я твою колыбель качаю. / Мальчика держит в объятьях мать, / Дружно весь век они будут играть. / Мальчик приник к материнской груди. / На весь век его, боже, от зла огради! / Мальчик мой рядышком пробыл со мной / Весь свой век. А теперь он устал, мой родной».
(обратно)447
Фрейд 3. «Моисей» Микеланджело // Фрейд 3. Художник и фантазирование. С. 218.
(обратно)448
Блум снова обыгрывает фамилию Луни («Nothing, of course, could be loonier…»), см. сноску 2 на с. 77.
(обратно)449
У Йейтса в стихотворении «Назначение» (1916) действует «гордая, своенравная белка».
(обратно)450
«Гамлет», I, 5.
(обратно)451
«Гамлет», V, I.
(обратно)452
Пьеса Ф. Грильпарцера (1816). Существует перевод А. Блока.
(обратно)453
«Гамлет», V, I. В оригинале говорится не столько о «раздумье», сколько о «совести» (conscience).
(обратно)454
«Гамлет», II, 2.
(обратно)455
В русском переводе выпало слово «вытеснение», нужно: «…многовековое продвижение вытеснения в психической жизни человечества».
(обратно)456
В английском переводе речь идет скорее о сознании (mind), чем о душе.
(обратно)457
Фрейд 3. Царь Эдип и Гамлет (Из книги «Толкование сновидений») // Фрейд 3. Художник и фантазирование. С. 18.
(обратно)458
Блум истолковывает следующий фрагмент из «Рождения трагедии из духа музыки»: «…дионисический человек представляет сходство с Гамлетом: и тому и другому довелось однажды действительно узреть сущность вещей, они познали — и им стало противно действовать; ибо их действие ничего не может изменить в вечной сущности вещей, им представляется смешным и позорным обращенное к ним предложение направить на путь истинный этот мир, „соскочивший с петель“. Познание убивает действие, для действия необходимо покрывало иллюзии — вот наука Гамлета, не та дешевая мудрость Ганса-мечтателя, который из-за излишка рефлексии, как бы из-за преизбытка возможностей, не может добраться до дела; не рефлексия, нет! — истинное познание, взор, проникший ужасающую истину, получает здесь перевес над каждым побуждающим к действию мотивом как у Гамлета, так и у дионисического человека» (Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки / Пер. Г. А. Рачинского // Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. Т. 1. С. 82).
(обратно)459
У ранних последователей Фрейда различаются деструдо и мортидо — два понятия, имеющие отношение к инстинкту смерти. Деструдо иногда понимается как синоним мортидо, иногда как мера мортидо, иногда как влечение к разрушению окружающих (а не себя). — Примеч. ред.
(обратно)460
Афоризм Г. Э. Лессинга.
(обратно)461
Блум отсылает к статье Фрейда «Крушение Эдипова комплекса» (1924).
(обратно)462
Русский перевод: Джонс Э. Жизнь и творения Зигмунда Фрейда. М.: Наука, 1997 (приложения в переводе нет).
(обратно)463
В переводе неточность: имеется в виду не «отношение к отцу», но, напротив, «отцовское отношение».
(обратно)464
Реплика Эдгара в «Короле Лире» (IV, 6).
(обратно)465
Фрейд 3. Некоторые типы характеров // Классический психоанализ и художественная литература / Сост., общ. ред. В. Лейбина. СПб.: Питер, 2002. С. 58.
(обратно)466
Блум отсылает к статье Л. С. Найта «Сколько детей было у леди Макбет?» (1933).
(обратно)467
Ср.: «…Я кормила грудью / И знаю, как сладка любовь младенцу…» («Макбет», I, 7. Здесь и далее «Макбет» цитируется в пер. М. Лозинского).
(обратно)468
Ср.: «Рожай лишь сыновей. / С таким закалом должно создавать / Одних мужчин» («Макбет», I, 7).
(обратно)469
Фрейд 3. Некоторые типы характеров. С. 59–60.
(обратно)470
Ср. в «Тамерлане»: «Создав людей, природа в них вложила / Тревожный и неукротимый дух: <…>/ Он нам велит идти, искать, стремиться, / Пока мы не достигнем тайной цели — / Единственного полного блаженства: / Земной короны на своем челе!» (Марло К. Указ. соч. С. 76).
(обратно)471
Ср.: «Бесчисленные „завтра“, „завтра“, „завтра“ / Крадутся мелким шагом, день за днем / К последней букве вписанного срока…».
(обратно)472
Фрейд 3. Толкование сновидений // Фрейд 3. Сон и сновидения. М.: Олимп, АСТ-ЛТД, 1997. С. 380.
(обратно)473
У Лозинского — «Мир».
(обратно)474
«Remembrance of Things Past» — цитата из 30-го сонета Шекспира и название цикла романов Пруста в первом английском переводе (Чарльза Скотта Макрифа).
(обратно)475
В письме к Марии Гисборн от 16 ноября 1819 года.
(обратно)476
При этом в работе (во всяком случае, в русском ее переводе) говорится, что эта ревность «не происходит из эдипова комплекса».
(обратно)477
Из текста Фрейда следует, что не «как правило», а «всегда».
(обратно)478
Фрейд 3. О некоторых невротических механизмах при ревности, паранойе и гомосексуализме / Пер. А. Боковикова // Фрейд 3. Собр. соч.: В 10 т. Т. 7: Навязчивость, паранойя и перверсия. С. 220.
(обратно)479
Пруст М. Обретенное время / Пер. А. И. Кондратьева. М.: Наталис, 1999. С. 169.
(обратно)480
Беккет С. Пруст // Беккет С. Осколки: Эссе, рецензии, критические статьи / Пер. М. Дадяна. М.: Текст, 2009. С. 60.
(обратно)481
Там же. С. 61.
(обратно)482
Пруст М. Содом и Гоморра / Пер. Н. Любимова. М.: Худож. лит., 1987. С. 40.
(обратно)483
Пруст М. В сторону Свана / Пер. А. Франковского // Пруст М. В поисках утраченного времени. М.: ACT, 2004. С. 280.
(обратно)484
Ср.: «В рамках этой влюбленности нам с самого начала бросается в глаза феномен сексуальной переоценки, тот факт, что любимый объект пользуется известной свободой от критики, что все его качества оцениваются выше, чем качества нелюбимых людей или его самого в то время, когда его не любили» (Фрейд 3. Психология масс и анализ Я / Пер. А. Боковикова // Фрейд 3. Собр. соч.: В 10 т. Т. 9: Вопросы общества и происхождение религии. С. 105).
(обратно)485
Пруст М. В сторону Свана. С. 312.
(обратно)486
Там же. С. 357.
(обратно)487
Там же. С. 383.
(обратно)488
Пруст М. Под сенью девушек в цвету / Пер. А. Федорова // Пруст М. В поисках утраченного времени. С. 461.
(обратно)489
Там же. С. 508.
(обратно)490
«Within a Budding Grove»: так называется второй том эпопеи Пруста в английском переводе, которым пользуется Блум.
(обратно)491
«In the Shadow of Young Girls in Blossom»: вариант перевода, принадлежащий самому Блуму.
(обратно)492
Пруст М. Германт / Пер. А. Франковского // Пруст М. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. Л.: Худож. лит., 1936. С. 404.
(обратно)493
Пруст М. Содом и Гоморра. С. 116.
(обратно)494
Пруст М. Пленница / Пер. А. Франковского. СПб.: ИНАПРЕСС, 1998. С. 14.
(обратно)495
Там же. С. 19.
(обратно)496
Пруст М. Содом и Гоморра. С. 41.
(обратно)497
Пруст М. Пленница. С. 95.
(обратно)498
Пруст М. Беглянка / Пер. Н. Любимова. М.: Крус, 1993. С. 96.
(обратно)499
Блум отсылает к незавершенной поэме Китса «Падение Гипериона», ср: «Так я за бесполезность предпочтен / И речью благосклонную врачуем / В болезни не постыдной! О, до слез / Великодушной тронут я наградой!..» (пер. Г. Кружкова).
(обратно)500
Пруст М. Обретенное время. С. 210.
(обратно)501
Об этом см.: Budgen F. James Joyce and the Making of «Ulysses». Oxford: Oxford University Press, 1991. P. 17.
(обратно)502
Джойс Д. Улисс / Пер. В. Хинкиса и С. Хоружего. М.: Изд-во «Республика», 1993. С. 145.
(обратно)503
В оригинале — «Nothing Like the Sun: A Story of Shakespeare’s Love Life»; это название, в котором цитируется 130-й сонет, можно перевести так: «На звезды не похожи: История любовной жизни Шекспира».
(обратно)504
Джойс Д. Улисс. С. 18.
(обратно)505
Там же. С. 161.
(обратно)506
В «After Strange Gods» (1934).
(обратно)507
Джойс Д. Улисс. С. 161.
(обратно)508
Там же.
(обратно)509
Рефрен из стихотворения «Remorse for Intemperate Speech» (1931): «Fit audience found, but cannot rule / My fanatic heart. <…> Nothing said or done can reach / My fanatic heart. <…> I carry from my mother's womb / A fanatic heart». Ср. перевод Г. Кружкова («Сожалею о сказанном сгоряча»): «Но что поделать мне с душой / Неистовой моей? <…> Но истребить ничем не смог / Фанатика в душе. <…> И я — в том нет моей вины — / Фанатиком рожден».
(обратно)510
Джойс Д. Улисс. С. 165.
(обратно)511
Ср.: «Блум (стискивая себя, с дико расширенными глазами). Наружу! Прячь! Наружу! Паши ее! Еще! Пали!» (Джойс Д. Улисс. С. 398).
(обратно)512
Джойс Д. Улисс. С. 398.
(обратно)513
В оригинале — «dignified». В русском переводе «величавость» превратилась в «важность», с которой Шекспир «чревовещает» (в оригинале — «in dignified ventriloquy»).
(обратно)514
У Блума — «Thursday mother», отсылка к «Thursdaymornun» Джойса, в русском переводе ставшей «Вездеходой».
(обратно)515
Ср.: «Plunders to night of you, blunders what’s left of you…» (Джойс) — «Cannon to right of them, / Cannon to left of them…» (Теннисон).
(обратно)516
Джойс Д. Портрет художника в юности. С. 430.
(обратно)517
«Язык преступника» (The Language of the Outlaw) — памфлет ирландского революционера Роджера Кейсмента, напечатанный в начале 1900-х годов. Джойс пользовался им в работе над «Улиссом» (см. об этом: Bender A. The Language of the Outlaw: A Clarification //JamesJ oyce Quarterly. Vol. 44. № 4 (Summer, 2007).
(обратно)518
Из «Баллады о Франсуа Вийоне, принце всех сочинителей баллад» Алджернона Чарльза Суинберна.
(обратно)519
Цитата из стихотворения Эмерсона «Мерлин» (1846). Ср. в переводе Г. Кружкова: «Выше! Выше! — говорят / Ангелы, — взбирайся смело, / К небу устреми свой взгляд; / Без боязни, без сомненья — / По ступеням удивленья!»
(обратно)520
«Макбет», III, 2.
(обратно)521
В оригинале эти строки фонетически повторяют строки из «Макбета»: «For a burning would is come to dance inane» — «…till Birnam Wood / Do come to Dunsinane»; «Glamours hath moidered’s lieb and herefore / Coldours must leap no more. Lack breath must leap no more» — «Glamis hath murther’d sleep, and therefore Cawdor / Shall sleep no more. Macbeth shall sleep no more».
(обратно)522
Вулф В. Своя комната / Пер. Н. Рейнгольд // Вулф В. Обыкновенный читатель. М.: Наука, 2012. С. 497.
(обратно)523
У Вулф не совсем так, ср.: «…не могла современница Шекспира создать шекспировские пьесы. Раз с фактами туго, позвольте мне представить, что могло бы произойти, будь у Шекспира на редкость одаренная сестра, скажем, по имени Джудит. <…>…уродись в шестнадцатом веке гениальная женщина, она наверняка помешалась бы, или застрелилась, или доживала свой век в домишке на отшибе, полуведьмой, полузнахаркой, на страх и потеху всей деревне… Вести открытую жизнь художника в Лондоне в шестнадцатом веке было равносильно самоубийству. <…> Помните, я говорила, что у Шекспира была сестра? Только не ищите ее в биографиях поэта. Она прожила мало — увы, не написав и слова… Так вот, я убеждена — та безымянная, ничего не написавшая и похороненная на распутье женщина-поэт жива до сих пор… Она жива, ибо великие поэты не умирают, существование их бесконечно. Им только не хватает шанса предстать меж нами во плоти. Придет ли такая возможность к сестре Шекспира, думаю, теперь зависит от вас» (Вулф В. Своя комната. С. 486, 487, 488, 522). Другое дело, что Вулф называет эту гипотетическую одаренную женщину «безвестной Джейн Остен» (с. 487).
(обратно)524
Под названием «Отчего искусство не прогрессивно?».
(обратно)525
В рецензии на книгу У. Э. Пека «Шелли: Его жизнь и творчество» (1927).
(обратно)526
Стивен — девичья фамилия писательницы; в 1912 году она вышла замуж за писателя Леонарда Вулфа.
(обратно)527
Борьба за культуру (нем.).
(обратно)528
Вулф В. Орландо / Пер. Е. Суриц. СПб.: Азбука, 1997. С. 52.
(обратно)529
Вулф В. Как читать книги? / Пер. Н. Рейнгольд // Вулф В. Обыкновенный читатель. С. 389.
(обратно)530
«Организованная невинность» — понятие У. Блейка.
(обратно)531
Вулф В. Орландо. С. 131.
(обратно)532
Ср.: «Разве поэзия — не тайная связь, не голос, отвечающий голосу?»
(обратно)533
Вулф В. Своя комната. С. 500.
(обратно)534
Вулф В. На маяк / Пер. Е. Суриц // Вулф В. Миссис Дэллоуэй. На маяк. Орландо. Волны. Флаш. Рассказы. Эссе. М.: ACT, 2002. С. 305.
(обратно)535
Ср.: «Если бы некто должен был назвать художника, который ближе всех подошел к такому отношению к нашему веку, которое Данте, Шекспир и Гёте имели к своим, то он бы в первую очередь подумал о Кафке» (из рецензии 1941 года под названием «Вечный жид»).
(обратно)536
Ср.: «…жуткое в действительности не новое или чужое, а что-то давно знакомое душевной жизни, что было отчуждено от нее лишь вследствие процесса вытеснения» (Фрейд 3. Жуткое // Фрейд 3. Собр. соч.: в 10 т. 2006. Т. 4. С. 286).
(обратно)537
Раши — знаменитый средневековый еврейский мудрец, толкователь Торы и Талмуда. — Примеч. ред.
(обратно)538
Ср. в рассказе М. Зощенко «Спи скорей» (1936): «„Спи скорей, твоя подушка нужна другому“, — сказал я сам себе, вспомнив, что такой плакат висел в прошлом году в Доме крестьянина в городе Феодосии».
(обратно)539
Кафка Ф. Афоризмы / Пер. С. Апта // Кафка Ф. Сочинения: В 3 т. М.; Харьков, 1994. Т. 3. С. 19.
(обратно)540
Ср.: «Решающее мгновение человеческого развития длится вечно. Правы поэтому революционные духовные движения, объявляющие все прежнее ничтожным, ибо еще ничего не произошло» (пер. С. Апта).
(обратно)541
Кафка Ф. О книге Кьеркегора «Страх и трепет» и о патриархе Аврааме / Пер. М. Харитонова // Лехаим. 2005. № 6 (158). С. 46.
(обратно)542
Кафка Ф. Тетради ин-октаво / Пер. Г. Ноткина. СПб.: Академический проект, 2003. С. 60.
(обратно)543
Кафка Ф. Сочинения: В 3 т. Т. 3. С. 342. Пер. А. Карельского.
(обратно)544
Ср.: «Я — это конец или начало» (Кафка Ф. Тетради ин-октаво. С. 56).
(обратно)545
Кафка Ф. Тетради ин-октаво. С. 30.
(обратно)546
Там же. С. 31.
(обратно)547
Там же. С. 36.
(обратно)548
Там же.
(обратно)549
Пер. С. Апта.
(обратно)550
Первым эту формулировку употребил Р. Роллан в письме к Фрейду от 5 декабря 1927 года.
(обратно)551
Ср.: «На правом боку, в области бедра, у него открытая рана в ладонь величиной. Отливая всеми оттенками розового, темная в глубине и постепенно светлея к краям, с мелко-пупырчатой тканью и неравномерными сгустками крови, она зияет, как рудничный карьер. Но это лишь на расстоянии. Вблизи я вижу, что у больного осложнение. Тут такое творится, что только руками разведешь. Черви длиной и толщиной в мизинец, розовые, да еще и вымазанные в крови, копошатся в глубине раны, извиваясь на своих многочисленных ножках и поднимая к свету белые головки» (Кафка Ф. Сельский врач / Пер. Р. Гальпериной // Кафка Ф. Сочинения.: В 3 т. Т. 2 С. 225).
(обратно)552
Там же. С. 226–227.
(обратно)553
Имеется в виду вера в то, что душа смертна, как и тело.
(обратно)554
Ср.: «Век расшатался — и скверней всего, / Что я рожден восстановить его!» («Гамлет», I, 5).
(обратно)555
Блум отсылает к последней фразе романа Беккета «Безымянный» (1953): «Ты должен продолжать, я не могу продолжать, я буду продолжать».
(обратно)556
Red (англ.), rot (нем.) — красный.
(обратно)557
Фамилия Бабель происходит от названия Вавилона. «Вавилонская библиотека» — один из самых известных рассказов Борхеса. — Примеч. ред.
(обратно)558
Борхес X. Л. Смерть и буссоль / Пер. Е. Лысенко // Борхес X. Л. Проза разных лет. М., 1989. С. 106.
(обратно)559
Блум несколько опережает события.
(обратно)560
Борхес X. Л. Смерть и буссоль. С. 112.
(обратно)561
Борхес X. Л. Тлён, Укбар, Orbius tertius / Пер. Е. Лысенко // Борхес X. Л. Проза разных лет. С. 50.
(обратно)562
Борхес X. Л. Оправдание Лже-Василида / Пер. И. Петровского// Борхес X. Л. Письмена Бога. М.: Республика, 1992. С. 38.
(обратно)563
Борхес X. Л. «Биатанатос» / Пер. И. Петровского // Там же. С. 107.
(обратно)564
Борхес X. Л. Три версии предательства Иуды / Пер. Е. Лысенко // Борхес X. Л. Проза разных лет. С. 118.
(обратно)565
Там же. С. 120.
(обратно)566
Борхес X. Л. Богословы / Пер. Е. Лысенко // Борхес X. Л. Проза разных лет. С. 184.
(обратно)567
Там же. С. 187.
(обратно)568
Речь идет о текстах, принадлежащих разным авторам; Браунинг — лишь один из них.
(обратно)569
Так в переводе.
(обратно)570
Борхес X. Л. Кафка и его предшественники / Пер. Б. Дубина // Борхес X. Л. Расследования. СПб.: Амфора, 2001. С. 150.
(обратно)571
Имеется в виду международная издательская премия «Форментор». — Примеч. ред.
(обратно)572
Борхес X. Л. Бессмертный // Борхес X. Л. Проза разных лет. С. 126.
(обратно)573
Christ (англ.) — Христос.
(обратно)574
Борхес X. Л. Бессмертный. С. 130.
(обратно)575
Борхес X. Л. Лесли Уэзерхед. «После смерти» / Пер. Б. Дубина // Борхес X. Л. Сочинения: В 3 т. Т. 3. Стихотворения. Устные выступления. Интервью. М.: Полярис, 1997. С. 493.
(обратно)576
Борхес X. Л. Everything and Nothing. С. 232.
(обратно)577
Борхес X. Л. Заметки об Уитмене / Пер. И. Петровского // Борхес X. Л. Письмена Бога. С. 159.
(обратно)578
Борхес X. Л. Интервью с Ритой Гиберт / Пер. Е. Лысенко // Борхес X. Л. Сочинения: В 3 т. Т. 3. С. 456.
(обратно)579
Борхес X. Л. Алеф / Пер. Е. Лысенко // Борхес X. Л. Проза разных лет. С. 190.
(обратно)580
Неруда П. Вершины Мачу-Пикчу / Пер. М. Зенкевича // Неруда П. Собр. соч.: В 4 т. М.: Худож. лит., 1978. Т. 3. С. 34.
(обратно)581
Ср.: «Успеешь ли ты высказаться перед нашей разлукой? или / окажется, что ты запоздал?»
(обратно)582
Неруда П. Народ / Пер. О. Савича // Неруда П. Собр. соч. Т. 2. С. 213.
(обратно)583
Пас О. Уитмен — поэт Америки / Пер. В. Резник // Пас О. Освящение мига. СПб., 2000. С. 306.
(обратно)584
Пессоа Ф. Теми словами или не теми… / Пер. М. Березкиной // Пессоа Ф. Лирика. М.: Худож. лит., 1989. С. 155.
(обратно)585
Пессоа Ф. Приветствие Уолту Уитмену / Пер. Е. Витковского // Пессоа Ф. Лирика. С. 204.
(обратно)586
У Борхеса несколько иначе, ср.: «Вначале он наметил себе относительно простой метод. Хорошо изучить испанский, возродить в себе католическую веру, сражаться с маврами или с турками, забыть историю Европы между 1602 и 1918 годами, „быть“ Мигелем де Сервантесом. Пьер Менар тщательно обдумал этот способ… но отверг его как чересчур легкий. <…> Быть в двадцатом веке популярным романистом семнадцатого века Менар счел для себя умалением. Быть в той или иной мере Сервантесом и прийти к „Дон Кихоту“ он счел менее трудным путем — и, следовательно, менее увлекательным, — чем продолжать быть Пьером Менаром и прийти к „Дон Кихоту“ через жизненный опыт Пьера Менара» (Борхес X. Л. Пьер Менар, автор «Дон Кихота» / Пер. Е. Лысенко // Борхес X. Л. Проза разных лет. С. 65).
(обратно)587
Неруда П. Собр. соч. Т. 1. С. 103. Пер. В. Столбова.
(обратно)588
Ср. в «Песне о себе»: «Огромное, яркое солнце, как быстро ты убило бы меня, / Если бы во мне самом не всходило такое же солнце».
(обратно)589
Блум отсылает к названию эссе Беккета «Данте… Бруно. Вико… Джойс» (1929).
(обратно)590
Беккет С. Мерфи / Пер. М. Кореневой. М.: Текст, 2002. С. 274.
(обратно)591
Там же. С. 269.
(обратно)592
Там же. С. 215.
(обратно)593
Беккет С. Пруст. С. 59.
(обратно)594
Там же. С. 10.
(обратно)595
Там же. С. 44.
(обратно)596
Там же. С. 55.
(обратно)597
Из интервью Беккета И. Шенкеру («Нью-Йорк Таймс», 6 мая 1956 года).
(обратно)598
Элиот Т. С. Гамлет и его проблемы // Элиот Т. С. Назначение поэзии. Киев, 1996. С. 156.
(обратно)599
Ср. неверный русский перевод: «Непревзойденные примеры (тому, как воображение гения лепит фон, характеры и страсти, налагая на все свой отпечаток,) читатель обнаружит, если вспомнит и „Лира“ и „Отелло“, — чего только не подскажет ему память из „драм великих и бессмертных того, кто сам уже давно почил“» (Кольридж С. Т. Biographia Literaria, или Очерки моей литературной судьбы и размышления о литературе // Кольридж С. Т. Избранные труды. М., 1987. С. 108).
(обратно)600
Подзаголовок пьесы — «Трагикомедия в двух действиях».
(обратно)601
Эстрагон переиначивает первые строки стихотворения Шелли к «К луне» (опубл. посмертно в 1824 году). В переводах О. Тархановой (Беккет С. В ожидании Годо: Пьесы. М.: Текст, 2004) и М. Богословской (Беккет С. В ожидании Годо // Драматурги-лауреаты Нобелевской премии. М.: Панорама, 1998) этого нет.
(обратно)602
Пер. Д. Смирнова-Садовского.
(обратно)603
И в переводе Бальмонта, и в переводе Пастернака («Ода западному ветру») прилагательное опущено, ср.: «О, бурный ветер, Осени дыханье, / Перед твоей незримою стопой, / Как духи перед властью заклинанья, / Бегут листы и кружатся толпой…» (Бальмонт); «О буйный ветер запада осенний! / Перед тобой толпой бегут листы, / Как перед чародеем привиденья…» (Пастернак).
(обратно)604
Беккет С. В ожидании Годо. С. 69 (пер. О. Тархановой).
(обратно)605
Там же. С. 101.
(обратно)606
В переводах О. Тархановой и М. Богословской этого нет.
(обратно)607
Беккет отсылает к «Тщете человеческих желаний» Джонсона.
(обратно)608
Блум отсылает к словам Просперо: «Но благородный разум гасит гнев / И милосердие сильнее места» («Буря», V, I. Пер. М. Донского).
(обратно)609
По Б. Брехту, этот эффект (схожий с «остранением» Шкловского) состоит в том, чтобы «лишить событие или характер всего, что само собой разумеется, знакомо, очевидно, и вызвать по этому поводу удивление и любопытство» (Брехт Б. Об экспериментальном театре / Пер. В. Клюева // Брехт Б. Театр: Пьесы. Статьи. Высказывания: В 5 т. М.: Искусство, 1965. Т. 5/2. С. 98).
(обратно)610
На самом деле он тревожит Клова.
(обратно)611
Ср. в финальном монологе Хамма: «Клов! (Долгая пауза.) Нет? Ладно. (Вынимает платок.) Раз это так играют… (разворачивает платок) так и сыграем, (разворачивает) и больше не о чем говорить… (развернул) не о чем говорить. (Держит перед собой развернутый платок). Старая тряпка! (Пауза). Тебя… я оставлю. (Пауза. Он закрывает лицо платком, опускает руки на ручки кресла и больше не шевелится)». (Беккет С. Эндшпиль / Пер. Е. Суриц // Беккет С. В ожидании Годо. С. 154).
(обратно)612
«Бесплодные усилия любви», V, 2.
(обратно)613
Беккет С. Эндшпиль. С. 147.
(обратно)614
Об этом см., например: Божович М. Большое путешествие «Обломова»: Роман Гончарова в свете «Просветительной поездки» // НЛО. 2010. № 106. С. 130–145.
(обратно)615
См.: Джойс Д. Улисс. С. 165.
(обратно)616
Ср.: «На другой день Биой позвонил мне из Буэнос-Айреса. Он сказал, что у него перед глазами статья об Укбаре в XXVI томе Энциклопедии. Имени ересиарха там нет, но есть изложение его учения, сформулированное почти в тех же словах, какими он его передал, хотя возможно, с литературной точки зрения менее удачное. Он сказал: „Copulation and mirrors are abominable“ Текст Энциклопедии гласил: „Для одного из этих гностиков видимый мир был иллюзией или (что точнее) неким софизмом. Зеркала и деторождение ненавистны (mirrors and fatherhood are hateful), ибо умножают и распространяют существующее“. Я совершенно искренне сказал, что хотел бы увидеть эту статью» (Борхес X. Л. Тлён, Укбар, Orbis tertius. С. 51).
(обратно)617
Беккет С. Эндшпиль. С. 151. Точнее было бы сказать не «будущий», а «возможный» или «потенциальный» (в оригинале — «а potential procreator»). Опять же, в ужас приходит Клов.
(обратно)618
См.: Фрейд 3. Неудовлетворенность культурой // Фрейд 3. Собр. соч. 2009. Т. 9. С. 261.
(обратно)619
«Гамлет», II, 2.
(обратно)620
Беккет С. Эндшпиль. С. 132.
(обратно)621
Блум отсылает к монологу Макбета («Ей надлежало бы скончаться позже: / Уместнее была бы эта весть…», V, 5).
(обратно)622
В английском оригинале «Эндшпиля» Хамм называет сумасшедшего не только художником, но и гравером.
(обратно)623
Отсылка к Притч. 20:27; слово «свеча» (candle) появляется в версии Библии короля Якова; в современном переводе стоит слово «lamp». В русском Синодальном переводе — «светильник», в церковнославянском — «свет». — Примеч. ред.
(обратно)624
Блум отсылает к «Осенним зорям» У. Стивенса.
(обратно)625
«Меньшесть» (1970) — рассказ Беккета, написанный по-французски («Sans») и переведенный автором на английский («Lessness»).
(обратно)626
Беккет С. Последняя лента Крэппа / Пер. Е. Суриц // Беккет С. Театр. СПб.: Амфора, 1999. С. 222.
(обратно)627
Блум отсылает к названию книги К. Фэдимена («Lifetime Reading Plan», 1960).
(обратно)628
Блум неточно цитирует Э. Дюркгейма, определившего таким образом социализм (см. опубликованный Дюркгеймом в 1928 году курс лекций).
(обратно)629
Имеется в виду идея XX века как «американского века».
(обратно)630
Граучо Маркс (1890–1977) — американский комик, один из пяти «Братьев Маркс».
(обратно)631
Сидни Джозеф Перельман (1904–1979) — американский юморист и сценарист.
(обратно)632
Блум сознательно отсылает к названию романа Ф. Достоевского.
(обратно)633
Закон Грешема — экономический закон, сформулированный в XVI веке Николаем Коперником и английским экономистом Томасом Грешемом; согласно ему, «плохие» деньги (то есть деньги, «внутренняя», фактическая стоимость которых ниже номинальной) вытесняют «хорошие» (то есть деньги, чья «внутренняя» стоимость равна номинальной или превосходит ее). — Примеч. ред.
(обратно)634
Анонимная группа художниц-феминисток, возникшая в Нью-Йорке в 1985 году.
(обратно)635
В оригинальном издании Блум указывает те переводы на английский язык, в которых, по его мнению, следует читать переводные тексты; в настоящем издании его комментарии на этот счет опущены. — Примеч. ред.
(обратно)636
В список включены австрийские (Адальберт Штифтер) и швейцарские (Готфрид Келлер, Иеремия Готхельф) писатели. — Примеч. ред.
(обратно)637
В список включены не только французы: Филипп Жакоте — швейцарский поэт. — Примеч. ред.
(обратно)638
В список попало значительное количество австрийских и швейцарских писателей: Гофмансталь, Рильке, Брох, Тракль, Шницлер, Краус, Музиль, Й. Рот, Целан, Бернхард, Бахман, Хандке (Австрия), Вальзер, Фриш, Дюрренматт (Швейцария). — Примеч. ред.
(обратно)639
Исак Динесен — один из псевдонимов Карен Бликсен.
(обратно)640
Все перечисленные авторы писали по-сербски. — Примеч. ред.
(обратно)641
В указатель не включены имена, упомянутые в Приложениях, за исключением тех, что встречаются в основном тексте книги. — Примеч. ред.
(обратно)
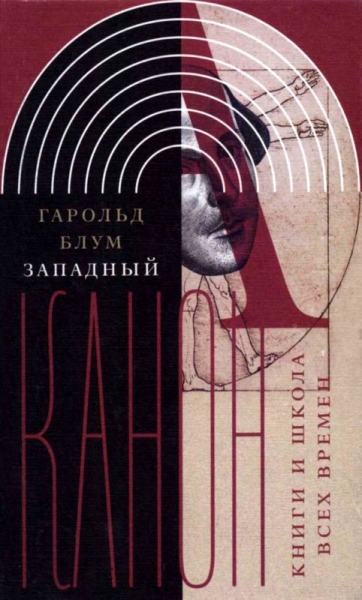


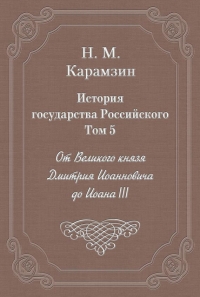
Комментарии к книге «Западный канон», Хэролд Блум
Всего 0 комментариев