Предисловие
Брачные союзы между представителями правящей российской династии Романовых и немецкими династиями из Германии и Австрии существуют почти три столетия.
Если восстановить хронологию брачных союзов между Романовыми и членами немецких династий, то перед нами предстанет интересная и пестрая картина.
Первый брак состоялся в 1710 году между племянницей Петра I – Анной Ивановной, которая была дочерью его старшего брата Ивана Алексеевича, и герцогом Курляндским Фридрихом-Вильгельмом, из династии Кеттлеров.
Через 290 лет с того времени, как Анна Ивановна стала женой герцога Курляндии Фридриха-Вильгельма Кеттлера, мужчины и женщины из российского дома Романовых, уцелевшие после большевистских расстрелов кровавого 1918 года, живут и сегодня в разных странах мира, в ряде случаев продолжая традиционные матримониальные связи дома Романовых с немецкими династиями.
Так, например, Великая княжна Кира Кирилловна в 1938 году в Потсдаме вышла замуж за принца Луи-Фердинанда Прусского, а в 1976 году, в Соединенных Штатах Америки, Великая княжна Мария Владимировна стала женой еще одного Прусского принца – Франца-Вильгельма.
Случаев, подобных этим, гораздо больше, и Вы, уважаемые читатели, узнаете о них, прочитав эту книгу.
Вторым таким браком стал недолгий и несчастливый союз между наследником русского престола царевичем Алексеем Петровичем – сыном Петра I, – и герцогиней Брауншвейг-Вольфенбюттельской Софьей-Шарлоттой.
Третий брак был заключен в 1716 году, когда другая дочь Ивана Алексеевича, Екатерина, была выдана замуж за Карла-Леопольда, герцога Мекленбург-Шверинского.
Четвертый брачный союз состоялся в 1725 году между дочерью Петра I Анной Петровной и герцогом Шлезвиг-Гольштейн-Готторпским – Карлом-Фридрихом.
В пятый раз Романовы породнились с одним из немецких владетельных домов в 1739 году, когда Анна Леопольдовна – внучка Ивана Алексеевича, дочь его дочери Екатерины, – была выдана за Антона-Ульриха, герцога Брауншвейг-Люненбургского.
Следующий, шестой, брак состоялся в 1743 году. Тогда стали мужем и женой внук Петра I – сын его дочери Анны, – Карл Петр Ульрих, герцог Гольшнтейн-Готторпский, и принцесса Софья Анхальт-Цербстская. Когда Петр Ульрих приехал в Россию, он принял крещение по православному обряду и стал Великим князем Петром Федоровичем, а его жена, также приняв православие, стала Великой княгиней Екатериной Алексеевной.
Потом Петр Федорович наследовал русский трон, воцарившись под именем императора Петра III, а когда на престол взошла его жена, то она стала императрицей Екатериной II, еще при жизни называемой Екатериной Великой.
Именно с этого времени российская императорская династия стала называться династией Романовых-Гольштейн-Готторпов.
Правда, для всего мира правящая Россией императорская семья оставалась домом Романовых, но дотошные и скрупулезные генеалоги и педантичные университетские профессора стали называть династию «Гольштейн-Готторпы-Романовы».
Однако это название осталось достоянием лишь небольшой группы историков-формалистов, а в общественной жизни, в политике и публицистике российская императорская династия сохранила имя Романовых.
Сын Петра III и Екатерины II взошел на трон в 1796 году. Когда было ему 19 лет и он был еще наследником престола, в 1773 году Павел стал мужем герцогини Гессен-Дармштадтской Вильгельмины. Их брак был недолгим, потому что жена Павла умерла родами, и он в 1776 году женился на другой немецкой герцогине – Софии Доротее Августе Луизе Вюртембергской, ставшей в России императрицей Марией Федоровной.
Две женитьбы Павла Петровича были седьмым и восьмым случаями в длинной матримониальной цепи бракосочетаний представителей династии Романовых с отпрысками немецких владетельных домов.
Императрица Мария Федоровна подарила своему мужу десять детей – четырех мальчиков и шестерых девочек. Лишь одна из ее дочерей – Ольга – умерла во младенчестве, остальные же девять человек дожили до брачного возраста и стали мужьями и женами, либо, оставаясь в России, либо уезжая в другие государства.
Причем следует особо отметить это обстоятельство: все дочери и сыновья императора Павла выходили замуж или женились только на особах немецких владетельных домов.
Первый такой брак (9-й в истории дома Романовых) был заключен в 1793 году между старшим сыном императора Павла, Великим князем Александром, будущим императором Александром I, и герцогиней Баден-Баденской Луизой, в России ставшей императрицей Елизаветой Алексеевной.
Второй брак (10-й в истории дома Романовых) состоялся в 1796 году, когда второй сын Павла, Великий князь Константин Павлович женился на герцогине Юлиане Саксен-Кобургской, в православном крещении получившей имя Анны Федоровны.
Третий брак (11-й в истории дома Романовых) произошел в 1799 году, когда старшая дочь Павла, Великая княгиня Александра Павловна стала женой австрийского эрцгерцога Иосифа из династии Габсбургов, сына Франца II, последнего императора Священной Римской империи.
Четвертый брак (12-й в истории дома Романовых) был заключен в том же году между Великой княжной Еленой Павловной и герцогом Мекленбург-Шверинским Фридрихом Людвигом.
Пятый брак (13-й в истории дома Романовых) состоялся в 1804 году между Великой княжной Марией Павловной и Великим герцогом Саксен-Веймарским Карлом-Фридрихом.
Шестой брак (14-й в истории дома Романовых) произошел между Великой княжной Екатериной Павловной и Георгом Петром, герцогом Ольденбургским, в 1809 году.
Георг Петр в 1812 году умер, и Екатерина Павловна после четырех лет вдовства вышла замуж вторично, став в 1816 году королевой Вюртембергской. Этот брак в истории династии Романовых был 15-м. На сей раз с Романовыми породнился король Вюртемберга Фридрих-Вильгельм.
В тот же год еще одна дочь императора Павла – Великая княжна Анна – стала королевой Нидерландов, выйдя замуж за Вильгельма II из немецкой династии Нассау Брак Анны был, таким образом, 16-м, когда Романовы породнились с еще одной немецкой династией.
Семнадцатый раз в истории дома Романовых игралась свадьба Великого князя Николая Павловича – будущего императора Николая I, – а среди детей Павла был этот российско-немецкий брак девятым. Женой Великого князя Николая стала Прусская принцесса Фридерика-Луиза-Шарлотта. Случилось это в 1817 году.
И, наконец, самый младший из детей Павла – Великий князь Михаил венчался в 1824 году с принцессой Каролиной Вюртембергской, ставшей в России Великой княжной Еленой Павловной. Среди детей Павла свадьба эта была десятой, а в истории дома Романовых – восемнадцатой.
Жена Николая I – Фридерика-Луиза-Шарлотта, став российской Великой княжной, была наречена Александрой Федоровной. Она родила царю семерых детей – четырех мальчиков и трех девочек. И все они продолжили традиционную брачную политику Романовых – брать в Петербург и отдавать из Петербурга невест только из немецких земель и только в немецкие земли.
Первой из детей Николая II и Александры Федоровны вышла замуж их старшая дочь – Великая княжна Мария. Ее мужем стал герцог Лейхтенбергский Максимилиан. Свадьба состоялась в 1839 году.
Продолжая счет, заметим, что эта русско-немецкая свадьба была в истории дома Романовых девятнадцатой. Заметим также, что в царской семье Мария Николаевна была вторым ребенком. Старше ее был первенец – Великий князь Александр – наследник престола и будущий император Александр П. Он был на год старше Марии, но его брак состоялся двумя годами позже.
Это произошло в 1841 году а его избранницей стала герцогиня Мария Гессен-Дармштадтская (полное имя невесты Великого князя Александра Николаевича звучало так: Максимилиана-Вильгельмина-Августа-Софи-Мари).
Переменив конфессию и став православной, она оставила одно из своих прежних имен и стала называться Марией Федоровной, обретя, по русскому обычаю, отчество «Федоровна». Имя «Мария» было общим христианским именем, равно почитаемым и в католических, и в православных, и в протестантских странах.
Супружество Александра Николаевича и Марии Федоровны в истории брачных союзов Романовых с владетельными немецкими домами было двадцатым.
Следующий брак был заключен в 1844 году между Великой княжной Александрой Николаевной и ландграфом Гессен-Кассельским Фридрихом-Вильгельмом. Это был двадцать первый брак.
Двадцать второй раз подобное всем предыдущим бракосочетание состоялось в 1846 году, когда Великая княжна Ольга Николаевна вышла замуж за короля Вюртемберга Фридриха-Карла.
В двадцать третий раз Романовы породнились с владетельным немецким домом в 1848 году Тогда Великий князь Константин Николаевич взял себе в жены Саксен-Альтенбургскую герцогиню Александру. Александра при переходе в православие сохранила свое прежнее имя, добавив к нему отчество «Иосифовна».
Также поступила через восемь лет, в 1856 году, еще одна немецкая герцогиня – Александра Ольденбургская, сохранив при православном крещении свое прежнее имя, но добавив отчество «Петровна», когда стала она женой Великого князя Николая Николаевича. Их брак в цепи матримониальных союзов Романовых с немцами был двадцать четвертым.
И, наконец, самый младший сын императора Николая I – Великий князь Михаил Николаевич – женился на герцогине Цецилии Баден-Баденской в 1857 году. Его жена после свадьбы стала носить имя Ольги Федоровны.
Их свадьба была двадцать пятой.
У императора Александра II и его жены Марии Александровны было десять детей. Двое из них скончались в детстве, а еще один – Алексей, – хотя и дожил до 58 лет, но женат не был. Семь остальных царских отпрысков женились или вышли замуж за членов немецких династий.
То обстоятельство, что три российских императрицы, – жены Павла I, Николая I и Александра II, происходившие из Вюртемберга, Пруссии и Гессена, стали матерями двадцати семи детей, позволило острякам-недоброжелателям, отмечавшим высокие стати и незаурядную плодовитость августейших матрон, назвать Северо-Восточную Германию «племенной колонией дома Романовых».
В 1866 году наследник престола, Великий князь Александр Александрович, – будущий император Александр III, взял себе в жены датскую принцессу Дагмару происходившую из немецкой династии Шлезвиг-Гольштейн-Сёндерборг-Глюксбургов. (В Дании династия называлась «Глюксборги», но ее представители правили в Норвегии и в Греции.) Если же быть точным, то полное имя датской принцессы было – Мари-Софи-Фредерика-Дагмар, в обиходе – Дагмар. Из всех четырех имен, наверное, выбрали самое красивое, потому что «Дагмар» означает «Утренняя звезда» и аналогично имени древнеримской богини утренней зари – Авроры.
Приняв православие, принцесса Дагмара стала носить имя Марии Федоровны. Этот брак в системе отношений «Романовы – немецкие династии» был двадцать шестым. Брат царя – Великий князь Владимир Александрович – сыграл двадцать седьмую свадьбу в 1874 году, женившись на герцогине Марии Мекленбург-Шверинской. И эта Мария охранила свое имя, добавив отчество «Павловна». Но произошло это лишь в 1908 году, когда она добровольно, по убеждению, перешла в православие.
Следующая, двадцать восьмая свадьба, состоялась в том же, 1874 году, между Великой княжной Марией Александровной и герцогом Саксен-Кобург-Готским Альфредом-Эрнестом-Альбертом, который был сыном королевы Великобритании Виктории и имел еще и титул герцога Эдинбургского, графа Кентского и Ульстерского.
Двадцать девятый раз игралась свадьба между Романовыми и одним из немецких владетельных домов – династией великих герцогов Мекленбург-Шверинских – в 1879 году, когда за сына главы этого дома – Великого герцога Фридриха-Франца – выходила замуж Анастасия Михайловна – великая княжна, племянница императора Александра П.
Тридцатая свадьба была сыграна в 1884 году, когда брат императора Александра II Великий князь Сергей Александрович женился на герцогине Елизавете Гессенской. И в этом случае новая Великая княгиня осталась Елизаветой, получив отчество «Федоровна».
В этом же, 1884 году, состоялась и тридцать первая свадьба, когда Великий князь Константин Константинович, племянник Александра II, женился на герцогине Елизавете Саксен-Альтенбургской. Она, принимая православие, тоже сохранила свое родовое имя, по отчеству став «Маврикиевной».
Через пять лет после этого, в 1889 году, самый младший сын Александра II – Великий князь Павел – привел в дом Романовых немецкую принцессу в тридцать второй раз. Это была представительница династии Глюксбургов. Однако ей не нужно было менять конфессию, ибо она была православной – дочерью короля Греции Георгиоса I. И хотя звали ее Александрой Георгиевной, по крови она была немкой, ибо, как вам, уважаемый читатель, уже известно, Грецией с 1863 года правили короли из династии Шлезвиг-Гольштейн-Сёндерборг-Глюксбургов.
Ближайшими родственниками императора Александра III оставались его собственные дети, которых было шесть – (взрослых, достигших брачного возраста – пять, двое сыновей и трое дочерей), и семь его братьев и сестер с их потомством.
Выше, уважаемый читатель, вы только что познакомились с семью супружескими парами, образованными братьями, сестрами, племянником и племянницей Александра III, а почти каждая эта пара оставила сыновей и дочерей, которые чаще всего останавливали свои взоры на немецких принцах и принцессах.
Какими же были браки этих персон?
Старший сын Александра III – наследник престола, Великий князь Николай, будущий русский император Николай II – в 1894 году женился на герцогине Гессенской Алисе – родной сестре Елизаветы Федоровны – жены великого князя Сергея Александровича. (Полное родовое имя последней русской императрицы до того, как она приняла православие, было: Виктория-Аликс-Хелена-Луиза-Беактрис, но из всех этих элементов в России избрали один из них – Алике, да и то изменив его на «Алису».)
Алиса, приняв православие, стала носить имя Александры Федоровны. Их свадьба была тридцать третьей.
Тридцать четвертый брачный союз был заключен в 1901 году Тогда дочь императора Александра III, Великая княжна Ольга вышла замуж за Петра – князя Ольденбургского.
Тридцать пятую свадьбу играли в 1902 году, когда Великая княжна Елена Владимировна стала женой Великого князя Греческого Николая, из все той же династии Глюксбургов.
Тридцать шестую свадьбу играли в 1905 году, когда Великий князь Кирилл Владимирович женился на дочери герцога Саксен-Кобург-Готского Альфреда – герцогине Виктории. О ее отце – Альфреде-Эрнсте-Альберте – сыне королевы Великобритании Виктории, здесь уже говорилось, когда шла речь о двадцать девятой свадьбе.
Следующий брак – тридцать седьмой – был заключен в 1908 году между Великой княжной Марией Павловной и герцогом Зюдерманландским Вильгельмом. И хотя герцог был родом из Швеции, династия все же была немецкой.
Этим тридцать седьмым браком исчерпывается число брачных союзов Российского императорского дома с немецкими владетельными домами с 1711 до 1908 года. Разумеется, и после 1908 года, и до него в доме Романовых заключались и другие браки – не с немецкими династиями, а с представителями иных знатных фамилий, но, во-первых, их было очень немного, а во-вторых, они были на обочине главной матримониальной дороги, по которой два века шел Российский императорский дом.
17 июля 1918 года последний русский император Николай II был убит большевиками вместе со своей женой и пятью детьми – четырьмя девочками и тринадцатилетним сыном.
Вместе с этим убийством закончилась история династии Романовых на земле России, хотя весь 1918 год большевики продолжали охоту за членами этой семьи и до января 1919 года расстреляли и замучили до смерти семнадцать человек: мужчин, женщин, девушек и подростков.
Однако гораздо больше Романовых осталось в живых, как тех, кто еще до революции жил за границей – в других монархических семьях, так и тех, кому посчастливилось уехать или убежать за границу.
Среди последних была и вдова Александра III – мать Николая II, вдовствующая императрица Мария Федоровна, за которой был послан английский военный корабль, и она забрала с собою и множество своих родственников.
Находясь в изгнании, Романовы продолжали заключать браки с представителями других династий – в том числе и немецких, однако это уже совсем другая история, и, наверное, следует ограничиться сказанным.
* * *
Брачные союзы, заключавшиеся между представителями дома Романовых, – практически династией Романовых-Гольштейн-Готторпов – и династиями многих других владетельных немецких домов, возникали в большинстве случаев по политическим соображениям. И потому автору было необходимо уделять преимущественное внимание разным аспектам русско-немецкой истории, которые имели прямое отношение к главным сюжетам.
В ряде случаев было необходимо знакомить читателей с не знакомыми немецким читателям эпизодами российской истории, которые, как представляется автору, будут просто интересными для тех, кому эта книга предназначена.
Немецкому читателю следует иметь в виду, что все даты в этой книге приводятся по старому русскому календарю, действовавшему с 1700 до 1918 года. Особенностью этого календаря было то, что он «отставал» от европейского (юлианского) календаря в XVIII веке на 11 дней, в XIX – на 12 и в XX (до 1918 года) – на 13.
Так как эта книга охватывает как раз означенный выше эпизод и все документы российской истории помечены датами существовавшего тогда календаря, то и автор обязан был придерживаться данного принципа.
Таковы, вкратце, некоторые предварительные замечания, которые автор считает необходимым предпослать этой книге.
Происхождение рода и фамилии Романовых
История рода Романовых документально воспроизводится с середины XTV века, с боярина великого князя московского Симеона Гордого – Андрея Ивановича Кобылы, игравшего, как и многие бояре в средневековом Московском государстве, значительную роль в государственном управлении.
У Кобылы было пятеро сыновей, младший из которых, Федор Андреевич, носил прозвище «Кошка».
По мнению русских историков, «Кобыла», «Кошка» и многие другие русские фамилии, в том числе и знатные, происходили от прозвищ, возникавших стихийно, под влиянием различных случайных ассоциаций, которые трудно, а чаще всего невозможно реконструировать.
Федор Кошка, в свою очередь, служил великому князю московскому Дмитрию Донскому, который, выступая в 1380 году в знаменитый победоносный поход против татар на Куликово поле, оставил Кошку править вместо себя Москвой: «Блюсти град Москву и охранять великую княгиню и все семейство его».
Потомки Федора Кошки занимали прочное положение при Московском дворе и часто роднились с членами правившей тогда в России династии Рюриковичей.
По именам мужчин из рода Федора Кошки, фактически по отчеству, назывались нисходящие ветви семьи. Поэтому потомки носили разные фамилии, пока наконец один из них – боярин Роман Юрьевич Захарьин – не занял столь важного положения, что всех его потомков стали называть Романовыми.
А после того, как дочь Романа Юрьевича – Анастасия – стала женой царя Ивана Грозного, фамилия «Романовы» стала неизменной для всех членов этого рода, сыгравшего выдающуюся роль в истории России и многих других стран.
В 1598 году династия Рюриковичей прекратила свое существование – умер, не оставив потомков, последний из династии царь Федор Иванович. После долгих лет Смуты в 1613 году был созван Земский собор для избрания нового царя.
Им был избран Михаил Романов, ставший основателем новой династии, правившей Россией три столетия – до марта 1917 года.
От Михаила Романова в 1645 году трон перешел к его сыну – Алексею Михайловичу, который был отцом шестнадцати детей. Тринадцать из них родила его первая жена – Мария Милославская, троих – вторая жена, Наталья Нарышкина.
Так как последующее повествование не может обойтись без ряда подробностей, которые необходимы для того, чтобы стало ясно, когда и почему династия Романовых встала на путь заключения множества брачных союзов с немецкими владетельными домами, то уже царствование Алексея Михайловича будет освещено с учетом этого обстоятельства.
Ключевым моментом в истории, связанной со многими последующими событиями, является вторая женитьба Алексея Михайловича на Наталье Нарышкиной. И именно с нее мы и начнем следующую главу.
Второй брак царя Алексея и рождение Петра
От первого брака, с Марией Милославской, у Алексея Михайловича было тринадцать детей – восемь девочек и пятеро мальчиков. Трое из них – царевна Софья и царевичи Федор и Иван – сыграют определенную роль в истории России и поэтому пройдут и по страницам этой книги, остальные же будут оставлены без внимания.
Царица Мария, прожив с Алексеем Михайловичем двадцать лет, умерла 3 марта 1669 года, когда ее мужу было сорок лет. К этому времени он уже прослыл человеком весьма неординарным, во многом отличавшимся от своих предшественников. При нем в Москве появился первый театр, был построен первый военный корабль – «Орел», созданы «полки нового строя» – прообраз будущей регулярной армии, увеличилось число школ и мануфактур.
Все эти нововведения происходили не без помощи западных купцов, мастеров, мануфактуристов, инженеров, аптекарей, врачей, офицеров, живших в Москве в иноземных слободах, более всего – в Немецкой слободе на берегу Яузы.
Иноземный быт с его опрятностью, комфортом, картинами и зеркалами, часами и обоями, заморскими яствами и механическими музыкальными шкатулками, оказался привлекательным и для русских дьяков и купцов, имевших дело с иноземцами в Москве либо бывавших за границей. И они постепенно стали вводить в домашний обиход наиболее привлекательные элементы западноевропейского быта.
Алексей Михайлович, предпочитавший за столом умную беседу традиционным возлияниям, пробовавший писать стихи, интересовавшийся архитектурой и живописью, быстро почувствовал вкус к иноземным новациям и не чурался общества московских «западников» – русских людей, считавших образцом для России порядки и обычаи Запада.
Случилось так, что ближе прочих стал Алексею Михайловичу тихий скромник и неутомимый труженик Артамон Сергеевич Матвеев, стоявший тогда во главе Малороссийского приказа, управлявшего делами восточной части Украины, принадлежавшей России.
Он был женат на Евдокии Петровне Гамильтон, происходившей из знатного шотландского рода, переселившегося в Россию при Иване Грозном. (Впоследствии фамилия «Гамильтон» в России трансформировалась в «Хомутовых».)
В какой-то мере благодаря своей жене, а гораздо более из-за собственных склонностей и европейской образованности, Матвеев часто приглашал к себе иностранцев, да и его служба в Посольском приказе весьма к тому располагала. Дом Матвеева казался островком Немецкой слободы, переместившимся из-за реки Яузы, где жили немцы, в Китай-город: комнаты убраны венецианскими зеркалами и картинами западных мастеров, а сложности его часов, изысканности посуды и богатству библиотеки дивились самые бывалые из иноземцев.
Алексей Михайлович гораздо чаще, чем прежде, стал навещать Матвеева, чем приводил в недоумение многих своих знатных сородичей, заставляя их теряться в догадках по поводу столь малопонятной привязанности.
Его визиты еще более участились после кончины Марии Ильиничны.
Несколько месяцев сорокалетний вдовец, тяжело переживавший смерть любимой жены, постился, пребывая в глубоком трауре, подолгу молился за упокой души рабы Божией Марии, но как-то однажды снова заехал к Матвееву и обратил внимание на прекрасную молодую девушку, так же, как когда-то и его покойная жена, жившую «на хлебах», то есть на иждивении, из милости, у своего богатого родственника. Ее звали Натальей Кирилловной, ей было двадцать лет, и так же, как и первый тесть царя Илья Данилович Милославский, отец девушки принадлежал к бедным дворянам. Однако благодаря протекции Матвеева, ее отец Кирилл Полиевктович стал полковником стрелецкого полка в бытность Артамона Сергеевича головой московских стрельцов. Наталья Нарышкина к тому же доводилась дальней родственницей жене Матвеева и поэтому была взята в дом Артамона Сергеевича, когда ее отец был еще беден и жил в деревне под Тарусой.
Наталья Кирилловна, красивая, достаточно образованная и хорошо воспитанная, к тому же обладавшая прекрасным характером, чуть ли не с первой встречи покорила сердце сорокалетнего вдовца, и он вскоре решил взять ее в жены.
Однако, желая соблюсти приличия и обычаи старины, царь, объявив осенью 1669 года о своем намерении жениться, имени невесты не назвал, а для пущего сокрытия тайны велел начинать сбор невест для царских смотрин. На сей раз смотр продолжался семь месяцев – с конца ноября 1669 до мая 1670 года.
Пересмотрев сотни претенденток, царь остался верен первоначальному выбору, и 22 января 1671 года состоялось венчание Алексея Михайловича и Натальи Кирилловны.
* * *
…Через семь месяцев после этого, в ночь с 28 на 29 августа, московский звездочет и астролог, монах Симеон Полоцкий заметил недалеко от планеты Марс новую, не виданную им дотоле звезду. Симеон был первым в России придворным стихотворцем и главным воспитателем детей Алексея Михайловича. Кроме того, был Симеон и одним из авторитетнейших богословов, чьи книги признавались иерархами православной церкви «жезлом из чистого серебра Божия Слова и от Священных Писаний сооруженных».
Симеон имел свободный доступ к царю и на следующее утро после того, как увидел он сие небесное знамение, явился к Алексею Михайловичу, чтобы не только сообщить ему об увиденном минувшей ночью, но и истолковать свой сон как некое предзнаменование.
Беря на себя изрядную смелость, звездочет объявил царю, что его молодая жена зачала в эту ночь сына-первенца, и, стало быть, мальчик родится 30 мая 1672 года, а по принятому тогда летоисчислению – в 7180 году от сотворения мира. Но Симеон не ограничился этим, а высказал и некое пророчество о царевиче: «Он будет знаменит на весь мир и заслужит такую славу, какой не имел никто из русских царей. Он будет великим воином и победит многих врагов. Он будет встречать сопротивление своих подданных и в борьбе с ними укротит много беспорядков и смут. Искореняя злодеев, он будет поощрять и любить трудолюбивых, сохранит веру и совершит много других славных дел, о чем непреложно свидетельствуют и что совершенно точно предзнаменуют и предсказывают небесные светила. Все это я видел, как в зеркале, и представляю все сие письменно».
С этой минуты осторожный и, несмотря на образованность, все же суеверный и подозрительный Алексей Михайлович приставил к дому ученого монаха караул и снял его только тогда, когда совершенно убедился, что его жена действительно забеременела.
28 мая у царицы начались предродовые схватки, и Алексей Михайлович призвал Симеона к себе. Меж тем роды были очень трудными, и молодую царицу даже причастили, полагая, что она может в одночасье и помереть. Однако Полоцкий уверил царя, что все окончится благополучно и что через двое суток у него родится сын, которого следует наречь Петром.
Все так и произошло. Некоторые современники добавляют, что это же, наблюдая за звездным небом, предрекали и европейские астрологи.
А вот что писал историк, академик М. П. Погодин о том, как происходили роды: «При начале родильных скорбей Симеон Полоцкий пришел во дворец и сказал, что царица будет мучиться трое суток. Он остался в покоях с царем Алексеем Михайловичем. Они плакали вместе и молились. Царица изнемогала так, что на третий день сочли нужным приобщить ее святых тайн; но Симеон Полоцкий ободрил всех, сказав, что она родит благополучно через пять часов. Когда наступил пятый час, он пал на колени и начал молиться о том, чтоб царица помучилась еще час. Царь с гневом рек: „Что вредно просишь?“ – „Если царевич родится в первом получасе, – отвечал Симеон, – то веку его будет 50 лет, а если во втором, то доживет до 70“.
И в ту же минуту принесли царю известие, что царица разрешилась от бремени, и Бог дал ему сына…»
Это случилось в Кремлевском дворце, 30 мая 1672 года, в день поминовения преподобного Исаакия Далматского, в четверг, «в отдачу часов ночных», то есть перед рассветом.
Ребенок был длиною в одиннадцать, а шириною в три вершка, т. е. длиной в 50 и шириной в 14 сантиметров. Младенца крестили в кремлевском Чудовом монастыре, в храме Чуда Михаила Архангела, где до него были крещены царь Федор, отец Петра – царь Алексей Михайлович, а после Петра – в 1818 году – здесь же крестили и царя-освободителя Александра П.
* * *
Мальчик рос и воспитывался так же, как в свое время росли и воспитывались его сводные братья, по матери – Милославские.
До семи лет он находился под опекой мамок и нянек, а после этого перешел в мужские руки. Его первыми воспитателями стали «дядька» – боярин Родион Матвеевич Стрешнев и стольник Тимофей Борисович Юшков. Среди воспитателей Петра был и другой Стрешнев – Тихон Никитич, которого молва называла подлинным отцом царевича Петра. Этот слух распускала старшая сестра Петра – Софья Алексеевна, дочь Алексея Михайловича от первого брака, бывшая всего на шесть лет младше своей мачехи – Натальи Нарышкиной – и очень ее не любившая.
Что же касается династических событий, произошедших в детстве Петра, то следует особо отметить неожиданную смерть Алексея Михайловича, наступившую 29 января 1676 года и повлекшую за собою опалу Нарышкиных – престол унаследовал Федор Алексеевич, сын покойной Марии Ильиничны Милославской.
Однако царствование Федора Алексеевича оказалось недолгим: он умер бездетным 27 апреля 1682 года.
Смерть Федора еще более обострила борьбу многочисленного клана Милославских с Нарышкиными, не утихавшую со дня кончины Алексея Михайловича. Но и на этот раз трон остался за Милославскими – умершему Федору наследовала его старшая сестра Софья, так как сыновья Алексея Михайловича – Иван и Петр – были еще юны. Петру было десять лет, а Иван, хотя ему и шел шестнадцатый год, по здоровью недалеко ушел от вечно болевшего при жизни Федора, а по уму сильно ему уступал. Оставались только дочери.
«В тереме царя Алексея, – писал историк И. Е. Забелин, – было шесть девиц, уже возрастных, стало быть, способных придавать своему терему разумное и почтительное значение. В год смерти их брата, царя Федора, старшей царевне Евдокии было уже 32 года, младшей Феодосии 19 лет… Третьей царевне Софье было около 25 лет… Все такие лета, которые полны юношеской жизни, юношеской жажды. Естественно было встретить в эти лета и юношескую отвагу, готовность вырваться из клетки на свободу, если не полную готовность, то неудержимую мечту о том, что жизнь на воле была бы лучше монастырской жизни в тереме». Добавим, что все шесть сестер были обречены на вечную полумонашескую жизнь, и это придавало им дополнительную энергию и смелость. Причем эта смелость проявилась уже в дни болезни царя Федора, когда Софья вышла из терема и круглые сутки проводила у постели умирающего брата, что превращало ее поступок в подвиг благочестия и милосердия. Таким поступком, который Софья к тому же усиленно демонстрировала, она сумела завоевать изрядную популярность среди придворных.
У постели умирающего брата Софья познакомилась, а затем и быстро сблизилась со знаменитым полководцем князем Василием Голицыным – первым «западником», как называли его впоследствии русские историки. Голицын говорил на латыни, на древнегреческом, немецком и польском языках и был весьма популярен среди иностранцев, живших в Москве.
Сразу после смерти Федора Алексеевича царем был избран десятилетний Петр, Софья, однако, стоявшая во главе клана Милославских, решила принять меры, чтобы к власти не пришли Нарышкины и их сторонники.
Опираясь на московских стрельцов, многочисленные клевреты Софьи подняли открытый бунт против Нарышкиных, потребовав удаления их из Кремля. Это произошло 15 мая 1682 года. В этот же день стрельцам выдан был брат Натальи Кирилловны Иван, изрубленный мятежниками на части, а его голова была вздета на копье. Вслед за тем стрельцы потребовали пострижения в монастырь отца Натальи Кирилловны и ссылки всего рода Нарышкиных. Был убит и сторонник Нарышкиных князь Михаил Юрьевич Долгоруков, и ближайшие сподвижники Алексея Михайловича Языковы и Лихачевы. Был убит и Артамон Матвеев, незадолго перед тем вернувшийся из ссылки в Москву для подавления мятежа.
Эти убийства и зверства произошли на глазах юного Петра. Он был настолько напуган и потрясен увиденным, что с ним случился первый эпилептический припадок. Впоследствии такие припадки, называемые тогда «падучей болезнью», периодически случались у Петра до конца жизни. На всю жизнь сохранил он и ненависть к бунтовщикам и в дальнейшем не однажды беспощадно карал мятежников.
Получив около трехсот тысяч рублей и имущество побитых ими бояр, стрельцы послали начальника князя Ивана Андреевича Хованского потребовать воцарения и старшего брата – Ивана Алексеевича, объявив его первым царем, а Петра – вторым.
К середине лета правительство Софии из-за своевольства стрельцов потеряло контроль над столицей, и потому 13 июля двор во главе с цесаревной покинул Москву и перебрался в хорошо укрепленный Троице – Сергиев монастырь, расположенный в 75 километрах к северо-востоку от Москвы. Правда, вскоре все они вернулись в Москву, но ненадолго, и в августе снова направились в Троицу.
В то время как Софья маневрировала подобным образом, власть над стрельцами захватил начальник Стрелецкого приказа князь Иван Андреевич Хованский, в майских событиях энергично отстаивавший интересы своих подчиненных. Стрельцы намерены были посадить Хованского на престол, но Хованский проявил нерешительность, чем тут же воспользовалась Софья. Она собрала к Троицкому монастырю дворянское ополчение, вызвала Хованского с сыном Андреем на встречу с боярами – членами Боярской думы, в которую входил и Хованский, – и когда отец и сын приехали, велела схватить и казнить их обоих без суда, обвинив в государственной измене. Заговор был обезглавлен, и стрельцы покорились воле правительницы.
Во всех этих делах главные роли сыграли сторонники Софьи и ее фавориты – один в настоящем, князь Василий Голицын, а второй в будущем – новый начальник московских стрельцов Федор Шакловитый.
Возвратившись в Москву, Софья стала участвовать во всех дворцовых и церковных церемониалах наравне с царями Иваном и Петром. Она приказала чеканить золотые монеты с ее портретом, стала надевать царскую корону и давала официальные аудиенции иноземным послам в Золотой палате Московского Кремля.
После подавления «хованщины» Голицын стал фактическим главой русского правительства и сферой своей деятельности избрал реформу военного дела и вооруженных сил и формирование внешнеполитического курса России.
В военной сфере его усилия были направлены на то, чтобы заменить стрелецкое войско и дворянское ополчение хорошо обученной, профессиональной регулярной армией. В области внешней политики он стремился заключить союз с западными странами и обратить оружие против Крыма и Турции.
В первом начинании Голицын не добился особых успехов – он лишь начал преобразования в армии, правда, сильно их продвинув, зато во втором – одержал победу. Вершиной его дипломатической деятельности стало подписание договора о «Вечном мире» с Польшей 21 апреля 1686 года.
Отныне российские государи официально писались в международных документах «Всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцы». С этого же момента и имя Софьи писали в царском титуле на всех документах.
Подписание «Вечного мира» сильно укрепило авторитет Голицына. Иностранцы, посещавшие Посольский приказ, писали, что российское дипломатическое ведомство занимает четыре огромных каменных здания с множеством просторных и высоких зал, убранных на европейский манер.
Сам Голицын поражал их необычайной роскошью своей одежды, сплошь усыпанной алмазами, сапфирами, рубинами и жемчугом. Говорили, что у Голицына не менее ста шуб и кафтанов, на которых каждая пуговица стоит от 300 до 700 рублей, а если бы канцлер продал один свой кафтан, то на эти деньги мог бы одеть и вооружить целый полк.
Конечно же, вся эта роскошь не обошлась без благосклонного внимания к своему любимцу Софьи Алексеевны.
Французский эмиссар Невилль писал о князе Голицыне: «Разговаривая со мною по-латыни о делах европейских и о революции в Англии, министр потчевал меня всякими сортами крепких напитков и вин, в то же время говоря мне с величайшей ласковостью, что я могу и не пить их. Этот князь Голицын, бесспорно, один из искуснейших людей, какие когда-либо были в Московии, которую он хотел поднять до уровня остальных держав. Он любит беседовать с иностранцами, не заставляя их пить, да и сам не пьет водки, а находит удовольствие только в беседе. Не уважая знатных людей по причине их невежества, он чтит только достоинства и осыпает милостями тех, кого считает заслуживающими их».
Повернув острие русского меча на юг – против Крыма и Турции, Голицын вскоре вынужден был взяться и за его рукоять. В начале 1687 года Боярская дума «приговорила: быть князю Василию большим воеводой и Крым зносити», а летом Голицын встал во главе стотысячной армии и двинулся в поход. Однако засуха, жара, отравленные колодцы и конская бескормица не позволили Голицыну дойти до Крыма, и он предпочел возвратиться с половины пути.
Сделав серьезные выводы из постигшей его неудачи, Голицын сразу же по возвращении в Москву стал готовиться ко второму походу на Крым, который был объявлен 18 сентября 1688 года, но начался 17 марта следующего года, ибо подготовка к нему была основательной и серьезной. В походе участвовало 80 тысяч солдат и рейтар и 32 тысячи стрельцов – уже и по этим цифрам видно, как далеко зашла реформа Голицына, потому что солдаты и рейтары обучались военному строю по-европейски, а стрельцы больше напоминали ополченцев.
Огромная армия медленно ползла на юг, но от нее отвернулась удача, и вскоре русским пришлось пойти назад через безводные и безлюдные степи.
Отвернулась от Голицына и цесаревна Софья – место князя в ее сердце занял начальник Стрелецкого приказа Федор Шакловитый – безродный маленький чиновник, ставший, на европейский лад, одним из всесильных министров.
Софья приблизила к себе Шакловитого после того, как он решительно поддержал ее намерение венчаться на царство и единолично занять московский трон.
Голицын в это время находился во втором походе на Крым, столь же неудачном, как и первый, и Шакловитый не только стал первым сановником в государстве, обойдя всех родовитых и знатных бояр, ненавидевших его как худородного выскочку, но и сделался сердечным другом царевны Софьи, ее фаворитом.
Он оставался в фаворе и после того, как в Москву в июле 1689 года возвратился из очередного неудачного похода на Крым теперь уже отвергнутый Софьей Голицын. Хотя Софья и встретила его, как победителя, и осыпала наградами и подарками, былого сердечного расположения к «свету Васеньке» царевна не вернула – в ее сердце прочно укрепился Федор Шакловитый.
Так подходили к концу восьмидесятые годы XVII века, и никто еще не знал, какие серьезные перемены принесут идущие им на смену годы девяностые, выведя на авансцену истории множество новых людей и событий.
Жизнь Петра до вступления на царский престол
Далее героем нашего повествования будет царевич Петр Алексеевич, а затем царь и, наконец, император Всероссийский. Однако жизнь его будет освещена таким образом, что на первом плане окажутся те немцы и немки, которые стали его опорой, друзьями и соратниками, которые верой и правдой служили ему, и читателю станет ясно, почему именно с немцами Петр решил заключить брачные союзы двух своих племянниц, сына и дочери.
Уже в юности Петр проникся любовью и уважением к образу жизни, культуре, ремеслам и наукам, к которым приобщали его московские немцы, поселившиеся в своей собственной слободе за Яузой. Петр был так восхищен всем, что увидел там, так покорен костюмами и застольями, чистотой и порядком, что вскоре сам стал называть себя «немцем».
Уже в десять лет Петр был рослым, крепким мальчиком, подвижным и любознательным. Одним из его первых учителей был подьячий Посольского приказа Никита Моисеевич Зотов, выучивший Петра грамоте и началам российской истории.
В одиннадцать лет Петр показался секретарю шведского посольства Кемпферу шестнадцатилетним. «Лицо у него открытое, красивое, молодая кровь играла в нем… Удивительная красота его поражала всех предстоявших, а живость его приводила в замешательство степенных сановников московских».
Как раз в это самое время начинает Петр свои «марсовы потехи», начиная служение богу войны – Марсу. 30 мая 1683 года, когда исполнилось ему одиннадцать лет, в подмосковном селе Воробьево артиллерийский капитан Симон Зоммер впервые учинил перед Петром «потешную огнестрельную стрельбу» из настоящих орудий. Зоммер был одним из первых иностранцев, с которыми судьба свела юного царя, и почти тотчас же Петр обратил внимание и на других иноземцев, живших, как и Зоммер, на берегах ручья Кукуй в Немецкой слободе.
Военные игры привели к тому, что Петр объявил о создании потешного полка, и на его зов 30 ноября 1683 года первым явился сорокалетний придворный конюх Сергей Бухвостов, вошедший в историю как первый солдат российской регулярной армии. Он прослужил до семидесяти лет, выйдя в отставку майором артиллерии. Петр так любил Бухвостова, что приказал скульптору Бартоломео Растрелли-старшему сделать еще при жизни Сергея Леонтьевича его статую.
Однако не на долю Бухвостова выпала наибольшая известность, а тем более наибольшая удача – в особом, как тогда говорили, «кредите у Фортуны» оказался иной человек – сын другого дворцового конюха, тоже явившийся на зов Петра в потешный полк, Александр Данилович Меншиков. Петр видел Меншикова в доме швейцарца Лефорта, где тот был «казачком» – мальчиком на посылках. Да и было ему в ту пору десять лет. Петр же был старше Меншикова всего на полтора года. А уже через три года тринадцатилетний Меншиков служил денщиком Петра, почти сразу же став его любимцем. Сметливый, расторопный, веселый, смелый, с удовольствием разделявший все утехи своего государя, Меншиков вскоре стал «вторым я» юного царя, ни на час не отлучаясь от него и ловко угождая малейшим его прихотям.
Вокруг Петра очень быстро возник кружок его сверстников, а также мужчин и женщин более зрелых, готовых, однако, потакать сначала достаточно робким, а потом все более откровенным и, наконец, необузданно-распущенным вожделениям будущего российского самодержца. И в этом Меншиков был первым его сподвижником и не по годам ловким сводником.
Да и в «марсовых потехах», которые в это время составляли главное занятие и царя, и его денщика, они были столь же неразлучны и единодушны, как и в прочих делах.
Так, между играми, забавами и непременными серьезными занятиями по обмундированию, снабжению, вооружению и обучению сотен молодых рекрутов, в селе Преображенском появился одноименный, пока еще вроде бы и потешный, но уже и нешуточный, а впоследствии первый гвардейский полк России, увенчанный всеми наградами империи.
Петр, наряду с другими, стал служить в этом полку рядовым, испытывая на себе все перипетии и тяготы солдатской службы, которая закалила его и рано сделала взрослым мужчиной. Эта же служба еще более сблизила Петра с иностранцами-офицерами, так как именно их – преимущественно немцев – молодой царь пригласил в Преображенский полк на командные должности.
В 1685 году Петр приказал построить в Преображенском, на берегу Яузы, потешный городок-крепость Прешбург, чтобы обучать солдат осаде, обороне и штурму городов. Ах, как жестоко пошутила потом судьба с этой игрушечной крепостью! Пройдет восемь лет, и именно здесь разместится страшный Преображенский приказ – место пыток и казней государевых супротивников.
А тогда, еще не помышляя о том, строили «потешную фортецию» все те же иноземцы, еще более разжигая его любопытство к европейским премудростям.
Игра перерастала уже в дело серьезное и небезопасное для всех противников молодого царя. Весной 1687 года он начал создавать второй потешный полк – Семеновский, формировавшийся в соседнем селе – Семеновском.
И здесь не обошлось без иноземцев, которые, кроме фрунта, экзерциций, парадов и военной музыки, приохотили пятнадцатилетнего бомбардира и к музыке партикулярной, к табаку, пиву, вину, а затем познакомили с юными прелестницами из Немецкой слободы.
Кукуйские девы кружили голову не хуже вина и представлялись Петру живым воплощением первозданного плотского греха – влекущего, сладкого и пока еще не изведанного.
Петр, никогда не игравший вторых ролей, всегда старавшийся не уступать никому ни в чем, в утехах застольных и амурных тоже хотел быть только первым и потому вовсю показывал свою силу, удаль и молодечество. С этого времени пирушки с иностранцами и русскими товарищами его забав и дел стали неотъемлемой чертой жизни и быта Петра, сохранившейся им вплоть до самой его смерти.
А когда исполнилось ему шестнадцать, затеял он строить на Плещеевом озере, в Переяславле-Залесском первую флотилию, положив тем самым начало российскому кораблестроению. Эта очередная потеха заставила Петра заняться арифметикой и геометрией, освоить различные астрономические и корабельные инструменты, чему обучали его тоже иноземцы Франц Тиммерман и Карстен Брант.
Месяцами стал он пропадать на озере, чем приводил матушку свою Наталью Кирилловну в великое смятение. Мать боялась, что ее Петруша утонет, и не знала, что предпринять, чтобы привязать сына к Москве. Новая затея казалась ей еще хуже и опаснее, чем потешные игры возле Преображенского и ночные кутежи в Кукуе.
И тогда Наталья Кирилловна надумала женить сына на молодой красавице и стала присматривать будущую невестку среди лучших столичных невест.
После раздумий она остановила свой выбор на двадцатилетней московской дворянке Евдокии Лопухиной, девушке красивой, но не очень умной и, главное, очень несхожей со своим мужем по характеру.
После свадьбы Петр очень быстро остыл к молодой жене и подолгу оставался на Плещеевом озере.
Наезжая в Москву, Петр все чаще интересовался государственными делами, что насторожило и испугало Софью и ее сторонников. В Кремле видели, что орленок расправляет крылья, но видели также и то, что противная ему сторона – прежде всего сама Софья и Шакловитый, а также и князь Голицын – не намерены уступать власть молодому претенденту.
Опасаясь еще большего усиления Шакловитого, а вместе с ним и Софьи, враги Федора Леонтьевича решили опереться на семнадцатилетнего царя Петра и в ночь с 7 на 8 августа 1689 года донесли, что начальник Стрелецкого приказа злоумышляет на жизнь его самого и его матери.
(Впоследствии все восемь доносчиков получили по тысяче рублей – огромные деньги, если срубить и поставить избу стоило тогда один рубль.) Петр поверил навету и тотчас же бежал из подмосковного села Преображенского в Троице-Сергиев монастырь, за мощными стенами которого семь лет назад скрывалась царевна Софья.
Петр бежал туда по совету Бориса Голицына, двоюродного брата Василия Голицына. В ту пору Борис Голицын был одним из ближайших сподвижников Петра и имел на него сильное влияние. Петр примчался в Троицу в сопровождении лишь нескольких приближенных, но уже на следующий день к нему приехали мать, любимая сестра Наталья и молодая жена – царица Евдокия.
А следом за ними к воротам монастыря подошел большой и сильный отряд, который привел швейцарец, полковник Франц Лефорт, – любимец Петра и верный его друг.
За то, что Лефорт первым из офицеров-иностранцев примчался на помощь к Петру, он был произведен в генералы.
Вслед за Лефортом в монастырь пришло еще несколько офицеров-иностранцев и оставшийся верным Петру стрелецкий Сухарев полк. Еще через три дня прибыли и телеги с порохом, ядрами, картечью, пушками и мортирами. А к концу августа в Троицу пришли со всеми урядниками еще пять стрелецких полковников.
Патриарх Иоаким, посланный в Троицу царевной Софьей для того, чтобы помирить ее с братом, не только не стал миротворцем, но ясно дал понять Петру, что стоит на его стороне и дальше будет держаться точно так же.
Почувствовав, что сила на его стороне, Петр 1 сентября потребовал выдать ему Шакл овито го «головой», и после того как Софья, помешкав неделю, все же выдала своего любимца, хотя при этом и обливалась слезами, Федора Леонтьевича поставили на пытку и 12 сентября отрубили голову.
Василия Голицына отправили с женой и детьми к Северному Ледовитому океану, а царевну Софью заточили в московский Новодевичий монастырь.
Софья умерла монахиней 3 июля 1704 года, 46 лет, а Голицын умер в изгнании в 1714 году в возрасте 70 лет.
Петр-самодержец
После победы над Софьей и ее сторонниками Петр стал единовластным самодержавным государем. Возвратившись в Москву, он с головой погрузился в государственные дела, впервые ощутив тяжесть Мономаховой шапки. И хотя титул царя обязывал Петра претерпевать многие связанные с ним неудобства, тяжелее всего давались Петру сдержанность и благолепие, ибо молодость и жгучий темперамент оказывались сильнее разума и строгих канонов дворцового и церковного этикета. Особенно нетерпимыми для сторонников благочиния казались теперь наезды царя в еретическую Немецкую слободу, где по-прежнему правил бал его друг Лефорт.
Одним из немногих, кто решительно противился дружбе юного царя с иноземцами-иноверцами, видя в этом и пагубу его душе, был патриарх Иоаким. Но 17 марта 1690 года Иоаким умер, и Петр, уже никем не сдерживаемый, пустился в разгул.
Через две недели после смерти Иоакима Петр впервые переоделся в немецкое платье, заранее сшитое к этому времени по его заказу в Мастерской палате специально для него. Он облачился в камзол, штаны, чулки и башмаки, перекинул через плечо шитую золотом перевязь, прицепил к ней шпагу и надел парик. Причем кое-что из этого поставил Петру новоиспеченный генерал Франц Лефорт.
По возвращении из Троицы в Москву Петр чаще, чем к кому-либо другому, стал заезжать к Лефорту, где его всегда ждали компания, в которой можно было услышать множество любопытных и полезных историй, а также желанное свободное общение с молодыми красивыми женщинами.
Историки, изучавшие жизнь Петра, утверждают, что великий преобразователь России, не придававший значения моральным канонам того общества, в котором довелось ему увидеть свет, не видел различия между служанками и принцессами, россиянками и иностранками, руководствуясь в выборе только одним – страстью.
Его медик – француз Вильбоа, сказал как-то об этой стороне петровского характера: «В теле его величества сидит, должно быть, целый легион бесов сладострастия». Удовлетворяя свое сладострастие, Петр должен был иметь дело с легионом ведьм, и многие современники-очевидцы или косвенные свидетели царской разнузданности приводят немало историй самого скабрезного свойства. Однако сейчас нас интересуют только Немецкая слобода и женщины-иноземки, живущие в ней. И потому разговор пойдет только о них и об их окружении.
Первым проводником молодого Петра в Эдеме любовных приключений, каким представлялась ему Немецкая слобода, стал великолепный и неотразимый Лефорт.
Он-то и познакомил своего подопечного с его первой, довольно мимолетной привязанностью – дочерью ювелира Боттихера. Однако вскоре все тот же неутомимый швейцарец свел Петра со своей собственной любовницей, которая на многие годы стала любимицей царя – с первой красавицей Кукуя, дочерью ювелира и виноторговца Иоганна Монса Анной.
Семейство Монсов в «Списках замечательных лиц русских», составленных П. Ф. Карабановым, названо семьей «нидерландца, московского золотых дел мастера Мёнса», а его сына Витима там же называют «Мём де Ла Круа».
По утверждению австрийского посла Гвариента в письме австрийскому императору Леопольду I, Анна Монс, став любовницей Петра, не оставила и своего прежнего таланта Лефорта, деля ложе то с тем, то с другим.
Петр, необузданный, непредсказуемый, порой даже безумный и крайне противоречивый в собственных симпатиях и антипатиях, мог, даже зная о любовной связи Анны Монс со своим другом-соперником, не обратить на это ни малейшего внимания – настолько сильно любил он Лефорта. Если же в том же самом грехе оказывались по отношению к нему женщина или мужчина, которых он не любил или переставал любить, месть его была ужасной. Об этом речь пойдет ниже.
Как бы то ни было, но чувства Петра к жене Евдокии уже в 1693 году угасли окончательно. А между тем Евдокия Федоровна менее чем через год после свадьбы, 18 февраля 1690 года, родила царю сына, названного в честь деда Алексеем, а затем в 1691 и в 1692 годах еще двух мальчиков – Александра и Павла, которые умерли во младенчестве, не прожив и одного года.
Однако государственные дела всегда были для Петра несравненно важнее его личных дел.
Он дважды уезжал в Архангельск, желая создать современный торговый флот, дважды ходил в походы на Крым, победоносно завершив их с помощью военного флота, созданного им в центральной России. Наконец, в марте 1697 года он отправился в Европу с «Великим посольством», чтобы воочию увидеть передовые европейские страны и затем употребить в России все полезное, что он там узнает.
К сожалению, тема нашей книги – брачные союзы дома Романовых с немецкими династиями, и проблемы внутренней и внешней политики будут освещаться здесь лишь настолько, насколько они имеют отношение к основной теме.
Итак, в начале марта 1697 года из Москвы в Европу отправилось «Великое посольство». Проехав через Курляндию, Пруссию, Бранденбург и Голландию, Петр на три месяца заехал в Лондон. Здесь-то он и принял решение, круто переменившее судьбу его жены. Перестав отвечать на письма Евдокии Федоровны еще по пути в Англию, Петр, оказавшись в Лондоне, решил насильно постричь ее и заточить в монастырь с тем, чтобы жениться на Анне Монс и возвести свою новую жену на российский трон. О второй части своего замысла Петр пока что хранил молчание, а в первую часть посвятил оставленных в Москве дядю Льва Кирилловича Нарышкина и не менее доверенного родственника – боярина Тихона Стрешнева. Петр приказал им склонить Евдокию к добровольному принятию монашества. Однако ни Нарышкин, ни Стрешнев в этом не преуспели. Вопрос этот был решен лишь после того, как Петр вернулся в Москву сам.
* * *
Это произошло 25 августа 1698 года, когда, загнав коней, Петр примчался в свою столицу из Вены, куда пришла к нему весть о том, что в Москве 6 июня произошел еще один бунт стрельцов. И хотя мятеж был подавлен менее чем через две недели после того, как начался, и 57 главных зачинщиков были немедленно казнены, а четыре тысячи рядовых участников сосланы, Петр, тем не менее, сразу же начал новое следствие, которое привело на плаху и на виселицу больше тысячи человек. Сотни стрельцов были изувечены, брошены в тюрьмы, усланы в самые глухие медвежьи углы царства.
«Царь, Лефорт и Меншиков взяли каждый по топору. Петр приказал раздать топоры своим министрам и генералам. Когда же все были вооружены, всякий принялся за свою работу и отрубал головы. Меншиков приступил к делу так неловко, что царь надавал ему пощечин и показал, как должно отрубать головы», – писал позже саксонский посланник. Александр Данилович, способный к любому делу, тут же, на глазах у царя, немедленно исправился и к концу дня отрубил двадцать стрелецких голов да еще и пристрелил одного из колесованных, чтобы прекратить его мучения. Последнее милосердное деяние произвел он, впрочем, не по собственной инициативе, а по приказу Петра.
Стрелецкие полки были расформированы, а на их месте появились новые полки – регулярной российской армии. Петр лично участвовал при допросах и пытках, организовывал казни, но между этими государственными делами не забывал и о своих личных заботах.
Побывав в первый же день у Анны Монс и заехав потом еще в несколько других домов, он лишь через неделю встретился с Евдокией. Причем не в ее кремлевских покоях и не у себя, а в доме одного из своих ближайших сотрудников Андрея Виниуса, главы Почтового ведомства.
Долгие разговоры ни к чему не привели – Евдокия наотрез отказалась уходить в монастырь и в тот же день попросила о заступничестве патриарха Адриана.
Патриарх заступился за царицу, но Петр накричал на семидесятилетнего князя церкви, заявив, что это не его дело и он, царь, никому не позволит вмешиваться в его решения и его собственные семейные дела.
Через три недели Евдокию Федоровну посадили в закрытую карету, и два солдата-преображенца отвезли ее в Суздаль. Есть свидетельство, что Петр даже хотел казнить Евдокию, но за нее заступился Лефорт, и дело ограничилось заточением в монастырь.
Там с ней и вовсе перестали церемониться: силой постригли, переменив ее родовое имя «Евдокия» на новое, монашеское – «Елена», и, не обращая внимания на крики и слезы, заперли в тесную келью Покровского девичьего монастыря.
Ей не дали ни копейки на содержание, и она вынуждена была просить деньги у своих опальных и обнищавших родственников: «Здесь ведь ничего нет: все гнилое. Хоть я вам и прискушна, да что же делать. Покамест жива, пожалуйста, поите, да кормите, да одевайте, нищую».
* * *
Возвращение Петра в Москву ничего не изменило в его отношениях с Анной, и если бы не начавшаяся вскоре война со Швецией, то, может быть, Анна Ивановна и стала бы русской царицей, как немного позже случилось это с другой иноземкой – Мартой Скавронской, вошедшей в историю под именем Екатерины Первой.
Именно Северная война во многом стала причиной первых брачных союзов Романовых с немецкими династиями.
19 августа 1700 года Россия объявила войну Швеции, начав одну из самых затяжных войн в своей истории – Северную, длившуюся двадцать один год и по продолжительности сравнимую только с двадцатипятилетней Ливонской войной 1558—1583 годов при Иване Грозном. Последняя, будучи проиграна, оказалась по своим последствиям весьма трагической для России.
Между тем и Ливонская война, и Северная проходили на территории Прибалтики, Ингерманландии, части Карелии и Литвы, и это предопределяло сходство геополитических интересов Ивана Грозного и Петра I, обязанных и вынужденных учитывать расклад сил многих государств этого обширного региона.
22 августа Петр, оставив Москву, отправился на театр военных действий к Нарве. 19 ноября русские войска потерпели там серьезнейшее поражение, но Петр не опустил руки и с еще большей энергией продолжал начатое дело. Тема этой книги не позволяет подробно останавливаться на истории военной или политической, если, по крайней мере, события не связаны с перипетиями личной жизни наших героев. Поэтому и сейчас речь пойдет об одном из военных эпизодов, без которого не произошло бы крутого поворота в отношениях Петра и Анны Монс.
Случилось так, что однажды вечером в апреле 1703 года возле стен осажденной шведской крепости Нотебург (потом Петр переименовал ее в Шлиссельбург) царь прогуливался с приехавшим к нему саксонским посланником Кенигсеком. Вдруг Кенигсек поскользнулся на бревне, переброшенном через неширокий, довольно мелкий ручей, и на глазах у Петра рухнул в воду лицом вниз. Видевшие все это солдаты тут же бросились к нему на помощь, но было поздно – саксонский посланник захлебнулся, и откачать его не удалось.
Когда утопленника вытащили из ручья, у него в карманах обнаружили целую пачку писем коварной Анны Монс, в которых, как писал академик Герард Фридрих Миллер, она «слишком ясно выражала свою преступную любовь к Кенигсеку». Кроме того, у Кенигсека оказался и миниатюрный живописный портрет Анны.
Петр тотчас же приказал приставить к дому Анны крепкий караул и никого к ней не пускать. Анна поняла, что следует во что бы то не стало вернуть себе расположение царя, и попробовала сделать это при помощи колдовства, чародейства, приворотных зелий, перстней и тому подобной каббалистики.
Не только Анна, но и все ее семейство попали в опалу, которая продолжалась до 1707 года, пока в судьбу бывшей фаворитки царя не вмешался прусский резидент Георг Иоганн фон Кайзерлинг, сопровождавший, как и Кенигсек, Петра на войне. 10 июля 1707 года, неподалеку от Люблина, где стояла тогда Главная квартира русской армии, Кайзерлинг объявил Петру, что Анна Монс – его невеста и потому он просит разрешения на брак с нею.
Петр же ответил ему так:
– Я воспитывал девицу Монс для себя, с искренним намерением жениться на ней, но так как она вами прельщена и развращена, то я ни о ней, ни о ее родственниках ничего ни слышать, ни знать не хочу.
Присутствовавший при этом Меншиков сказал Кайзерлингу:
– Девка Монс действительно подлая публичная женщина, с которой я сам развратничал столько же, сколько и ты.
В ответ на это Кайзерлинг полез драться, но Петр и Меншиков спустили его вниз по лестнице.
Упрямец все же добился своего, но только через четыре года после этого происшествия. Он обвенчался с Анной в июне 1711 года, однако через полгода после свадьбы умер. Анна пережила его не намного: она скончалась в Немецкой слободе 15 августа 1714 года.
Начало «генерального романа» Петра І
25 августа 1702 года русские войска фельдмаршала Шереметева заняли город Мариенбург (ныне это латвийский город Алуксне). Его служанкой стала восемнадцатилетняя Марта Скавронская, дочь местного крестьянина, недавно вышедшая замуж за полкового трубача немца Иоганна Крузе, после чего стала прозываться Мартой Трубачевой. Ее настоящим отцом был не крестьянин, а его господин – помещик-немец фон Альвендаль. Марта приглянулась пятидесятилетнему Шереметеву, но потом стала добычей Меншикова, который отбил ее у фельдмаршала и увез в Москву. 1 марта 1704 года Марта попалась на глаза гостю Меншикова – царю Петру, и он забрал ее себе.
Марта совершенно очаровала Петра.
Новый роман не походил ни на один из его предыдущих: от двадцатилетней литовской крестьянки тридцатидвухлетний царь потерял голову и с самого начала имел в отношении Марты серьезные намерения. Он не считал ее простой наложницей, но видел в ней будущую жену. Марта родила от царя двоих сыновей – Петра и Павла, которые, правда, умерли во младенчестве. Но еще до их кончины в 1705 году Петр предложил своей будущей жене, матери двоих сыновей, принять православие.
К этому времени и сама Марта прекрасно понимала, что Россия стала для нее новой родиной, где ей предстоит прожить еще очень долго. «Для того, – писал историк К. И. Арсеньев, – оставила веру своей родины и приняла православие; усердно начала изучение русского языка и скоро преуспела в нем так, что казалось, будто всегда принадлежала к великой семье русского народа».
Решив крестить Марту Скавронскую по православному обряду, Петр уже в 1705 году имел в отношении нее далеко идущие планы, намереваясь в дальнейшем сделать ее и своей женой, и русской царицей. Об этом красноречиво свидетельствует хотя бы тот факт, что крестным отцом Марты, получившей при новом крещении имя Екатерины, был родной сын Петра – пятнадцатилетний царевич Алексей, а ее крестной матерью – сводная сестра царя Екатерина Алексеевна, сорокасемилетняя дочь Алексея Михайловича и Марии Милославской.
С этого времени Марта стала называться Екатериной Алексеевной, и все, кто знал ее, резко изменили отношение к ней, ибо теперь перед ними была крестница царевича и царевны, в недалеком будущем их государыня.
Первый братский союз Романовых с курляндскими герцогами Кеттлерами
В ходе Северной войны на авансцену семейной жизни царского российского дома выходит племянница Петра, семнадцатилетняя Анна Ивановна, которую Петр решил выдать замуж за владетеля соседней с Петербургом Курляндии герцога Фридриха-Вильгельма – потомка последнего магистра Ливонского ордена Кеттлера.
Здесь необходима краткая историческая справка: как уже упоминалось, в 1558 году Русское государство начало войну против Ливонии. В первые же годы Ливонской войны три самых крупных государства этого региона – город Рига, Рижское архиепископство и Ливонский орден – либо полностью признали над собою власть польского короля Сигизмунда II Августа, либо оказались в сильной от него зависимости.
Магистр Ливонского ордена Готард Кеттлер 5 марта 1562 года подписал договор о ликвидации Ордена и присягнул королю Польши на верность, как то же самое в 1525 году проделал последний гроссмейстер Тевтонского ордена Альбрехт Гогенцоллерн, присягнув королю Польши и Великому князю Литвы Сигизмунду I Старому. После принесения присяги гроссмейстер Тевтонского ордена Альбрехт Гогенцоллерн стал первым герцогом Пруссии, а последний магистр Ливонского ордена – первым герцогом Курляндским и Земгальским (сокращенное название – Герцогство Курляндское).
На следующий день полномочный представитель короля Сигизмунда II Августа князь Николай Радзивилл Черный назначил Кеттлера еще и губернатором правобережной Ливонии – Задвинского герцогства, которое тогда входило в состав Великого княжества Литовского.
С тех пор и до описываемых здесь событий Курляндское герцогство было светским владением, в котором власть была наследственной и принадлежала потомкам Готтарда Кеттлера, передаваясь по нисходящей линии. Последним из его потомков был в 1709 году герцог Фридрих-Вильгельм.
Следует заметить, что именно тогда русскими одержаны были решающие победы над шведами – в сражениях при Лесной, в знаменитой битве под Полтавой и под Переволочной.
В этот переломный для России год небо Москвы много раз озарялось победными фейерверками. 21 декабря 1709 года состоялся триумфальный марш победителей у Лесной, под Полтавой и у Переволочны.
В июне 1710 года русские войска взяли Выборг, в июле – Ригу, в сентябре – Ревель (Таллинн). С 1710 года в Курляндии влияние России необыкновенно усилилось, и Петр I, желая сделать его абсолютным, задумал опереться на дом Кеттлера. Для этого он решил выдать свою семнадцатилетнюю племянницу – царевну Анну Ивановну – за ее одногодка – герцога Фридриха-Вильгельма Кеттлера.
Царевна Анна была дочерью покойного старшего брата Петра – царя Ивана, умершего в январе 1696 года на тридцатом году жизни. Иван оставил вдовой молодую царицу Прасковью Федоровну, которой был тогда тридцать один год, и трех дочерей – Екатерину, Анну и Прасковью. Девочки находились еще во младенчестве – старшей сравнялось четыре года, младшей шел второй год.
Чуть позже стали их учить чтению, письму и катехизису, приставив грамотных соотечественников из духовного звания, а из других предметов посчитали нужным преподавать царевнам два языка – французский и немецкий, да еще и танцы, наняв для сего двух иноземцев – француза Рамбура, обучавшего танцам и французскому языку, и немца Иоганна Остермана – учителя немецкого языка. Но оба учителя были очень посредственными, а Остерман просто-напросто удивительно глуп, и потому девочки ничему от них не научились.
Меж тем 22 марта 1708 года царица Прасковья Федоровна выехала из Москвы в Петербург с огромной свитой и всеми дочерьми: шестнадцатилетней Екатериной, четырнадцатилетней Анной и двенадцатилетней Прасковьей. Почти через месяц, 25 апреля, прибыли они в Петербург и поселились в приготовленном для них доме рядом с домами царя, Меншикова и других знатных особ.
Вскоре дом царицы Прасковьи стал наполняться великосветскими петербургскими сплетнями и слухами. Говорили о родственниках, о приближенных царя. О Фридрихе-Вильгельме, кстати, доводившемся племянником королю Пруссии Фридриху I Гогенцоллерну, средняя дочь Прасковьи Анна впервые услышала поздней осенью 1709 года, когда ей сообщили о решении государя выдать ее замуж за герцога Курляндии Фридриха– Вильгельма.
В июле 1710 года его уполномоченные приехали в Петербург и заключили с Петром договор о предстоящем брачном союзе. После этого договор увезли в Митаву (сегодня это город Елгава, Латвия), и там герцог его тотчас же ратифицировал, после чего его пригласили приехать в Петербург.
Одновременно с приглашением герцогу был послан приказ фельдмаршалу Шереметеву, чьи войска 14 июля 1710 года взяли Ригу, сопровождать герцога в Петербург.
В августе Фридрих-Вильгельм приехал к своей невесте и был необычайно радушно встречен и Анной, и ее матерью, и сестрами, и, что самое главное, царем.
Все царское семейство и первые вельможи государства потчевали и развлекали дорогого гостя как могли: над Петербургом непрерывно загорались фейерверки, не прекращалась пушечная пальба, веселые компании молодых людей и дам передавали Анну и ее жениха из одного гостеприимного дома в другой, а в сентябре в честь герцога были проведены большие маневры военного флота.
Петр подарил Фридриху-Вильгельму четыреста кавалеристов, а Меншиков – пятьдесят телохранителей-драбантов, а кроме того драгоценный сапфир стоимостью в 50 000 талеров и турецкого жеребца необычайной красоты.
Наконец на 31 октября была назначена свадьба.
В девять часов утра сам Петр, выполняя роль обер-маршала, в окружении знатнейших особ отправился по Неве во главе целой флотилии шлюпок и лодок к дому царицы Прасковьи.
Царь был в алом кафтане с собольей отделкой, с голубой лентой через плечо, орденом Андрея Первозванного, с серебряной шпагой и в пудреном немецком парике.
50 судов, наполненных дамами и господами, разодетыми в немецкие камзолы и платья, плыли следом за царем.
Из дома Прасковьи флотилия двинулась ко дворцу князя Меншикова, где и должна была проходить свадебная церемония. Выбор дома объяснялся просто: в Петербурге не было большего по размеру и лучшего по всем прочим статьям помещения для празднования свадьбы, чем дворец Светлейшего.
Жених и невеста были одеты в белые одежды, расшитые золотом. Во дворце Меншикова установили полотняную походную церковь, в которой архимандрит Феодосии Яновский и обвенчал молодых. Затем все пошли обедать, усевшись за столы, накрытые с необычайной роскошью. Тост сменялся тостом, и после каждого следовал залп из 41 пушки, которые стояли на плацу и на большой яхте.
А потом начался бал, в котором немецкие и французские танцы сменяли друг друга.
И лишь в три часа ночи молодые ушли в спальню.
Датский посланник при Петербургском дворе Юст Юль сообщал в своих «Записках», что на следующий день с двух часов дня свадебный пир продолжался, как и накануне, в доме Меншикова, только на сей раз гости угощались не за счет царя, а за счет хозяина дома. Выпито было по семнадцать заздравных чар, и каждый тост сопровождался тринадцатью пушечными выстрелами.
К концу обеда внесли два огромных пирога, и в каждом из них оказалось по карлице. Как только пироги разрезали, карлицы, одетые в красивые французские платья, начали исполнять заранее отрепетированные номера. Карлица, стоявшая на столе новобрачных, продекламировала поздравительные стихи по-русски, а ее подруга, стоявшая на столе, за которым сидел царь, молча слушала, пока царь не взял ее на руки и не перенес на другой стол. Там обе карлицы под звуки оркестра исполнили менуэт, очень изящно протанцевав его.
После обеда на плотах, поставленных на Неве, зажгли фейерверк. В небе вспыхнули три буквы: A, F и Р – начальные буквы имен Анна, Фридрих и Петр. Потом появились две пальмы, макушки которых переплелись, а над ними вспыхнули слова: «Любовь соединяет». Третьей картиной была сцена, в которой ангелоподобный Купидон сковывал молотом два сердца, лежавших на наковальне. Над этой картиной горели буквы: «Из двух едино сочиняю». Царь сам устроил этот фейерверк и объяснял гостям аллегорический смысл каждой картины.
Действо закончилось тем, что над Невой одновременно вспыхнуло множество ракет, после чего начались танцы, длившиеся до полуночи.
Но на этом свадебные торжества не закончились, потому что царь хотел и дальше потешать своего нового зятя.
Такой потехой стала начавшаяся спустя два дня свадьба любимого карлика царя Екима Волкова с невестой-карлицей.
Петр решил отпраздновать и эту свадьбу с неменьшим размахом. По его приказу из Москвы в Петербург привезли более семидесяти лилипутов и лилипуток, и они вместе со своими петербургскими товарищами и товарками стали героями еще одного – двухнедельного – празднества. Великана Петра забавляло, что он окружен такими маленькими людьми, и царь всячески подчеркивал эту контрастность в шествиях, церемониях и народных гуляниях.
Свадьба двух лилипутов в точности повторяла только что прошедшую свадьбу принцессы Анны и герцога Фридриха-Вильгельма. Она проходила в том же дворце, за теми же столами, и гости на свадьбе были те же самые, кроме семи десятков карликов и карлиц. И наиболее серьезные и вдумчивые гости видели в новом шутовском действе некую пародию на брак незначительного принца с племянницей великого и могучего государя.
Как бы то ни было, но молодые в январе 1711 года выехали в Митаву Однако путешествие их в Курляндию оказалось очень недолгим: 9 января, в сорока верстах к юго-западу от Петербурга, на мызе Дудергоф молодой герцог скончался.
Он умер от неумеренного злоупотребления крепкими винами и водкой. Не следует забывать, что было ему тогда всего семнадцать лет.
Анна вернулась в Петербург и думала, что останется там жить с матерью и сестрами, но Петр велел ей ехать в Курляндию и образовать там из курляндских дворян прорусскую партию, чтобы противостоять пропольской партии, главой которой был дядя покойного Фридриха-Вильгельма – герцог Фердинанд.
Особо сильного смятения весть о неожиданной смерти герцога Фридриха-Вильгельма в Петербурге не вызвала, так как за неделю до отъезда молодых в Митаву пришло известие, что турецкий султан объявил России войну.
17 января 1711 года, оставив Меншикова в Петербурге, Петр и Екатерина выехали в Москву.
Им предстояло серьезнейшее испытание – необычайно трудный и несчастливый Прутский поход, во время которого Екатерина показала свои лучшие человеческие качества.
Прутский поход
25 февраля 1711 года в Успенском соборе был зачитан Манифест об объявлении войны Османской империи. Однако месяцем раньше из Риги на юг двинулись полки Шереметева, чуть позже выехал и сам командующий, а 6 марта из Москвы направился на театр военных действий и Петр.
В этот же день, 6 марта, перед отправлением в войска Петр тайно обвенчался с Екатериной, и теперь с ним в поход она впервые отправилась не как любовница Петра Михайлова, а как законная супруга царя, только пока не венчанная на царство.
Правда, об этом знали лишь самые близкие Петру и Екатерине люди, ибо венчание было тайным, а свадьбы и вообще не было. Официально же Петр венчался с Екатериной почти через год, 19 февраля 1712 года, после возвращения из Прутского похода и поездки в Польшу и Германию.
Необычайно сильная привязанность Петра к Екатерине объяснялась не только силой чувства, которое царь долгие годы испытывал к ней, ставя сначала свою «метресишку», а потом и жену вне бесконечного ряда близких с ним женщин.
Отдавая должное ее привлекательности, природному уму, душевному обаянию, стремлению быть единомышленницей несомненно любимого ею человека, нельзя не сказать, что Екатерина обладала и рядом необычайных качеств, облегчавших даже тяжелые недуги Петра, связанные с эпилептическими припадками.
Резидент Голштинского герцога в Петербурге, граф Генниг-Фридрих Бассевиц писал в своих «Записках»: «Она имела и власть над его чувствами, власть, которая производила почти чудеса. У него бывали иногда припадки меланхолии, когда им овладевала мрачная мысль, что хотят посягнуть на его особу. Самые приближенные к нему люди должны были трепетать его гнева. Появление их узнавали по судорожным движениям рта. Императрицу немедленно извещали о том. Она начинала говорить с ним, и звук ее голоса тотчас успокаивал его, потом она сажала его и брала, лаская, за голову, которую слегка почесывала. И он засыпал в несколько минут. Чтобы не нарушать его сна, она держала его голову на своей груди, сидя неподвижно в продолжение двух или трех часов. После того он просыпался совершенно свежим и бодрым. Между тем, прежде нежели она нашла такой простой способ успокаивать его, припадки эти были ужасом для его приближенных, причинили, говорят, несколько несчастий и всегда сопровождались страшной головной болью, которая продолжалась целые дни. Известно, что Екатерина Алексеевна обязана всем не воспитанию, а душевным своим качествам. Поняв, что для нее достаточно исполнять важное свое назначение, она отвергла всякое другое образование, кроме основанного на опыте и размышлении».
В пути Петр получил несколько сообщений о необычайном мздоимстве Меншикова и написал ему в Петербург грозное письмо, в котором имелась и такая фраза: «А мне, будучи в таких печалях, уже пришло не до себя и не буду жалеть никого».
Поездка в лагерь русских войск заняла у Петра более трех месяцев. Столь долгое его путешествие от Москвы до Прута объяснялось тем, что по дороге он подолгу останавливался в разных городах, решая вопросы грядущей кампании и особенно основательно подготавливая и проводя дипломатические акции. К тому же из-за внезапной болезни пришлось остановиться в Луцке.
Приехав еще в марте в Галицию, Петр встретился там, в местечке Ярослав, с молдавским господарем Дмитрием Кантемиром и 11 апреля 1711 года подписал с ним союзный договор, направленный против турок. Здесь же, 30 мая, Петр подписал договор и с польским королем Августом II, специально для этого приехавшим в Ярослав.
И еще одно важное дело было разрешено во время пребывания Петра и Екатерины в Галиции: в местечке Яворово 19 апреля было подписано брачное соглашение о женитьбе царевича Алексея Петровича на Софье-Шарлотте Брауншвейг-Вольфенбюттельской. По условиям договора, невеста оставалась в своей лютеранской вере, а будущие дети должны были креститься по православному обряду.
(К этому сюжету – второму брачному союзу Романовых с другой немецкой династией герцогов Брауншвейг-Вольфенбюттельских – мы еще вернемся чуть позже и подробно расскажем о том, каким оказалось супружество царевича Алексея и принцессы Софьи-Шарлотты.)
А теперь продолжим повествование о Прутском походе.
12 июня Петр и Екатерина прибыли в лагерь русских войск на Днестре, но полки Шереметева и сам фельдмаршал все еще были в пути.
Марш к Днестру оказался очень трудным: стояла сильная жара, высушившая не только ручьи и озерца, но и колодцы. К тому же саранча пожрала траву, и от бескормицы пало множество лошадей, замедляя тем самым движение артиллерии и обозов. Да и провианта не хватало, ибо край был основательно разорен турками и союзными им татарами.
В начале июля все русские войска – дивизии Шереметева, Вейде и Репнина, – общей численностью в 38 246 человек соединились на берегу Прута и успели построить укрепленный лагерь, вокруг которого сосредоточились неприятельские силы, не менее чем в три раза превосходившие войска русских и союзных им молдаван князя Дмитрия Кантемира.
После двух штурмов, предпринятых турками 9 и 10 июля и с трудом отбитых русскими, Петр решил послать к Великому визирю Махмет-паше парламентера с предложением о прекращении войны и заключении перемирия. Великий визирь склонялся к миру, но крымский хан и генерал Понятовский – представитель Карла XII – настаивали на продолжении сражения.
Объективно положение русских было катастрофическим: у них уже три дня не было ни куска хлеба, ни фунта мяса, а против 120 русских орудий неприятель выдвинул более 300. И все же турки не были уверены в успехе – перед ними стояла победоносная армия, прошедшая через огонь Лесной и Полтавы.
Петр очень нервничал. Он приказал Екатерине покинуть лагерь и скакать в Польшу но она наотрез отказалась оставить его.
Между тем Великий визирь сохранял молчание, и тогда в турецкий лагерь отправился Петр Павлович Шафиров. В инструкции, данной Шафирову Петр писал: «В трактовании с турками дана полная мочь господину Шафирову, ради некоторой главной причины…» А этой «главной причиной» было спасение армии. Петр соглашался отдать туркам все завоеванные у них города, вернуть шведам Лифляндию и даже Псков, если того потребуют турки. Кроме того, Петр обещал дать Махмет-паше 150 тысяч рублей, а «другим начальным людям» еще более 80 тысяч.
Однако обещание выплаты столь огромной суммы было нереальным – армейская казна такими деньгами не располагала. А между тем надеяться следовало главным образом на деньги, золото, до коего и Великий визирь, и его помощники были очень и очень охочи.
И тогда, спасая положение, Екатерина отдала на подкуп турецких сановников все свои драгоценности, а стоили они десятки тысяч золотых рублей.
Шафиров вручил эти драгоценности и деньги туркам, и они подписали мир на условиях, о которых Петр и не мечтал: дело ограничилось возвращением Турции Азова, Таганрога и еще двух мелких городов да требованием пропустить в Швецию Карла XII. А турки обязались пропустить в Россию русскую армию.
В подтверждение готовности выполнить эти условия Шафиров и сын Шереметева – Михаил Борисович – должны были оставаться заложниками у турок.
11 июля Шафиров и Михаил Шереметев приехали в турецкий лагерь, а на следующее утро русская армия двинулась в обратный путь. Она шла медленно, сохраняя постоянную готовность к отражению внезапного нападения. 1 августа армия перешла Днестр, и уже ничто более ей не угрожало. А Петр и Екатерина отправились сначала в Варшаву для свидания с Августом II, затем в Карлсбад, на воды, где Петр должен был пройти курс лечения, и наконец в Торгау где должна была состояться свадьба царевича Алексея Петровича и принцессы Софьи-Шарлотты Брауншвейг-Вольфенбюттельской, доводившейся свояченицей австрийскому императору и родственницей многим другим европейским монархам.
Детство и юность царевича Алексея
А теперь наступило время восполнить вакуум, образовавшийся вокруг еще одного важного героя этой книги – царевича Алексея Петровича.
Когда Евдокию Федоровну отвезли в монастырь, царевичу шел восьмой год. Он редко видел отца, и потому влияли на него мать, бабушка и их, преимущественно женское, окружение. С шести лет Алексея стал учить грамоте князь Никифор Кондратьевич Вяземский, но круг чтения был почти целиком церковный, и потому мальчик полюбил церковные службы, рассказы о святых и великомучениках, молитвы и заповеди. Это не устраивало Петра, и он передал сына в руки немца Мартина Нойгебауэра, юриста, историка и знатока латыни, которого хорошо знавшие его люди называли «персоной нарочитой остроты». Однако главным воспитателем Алексея Петр назначил все того же Меншикова, не умевшего ни читать, ни писать, и это настроило Нойгебауэра по отношению к Александру Даниловичу на враждебный лад. Дело кончилось тем, что в июле 1702 года было приказано «иноземцу Нойгебауэру за многие его неистовства от службы отказать и ехать ему без отпуска куда хочет». Но Нойгебауэр еще два года прожил в Москве, домогаясь какой-нибудь должности, и даже просил, «чтобы послану ему быть посланником в Китай».
Ничего не добившись в Москве, он уехал к себе на родину и издал там памфлет о нравах россиян и ужасах российского быта. Карьера привела его в стан шведского короля Карла XII, сделавшего Нойгебауэра своим секретарем, а потом и канцлером шведской Померании.
Об этом можно было бы и не упоминать, если бы не появился контр-памфлет – «пространное обличение преступного и клеветами наполненного пашквиля, изданного под титулом „Письмо знатного офицера“, написанное в 1705 году на немецком языке и принадлежавшее перу доктора прав барона Генриха фон Гюйссена.
Автор контр-памфлета, решительно защищающий Петра и Россию, и стал новым воспитателем царевича Алексея, сменив отставленного Нойгебауэра. Гюйссен составил хорошо продуманный план образования Алексея, отводя место «нравственному воспитанию, изучению языков французского, немецкого и латинского, истории, географии, геометрии, арифметики, слога, чистописания и военных экзерциций». Завершалось образование изучением предметов «о всех политических делах в свете и об истинной пользе государств в Европе, в особенности пограничных».
Сохранились свидетельства современников, что сначала Алексей учился охотно и хорошо, но его нередко отрывал от учения отец, забирая с собою на войну, в походы и поездки, а Гюйссена посылая с миссиями за границу.
Одной из таких дипломатических миссий барона была его поездка в Вену – столицу Священной Римской империи, ко двору императора Иосифа I Габсбурга.
В Вене Гюйссен познакомился с датским посланником бароном Урбихом – опытным старым дипломатом, жившим здесь уже много лет. С 1699 года королем Дании был Фредерик IV, который принадлежал к Ольденбургскому дому и имел родственные связи со многими другими немецкими династиями. Состоял он в родстве и с герцогами Брауншвейг-Люнебургскими.
Урбих, отстаивая интересы своего короля, всегда имел в виду и интересы его родственников. При встрече с Гюйссеном, состоявшейся 28 января 1707 года, этот принцип был соблюден в полной мере, и когда посланец русского царя завел речь о том, что наследник российского трона хотел бы жениться на одной из германских принцесс, Урбих с готовностью откликнулся на это предложение и тут же назвал две кандидатуры – герцогинь Брауншвейг-Люнебургских, старшей из которых было тогда 13 лет, а младшей – 11.
Старшую сестру звали Шарлоттой Христиной Софией, и было решено, что именно ее будут сватать за царевича, которому в ту пору почти сравнялось 17 лет.
Расспрашивая Урбиха о предполагаемой невесте, Гюйссен узнал, что ее род – один из знатнейших и старейших во всей Германии. Ее отец, Великий герцог Брауншвейгский Людвиг Рудольф, считался одним из образованнейших правителей, как и его отец – герцог Антон-Ульрих Вольфенбюттельский. Шарлотту Христину Софию называли то кронпринцессой Брауншвейгской, то герцогиней Вольфенбюттельской, не делая, впрочем, ошибки ни в том, ни в другом случае.
По словам Урбиха, девочка тоже была хорошо образована, ибо до семи лет жила у своего просвещенного деда, а с семи лет – при дворе Саксонского курфюстра и Польского короля Фридриха-Августа II Сильного, союзника Петра I. Август II Фридрих происходил из древнего немецкого рода саксонских курфюрстов Веттинов. Он унаследовал трон Саксонии от своего отца, Саксонского курфюрста Иоганна-Георга III, а в 1694 году был избран королем Польши и в этом качестве был известен как Август II Сильный.
Софья-Шарлотта – таким сокращенным именем звали девочку, – живя при дворе Августа Сильного, была предметом постоянной заботы, нежности и ласки со стороны королевы и курфюрстины Христины Эберхардины, происходившей из рода Бранденбургских курфюрстов. Христина Эберхардина носила титул маркграфини фон Кульмбах и 22 лет в 1693 году вышла замуж за Фридриха-Августа, который был только на один год старше ее. Их свадьба состоялась в городе Байройте, резиденции ее отца, перенесенной за сорок лет перед тем из расположенного неподалеку от Байройта городка Кульмбах: оба города лежали в земле Верхняя Франкопия, только один располагался на Белом Рейне, а второй – на Красном.
Теперь же и семья курфюрста, и Софья-Шарлотта жили в столице Саксонии – Дрездене, а ее другом и спутником многих игр, забав, а также учебы и «галантных предметов» был единственный сын Августа II Сильного, носивший такое же имя, как и его отец, – Фридрих-Август, впоследствии унаследовавший и корону курфюрста Саксонии, и корону Полыни. Дети были почти одногодками, и это также сближало их.
Август, узнав о намерениях Урбиха, очень обрадовался перспективе, открывавшейся перед его воспитанницей, поскольку это укрепляло его союз с Петром I. Да и сам Петр I считал предстоящий брак достаточно выгодным, так как старшая сестра Софьи-Шарлотты Елизавета Христина вскоре вышла замуж за императора Священной Римской империи Карла VI, получившего трон в 1711 году, а курфюрст Ганновера Георг-Людвиг, доводившийся Софье-Шарлотте дядей, принадлежал к младшей ветви Люнебургского дома. По закону о престолонаследии, принятому в Англии в 1701 году он мог занять престол Англии, если в правящем в Лондоне доме Стюартов не останется наследников по мужской линии. В этом случае корона Стюартов переходила к старшему мужскому отпрыску в Ганновере, что и случилось через семь лет – в 1714 году
Однако в 1707 году Софья-Шарлотта была еще мала, и с женитьбой следовало подождать еще некоторое время.
Между тем, оставаясь в Москве, Алексей все теснее сближался с Нарышкиными, Вяземским и многими священниками, среди которых ему был ближе всего его духовник – протопоп Верхоспасского собора Яков Игнатьев. Игнатьев поддерживал в Алексее память о его несчастной матери, осуждал беззаконие, допущенное по отношению к ней, и часто называл царевича «надеждой Российской».
В начале 1707 года Игнатьев устроил Алексею свидание с матерью, отвезя его в Суздаль, о чем тут же доложили Петру, находившемуся в Польше. Петр немедленно вызвал сына к себе, но не ругал его, а, напротив, решил приблизить и привлечь к государственной деятельности. Семнадцатилетнего Алексея он сделал ответственным за строительство укреплений вокруг Москвы, поручал ему набор рекрутов и поставки провианта, а в 1709 году отправил в Дрезден для дальнейшего совершенствования в науках. Вместе с царевичем поехали князь Юрий Юрьевич Трубецкой, один из сыновей канцлера граф Александр Гаврилович Головкин и Гюйссен.
Приехав в Дрезден, царевич жил инкогнито и помимо ученых занятий занимался музыкой и танцами. В это же время начались переговоры о женитьбе Алексея на принцессе Софье-Шарлотте. Пока эти переговоры проходили, Алексей Петрович переехал из Дрездена в Краков, где занимался фортификацией, математикой, геометрией и географией.
Близко знавший Алексея граф Вильген, писал, что царевич встает в четыре часа утра, молится, а затем читает. Его занятия начинаются в семь часов и продолжаются с перерывом на обед до шести часов дня. Спать Алексей ложился не позже восьми часов.
В свободное время его любимым занятием были прогулки и посещение церквей.
В 1709 году пятнадцатилетняя Софья-Шарлотта в одном из писем матери впервые упомянула о том, что «каммер-президент Саксонии, возвратившись из Варшавы, рассказывал, что видел Алексея и нашел, что царевич умнее и симпатичнее, чем его описывают, он свободно говорит по-немецки, а его окружение состоит из умных и достойных людей».
В марте 1710 года Алексей побывал в Варшаве, был принят Августом II и через Дрезден поехал в Карлсбад. Неподалеку от Карлсбада, в местечке Шлакенверт он впервые увидел свою невесту, и, кажется, молодые понравились друг другу. Во всяком случае, Алексей писал Якову Игнатьеву: «Вышеписанную княжну я уже видел, и мне показалось, что она человек добрый и лучше ея здесь мне не сыскать».
В письме от 1 августа 1710 года Софья-Шарлотта писала матери о том, как Алексей живет в Дрездене, одном с нею городе: «Он берет уроки танцев у Поти, и его французский учитель тот же самый, который преподавал принцу (сыну Августа Сильного) и мне. Он изучает географию и говорит, что он весьма прилежен».
В других письмах, написанных ею осенью и зимой 1709 года, Софья-Шарлотта высказывала уверенность, что «Московское дело» – так называла она предстоящий брак – будет успешно завершено.
Сватовство и женитьба Алексея на Софье-Шарлотте
В сентябре 1710 года Алексей решил сделать Софье-Шарлотте официальное предложение и запросил на то разрешение Петра. Петр свое согласие дал, и в мае 1711 года царевич отправился в Вольфенбюттель для знакомства с родителями невесты и обсуждения с ними брачного договора. Для выяснения некоторых спорных пунктов этого договора в июне 1711 года к Петру был направлен тайный советник герцога Брауншвейгского Шляйниц, вскоре отыскавший царя и царицу в галицийском местечке Яворово, о чем кратко упоминалось раньше.
В Яворово был подписан «Договор Петра I с Брауншвейг-Вольфенбюттельским домом о супружестве царевича Алексея Петровича и принцессы Шарлотты». Договор состоял из 13 пунктов и, в частности, разрешал Шарлотте не принимать православия, при условии, что дети от этого брака будут воспитываться в православной вере.
Договор определял доходы Шарлотты на содержание двора и свиты, денежные суммы, которые Алексей обязан давать своей жене на драгоценности, в нем также предусматривалось, что в случае смерти Алексея Шарлотта сможет возвратиться домой.
Шарлотта имела право взять с собою в Россию 117 придворных и слуг – только для обслуживания экипажей предусматривалось иметь 22 человека – кучеров, конюхов, форейторов, колесников, седельников. С нею ехали и доктор, и священник, и повара, и множество других челядинцев.
Как уже говорилось, вскоре после подписания «Договора Петра I с Брауншвейг-Вольфенбюттельским домом» Петр и Екатерина уехали в действующую армию, на Прут, а по окончании неудачного для России похода августейшие супруги, побывав в Варшаве и Карлсбаде, пожаловали и в Торгау.
В то время как царская чета разъезжала по Польше и Чехии, в Брауншвейге завершилась подготовка к бракосочетанию кронпринца Алексея и принцессы Софьи-Шарлотты.
13 октября 1711 года Петр и Екатерина приехали в саксонский город Торгау, и на следующий день во дворце польской королевы было совершено венчание и отпразднована свадьба.
17 октября Петр I приказал молодым уезжать в Торунь, где Алексей должен был следить за заготовкой провианта для тридцатитысячной русской армии, стоявшей в Померании.
В это время отношения Алексея и Шарлотты были безоблачными. 4 января она писала своему отцу: «Царевич окружил меня своей дружбой, с каждым днем он демонстрирует мне знаки своей любви, так что я вправе сказать, что совершенно счастлива, если бы не место, где я сейчас живу, чрезвычайно неприятное».
19 октября Петр уехал из Торгау, в Померанию прибыл Меншиков и взял Алексея с собой на театр военных действий. Это случилось в мае 1712 года.
В то же время Шарлотта уехала в Эльблонг, где стоял штаб Меншикова. Там, в октябре того же года, она получила распоряжение Петра I ехать через Ригу в Петербург. Как раз в это время между молодыми супругами произошло заметное охлаждение. Его причины неизвестны, но оно случилось, потому что в письме от 26 ноября 1712 года Шарлотта написала отцу: «Мое положение гораздо печальнее и ужаснее, чем может представить себе чье-либо воображение. Я замужем за человеком, который меня не любил и теперь любит еще менее, чем когда-либо».
Охлаждение было столь значительным, что Софья-Шарлотта внезапно собралась в дорогу и уехала к себе, в Вольфенбюттель. Отец был очень недоволен ее появлением в Вольфенбюттеле и сделал все, чтобы его дочь поехала в Петербург.
В марте 1713 года в его замок Зальцзалум приехал Петр I и неожиданно для всех крайне любезно отнесся к своей разобиженной и своенравной невестке. И Шарлотта растаяла в лучах обаяния своего августейшего свекра.
Жизнь и смерть Софьи-Шарлотты в Петербурге
Через неделю Шарлотта отправилась в Петербург, где ей была приготовлена пышная встреча. Австрийский посол в Петербурге Плейер так описывал ее въезд в город: «Как только карета принцессы достигла берега Невы, появился новый прекрасный баркас с позолоченными бортами, крытый красным бархатом. В лодке находились бояре, которые приветствовали принцессу и должны были перевезти ее через реку. На другом берегу стояли министры и остальные бояре в красивых одеждах, расшитых золотом. Неподалеку невестку ожидала царица. Когда Шарлотта приблизилась, она хотела, как подобает по этикету, поцеловать ее платье, но Екатерина не позволила ей этого, а обняла, поцеловала и поехала вместе с нею в приготовленный для нее дом. Она провела Шарлотту в покои, украшенные коврами, китайскими и другими раритетами. На маленьком столике, покрытом красным бархатом, стояли большие золотые сосуды, наполненные драгоценными камнями и различными украшениями. Это был подарок царя и царицы к приезду невестки».
Жизнь Софьи-Шарлотты в Петербурге началась в собственном дворце, построенном лишь за год до ее приезда. Рядом стояли дворцы любимой сестры царя – Натальи Алексеевны и вдовствующей царицы Марфы Матвеевны, в девичестве Апраксиной, чьим мужем был покойный царь Федор Алексеевич. Приехавшую с Шарлоттой свиту разместили по трем небольшим, рядом стоящим домам, а для слуг она сама сняла помещения.
Софья-Шарлотта, приехав в Петербург, не застала мужа дома, так как он еще в мае вместе с Петром ушел на корабле в Финляндию, а по возвращении тотчас же был отправлен на заготовки корабельного леса в Старую Руссу и Ладогу.
Царевич вернулся в Петербург в середине лета и очень обрадовался встрече с женой, которую не видел почти целый год. «Царь очень дружелюбен ко мне, – писала Софья-Шарлотта матери, – во время своего посещения он говорит со мной обо всех весьма важных вещах и заверяет меня тысячу раз в своем расположении. Царица не пропускает случая засвидетельствовать мне свое искреннее внимание. Царевич любит меня страстно, он выходит из себя, если у меня отсутствует что-либо, даже малозначащее, и я люблю его безмерно».
Вскоре после возвращения в Петербург между отцом и сыном произошел один инцидент, красноречиво свидетельствовавший об их отношениях. Петр попросил Алексея принести чертежи, которые тот делал, находясь в Германии на учебе. Алексей же чертил плохо, и за него эту работу выполняли другие. Испугавшись, что Петр заставит его чертить при себе, царевич решил покалечить правую руку и попытался прострелить ладонь из пистолета. Пуля пролетела мимо, но ладонь сильно обожгло порохом, и рука все же оказалась повреждена. Когда же Петр спросил, как это случилось, Алексей, из страха перед отцом, не посмел сказать правды.
Попав в старое российское окружение, Алексей почти сразу же отошел от молодой жены, пристрастившись к тому же к рюмке. Вскоре обнаружился у него туберкулез, и врачи посоветовали царевичу ехать в Карлсбад. Летом 1714 года Алексей уехал на воды, оставив Шарлотту в Петербурге на последнем месяце беременности.
Ко времени его отъезда в Карлсбад отношения между мужем и женой испортились, переменились к Шарлотте и многие члены царской семьи.
Царевна Наталья – тетка Алексея Петровича, – не привыкшая терпеть какого-либо прекословия, решила поставить на место «эту немку».
Алексей не заступился за жену, а, напротив, посоветовал ей уехать в Вольфенбюттель.
«Один Бог знает, как глубоко меня здесь огорчают, – писала Софья-Шарлотта отцу и матери, – и вы усмотрели, как мало внимания и любви у него ко мне. Я всегда старалась скрывать характер моего мужа, сейчас маска против моей воли спала. Я несчастна так, что это трудно себе представить и не передать словами, мне остается лишь одно – печалиться и сетовать. Я презренная жертва моего дома, которому я не принесла хоть сколько-нибудь выгоды, и я умру от горя мучительной смертью. Бог знает, как обстоят дела с моей беременностью, я опасаюсь, что это не только следствие болезненного состояния здоровья».
Отношения Софьи-Шарлотты с царицей Екатериной были натянутыми. «Моя свекровь ко мне такова, как я всегда ее себе представляла, и даже хуже», – писала царевна матери в апреле 1715 года, а чуть позже ей же сообщала, что «она хуже всех».
Только в семье вдовствующей царицы Прасковьи Федоровны к ней относились душевно и ласково.
А самые для нее важные отношения – с собственным мужем, – с каждым днем все более ухудшались. Еще до отъезда в Карлсбад он не раз уверял Софью-Шарлотту что женился на ней по принуждению, и часто повторял, что ей лучше уехать в Германию.
А когда царевич бывал пьян, что случалось с ним очень часто, то свое сугубое недовольство женой высказывал он и своим собутыльникам, и слугам.
Уехав за границу, он не написал жене ни одного письма, а когда до родов осталось два месяца, Софья-Шарлотта получила письмо от царя, находившегося в это время в Ревеле. Петр писал, чтобы при родах присутствовали три придворных дамы – жены канцлера Головкина и генерала Брюса, а также Авдотья Ржевская, чтобы потом, после того как ребенок родится, опровергать домыслы и сплетни, что он «подменный».
Софья-Шарлотта же подумала, что ее в чем-то подозревают, но открыто не говорят, и написала царице Екатерине в Ревель: «Надеюсь, что мои страдания скоро прекратятся, теперь я ничего на свете так не желаю, как смерти, и, кажется, это – единственное мое спасение».
А трех приставленных к ней дам посчитала она соглядатайками и надзирательницами. Дамы поселились рядом с нею и ни на минуту ее не оставляли.
12 июля 1714 года она благополучно родила дочь, названную Натальей, и в тот же день написала царю и царице письмо, обещая на другой раз родить сына.
Алексей вернулся из Карлсбада через полгода и только первые дни относился к жене сносно, но потом все пошло по-прежнему, и он даже поселил в их доме свою любовницу Ефросинью. Дом был большой, Шарлотта жила на левой его половине, царевич – на правой, и супруги виделись друг с другом не чаще одного раза в неделю. Причем визиты наносил только Алексей, а Софья-Шарлотта никогда не бывала на его половине.
Царевич, если и оставался на ночь у своей жены, то только тогда, когда был пьян, а это стало происходить с ним все чаще и чаще.
Под влиянием винных паров он бывал то злее обычного, то, наоборот, мягче и даже становился нежным и ласковым. Как бы то ни было, но в феврале 1715 года Софья-Шарлотта вновь забеременела и в ночь на 12 октября родила мальчика, которого назвали Петром.
Роды были необычайно тяжелыми. Присутствующие при них четыре лейб-медика Петра сразу же поняли, что принцесса едва ли выживет.
Врачи старались, как могли, но их усилия успехом не увенчались: через десять дней молодая мать умерла, судя по описанию врачей, от общего заражения крови. Алексей в момент ее смерти был рядом и несколько раз падал в обморок.
Есть свидетельства, что Софья-Шарлотта после родов отказывалась от пищи и питья, называла лечивших ее докторов палачами, говорила, что они только мучат ее, а она хочет лишь одного – спокойно умереть. 22 октября 1715 года она скончалась.
Австрийский посол Плейер сообщал в Вену, что Софья-Шарлотта умерла от непереносимых огорчений, которые она постоянно испытывала в России.
Ее похоронили 27 октября в еще не достроенном Петропавловском соборе.
Если же мы задумаемся над тем, из-за чего царевич терял сознание, то главной причиной такой его душевной слабости окажется не только кончина жены. Дело было и в том, что незадолго до смерти Софьи-Шарлотты царевич завел роман с крепостной служанкой своего первого учителя Никифора Вяземского – Ефросиньей Федоровной.
Это был единственный любовный сюжет в жизни Алексея Петровича, влюбившегося в Ефросинью до такой степени, что впоследствии он просил даже позволения жениться на ней, предварительно выкупив Ефросинью и ее брата Ивана на волю у их хозяина.
Софья-Шарлотта, знавшая о связи мужа с Ефросиньей, на смертном одре с горечью проговорила, что «найдутся злые люди, вероятно, и по смерти моей, которые распустят слух, что болезнь моя произошла более от мыслей и внутренней печали», явно имея в виду и виновников этой «внутренней печали».
Петру, конечно же, сообщили о словах его умирающей невестки, и царевич страшно боялся отцовского гнева. Но еще более стал Алексей опасаться ярости Петра после того, как на поминках Софьи-Шарлотты отец сам вручил ему грозное письмо, подобного которому доселе еще не бывало.
Переписка отца и сына и ее последствия
Петр писал Алексею, что радость побед над шведами «едва не равная снедает горесть, видя тебя, наследника, весьма на правление дел государственных непотребного». Петр упрекал сына в том, что он не любит военного дела, которое, по его словам, является одним из двух необходимых для государства дел, наряду с соблюдением порядка внутри страны.
Далее Петр писал: «Сие представя, обращуся паки на первое, о тебе рассуждая: ибо я есмь человек и смерти подлежу, то кому насажденное и взращенное оставлю? Тому ленивому рабу евангельскому, закопавшему талант свой в землю? Еще и то воспомяну какого злого нрава и упрямства ты исполнен! Ибо сколь много за сие тебя бранил, и даже бивал, к тому же сколько лет, почитай, не говорю с тобою, но ничто на тебя не действует, все даром, все на сторону, и ничего делать не хочешь, только бы дома жить и им веселиться. Однако ж всего лучше безумный радуется своей беде, не ведая, что может от того следовать не только ему самому, то есть тебе, но и всему государству? Истинно пишет святой Павел: „Как может править Церковью тот, кто не радеет и о собственном доме?“
Обо всем этом, с горестью размышляя и видя, что ничем не могу склонить тебя к добру, я посчитал за благо написать тебе сей последний тестамент и подождать еще немного, если нелицемерно обратишься. Если же этого не случится, то знай, что я тебя лишу наследства, яко уд гангренный. И не мни себе, что один ты у меня сын, и что все сие я только в острастку пишу: воистину исполню, ибо если за мое Отечество и людей моих не жалел и не жалею собственной жизни, то как смогу тебя, непотребного, пожалеть? Пусть лучше будет хороший чужой, нежели непотребный свой».
Отвечая отцу Алексей во всем соглашался с Петром и просил лишить его права наследования престола, ссылаясь на слабость здоровья и плохую память, утверждая, что «не потребен к толикого народа правлению, что требует человека не такого гнилого, как я».
К тому же за три дня перед тем, как Алексей написал это письмо, Екатерина Алексеевна родила очередного ребенка. Это был мальчик, и потому Алексей писал Петру, что так как у него теперь есть еще один сын, он может сделать наследником престола своего нового сына. В заключение Алексей клялся в том, что никогда не заявит своих прав на престол, а для себя просил лишь «до смерти пропитания».
Это письмо составил он по совету своих ближайших друзей – Александра Кикина и князя Василия Долгорукого. Причем последний сказал Алексею: «Давай писем хоть тысячу. Еще когда что будет. Старая пословица: „Улита едет коли то будет“. Это не запись с неустойкой, как мы прежде давали друг другу», намекая на то, что его отказ от престола пустая отговорка и что только реальный ход событий определяет, на чьей стороне окажется Фортуна.
Петр, по-видимому, узнал и об этом и 19 января 1716 года отправил Алексею еще одно письмо, в котором писал, что клятвам его не верит, потому что если бы он сам и хотел поступать честно, то сделать это не позволят ему «большие бороды, которые ради тунеядства своего, ныне не в авантаже обретаются, к которым ты и ныне склонен зело. К тому же, чем воздаешь за рождение отцу своему? Помогаешь ли в таких моих несносных печалях и трудах, достигши такого совершенного возраста? Ей, николи! Что всем известно есть, но паче ненавидишь дела мои, которые я делаю для своего народа, не жалея своего здоровья. И, конечно же, после меня ты разорителем этого будешь. Того ради, так остаться, как желаешь быть, ни рыбою, ни мясом, невозможно, но, или перемени свой нрав и нелицемерно удостой себя наследником, или будь монах»…
Когда Алексей прочитал это письмо Кикину, тот сказал: «Да ведь клобук-то не гвоздем к голове прибит». И после этого Алексей попросил отца отпустить его в монастырь.
А еще через неделю Петр вновь отправился на воды в Карлсбад, взяв с собою, между прочими, и Александра Кикина. Перед отъездом он навестил сына и еще раз попросил его, не торопясь, в течение полугода обдумать: быть ему наследником или монахом. А Кикин, прощаясь с Алексеем, шепнул ему, что, находясь в Европе, найдет царевичу какое-нибудь потайное место, где ему можно будет укрыться, бежав из России. 26 августа 1716 года Петр послал Алексею письмо все с тем же вопросом. И написал, что если Алексей хочет остаться наследником престола, то пусть едет к нему и сообщит, когда выезжает из Петербурга, а если – монахом, то скажет о сроке принятия пострига. Заканчивал же он письмо свое так: «О чем паки подтверждаем, чтобы сие конечно (т. е. окончательно. – В. Б.) учинено было, ибо я вижу, что только время проводишь в обыкновенном своем неплодии».
Алексей решил ехать к Петру и, взяв с собою Ефросинью Федоровну, ее брата Ивана и трех слуг, 26 сентября 1716 года оставил Петербург, намереваясь по дороге встретиться с Кикиным и узнать, где ему найдено убежище и пристанище. Встреча произошла в Митаве, Кикин сказал, что царевича ждут в Вене и цесарь примет его, как сына, обеспечив ежемесячной пенсией в три тысячи гульденов. После беседы с Кикиным Алексей решился. Проехав Данциг, он исчез.
Странствия царевича Алексея и охота на него
Через два месяца Петр распорядился начать поиски беглеца. Генерал Адам Вейде, стоявший с корпусом в Мекленбурге, русский резидент в Вене Абрам Веселовский, майоры Шарф и Девсон отправились на поиски Алексея. Более прочих повезло Веселовскому. Хорошо зная европейские обычаи, он, проезжая через Данциг на юг, расспрашивал – конечно же, за денежную мзду – о русском офицере с женою и четырьмя служителями (четвертым был брат Ефросиньи Иван) у воротных писарей, а потом и у хозяев гостиниц. И так, двигаясь от Данцига на юг, Веселовский обнаружил следы Алексея, ехавшего под именем подполковника Кохановского, в разных городах и гостиницах. Во Франкфурте-на-Одере царевич останавливался в «Черном орле», в Бреслау – в «Золотом гусе», в Праге – в «Золотой горе», и наконец в Вене 20 февраля 1717 года Веселовский нашел человека, референта Тайной конференции Дольберга, который сказал, что Алексей находится во владениях австрийского императора инкогнито и с помощью нескольких офицеров его можно похитить и увезти.
* * *
Алексей и его спутники приехали в Вену в ноябре 1716 года глубокой ночью. Не останавливаясь в гостинице, царевич явился в дом вице-канцлера Шенборна, который уже лег спать. Алексея долго не пускали к вице-канцлеру, предлагая подождать до утра, но царевич так боялся погони и ареста, что добился встречи с Шенборном среди ночи. Бегая по комнате, где происходило рандеву, Алексей кричал:
– Император должен спасти меня и обеспечить мои права на престол! Я слабый человек, но так воспитал меня Меншиков, с намерением расстраивая мое здоровье пьянством. Теперь, говорит мой отец, я не гожусь ни для войны, ни для правления, однако же у меня достаточно ума, чтобы царствовать. А меня хотят заточить в монастырь, куда я идти не хочу! Император должен спасти меня!
Алексей более всего рассчитывал на свое родство с императором, который был женат на родной сестре его покойной жены Софьи-Шарлотты и таким образом доводился ему шурином, а дети Алексея – Наталья и Петр – были родными племянниками императрицы.
Карл VI Габсбург немедленно собрал Тайную конференцию и решил сохранить пребывание Алексея в секрете. Затем он распорядился отвезти его сначала в местечко Вейербург под Веной, а оттуда в крепость Эренберг, расположенную в земле Тироль, в Альпах.
Объясняя причину своего столь бедственного положения, Алексей сводил все к проискам непомерно честолюбивых и властолюбивых главных своих врагов Екатерины и Меншикова, поставивших своей общей целью во что бы то ни стало погубить его, чтобы на троне после смерти Петра оказалась Екатерина или кто-то из ее детей, а Меншиков был бы при них верховным управителем.
Алексей и его спутники с большой радостью поехали в Эренберг. Для сохранения тайны их всех переодели простолюдинами и посадили не в экипажи, а на крестьянские телеги, настрого наказав соблюдать в пути абсолютное инкогнито и во все время пути ни слова не произносить по-русски.
Однако же, останавливаясь на ночлег, Алексей и вся его компания много пили, шумели и бросались в глаза необычным для австрийцев поведением. Наконец, на восьмой день пути, проехав шестьсот верст, они добрались до крепости Эренберг, одиноко возвышавшейся на вершине высокой и крутой горы. Крепость лежала вдали от больших дорог и была идеальным местом для сохранения царевича от любопытных глаз. Эренбергский комендант, генерал Рост, получил от австрийского императора инструкцию о строжайшей изоляции «некоторой особы». Причем эта «особа» не должна была иметь никаких сообщений, не могла уйти, и само место ее заключения должно было остаться для всех «непроницаемою тайной». Император предупредил Роста, что если его приказ хоть в чем-то будет нарушен, то он, Рост, будет лишен имени, чести и жизни.
Инструкция предписывала не менять ни одного солдата в гарнизоне, пока узники будут там, и категорически, под страхом смерти, запрещала и солдатам, и их женам выходить из крепости. Если же главный арестант захочет писать письма, то можно ему разрешить это при одном условии: отправлять их будет сам комендант через Вену.
Меж тем Веселовский, все через того же Дольберга, узнал о месте пребывания Алексея. Это случилось 23 марта 1717 года, на четвертый день после приезда в Вену денщика Петра капитана гвардии Александра Румянцева и трех офицеров, приданных ему в помощники.
Узнав от Веселовского о месте пребывания Алексея, Румянцев немедленно выехал в Тироль и там доподлинно выяснил, где скрывают русского царевича.
О происках Румянцева вскоре узнали австрийцы и, спасая Алексея, предложили ему тайно переехать в Неаполь. Что же касается слуг и Ивана Федорова, то им было велено остаться в Эренберге, потому что передвижение их целой группой скрыть было невозможно. К тому же император не хотел лишних нарицаний за то, что скрывает у себя «непотребных людей».
Переодев Ефросинью в одежду мальчика-пажа, Алексей вместе с нею в три часа ночи выехал из Эренберга, но все старания обмануть бдительных петровских соглядатаев оказались напрасными: Румянцев уже несколько дней находился под чужим именем в соседней с Эренбергом деревне Рейтин, где проживал и комендант крепости генерал Рост. Почти сразу же Румянцев узнал от одного из гостей Роста – офицера из Вены, что таинственного узника увезли из Эренберга в Неаполь. И хотя царевич и Ефросинья доехали до Неаполя благополучно, но главного – сохранения места их пребывания в тайне – они не добились, потому что по пятам за ними скакал Румянцев.
Алексея и Ефросинью поместили в замке Сент-Эльм, стоящем на вершине горы, господствующей над городом, где они и прожили пять месяцев до осени 1717 года.
Однако не прошло и двух месяцев, как им стало ясно, что и новое их убежище раскрыто: летом в Вене появились тайный советник граф Петр Андреевич Толстой и капитан Румянцев и передали императору Карлу VI письмо Петра с просьбой о выдаче ему сына.
Судьба Екатерины Ивановны и Карла-Леопольда Мекленбург-Шверинского
Мы расстались с Петром полтора года назад, в конце января 1716 года, когда он, простившись с Алексеем, отправился в самое длительное в его жизни путешествие, продолжавшееся более полутора лет. Поэтому все, что случилось с Алексеем, происходило в то время, когда Петр был за границей.
Проехав через Ригу, Петр остановился в Данциге, где собирались полномочные представители стран Северной Европы – союзники России по антишведской коалиции: Дании, Пруссии, Ганновера, Польши и Саксонии. Это были государства, входившие в так называемый Северный Союз. Прибывшие в Данциг дипломаты намерены были расширить Северный Союз за счет герцогства Мекленбург, чей сюзерен, герцог Карл-Леопольд, выразил желание присоединиться к антишведской коалиции. Вместе с царем на корабле, шедшем из Петербурга, были царица Екатерина Алексеевна и племянница Петра – старшая дочь его покойного брата Ивана царевна Екатерина Ивановна.
Царица почти всегда сопровождала своего мужа и в походах, и в поездках, что же касается его племянницы, то ее присутствие было вызвано особенным обстоятельством – Екатерина Ивановна была просватана за герцога Мекленбургского Карла-Леопольда и плыла в Данциг, чтобы стать там его женой.
Екатерина Ивановна появилась на страницах этой книги, когда шла речь о ее матери, вдовствующей царице Прасковье Федоровне, переехавшей весной 1708 года в Петербург. Двумя годами позже девятнадцатилетняя Екатерина Ивановна присутствовала на свадьбе своей семнадцатилетней сестры Анны с герцогом Курляндским Фридрихом-Вильгельмом.
Как уже говорилось, герцог по дороге в Курляндию скончался, и Анна Ивановна, после двух месяцев семейной жизни оставшись вдовой, проживала то в Митаве, то в Петербурге, то в подмосковном селе Измайловском.
А Екатерина жила с матерью – царицей Прасковьей Федоровной, то в Петербурге, то в Измайлове.
Была она маленького роста, очень пухленькая, с необыкновенно черными глазами и волосами цвета воронова крыла. Она отличалась чрезмерной болтливостью, громким и частым смехом и великим легкомыслием. К тому же с юных лет знали ее как особу ветреную, склонную к любовным утехам с кем попало: лишь бы был ее герой хорош собой и силен, как мужчина. Ей было все равно: князь ли перед ней, паж или слуга.
Камер-юнкер Фридрих-Вильгельм Бергольц, уроженец Голштинии, называл ее «женщиной чрезвычайно веселой, которая говорит все, что взбредет ей в голову».
Когда Екатерине Ивановне исполнилось 24 года, ее дядя – царь Петр – решил выдать ее замуж за Мекленбург-Шверинского герцога Карла-Леопольда.
История сватовства была не совсем обычной: в январе 1716 года к Петру попросился на прием мекленбургский советник Габихсталь и передал царю письмо своего господина, в котором тот просил руки вдовствующей герцогини Курляндской Анны Ивановны.
Однако Петр, руководствуясь собственными соображениями, предложил ему руку Екатерины Ивановны.
В тот же вечер царь объявил Екатерину Ивановну невестой Карла-Леопольда и сообщил Габихсталю, что в ближайшие дни поедет в Данциг.
Пока Петр был еще в Петербурге, Габихсталь и русский представитель, вице-канцлер Павел Шафиров, заключили свадебный контракт, по которому герцог Карл-Леопольд обязывался немедленно вступить в брак, с подобающим торжеством, в том месте, какое будет назначено по взаимному соглашению. Екатерина, как и все ее русские слуги, останется православной, а в ее резиденции будет сооружена православная церковь. Герцог обязывался ежегодно выплачивать жене 6000 ефимков денег, а если умрет раньше ее, то закрепит за нею замок Гистров с ежегодным доходом в 25 000 ефимков. (В России «ефимком» называли немецкую монету «иоахимсталер».)
Петр обещал дать невесте 200 000 рублей приданого. Кроме того, он обязался отбить у шведов Висмар с Барнемюнде, который отошел от Мекленбурга к Швеции еще 70 лет назад по Вейстфальскому миру 1648 года.
К свадебному контракту был приложен особый «сепаратный артикул», в котором Габихсталь брал обязательство до свадьбы герцога предъявить точное доказательство, что герцог разведен с первой женой.
Почему же этот «сепаратный артикул» здесь появился? А дело было в том, что Карл-Леопольд, вступая в брак с Екатериной Ивановной, еще не развелся со своей первой женой Софией-Гедвигой, принцессой Нассау-Фрисландской.
Герцог, хотя уже и не жил с нею, но еще и не развелся, потому что на развод у него просто не было времени: он беспрерывно воевал со своими подданными, которых считал заговорщиками и своими потенциальными убийцами. С таким сбродом, считал Карл-Леопольд, нельзя церемониться, и потому он без суда и следствия хватал кого угодно и, попирая собственные законы, бросал в тюрьмы и посылал на эшафот.
Ко всему прочему, был он очень жаден и скуп. Его любимой поговоркой была такая: «Старые долги не надо платить, а новым нужно дать время состариться».
В Петербурге знали об этом, и Прасковья Федоровна умоляла Петра выдать Екатерину Ивановну замуж в его присутствии, строго наказав герцогу, чтоб он берег жену.
27 января 1716 года Петр, царица Екатерина Алексеевна, царевна Екатерина Ивановна и немалая их свита вышли из Кронштадта на корабле в море и взяли курс на Данциг.
Корабль пришел в Данциг 1 марта. В это время герцога здесь не было, но царская фамилия была встречена со всеми почестями. До приезда герцога в Данциг царь, царица и Екатерина Ивановна остановились во дворце епископа Эрм-Ландского князя Потоцкого. Наконец на седьмой день, 8 марта, в Данциг из столицы Мекленбурга-Шверина приехал Карл-Леопольд. Петр обнял и поцеловал его, а герцог сразу же стал вести себя перед царем откровенно покорно и даже униженно. Однако по отношению к августейшим дамам – двум Екатеринам – был он меланхоличен и подчеркнуто холоден.
Следующие дни у каждого из героев этой истории проходили по-разному: Екатерине Ивановне показывали местные достопримечательности – замки, музеи, богатые дома и окрестности Данцига.
Петр проводил время по большей части среди солдат и офицеров своего корпуса, размещавшегося неподалеку от Данцига, и на кораблях большого русского флота, стоявшего у Балтийского побережья.
Сопровождавшие его дипломаты – вице-канцлер Шафиров, Головкин и Толстой – делили время между работой над русско-мекленбургским союзным договором и составлением брачного контракта.
Тем временем в Данциг приехал Август II Сильный, и в его честь в Данциге началась новая череда пиров и балов. А между Петром и Карлом-Леопольдом наступило охлаждение, да и Екатерина Ивановна увидела в нем бездушного эгоиста и самодура. И все же свадьба состоялась. 8 апреля герцог нанес визит Петру, где застал и польского короля. Петр вручил ему орден Андрея Первозванного, а затем все присутствующие вместе с Екатериной Ивановной и царицей отправились в наскоро построенную рядом небольшую православную часовню.
Там молодых обвенчал православный архиерей – духовник Екатерины Ивановны, приплывший с нею в Данциг, и оттуда все, кто был при венчании, пошли во дворец герцога, тоже оказавшийся совсем неподалеку.
Свадебное пиршество было довольно скромным и малолюдным.
Сохранилось свидетельство обер-маршала герцога Эйхгольца, что Карл-Леопольд среди ночи ушел из спальни, почувствовав, что не может выполнить своего супружеского долга.
Через несколько дней молодожены уехали в Шверин, чтобы подготовиться к приезду туда Петра.
Приехав вскоре в Шверин, Петр крайне удивил встречавших его придворных герцога и самого молодого супруга весьма дерзким поступком. Едва завидев свою миловидную молодую племянницу, Петр бросился к ней и, не обращая внимания ни на герцога Карла, ни на сопровождавших его особ, обхватил Екатерину Ивановну за талию и увлек в спальню. «Там, – пишет осведомленный двумя очевидцами этого происшествия барон Пельниц, – положив ее на диван, не запирая дверей, поступил с нею так, как будто ничто не препятствовало его страсти». Едва ли подобное могло случиться, если бы дядя и племянница не были до того в любовной кровосмесительной связи…
Петр уехал из Шверина в Гамбург, оттуда на северогерманский курорт Пирмонт, затем в Копенгаген и оттуда поздней осенью 1716 года вернулся в Шверин, где предстояли переговоры о возможном сепаратном мире со Швецией.
Здесь он узнал, что брак его племянницы несчастен: за минувшие полгода Екатерина Ивановна вполне в этом убедилась.
(К ее жизни в Шверине мы еще вернемся, а теперь нам предстоит узнать, что происходило с сыном Петра – царевичем Алексеем после того, как император Карл VI Габсбург предоставил русским беглецам замок Сент-Эльм.)
Облава на царевича
Уехав из Шверина, Петр продолжал путешествовать по Европе. За последние месяцы 1716 года и за девять месяцев 1717-го он побывал в Пруссии, Голландии, Франции и Бельгии, после чего в октябре 1717 года вернулся в Петербург.
Почти все время, пока находился он за границей, царь неотступно следил за тем, как идут поиски беглого сына, и делал все, чтобы заполучить Алексея в свои руки.
А события, связанные с возвращением Алексея Петровича, между тем развивались так: летом 1717 года в Вене появились полномочные эмиссары русского царя – тайный советник Петр Толстой и капитан гвардии Алексей Румянцев, сопровождавшие государя в его поездке по Европе.
Они приехали сюда из бельгийского курортного города Спа, где Петр вручил им 1 июля инструкцию относительно всего, что им предстояло сделать. Затем 10 июля Петр добавил к инструкции свое письмо к Карлу VI, в котором просил императора передать царевича в руки тайного советника Толстого, приведя убедительные юридические и моральные доводы.
29 июля Толстой вручил письмо императору, но Карл, прочитав послание, заявил, что письмо показалось ему недостаточно ясным и ему требуется какое-то время, чтобы правильно истолковать просьбу царя.
Не дожидаясь ответа, Толстой на следующий день заехал к герцогине Вольфенбюттельской – матери покойной жены Алексея Софьи-Шарлотты, вторая дочь которой, родная сестра Софьи-Шарлотты и, следовательно, свояченица Алексея, была женой императора Карла.
Герцогиня, выслушав Толстого, обещала сделать все, чтобы помирить Петра и Алексея, но Толстой сказал, что примирение возможно только в одном случае, – если Алексей согласится вернуться в Россию.
7 августа император позвал к себе трех своих тайных советников для решения этого вопроса, и они согласились, что все следует предоставить воле царевича. А 12 августа Толстому и Румянцеву разрешено было ехать в Неаполь для встречи с Алексеем. Из-за беспрерывных проливных дождей агенты Петра добрались до Неаполя лишь 24 сентября.
На следующий день их принял вице-король Неаполя Вирих-Филипп-Лоренц, граф Даун, князь Тиана, и предложил назавтра устроить свидание с Алексеем у него во дворце и при его, Дауна, присутствии, придав всему характер непринужденной дружеской встречи. Однако как только Алексей увидел Толстого и Румянцева, несмотря на присутствие гостеприимного хозяина дома, затрепетал от страха, а посланцы Петра с места в карьер стали решительно требовать от Алексея покориться отцовской воле и немедленно ехать в Россию.
После первой встречи последовали еще три, во время которых ласки и посулы сменялись угрозами. Наконец, во время пятой встречи, 3 октября, царевич согласился ехать домой, после того как Толстой сказал ему: Петр не остановится даже перед тем, чтобы применить силу оружия против Австрии, но все равно добудет непокорного изменника– сына.
Согласившись ехать, Алексей попросил только об одном – разрешить ему обвенчаться с Ефросиньей, которая была на четвертом месяце беременности. Петр разрешил, в частности и потому, что именно Ефросинья уговорила Алексея возвратиться в Россию.
Съездив в расположенный неподалеку от Неаполя город Бари и поклонившись там мощам святого чудотворца Николая Мирликийского, Алексей 14 октября отправился на родину. Ефросинья сначала ехала вместе с Алексеем, но потом отстала, чтобы продолжать путь не спеша и не подвергать себя опасности выкидыша или неблагополучных родов.
Алексей с дороги писал ей письма, пронизанные любовью и заботой. Он советовал Ефросинье обращаться к врачам и аптекарям, беспокоился, удобный ли у нее экипаж, тепло ли она одета, посылал ей немалые деньги, а потом послал и бабок-повитух, которые могли бы хорошо принять роды.
Проехав Италию, Австрию и немецкие земли, Алексей через Ригу, Новгород и Тверь 31 января 1718 года прибыл в Москву. А Ефросинья в середине апреля приехала в Петербург и недели через две должна была родить ребенка. Однако о ее родах и о том, кто именно родился – мальчик или девочка, – нет никаких сведений.
Зато хорошо известно, как ждал ее Алексей Петрович, как надеялся, что отец все-таки разрешит им обвенчаться и позволит жить вместе, частной жизнью, в одной из деревень под Москвой. Но ничему этому не суждено было статься. Как только Ефросинья вернулась в Петербург, ее тут же арестовали, посадили в крепость и приступили к допросам. Правда, ее ни разу не пытали, а Петр всячески выказывал ей свои симпатии. Это объясняли тем, что данные Ефросиньей показания окончательно погубили царевича. Ей, конечно же, запретили и думать о венчании, а свидания ее с Алексеем происходили только во время очных ставок в застенках Преображенского приказа.
А царевич, сразу же после приезда в Москву, 3 февраля был приведен в Столовую палату Теремного Кремлевского дворца и в присутствии генералитета, министров и высших церковных иерархов пал перед Петром на колени и отрекся от прав на престол, попросив у отца «жизни и милости». Петр обещал сохранить ему жизнь, если он откроет имена всех участников побега, на что Алексей немедленно согласился и тут же назвал всех сообщников.
В Преображенский приказ прежде всего были доставлены главные сообщники Алексея – Кикин, Вяземский, Афанасьев и Долгорукий, а вслед за ними на допросах и пытках оказалось более пятидесяти человек.
Следствие, начавшееся в феврале 1718 года, продолжалось до середины июня, когда
после очных ставок Алексея и Ефросиньи была установлена «сугубая вина» царевича и он сам попал в каземат Петропавловской крепости, а затем и был подвергнут пыткам.
Царевич Алексей и его сообщники
На допросах Алексей назвал имена более чем пятидесяти своих подлинных и мнимых сообщников, и розыск начался сразу в трех городах: Петербурге, Москве и Суздале, там, где находились названные царевичем люди.
В Суздаль был направлен капитан-поручик Преображенского полка Григорий Скорняков-Писарев с отрядом солдат. 10 февраля 1718 года в полдень он прибыл в Покровский монастырь, оставив солдат неподалеку от обители.
Скорняков сумел незамеченным пройти в келью к Евдокии и застал ее врасплох, отчего она смертельно испугалась. Евдокия была не в монашеском одеянии, а в телогрее и повойнике, что потом ставилось ей в вину, ибо было сугубым нарушением монашеского устава.
Оттолкнув бледную и потерявшую дар речи Евдокию, Скорняков коршуном бросился к сундукам и, разворошив лежащие там вещи, нашел два письма, свидетельствующие о переписке Евдокии с сыном. После этого в Благовещенской церкви найдена была записка, по которой Лопухину поминали «Благочестивейшей великой государыней нашей, царицей и Великой княгиней Евдокией Федоровной» и желали ей и царевичу Алексею «благоденственное пребывание и мирное житие, здравие же и спасение и во все благое поспешение ныне и впредь будущие многие и несчетные лета, во благополучном пребывании многая лета здравствовать».
14 февраля, арестовав Евдокию и многих ее товарок, а также нескольких замешанных в ее деле священников и монахов-мужчин, Скорняков повез их всех в Преображенский приказ в Москву. 16 февраля начали строгий розыск, прежде всего обвиняя Евдокию в том, что она сняла монашеское платье и жила в монастыре не по уставу – мирянкой. Отпираться было невозможно, ведь Скорняков самолично застал Евдокию в мирском платье. А дальше дела пошли еще хуже, – привезенная вместе с другими монахинями старица-казначея Маремьяна рассказала о том, что к Евдокии много раз приезжал Степан Глебов и бывал у нее в келье не только днем, но и оставался на всю ночь до утра.
Показания Маремьяны подтвердила и ближайшая подруга Евдокии монахиня Каптелина, добавив, что «к ней, царице-старице Елене, езживал по вечерам Степан Глебов и с нею целовалися и обнималися. Я тогда выхаживала вон; письма любовные от Глебова она принимала, и к нему два или три письма писать мне велела».
После этого Глебова арестовали, и проводивший арест и обыск гвардии капитан Лев Измайлов нашел у него конверт, на котором было написано: «Письма царицы Евдокии», а внутри оказалось девять писем.
Во многих из них Евдокия просила Глебова уйти с военной службы и добиться места воеводы в Суздале; во многих, проявляя ум и практическую сметку, советовала, как добиться успеха в том или ином деле, но общий тон писем таков, что позволяет утверждать об огромной любви и полном единомыслии Евдокии и Степана.
«…Где твой разум, тут и мой; где твое слово, тут и мое; где твое слово, тут и моя голова: вся всегда в воле твоей!»
А теперь, сохраняя и слог, и орфографию подлинников, приведу несколько отрывков из писем Евдокии Глебову, равных которым я не встречал в эпистолярном любовном наследии России. Может быть, я и не прав, ибо за тысячу лет томлений и вздохов сколько было сказано разных фраз и сколько и каких было написано слов, и все же письма Евдокии Глебову, безусловно, – выдающийся образец этого великого жанра.
Впрочем, судите сами.
«Чему-то петь быть, горесть моя, ныне? Кабы я была в радости, так бы меня и дате сыскали; а то ныне горесть моя! Забыл скоро меня! Не умилостивили тебя здесь ничем. Мало, знать, лице твое, и руки твоя, и
все члены твои, и суставы рук и ног твоих, мало слезами моими мы не умели угодное сотворить…»
«Не забудь мою любовь к тебе, а я уже только с печали дух во мне есть. Рада бы была я смерти, да негде ее взять. Пожалуйте, помолитеся, чтобы Бог мой век утратил. Ей! Рада тому!»
«Свет мой, батюшка мой, душа моя, радость моя! Знать уж злопроклятый час приходит, что мне с тобою расставаться! Лучше бы мне душа моя с телом разсталась! Ох, свет мой! Как мне на свете быть без тебя, как живой быть? Уже мое проклятое сердце да много послышало нечто тошно, давно мне все плакало. Аж мне с тобою, знать, будет роставаться. Ей, ей, сокрушаюся! И так, Бог весть, каков ты мне мил. Уж мне нет тебя милее, ей-Богу! Ох, любезный друг мой! За что ты мне таков мил? Уже мне ни жизнь моя на свете! За что ты на меня, душа моя, был гневен? Что ты ко мне не писал? Носи, сердце мое, мой перстень, меня любя; а я такой же себе сделала; то-то у тебя я его брала… Для чего, батька мой, не ходишь ко мне? Что тебе сделалось? Кто тебе на меня что намутил? Что ты не ходишь? Не дал мне на свою персону насмотреться! То ли твоя любовь ко мне? Что ты ко мне не ходишь? Уже, свет мой, не к кому тебе будет и придти, или тебе даром, друг мой, я. Знать, что тебе даром, а я же тебя до смерти не покину; никогда ты из разума не выйдешь. Ты, мой друг, меня не забудешь ли, а я тебя ни на час не забуду. Как мне будет с тобою разстаться? Ох, коли ты едешь, коли меня, батюшка мой, ты покинешь! Ох, друг мой! Ох, свет мой, любонка моя! Пожалуй, сударь мой, изволь ты ко мне приехать завтра к обедне переговорить кое-какое дело нужное. Ох, свет мой! любезный мой друг, лапушка моя; скажи, пожалуй, отпиши, не дай мне с печали умереть… Послала к тебе галздук (галстук, т. е. шейный платок. – В. Б), носи, душа моя! Ничего ты моего не носишь, что тебе ни дам я. Знать, я тебе не мила! То-то ты моего не носишь. То ли твоя любовь ко мне? Ох, свет мой; ох, душа моя; ох, сердце мое надселося по тебе! Как мне будет твою любовь забыть, будет так, не знаю я; как жить мне, без тебя быть, душа моя! Ей, тошно, свет мой!»
«Послала я, Степашенька, два мыла, что был бы бел ты…»
«Ах, друг мой! Что ты меня покинул? За что ты на меня прогневался? Что чем я тебе досадила? Кто мя, бедную, обиде? Кто мое сокровище украде? Кто свет от очию моею отьиме? Кому ты меня покидаешь? Кому ты меня вручаешь? Как надо мною не умилился? Что, друг мой, назад не поворотишься? Кто меня, бедную, с тобою разлучил?… Ох, свет мой, как мне быть без тебя? Как на свете жить? Как ты меня сокрушил!… Ради Господа Бога, не покинь ты меня, сюды добивайся. Эй! Сокрушаюся по тебе!»
«Радость моя! Есть мне про сына отрада малая. Что ты меня покидаешь? Кому меня вручаешь? Ох, друг мой! Ох, свет мой! Чем я тебя прогневала, чем я тебе досадила? Ох, лучше бы умерла, лучше бы ты меня своими руками схоронил! Что я тебе злобствовала, как ты меня покинул? Ей, сокрушу сама себя. Не покинь же ты меня, ради Христа, ради Бога! Прости, прости, душа моя, прости, друг мой! Целую я тебя во все члены твои. Добейся, ты, сердце мое, опять сюды, не дай мне умереть… Пришли, сердце мое, Стешенька, друг мой, пришли мне свой камзол, кой ты любишь; для чего ты меня покинул? Пришли мне свой кусочек, закуся… Не забудь ты меня, не люби иную. Чем я тебя так прогневала, что меня оставил такую сирую, бедную, несчастную?»
Эти письма были приобщены к делу в качестве тяжкой улики против Евдокии и Глебова. Мне кажется, не имеет ни малейшего смысла их комментировать, ибо они лучше кого бы то ни было, – будь то средневековые судьи или современные ученые-историки, – говорят сами за себя устами и сердцем несчастной царицы-инокини.
…20 февраля в селе Преображенском, в застенке, была учинена очная ставка Глебову и Евдокии. Сохранились протоколы допросов и описание следственной «процедуры».
Глебова спрашивали: почему и с каким намерением Евдокия скинула монашеское платье? Видел ли он письма к Евдокии от царевича Алексея и не передавал ли письма от сына к матери и от матери к сыну?
Говорил ли о побеге царевича с Евдокией? А также спрашивали и о мелочах: через кого помогал Евдокии? Чем помогал? Зачем письма свои писал «азбукой цифирной» – то есть шифром?
И затем следует меланхолическое замечание:
«По сим допросным пунктам Степаном Глебовым 22 февраля розыскивано: дано ему 25 ударов (кнутом). С розыску ни в чем не винилося кроме блудного дела…» (А от «блудного дела» при наличии писем и показаний десятков свидетелей отпереться было невозможно.)
Тогда приступили к «розыску». Глебова раздели донага и поставили босыми ногами на острые, но не оструганные по бокам деревянные шипы. Толстая доска с шипами была пододвинута к столбу, и Глебова, завернув руки за спину, приковали к нему. Глебов стоял на своем.
Тогда ему на плечи положили тяжелое бревно, и под его тяжестью шипы пронзили насквозь ступни Глебова.
Глебов ни в чем, кроме блуда, не сознавался.
Палачи стали бить его кнутом, обдирая до костей. Считалось, что после этого любой человек скажет все, что от него ждут. Недаром у заплечных дел мастеров в ходу была поговорка, в верности которой они не сомневались: «Кнут не Бог, но правду сыщет». Кожа летела клочьями, кровь брызгала во все стороны, но Глебов стоял на своем.
Тогда к обнажившемуся окровавленному телу стали подносить угли, а потом и раскаленные клещи.
Глебов, теряя сознание, сползал со столба, но вину оставлял за собой.
Сегодня это может показаться невероятным, но майора Преображенского полка, богатыря и великана Глебова, пытали трое суток, лишь на некоторое время давая прийти в себя.
И все это видела Евдокия.
В первый день допроса после трехкратной пытки в протоколе против первого вопроса появилась запись: «Запирается».
И такая запись стоит против всех заданных Глебову вопросов. А было их шестнадцать. И каждый из этих вопросов касался участия Глебова, Евдокии и ее родственников в заговоре, против Петра с целью возвести на престол царевича Алексея. Следователи во что бы то ни стало хотели представить Евдокию государственной преступницей, злоумышлявшей против государя и государства.
Но Глебов отрицал все и не дал палачам ни малейшей возможности обвинить Евдокию в чем-либо, кроме очевидного греха – блудодеяния.
После трехсуточного розыска Глебова отнесли в подвал и положили на шипы, которыми были усеяны пол и стены камеры. А потом снова повели на правеж, но так ничего и не добились.
И тогда в дело вмешались врачи. Они вступились за Глебова, предупреждая, что он почти при смерти и может скончаться в течение ближайших суток, так и не дотянув до казни.
Вняв их предупреждению, 14 марта Глебову был вынесен приговор, в котором не говорилось, как он будет казнен, но указывалось: «Учинить жестокую смертную казнь».
О казни Глебова и его сообщников – Досифея, Федора Пустынника и других, знавших о его любовной связи с Евдокией, – сохранилось свидетельство австрийского посланника Плейера императору Карлу VI.
Плейер писал, что Глебова привезли на Красную площадь в три часа дня 15 марта. Стоял тридцатиградусный мороз, и, чтобы наблюдать длительную и мучительную казнь до конца, Петр приехал в теплой карете и остановился напротив места казни. Рядом стояла телега, на которой сидела Евдокия, а возле нее находились два солдата. Солдаты должны были держать ее за голову и не давать ей закрывать глаза.
Глебова раздели донага и посадили на кол.
Здесь автор приносит извинения за то, что должен будет пояснять вещи, относящиеся к инфернальной, то есть адской, сфере.
Кол мог быть любых размеров. Мог быть гладко обструганным, а мог быть и шершавым, с занозами, мог иметь очень острый и не очень острый конец. Мог быть смазанным жиром и, наконец, мог быть либо достаточно тонким, или же толстым.
И если кол был острым, гладким и тонким, да к тому же смазанным жиром, то палач, должным образом повернув жертву, мог сделать так, что кол за несколько мгновений пронзал казнимого и входил ему в сердце. А могло быть и все наоборот – казнь могла затянуться на продолжительное время. И все же то, что здесь было сказано, относилось к колу «турецкому». А был еще и кол «персидский». Последний отличался тем, что рядом с колом с двух сторон аккуратными столбиками были сложены тонкие дощечки, достигавшие почти до конца кола.
Приговоренного сначала подводили к столбу, заводили руки назад и сковывали их наручниками. Потом приподнимали и сажали на кол, но кол входил неглубоко, и тогда через несколько минут палачи убирали две верхних дощечки, после чего кол входил глубже. Так, убирая дощечки одну за другой, палачи опускали жертву все ниже и ниже. Опытные искусники-виртуозы следили при этом, чтобы острие проходило в теле, минуя жизненно важные центры, и не давали казнимому умереть как можно дольше.
По отношению к Глебову Преображенские каты сделали все, что только было можно. Его посадили на неструганый персидский кол, а чтобы он не замерз, надели на него шубу, шапку и сапоги. Причем одежду дал им Петр, наблюдавший за казнью Глебова до самого конца. А умер Глебов в шестом часу утра 16 марта, оставаясь живым пятнадцать часов.
Но и после смерти Глебова Петр не уехал. Он велел колесовать и четвертовать всех сообщников его и Евдокии, после чего их, еще трепещущие, тела подняли на специально сооруженный перед тем помост вышиной в три метра и посадили в кружок, поместив в середине скрюченный черный труп Глебова.
Плейер писал, что эта жуткая картина напоминала собеседников, сосредоточенно внимавших сидящему в центре Глебову.
Однако и этого Петру оказалось мало. После смерти Глебова он велел предать своего несчастного соперника анафеме и поминать его рядом с расколоучителями, еретиками и бунтовщиками наивысшей пробы – протопопом Аввакумом, Тимошкой Анкудиновым и Стенькой Разиным.
А Евдокию Федоровну собор священнослужителей приговорил к наказанию кнутом. Ее били публично в присутствии всех участников собора и затем отослали в северный Успенский монастырь на Ладоге, а потом в Шлиссельбургскую тюрьму. И все же, пережив и Глебова, и Петра, и смертельно ненавидевших ее Екатерину и Меншикова, которых многие считали главными виновниками ее несчастья, опальная царица умерла на воле, в почете и достатке шестидесяти двух лет от роду
* * *
А теперь снова вернемся к Алексею с тем, чтобы и проститься с ним.
14 июня царевича привезли из Москвы в Петропавловскую крепость и посадили в Трубецкой бастион. 19 июня его начали пытать и за неделю пытали пять раз, а потом убили. Больной, слабый духом и смертельно напуганный Алексей признавался и в том, чего не было, стараясь, чтобы пытки прекратились как можно скорее. Он даже сознался, что хотел добыть престол вооруженным путем, используя армию императора.
24 июня Верховный суд, состоявший из 127 человек, единогласно постановил предать царевича смерти. А то, каким образом следует его умертвить, суд отдал на усмотрение отца.
Уже после вынесения смертного приговора Петр приехал в Трубецкой бастион, чтобы еще раз пытать сына.
По одним данным, при последней пытке были Петр, Меншиков и другие сановники. По другим – только Петр и его особо доверенный человек, генерал-аншеф Адам Адамович Вейде.
Немец Вейде начал карьеру в России в первом потешном полку – Преображенском. Он сразу же был замечен Петром и вошел к царю в такое доверие, как никто другой. Вейде сопровождал Петра почти во всех походах и путешествиях. Он был и в обоих походах под Азов, и под Нарвой, где попал в плен к шведам.
В 1710 году его обменяли на шведского генерала Штремберга, а в 1711 году он был уже в Прутском походе, командуя дивизией. В 1714 году Вейде командовал галерой в сражении при Гангуте. На этой галере был и сам Петр, наградивший Вейде орденом Андрея Первозванного.
В 1718 году Вейде стал Президентом Военной коллегии и принял деятельное участие в процессе царевича Алексея, присутствуя при всех его допросах и пытках. Иной раз Вейде был единственным, кроме палачей, кто находился в застенке во время пытки.
Существовала версия, что Вейде присоветовал Петру отравить царевича. Петр согласился, и Вейде заказал аптекарю очень сильный яд. Но тот отказался вручать отраву генералу, а согласился передать ее только самому царю. Вейде привел аптекаря к Петру, и они вместе отнесли яд Алексею, но царевич наотрез отказался принимать снадобье. Тогда они повалили Алексея на пол, оторвали половицу, чтобы кровь могла стекать в подпол, и топором обезглавили его, упавшего в обморок, истощенного мучениями и страхом.
И все же трагедия на этом не окончилась: на авансцене истории появился еще один персонаж – Анна Ивановна Крамер, которой Петр доверял не меньше, чем генералу Вейде.
Анна Ивановна Крамер – дочь купца, члена Нарвского магистрата, – в 1704 году была увезена в Казань, где стала любовницей местного воеводы. Затем воевода перевез ее в Петербург и там ввел в дом генерала Балка – мужа Матрены Ивановны Монс. Однако и здесь Анна Крамер задержалась ненадолго, перейдя в дом фрейлины Гамильтон. Здесь-то и увидел ее Петр, очаровался ею и, чтобы часто видеть Анну и беседовать с нею, определил ее камер-юнгферой Екатерины.
Анна была в особом «кредите» у Петра. Он доверял ей то, чего не мог доверить никому другому. Именно Анна Крамер приехала вместе с Петром и Вейде в Петропавловскую крепость, где одела тело царевича в приличествующий случаю камзол, штаны и башмаки и затем ловко пришила к туловищу его отрубленную голову, искусно замаскировав страшную линию большим галстуком. Но это – лишь одна из версий.
Есть свидетельства, что 26 июня на последнюю трехчасовую пытку приехали Петр, Меншиков и другие сановники, а через семь часов после этого, и именно от пытки, Алексей умер. Есть свидетельства, что по приказу Петра Алексея удушили подушками четверо офицеров, а руководил всем этим уже известный нам Александр Иванович Румянцев.
Один из самых серьезных исследователей дела Алексея Петровича, академик Н. Г. Устрялов, посвятивший изучению жизни царевича четырнадцать лет непрерывного труда, приводит десять версий его смерти. Наиболее достоверной ему представляется смерть от апоплексического удара (инсульта), наступившего в результате пыток.
Но нельзя полностью игнорировать и другие объяснения произошедшего.
В любом случае, 13 декабря 1718 года Румянцев был пожалован сразу двумя чинами – майора гвардии и генерал-адъютанта, а кроме того, были ему даны две деревни, ранее принадлежавшие сторонникам убитого царевича.
Царского благоволения за особые заслуги была удостоена и Анна Крамер. Она стала фрейлиной Екатерины, а затем и первой дамой при принцессе Наталье Петровне – младшей дочери Петра и Екатерины, скончавшейся, впрочем, сразу же после смерти своего отца. Забегая чуть вперед, скажем, что как только Петра похоронили, Анна Крамер уехала в свою родную Нарву, где и прожила до 1770 года, умерев на семьдесят шестом году.
Желая показать, что смерть Алексея для него ровно ничего не значит, Петр на следующий же день после казни сына пышно отпраздновал девятую годовщину победы под Полтавой. В официальных бумагах все чаще стало появляться имя единственного сына Екатерины, трехлетнего Великого князя Петра Петровича. Родители видели в нем законного наследника престола и радовались тому, что мальчик растет крепким, веселым и разумным. Но судьба решила иначе: после недолгой болезни 25 апреля 1719 года ребенок умер. А на следующий день, на траурной службе по умершему, неосторожно рассмеялся родственник Евдокии Лопухиной Степан Лопухин. Причину произошедшего объясняли тем, что не угасла еще свеча Лопухиных, ибо их семья – царевич Петр Алексеевич, бывший всего на полмесяца старше своего умершего дяди Петра Петровича, был жив и в глазах очень многих имел все права и основания на наследование российского престола.
Разумеется, последовал розыск, и были пытки, но были и выводы – Петр I решил сделать все, чтобы трон не достался ни Лопухиным, ни их родственникам, ни их сторонникам и единомышленникам.
Однако только через три года царь сумел воплотить задуманное в жизнь, издав официальный документ – «Устав о наследии престола», в котором право на трон переходило к любому угодному Петру человеку. Но прежде чем этот «Устав» появился, произошло несколько событий, важнейшими из которых было победоносное окончание войны со Швецией, принятие Петром титула Российского императора, еще одна война – с Персией и наконец коронация Екатерины, состоявшаяся 7 мая 1724 года.
Однако за два года до этого весьма важного события произошло еще одно – в Петербург возвратилась племянница Петра, Мекленбургская герцогиня Екатерина Ивановна.
Жизнь Екатерины Ивановны в Мекленбурге и возвращение в Россию
Мы расстались с Екатериной Ивановной в конце 1716 года, когда ее августейший дядя уехал из Шверина в путешествие по Европе.
А герцогская чета осталась в Шверине, где Карл-Леопольд продолжал бесконечную распрю со своими дворянами. Герцог считал их мятежниками и сразу же по отъезде Петра стал слать ему письма, требуя от царя защиты от всех и каждого. Разумеется, Петр не хотел лезть в дела, которых он не знал, и отвечал герцогу, что может вступиться за него, если дело герцога будет справедливым.
Этот отказ испортил отношения герцога с царем и косвенно мог отразиться и на его отношениях с супругой, которые нисколько не улучшились даже после того, как Екатерина Ивановна 7 декабря 1718 года родила дочь, названную Анной Карловной. (В России, куда мать и дочь приехали в 1722 году, девочку стали звать Анной Леопольдовной, однако об этом – в свое время и на своем месте.)
В апреле 1719 года, когда девочке было всего пять месяцев, Екатерина Ивановна поехала с нею к своей сестре Анне – герцогине Курляндской. Здесь Екатерина Ивановна рассказала сестре о своей горькой жизни и желании вернуться в Россию.
Анна написала об этом их матери – царице Прасковье Федоровне, – и та слезно просила царицу Екатерину Алексеевну заступиться за ее дочь перед государем Петром Алексеевичем.
Петр сообщал племяннице, что во многих письмах он писал Карлу-Леопольду о том, что ему надлежит «не все так делать, как он хочет, но смотря по времени и случаю», и не раз говорил это герцогу во время встреч с ним.
Однако Карл-Леопольд продолжал вести себя по-прежнему с женой и своими подданными: жену он держал в черном теле, и та просила денег и у матери, и у дяди, а подданных герцог бросал в тюрьмы и отнимал по своему произволу их движимое и недвижимое имущество.
Дошло до того, что император вынужден был послать свою «экзекуционную» армию, чтобы защитить мекленбургских дворян от их коронованного деспота. Герцог даже подумывал, бросив Мекленбург, бежать с женой и дочерью в Ригу.
В августе 1722 года в подмосковное село Измайлово приехала к своей матери, Прасковье Федоровне, герцогиня Екатерина Ивановна с четырехлетней дочерью Анной.
В это время Петр и Екатерина двигались к Астрахани, цесаревны Анна и Елизавета Петровны были в Петербурге, Анна Ивановна – в Митаве, а в Москве находился со своей свитой лишь жених четырнадцатилетней цесаревны Анны Петровны – Карл-Фридрих, герцог Шлезвиг-Гольштейн-Готторпский. Герцогу было 22 года, он был легкомыслен, не очень трудолюбив и весьма склонен к веселому застолью в компании собутыльников, которую называл «Тост-Коллегия».
Екатерина Ивановна сразу же окунулась в старую московскую жизнь, окружив себя карликами и юродивыми, песенниками да плясуньями. Она с самого начала стала живо интересоваться всем происходящим при дворе и вскоре узнала, что намерения царя Петра весьма обстоятельны и свадьба Анны Петровны и Карла-Фридриха непременно должна состояться, но пока неизвестно когда.
Екатерина Ивановна тут же сблизилась с женихом-герцогом и 24 ноября 1722 года пригласила Карла-Фридриха на обед в честь ее именин, а 7 декабря – на день рождения своей четырехлетней дочери Анны. Вслед за тем герцог и Екатерина Ивановна ездили из одного аристократического дома в другой едва ли не ежедневно.
Неизвестно, были ли отношения герцога и Екатерины Ивановны платоническими, однако добрыми они оставались все время.
Теперь же необходимо сказать, что после завершения войны со Швецией, закончившейся подписанием выгоднейшего для России Ништадтского мира, по которому к ней перешла вся Прибалтика и Карелия, Петр издал 5 февраля 1722 года «Устав о наследии престола», по которому наследником мог быть объявлен любой человек, пригодный, по мысли Петра, к этой должности.
Однако время шло, а кандидата на трон император не называл.
И только через двадцать месяцев – 15 ноября 1723 года – появился Манифест, в котором объявлялось о предстоящей коронации императорской короной Екатерины. И хотя в Манифесте не говорилось, что именно Екатерина становится наследницей престола, все же было ясно, что Петр тем самым делает важный шаг на пути к реализации «Устава о наследии престола» в пользу своей жены.
22 марта 1724 года Петр и Екатерина прибыли в Москву и до начала мая проводили подготовку к этим торжествам. 5 и 6 мая трубачи и литаврщики объявляли на всех улицах и площадях Первопрестольной о том, что 7 мая в Успенском соборе Кремля состоится церемония коронации.
На площади перед императорскими палатами были построены два помоста шириною в 15 футов, крытые красным сукном. Один помост шел от Красного крыльца Грановитой палаты до дверей Успенского собора, другой – от Успенского собора до собора Михаила Архангела.
Сам Успенский собор был изукрашен золотом, серебром, богатыми коврами и семью гербами – Всероссийским, а также шестью гербами царств и княжеств – Киевского, Владимирского, Новгородского, Казанского, Астраханского и Сибирского.
Гербы эти находились над расшитым золотом балдахином, где стояли два императорских трона – правый для Петра и левый для Екатерины. Рядом с троном императора стоял стол, покрытый парчой, на котором лежали императорские регалии.
Напротив трона были поставлены скамьи для цесаревен, герцогинь Мекленбургской и Курляндской и «Его Королевского Высочества» герцога Голштинского.
По правую сторону алтаря стояли генералы, статские вельможи и придворные дамы, а по левую – знатные иностранцы во главе с послами и посланниками, аккредитованными при русском дворе.
Все приглашенные были одеты в парчу, шелк и бархат и усыпаны множеством бриллиантов.
Церемония коронации началась в 9 часов утра благовестом большого кремлевского колокола. Затем началось парадное шествие. Герцог Голштинский шел в процессии за Петром, поддерживая Екатерину под руку.
Как только началось шествие, тут же ударили все кремлевские колокола, гвардейские полки взяли «на караул», грянули музыка и барабанный бой. Петр и Екатерина
взошли на возвышение, и Екатерина села на трон, а император надел ей на голову корону и вручил скипетр. После этого Новгородский митрополит Феодосии помазал лоб императрицы миром и поднес ей державу – золотой шар с крестом.
После этого грянул первый пушечный залп, а когда в Успенском соборе, прослушав и отслужив торжественную литургию, наступила тишина, грянул второй пушечный залп, а потом с кратким поздравлением вступил Псковский архиепископ Феодосии, перечисливший многие добродетели Екатерины и отметивший ее подвиги, когда она защищала корону и Отечество.
Затем начался пир в Грановитой палате, закончившийся вручением всем гостям памятных золотых медалей в честь прошедшей коронации. Медали эти дарил Меншиков.
В то время когда в Грановитой палате шло пиршество, во дворе Кремля для простолюдинов был поставлен жареный бык, начиненный гусями, курами, утками и индейками, а рядом били два фонтана белого и красного вина.
На следующий день, 8 мая, первым поздравил с коронацией герцог Голштинский, а после него – все иностранные резиденты. Коронационные торжества закончились в ночь с 10 на 11 мая грандиозным праздником, прошедшим на Царицыном лугу, где были все гости, собравшиеся в Кремле 7 мая, и множество кавалеров, дам, военных, дипломатов, богатых купцов, искусных мастеров и ученых. Праздник закончился грандиозным фейерверком, и на том коронационные торжества прекратились.
По мнению иностранных дипломатов, совпадавшему, впрочем, с мнением иерархов русской православной церкви, главное в церемонии коронации Екатерины было именно миропомазание, поскольку персона, прошедшая через такой обряд, считается помазанником или помазанницей Божьей.
Этот обряд совершался, как правило, только при венчании на царство монарха, самодержца, а таковым 7 мая, в день коронации, был сам Петр.
Именно поэтому совершенный над Екатериной обряд помазания все присутствующие в Успенском соборе сочли в высшей степени значительным и знаменательным.
Французский посол Кампредон особо отметил: «Над царицей совершен был, против обыкновения, обряд помазания так, что этим она признана правительницей и государыней после смерти императора, своего супруга». Особо отмечалось также и то, что императорскую корону на голову Екатерины возложил сам Петр.
Помолвка Анны Петровна и Карла Фридриха
Прошло полгода, и снова царская семья оказалась в центре всеобщего внимания: в начале зимы 1724 года сановный и родовитый Санкт-Петербург стал жить другой новостью – 22 ноября был подписан брачный контракт между Голштинским герцогом Карлом и великой княжной Анной Петровной, а еще через несколько дней состоялось и их обручение.
Невесте было шестнадцать лет, жених был восемью годами старше ее. Анна Петровна была второй дочерью Петра и Екатерины и сразу же после венчания царя и царицы вместе с младшей сестрой своей Елизаветой стала иметь собственный маленький двор, соответствующий придворный штат и особую прислугу, какая полагалась великим княжнам.
Восьми лет Анна уже сама писала письма матери и отцу, с этого же возраста у девочек появилась воспитательница – итальянская графиня Марианна Маньяни, учитель немецкого языка Глюк, французского – виконтесса Латур-Лануа, в результате занятий с которыми и Анна, и сестра ее хорошо изучили три языка – французский, немецкий и итальянский. А так как вокруг девочек оказалось немало слуг – уроженцев Ингерманландии, знавших шведский язык, то они научились и шведскому языку. Кроме того, девочек учили танцам, и в них они преуспели еще более, чем в языках.
Когда Анне пошел четырнадцатый год, 17 марта 1721 года, в Ригу приехал племянник тогда уже покойного шведского короля Карла XII, герцог Голштинский-Готторпский Карл-Фридрих.
В это время Петр и Екатерина были в Риге. Герцог сразу понравился царю, и после долгих переговоров, продолжавшихся с перерывами более двух лет, было решено готовиться к заключению брака Карла-Фридриха с Анной Петровной, потому что царь имел в отношении герцога далеко идущие планы – добиться для своего будущего зятя престола Швеции.
27 июня 1721 года герцог приехал в Петербург. Он надеялся с помощью Петра как минимум возвратить под свою власть отобранный у него датчанами Шлезвиг. Однако Ништадтский мир, подписанный 30 августа того же года, одной из своих статей предусматривал невмешательство России во внутренние дела Швеции, а проблема наследования трона признавалась внутренним делом того или иного государства.
А внутреннее положение в Швеции во время подписания Ништадтского мира было достаточно сложным. 11 декабря 1718 года умер Карл XII, и престол ненадолго перешел к последней представительнице династии Пфальц-Цвайбрюккен, к которой принадлежал и Карл XII, королеве Ульрике-Элеоноре.
Она пробыла на троне чуть больше года. После смерти Карла XII в Швеции усилилась власть аристократии и высшей бюрократии, широко распространились анархия, коррупция, вместе с упадком внешним наступил и упадок внутренний. Престол в 1720 году перешел к избранному шведской аристократической олигархией Фридриху I Гессенскому. В этих обстоятельствах герцогу Голштинскому лучше всего было оставаться в России и добиваться руки Великой княжны Анны Петровны. Анна в свои 13 лет выглядела гораздо старше: все современники отмечают, что она производила впечатление вполне сформировавшейся женщины и отличалась необычайной красотой. В отца была она высокого роста, а нежная белая кожа, очаровательная улыбка и классические пропорции фигуры делали Анну совершенно неотразимой девушкой.
Карл-Фридрих, ставя перед собою прежде всего цель политическую, в то же время страстно влюбился в Анну и изо всех сил стал добиваться ее руки.
Его старания увенчались успехом лишь через три года: 22 ноября 1724 года был наконец подписан брачный контракт.
Петр не выдал бы Анну замуж, если бы она была равнодушна к герцогу, потому что царь души не чаял в своей дочери. Он буквально боготворил ее и никогда бы не пошел против ее воли.
По брачному контракту и Анна, и герцог отказывались от прав и притязаний на российский престол не только от своего имени, но и от имени своих потомков, однако обязывались беспрекословно и немедленно выполнить волю Петра, если он призовет на российский трон кого-либо из рожденных ими детей.
Подписание брачного контракта сопровождалось, как обычно, балами, фейерверками и обедами в домах знати. Эти торжества омрачались тем, что Петр редко бывал на обедах до конца, – он стал недужить уже летом и часто ложился в постель, чего раньше с ним почти никогда не случалось.
Болезнь и смерть императора Петра І
21 ноября Петр первым в столице переехал по льду через Неву, вставшую лишь накануне. Эта его выходка показалась настолько опасной, что начальник береговой стражи Ганс Юрген хотел даже арестовать нарушителя, но император проскакал мимо него на большой скорости и не обратил внимания на его угрозы.
20 декабря он участвовал в грандиозной попойке, устроенной по случаю избрания нового «князь-папы Всепьянейшего собора», а январь 1725 года начал особенно бурно, отгуляв на свадьбе своего денщика Василия Поспелова и на двух ассамблеях – у графа Толстого и вице-адмирала Корнелия Крюйса.
Особенно же поразил всех больной император, когда 6 января, в мороз, прошел во главе Преображенского полка маршем по берегу Невы, затем спустился на лед и стоял в течение всей церковной службы, пока святили Иордань, прорубь, вырубленную во льду Все это привело к тому, что Петр сильно простудился, слег в постель и с 17 января стал испытывать страшные мучения. Эта болезнь оказалась последней в его жизни.
О диагнозе смертельной болезни Петра существует несколько версий. Французский посол в России Кампредон сообщал в Париж: царь «призвал к себе одного итальянского доктора, приятеля моего (доктора Азарити – В. Б.), с которым пожелал посоветоваться наедине». Далее Кампредон писал, что, со слов Азарити, «задержание мочи является следствием застарелой венерической болезни, от которой в мочевом канале образовалось несколько небольших язв».
Лечившие Петра врачи-немцы братья Блюментросты были против хирургического вмешательства, а когда хирург-англичанин Горн операцию все же провел, то было уже поздно и у Петра вскоре начался «антонов огонь», как в то время на Руси называли гангрену. Последовали судороги, сменявшиеся бредом и глубокими обмороками. Последние десять суток если больной и приходил в сознание, то страшно кричал, ибо мучения его были ужасными.
В краткие минуты облегчения Петр готовился к смерти и за последнюю неделю трижды причащался. Он велел выпустить из тюрьмы всех должников и покрыть их долги из своих сумм, приказал выпустить всех заключенных, кроме убийц и государственных преступников, и просил служить молебны о нем во всех церквах, не исключая и иноверческих храмов.
Екатерина сидела у его постели, не покидая умирающего ни на минуту. Петр умер 28 января 1725 года в начале шестого утра. Екатерина сама закрыта ему рот и глаза и, сделав это, вышла из маленькой комнатки-кабинета, или «конторки», как ее называли, в соседний зал, где ее ждали, чтобы провозгласить преемницей Петра.
Относительно диагноза последней болезни Петра мнения расходятся. Автор фундаментального труда «История медицины в России» В. Рихтер считал, что Петр умер из-за воспаления, вызванного задержанием мочи, не говоря о том, что было причиной воспаления. Другой видный историк медицины, Н. Куприянов, полагал, что смерть Петра наступила от воспаления мочевого пузыря, перешедшего в гангрену, и от задержания урины. И, наконец, небезынтересно и заключение, сделанное в 1970 году группой московских венерологов, изучавших все сохранившиеся документальные свидетельства о болезни и смерти Петра. Профессора Н. С. Смелов, А. А. Студницын, доктор медицинских наук Т. В. Васильева и кандидат медицинских наук О. И. Никонова пришли к заключению, что Петр «по-видимому, страдал злокачественным заболеванием предстательной железы или мочевого пузыря или мочекаменной болезнью», что и оказалось причиной его смерти.
* * *
Петр I умер, не оставив завещания. Наследниками престола могли считаться: во-первых, сын казненного Алексея – Петр, во-вторых, дочери Петра I и Екатерины – Анна и Елизавета, в-третьих, – племянницы Петра I, дочери его старшего брата Ивана Алексеевича – Анна, Екатерина и Прасковья. Анна занимала в это время герцогский трон в Курляндии, Екатерина была герцогиней в Мекленбурге, а Прасковья жила в Москве, не будучи замужем. В-четвертых, – венчанная императорской короной Екатерина Алексеевна.
Через три часа после смерти Петра в соседней зале собрались сенаторы, члены Святейшего Синода и генералитет – генералы и адмиралы всех рангов и статские чины от действительных статских советников до канцлера. Они собрались по собственному почину, как только узнали о смерти императора. Однако когда все пришли в соседний с конторкой зал, там уже были офицеры обоих гвардейских полков, стоявшие тесной группой в одном из углов зала.
Споры о праве на опустевший трон развернулись мгновенно. Каждый из сановников так или иначе выражал свои симпатии и антипатии, но офицеры хранили молчание. Когда же П. А. Толстой первым высказался в пользу императрицы, гвардейцы дружно его поддержали.
Противники Екатерины зароптали, но присутствовавший в зале подполковник Преображенского полка Иван Бутурлин подошел к окну, толкнул раму и махнул рукой. Через распахнутое окно в зал донесся барабанный бой…
Этот аргумент, оказавшийся самым веским, перечеркнул все соображения сановников о преимуществах родства и права любого из возможных претендентов на трон. Немаловажным было и то, что вторым подполковником преображенцев был Светлейший князь и генералиссимус всех Российских войск Александр Данилович Меншиков, в чьих симпатиях к Екатерине никто из присутствующих не сомневался.
* * *
В тесную конторку, где умер Петр, с трудом протиснули огромный гроб размером в косую сажень (русская мера длины – косая сажень – равнялась 216 см), разворачивая и наклоняя его во все стороны. Сорок дней прощался с забальзамированным телом императора весь Петербург, сановники, духовенство и купцы из Москвы и ближних к новой столице городов.
А через три недели после смерти Петра, 22 февраля, умерла младшая из его дочерей – шестилетняя Наталья, и в Зимнем дворце стало еще одним гробом больше.
При подготовке церемонии похорон выяснилось, что гроб с телом императора не проходит в дверь, и тогда по приказу главного распорядителя похорон генерал-фельдцейх-мейстера, сенатора и кавалера, графа Якова Брюса в дверь превратили одно из окон, а к окну снизу возвели просторный помост, с обеих сторон которого шли широкие лестницы, задрапированные черным сукном.
…В полдень 10 марта 1725 года три пушечных выстрела известили о начале похорон императора. Мимо выстроившихся вдоль берега Невы полков гроб Петра снесли по лестнице на набережную, и восьмерка лошадей, покрытых попонами из черного бархата, провезла гроб к причалам главной пристани, а оттуда на специально сооруженный на льду Невы деревянный помост, ведущий к Петропавловской крепости.
За гробом несли более тридцати знамен. И первыми из них были: желтый штандарт Российского флота, черное с золотым двуглавым орлом императорское знамя и белый флаг Петра с изображенной на нем эмблемой – стальным резцом скульптора, вырубающим из камня еще не завершенную статую.
А перед этой знаменной группой шли члены семьи покойного и два «первейших сенатора». Порядок, в каком следовали они за гробом, о многом говорил и сановникам, и иностранным дипломатам, ибо он, этот порядок, точно отражал расстановку сил и значение каждого из этих людей при дворе.
Первой шла теперь уже вдовствующая императрица Екатерина Алексеевна. С обеих сторон ее поддерживали фельдмаршал и Светлейший князь Меншиков и Великий канцлер, граф Головкин.
Следом за ними шли дочери Петра и Екатерины – семнадцатилетняя Анна и пятнадцатилетняя Елизавета, затем племянницы Петра – царевна Прасковья Ивановна и Мекленбургская герцогиня Екатерина Ивановна, а за ними – родственники по матери покойного – Нарышкины. Вместе с ними шел девятилетний внук покойного, сын казненного Алексея – Петр и жених Анны Петровны, Голштинский герцог Карл-Фридрих. По тому, что герцог был в этой процессии, следует полагать, что его считали членом царской семьи, хотя свадьбы пока еще не было.
…Не пройдет и десяти лет, как почти все эти люди умрут. Долгожителями окажутся лишь Великий канцлер Головкин и дочь Петра I – Елизавета…
Гроб Петра поставили в Петропавловском соборе, который тогда еще строили, и он стоял там непогребенным шесть лет. И только после этого гроб с телом покойного предали земле…
Начало царствования Екатерины І
С первых же дней правления новой императрицы высшая бюрократия разделилась на явных сторонников Екатерины и ее скрытых недоброжелателей. Возле первого человека в государстве – Меншикова – оказались его испытанные «камрады» – начальник Тайной канцелярии П. А. Толстой, генерал-адмирал Ф. М. Апраксин и канцлер Г. И. Головкин. Их поддерживала большая и могущественная группа стойких сподвижников Петра, прежде всего военных и дипломатов.
Скрытая же оппозиция опиралась на Правительствующий Сенат, состоявший из одиннадцати членов, и потому первой важнейшей задачей Екатерины и Меншикова было, оставив Сенат как бюрократическое учреждение, отобрать у него функции правительствующего органа. Это было сделано 8 февраля 1726 года путем создания нового правительственного органа – Верховного Тайного совета. В его состав входили: Меншиков, Толстой, Апраксин, Головкин, герцог Голштинский Карл-Фридрих, вице-канцлер А. И. Остерман и сенатор, князь Д. М. Голицын. Возглавляла Верховный Тайный совет, не входя в него, сама императрица. Ведению Совета подлежали все дела, относившиеся к внешней политике, и дела, «которые до ее Величества собственного решения касаются», то есть те, что не подлежали ведению Сената. Более того, Сенат перестал официально именоваться «Правительствующим», а был переименован в «Высокий Сенат». Самым же существенным было то, что три важнейших коллегии – Иностранных дел, Военная и Адмиралтейская – были изъяты из подчинения Сенату и переданы в ведение Верховного Тайного совета, получив, в отличие от прочих коллегий, название «Государственных».
Из других событий важнейшим следует считать официальное открытие Академии Наук и Художеств, произошедшее в декабре 1725 года. А из правительственных распоряжений на первое место следует поставить ряд указов, направленных на сокращение непомерно тяжелого налогового бремени и значительное уменьшение государственных расходов.
* * *
И все же даже после существенного сокращения расходы эти оставались весьма велики. И в первую очередь это касалось затрат на содержание двора.
Датский посланник в Петербурге Вестафль утверждал, что за два года царствования Екатерины I при ее дворе было выпито заграничных вин и водок на миллион рублей, в то время как весь государственный бюджет достигал десяти миллионов.
Екатерина после смерти мужа стала в полном смысле слова веселой вдовой. Возле нее появилось несколько фаворитов – Сапега, Левенвольд, де Виейра, о которых подробнее речь пойдет чуть ниже, и периодически возникавшие кратковременные счастливчики, среди которых оказывались даже дворцовые служители.
Под стать императрице были и три ее камер-фрау. Первой из них была уже известная нам Анна Крамер. Две другие камер-фрау – Юстина Грюнвальд и Иоганна Петрова – мало чем отличались от Анны Крамер. Не отставали от них и две их русских товарки – Голицына и Толстая.
Да и что переменится, если и место действия, и все главные действующие лица остались прежними?
Сам Светлейший, приходя поутру запросто в спальню императрицы, начинал беседу с вопроса: «А чего бы нам выпить?»
Поэтому бал шел за балом, званые обеды сменяли друг друга, отмечались все Великие церковные праздники – а их было двенадцать, а ведь у каждого из них были пред-празднества и попразднества, одна только Пасха продолжалась сорок дней! А сколько было именин, крестин, помолвок и свадеб – тому и вообще не было числа.
Однако же, среди всех этих праздников, следовавших друг за другом без перерыва и превращавшихся в сплошную гулянку и попойку, одно событие все же стояло обособленно: это была свадьба Великой княгини Анны Петровны с герцогом Гольнштейн-Готторпским Карлом-Фридрихом.
Свадьба цесаревны Анны Петровны и герцога Карла-Фридриха Гольштейн-Готторпского
В июне 1725 года в Санкт-Петербурге вышла книга, сейчас являющаяся библиографической редкостью – «Описание о браке между ее высочеством Анною Петровною, цесаревною Всероссийскою, и его королевским высочеством герцогом Гольштейн-Готторпским».
Перескажем кратко содержание этой книги, переложив ее с языка начала XVIII века на современный русский язык.
Когда Екатерина I решила совершить наконец брак, который был утвержден еще ее мужем Петром I, она распорядилась к маю месяцу выстроить в ее летнем доме зал длиною в 20, а шириною в 7 саженей. Постройка была отдана под контроль Меншикова, и он собрал для этого множество мастеров и художников, которые за короткое время построили прекрасный зал, украсив его обоями и другими уборами и поставив два балдахина: один – для цесаревны, другой – для герцога.
Екатерина назначила ответственными за проведение свадьбы двух маршалов – Меншикова и Ягужинского и при них 24 шафера.
По обычаям того времени императрица назначила: вместо отцов – генерал-адмирала графа Апраксина и канцлера и кавалера графа Головкина; вместо братьев – генерал-фельдцейхмейстера и кавалера графа Брюса и генерала и подполковника гвардии Бутурлина; вместо матерей: цесаревну Российскую и герцогиню Мекленбургскую Екатерину Ивановну, Светлейшую княгиню Меншикову; вместо сестер ближними девицами были назначены: цесаревна Елизавета Петровна и Великая княжна Наталья Алексеевна.
18 мая по Петербургу прошли гвардейские офицеры с командами трубачей, барабанщиков и литаврщиков и объявили, что в пятницу, 21 мая, состоится свадьба и маршалам и шаферам предстоит собраться в 7 часов утра, а сенаторам и генералам – к 11.
18 мая, к 11 часам дня в Летний дворец из Зимнего прибыла императрица вместе со своими дочерями – Екатериной и Елизаветой, и в полдень к дому герцога Голштинского были посланы маршалы и шаферы, чтобы привезти к Анне Карла-Фридриха.
За ним отправились в семи каретах и привезли его вместе с придворными, лакеями и пажами. Герцог нанес визит императрице и в час дня отправился вместе с невестой в церковь Святой Троицы для венчания.
Для этого молодым была подана большая баржа, покрытая коврами и украшенная цветами. За первой баржой шла вторая, и обе они были заполнены приглашенными на свадьбу гостями.
Венчание началось в 3 часа дня под звон колоколов.
К этому времени подошла еще одна баржа: на ней находилась императрица в траурном наряде: 28 января умер Петр, а через 25 дней скончалась их дочь – Великая княжна Наталья Петровна, которой было 6 лет, а со дня ее смерти прошло совсем немного времени – ровно три месяца.
Екатерина вошла в церковь, когда молодых венчал Псковский архиепископ Феофан, а как только венчание закончилось, императрица подошла к дочери и возложила на нее орден Святой Екатерины, который до тех пор носила она сама.
Как только Анна Петровна и Карл-Фридрих вышли из церкви и стали подниматься на баржу, со стен Петропавловской крепости, от Адмиралтейства и с яхты «Принцесса Анна», стоявшей у стенки рядом со свадебным залом, грянули пушечные выстрелы.
После этого молодые и гости направились в Летний дворец и сели за пиршественные столы, где собрались четыреста человек.
Через три часа гости вышли из дворца на большой луг, возле которого был царский огород, а на лугу зажарены были несколько быков, начиненных домашней птицей, и устроены два фонтана вина – белого и красного. Тут же стояли шпалерами гвардейцы, которых поротно стали подводить к вину и мясу и довольствовать их досыта и допьяна.
В 9 часов вечера свадьба закончилась, после чего двум присутствующим на свадьбе – генералу Бутурлину и Первому министру Голштинии графу Бассевицу были даны ордена Андрея Первозванного, и семнадцать гостей были награждены новым тогда орденом Александра Невского. А восемь гостей были дарованы новыми, более высокими чинами.
На другой день в той же зале те же гости продолжили веселие, а на третий день обед в своем доме давал герцог. И там все было, как в Летнем дворце, и завершилось все тем, что генерал-адмирал граф Апраксин, имевший по гражданскому ведомству чин действительного статского советника, был пожалован новым чином – действительного тайного советника.
Вот каким было описание свадьбы Анны Петровны и Карла-Фридриха, оставленное потомкам современником и свидетелем ее в 1725 году.
Вдова герцога Курляндского Анна Ивановна в Петербурге
Вскоре в Петербурге все чаще стала мелькать и еще одна фигура – герцогиня Курляндская Анна Ивановна. После скорой смерти своего семнадцатилетнего мужа она стала владетельницей доставшегося ей герцогства.
Анна Ивановна горевала недолго – молодость и пылкость натуры взяли свое, и она быстро утешилась частыми посещениями Петербурга, который не шел ни в какое сравнение с бедной захолустной Митавой.
Анна Ивановна, как уже не раз упоминалось, была второй дочерью царя Ивана Алексеевича и царицы Прасковьи Федоровны, урожденной Салтыковой. Она родилась в Москве 28 января 1693 года и сразу же попала в обстановку, весьма для нее неблагоприятную. Отец постоянно болел, а мать почему-то невзлюбила Аннушку, и та оказалась предоставленной самой себе да опеке богомольных и темных нянек и приживалок.
Уже в детстве девочке сказали, что она вовсе и не царская дочь, потому что Иван Алексеевич бесплоден, а отцом ее является спальник Прасковьи Федоровны Василий Юшков (спальником называли дворянина, который стерег сон царя или царицы, находясь в покое рядом с опочивальней).
У девочки было только два учителя: Дитрих Остерман, брат будущего вице-канцлера барона Остермана, обучавший ее немецкому, и танцмейстер и учитель французского языка француз Рамбур. Из-за этого Анна Ивановна осталась полуграмотной и в дальнейшем не очень-то увлекалась науками. Девочка была рослой – почти на голову выше всех, полной и некрасивой.
После скоропостижной смерти мужа она имела в Петербурге различные сердечные привязанности, но в Митаве ее серьезным поклонником, а потом и фаворитом был мелкий дворцовый чиновник немец Эрнст-Иоганн Бюрен. (В России его звали Бироном, да и сам он называл себя так, настаивая на своем родстве с французским герцогским домом Биронов.)
Бирон впервые предстал перед герцогиней Курляндской, когда ему было двадцать восемь лет. Его отцом был немец-офицер, служивший в польской армии, возможно даже, как утверждали его недоброжелатели, не бывший дворянином. Во всяком случае, когда Анна Ивановна попыталась добиться признания дворянского звания своего фаворита, курляндский сейм отказал ей в этом. Что же касается матери будущего герцога, то ее дворянское происхождение бесспорно – она происходила из семьи фон дер Рааб. Эрнст Бирон был третьим сыном, причем поначалу не самым удачным. В юности он стал студентом Кёнигсбергского университета, но не закончил его, потому что чаще, чем в университетских аудиториях, сидел в тюрьме за драки и кражи. Двадцати четырех лет он приехал в
Петербург и попытался вступить в дворцовую службу, но не был принят из-за низкого происхождения. В 1723 году Анна Ивановна женила своего тридцатитрехлетнего фаворита на безобразной, глухой и болезненной старой деве Бенгине-Готлибе фон Тротта-Трейден, происходившей, впрочем, из старинного и знатного немецкого рода.
Однако женитьба ничего не изменила в отношениях герцогини и фаворита. Более того, когда 4 января 1724 года у Бирона родился сын, названный Петром, то сразу же поползли упорные слухи, что матерью мальчика была не жена Бирона, а Анна Ивановна. Когда мальчик подрос, обнаружилось его сильное сходство с Анной Ивановной. И это еще больше утвердило тех, кто верил в эту версию, в их правоте.
Между женитьбой Бирона и поездкой в Москву с Анной Ивановной произошло несколько амурных историй, связанных со сватовством, но ничем не кончившихся, и одна история в высшей степени романтическая. Однако все по порядку. После скоропостижной смерти мужа Анны Ивановны, герцога Фридриха-Вильгельма, Петр I решил выдать юную вдову замуж еще раз.
В 1717 году претендентом на ее руку был Саксен-Вейсенфельский герцог Иоганн-Адольф, но сватовство расстроилось, и следующий жених – принц Карл Прусский, брак с которым тоже не состоялся, появился лишь через пять лет, в 1722 году. Затем, еще при жизни Петра I, возникли четыре германских принца, заявлявших о своем желании стать мужьями Анны Ивановны, но дальше брачных переговоров, оказавшихся также бесплодными, дело не шло.
Наконец в сентябре 1725 года, через полгода после смерти Петра, Анне Ивановне, бывшей тогда в Санкт-Петербурге, сообщили о новом суженом – блестящем кавалере, храбреце и красавце, покорителе дамских сердец от Варшавы до Парижа – графе Морице Саксонском, внебрачном сыне польского короля Августа II Сильного. (Уместно вспомнить, что титул графа Саксонского появился не случайно, – ведь польский король носил титул и Саксонского герцога, Фридриха Августа, будучи одним из курфюрстов империи.)
Красавец и вертопрах Мориц был на три года моложе Анны Ивановны. Он унаследовал изысканную внешность матери, графини Авроры Кенигсмерк, и мужественность облика своего отца. А какою была его потенциальная невеста, мы уже знаем.
Еще не увидев графа Саксонского, Анна Ивановна уже влюбилась в него.
Новоявленную невесту не смущало, что Мориц слыл не только выдающимся бабником, но и столь же замечательным дуэлянтом, мотом и картежником, за которым к моменту сватовства накопилась куча долгов. Анну Ивановну не останавливало и то, что граф Саксонский по рождению не был августейшей особой. Однако и на сей раз ни брачных переговоров, ни сватовства не последовало, хотя потенциальная невеста делала для этого все, что было в ее силах.
Прошло около года, прежде чем Мориц решился на активные действия со своей стороны. Будущий знаменитый полководец – маршал Франции и выдающийся военный теоретик, отличавшийся дерзостью и быстротой маневра, – он и в данном случае избрал именно такую тактику.
Бросив все версальские дела и утехи, Мориц целиком отдался молниеносной подготовке и не менее стремительному осуществлению задуманного предприятия.
Он собрал со своих богатых парижских любовниц и уже сильно обедневшей матери все, что только мог, и помчался в Митаву.
Приключения графа Морица Саксонского в Курляндии
Для того чтобы стать мужем Анны Ивановны, Морицу предстояло получить согласие дворянского курляндского сейма, имевшего право выбирать герцога по своему усмотрению. И здесь счастье улыбнулось Морицу – его избрали герцогом. Но решение сейма требовало дальнейшего утверждения королем Польши и согласия на то российской императрицы, так как Курляндия по юридическому статусу зависела от двух этих стран. Казалось, что отец Морица, занимавший трон Польши, несомненно утвердит его избрание, но не тут-то было: политика взяла верх над родительскими чувствами, и Август воздержался от одобрения.
И уж совсем никаких надежд не мог связывать Мориц с русской императрицей, если ситуация не соответствовала ее политическим планам.
А случилось так, что в это же самое время Екатерина I решила, что герцогом Курляндии должен стать Меншиков, который и отправился в Ригу с внушительным кавалерийским отрядом. В Митаву же для переговоров с сеймом поехал Василий Лукич Долгорукий – влиятельный член Верховного Тайного совета и опытный дипломат.
Вскоре в Митаву прибыл и Меншиков, где встретился со своим соперником – претендентом на курляндский трон.
Желая сразу же поставить Морица на место, Меншиков первым делом спросил:
– А кто ваши родители?
Мориц ответил вопросом на вопрос:
– А кем были ваши?
Курляндское дело в конце концов закончилось ничем для обоих соискателей. Причем Мориц потерпел двойное фиаско – он не только лишился перспективы завладеть троном, но и получил отказ в своих матримониальных намерениях. Последнее же обстоятельство связано было с комическим эпизодом, более смахивающим на фарс.
…Дело было в том, что Мориц поселился во дворце своей невесты, в одном из его крыльев. Ожидая благополучного исхода сватовства, пылкий кавалер не оставлял без внимания и молодых придворных красавиц. Одной из его пассий оказалась фрейлина Анны Ивановны, которую граф Саксонский среди ночи пошел провожать домой.
Это было зимой. Во дворе замка лежал глубокий снег, и Мориц понес свою любовницу на руках. Внезапно Мориц обо что-то споткнулся и упал, уронив при этом фрейлину в снег. И вдруг он услышал пронзительные женские крики. Кричала не только испуганная фрейлина, но и кто-то еще. Оказалось, что Мориц упал, споткнувшись о спящую пьяную кухарку с черной дворцовой кухни, где готовили для конюхов, кучеров и младших слуг. Падая, Мориц уронил на нее свою любовницу. Обе женщины, страшно испугавшись, начали пронзительно кричать. Во дворце возник переполох, проснулись все его обитатели, и в их числе Анна Ивановна, получившая очевидное доказательство того, что представляет собой ее жених.
Понимая, что ситуация сложилась весьма для него неблагоприятно, Мориц все же проявил упорство и оставался в Митаве до тех пор, пока туда не пришли четыре русских полка под командованием генерала Ласи. Мориц бежал, на рыбацкой лодке переправился через реку Лиелупа и затем добрался до Данцига.
Так завершилось очередное несостоявшееся замужество Анны Ивановны.
Еще одна ретирада герцогини Курляндской в Петербург
После всего произошедшего митавский герцогский двор вконец опостылел неудачливой невесте, жестоко обманутой коварным и корыстолюбивым женихом. Тем большую ценность приобрел в ее глазах не столь уж далекий императорский двор Северной Пальмиры.
Более всего петербургский двор привлекал Анну Ивановну своими беспрерывными празднествами и богатством.
Приезжая в Петербург, Анна Ивановна чувствовала себя своей среди окружения Екатерины I. Посланником герцогини Курляндской в Петербурге или, как тогда говорили «резидентом» был швед Рейнгольд-Густав Левенвольде, бывший офицер Карла XII, перешедший на русскую службу после поражения шведов под Полтавой. Он был любовником Анны Ивановны и честно соблюдал ее интересы в Петербурге, ибо в значительной мере эти интересы были и его собственными. Левенвольде был фаворитом и императрицы Екатерины, и потому, как порядочный человек, офицер и дворянин, должен был заботиться и о ее интересах, которые, впрочем, тоже были в какой-то мере и его собственными.
Молодой красавец Рейнгольд-Густав Левенвольде, происходивший из древнего аристократического немецкого рода, осевшего в Ливонии еще в XIII веке, сначала был камер-юнкером Екатерины, а при ее восшествии на трон стал камергером. 24 октября 1726 года Рейнгольд-Густав Левенвольде и его брат Карл-Густав получили титул российских графов. Вслед за тем Рейнгольд стал кавалером российского ордена Александра Невского и, кроме того, получил осыпанный бриллиантами портрет Екатерины для ношения на шее.
Теперь мы на время оставим Густава Левенвольде, чтобы вскоре снова встретиться с ним и его братом при обстоятельствах чрезвычайных.
Заключительные аккорды царствования Екатерины I
Теперь же возвратимся к новой самодержице – Екатерине I. Вступив на престол, она все чаще стала болеть и вскоре почти совсем отошла от государственных дел, целиком передав их Меншикову, сила и влияние которого росли день ото дня. Постепенно он становился уже не «полудержавным властелином», как при Петре, а пожалуй, почти самодержцем. Это заставило «верховников» опасаться того, что Светлейший скоро превратит их не более чем в марионеток.
Врагами Меншикова оказались Толстой и Голицын, а вне среды «верховников» – все еще очень влиятельный де Виейра.
В апреле 1727 года Екатерина I тяжело заболела, и Меншиков нашел повод показать своим более серьезным и сильным противникам, чем де Виейра, что шутки с ним по-прежнему плохи и что всех его недоброжелателей ждет печальный конец. К тому же Меншиков был злопамятен и не простил своему ненавистному шурину брака с его сестрой, состоявшегося вопреки его воле, по приказу самого Петра I.
И когда в апреле 1727 года Екатерина заболела, де Виейра, по приказу Меншикова, был арестован и обвинен в том, что во время болезни императрицы якобы «не только не был в печали, но и веселился, и плачущую Софью Карлусовну (Скавронскую, родную сестру Екатерины – В. Б.) вертел в танцах и говорил ей: «Не надобно плакать». В другой палате сам сел на кровать… говорил ее высочеству цесаревне Анне Петровне: «О чем печалишься? Выпей рюмку вина».
Допросы и пытки привели к тому, что в последний день своей жизни – 6 мая 1727 года – больная Екатерина, следуя настоятельному совету Меншикова, подписала приговор, по которому трое «заговорщиков» были биты кнутом и отправлены в Сибирь, а еще четверо удалены от двора.
Приговор де Виейре и его соучастникам все же не был последним из подписанных Екатериной актов. Последним, и гораздо более важным документом, было составленное и должным образом оформленное завещание, по которому наследником трона объявлялся Петр Алексеевич – двенадцатилетний внук Петра I. Завещание гласило: «Великий князь Петр Алексеевич имеет быть сукцессором» (то есть самодержцем). Однако регентом при нем не назначался Меншиков, как можно было бы ожидать, а «обе цесаревны, герцоги и прочие члены Верховного Совета, который обще из девяти персон состоять имеет».
Сразу после кончины Екатерины Рейнгольд-Густав Левенвольде уехал в свои ливонские поместья, а в Петербурге остался его брат Карл-Густав. Оба брата Левенвольде еще сыграют важную роль в истории.
Начало царствования Петра II
Когда Екатерина умерла, Великому князю Петру Алексеевичу шел тринадцатый год. Он был мягок душой, красив, достаточно развит и весьма неглуп для своих лет, напоминая во многом покойную мать – Софью-Шарлотту Вольфенбюттельскую. С самого начала своего неожиданного воцарения двенадцатилетний мальчик попал в очень непростую ситуацию, ибо кроме него претенденткой на трон могла оказаться и восемнадцатилетняя дочь Петра I и Екатерины I Елизавета Петровна – его родная тетка.
Сторонники Елизаветы стали прочить ей в мужья уже знакомого читателю Морица Саксонского. Сторонники же Петра II сватали ребенка-императора за дочь Меншикова – Марию.
Для того чтобы примирить две партии, при дворе возник еще один фантастический проект – поженить Петра Алексеевича и Елизавету Петровну, племянника и тетку, но ему не удалось осуществиться: Меншиков увез Петра к себе во дворец и там сосватал его со своей дочерью.
12 мая, когда тело Екатерины еще не было погребено, Петр II возвел Меншикова в звание генералиссимуса, дав ему очевидное преимущество перед пятью жившими и действовавшими в ту пору фельдмаршалами.
16 мая Екатерину похоронили, а уже 24-го во дворце Меншикова на Васильевском острове была необычайно пышно отпразднована помолвка Петра II и Марии. Меншикову эта великая удача не вскружила голову, и он демонстративно протянул руку примирения и дружбы ненавидевшим его Голицыным и Долгоруким. После этого серьезными его противниками остались лишь Анна Петровна и ее муж – Голштинский герцог Карл-Фридрих. Но и от них вскоре избавился умный и ловкий генералиссимус: пообещав супругам миллион флоринов и выдав им для начала всего 140 тысяч, он отправил Анну и Карла в Голштинию. Им была обещана ежегодная пенсия в сто тысяч флоринов и поддержка России в деле присоединения к Голштинии соседнего Шлезвига. 25 июля 1727 года герцогская чета отбыла из Петербурга в Киль, сопровождаемая небольшой группой придворных, среди которых были и люди, близкие к российской императорской фамилии, что объяснялось вполне понятным интересом к новой супружеской паре, являвшейся неотъемлемой частью дома Романовых. И история подтвердила это – вскоре династия Романовых стала называться «Династией Романовых-Гольштейн-Готторпов». И хотя в обиходе российскую императорскую династию продолжали называть «Романовы», но специалисты-генеалоги и серьезные историки именовали ее полным именем – «Романовы-Гольштейн-Готторпы».
Жизнь и смерть Анны Петровны в Киле
Среди русских придворных, сопровождавших в Голштинию Анну Петровну, прежде всего следует отметить девятнадцатилетнюю Мавру Егоровну Шепелеву, особенно доверенную «конфидентку» Елизаветы Петровны. Ее дядя – Дмитрий Андреевич Шепелев – был женат на родственнице пастора Эрнста Глюка, который подобрал в Мариенбурге девочку-сиротку Марту Скавронскую, будущую императрицу Екатерину, и воспитал и вырастил ее, как собственную дочь. Поселившийся в Москве пастор, как и все его родственники, пользовались особым расположением Петра и Екатерины. Породнившийся с ним Дмитрий Андреевич Шепелев также стал близким человеком в императорской семье. Сохранил он свое положение и во все последующие царствования, особенно возвысившись при Анне Ивановне. Его-то родственница, Мавра Егоровна, и отправилась в Голштинию, выполняя двоякую роль – фрейлины Анны Петровны и доверенного лица Елизаветы Петровны. Находясь в Киле, она сообщала своей сердечной подружке Елизавете Петровне обо всем, что происходило во дворце и городе. Образчиками ее писем могут служить, например, такие:
«Сестрица ваша ездила в санях по Килю, и все люди дивовались русским саням». Или: «Еще ж доношу, что у нас балы были – через день, а последний был бал у графа Бассевича, и танцевали мы там до десятого часу утра, и не удоволились в комнатах танцевать, так стали польской танцевать в поварне и в погребе. И все дамы кильские также танцевали, а графиня Кастель, старая, лет пятьдесят, охотница великая танцевать, и перетанцевала всех дам, и молодых перетанцевала». В этом же письме Шепелева просила «поздравить с кавалериею», то есть с награждением орденом, одного из первых любовников Елизаветы Александра Борисовича Бутурлина.
А письмами от 12 и 19 февраля 1728 года Шепелева сообщала о рождении у Анны Петровны сына Карла-Петра-Ульриха – будущего российского императора Петра III. (Чуть ниже мы еще встретимся и с Маврой Егоровной, и с ее любовником Эрнстом Бироном, и с мужем Мавры Егоровны графом Шуваловым.)
Шепелева писала, что, как только Анна Петровна родила сына, то трижды палили из пушек, а потом пошли солдаты, играя на трубах и литаврах, извещая тем самым, что у герцогской четы родился сын. Вслед за тем во дворец пришли кавалеры и дамы, поздравляя мать и отца с новорожденным. Шепелева обещала, что сразу оповестит Елизавету Петровну о том, как пройдут крестины.
19 февраля Мавра Егоровна написала, что церемония крестин происходила так: сперва шли камер-юнкеры, затем – гоф-юнкеры, а вслед за ними четыре камергера несли балдахин. Под балдахином на подушке лежал младенец, рядом с ним, на той же подушке, лежала корона, усыпанная алмазами, а эту подушку – с принцем и короной – несли два тайных советника.
На крестинах была и Анна Петровна. Она, по словам Шепелевой, лежала под другим балдахином, в богатом наряде, и, судя по всему, пока еще никакой тревоги у Мавры Егоровны не вызывала.
Однако не успели письма Шепелевой дойти до Петербурга, как случилось неожиданное несчастье: скоропостижно умерла двадцатилетняя мать новорожденного – Анна Петровна. Произошло это из-за того, что в Киле, по случаю рождения принца Карла-Петра-Ульриха были устроены великие празднества, завершившиеся грандиозным фейерверком. Анна Петровна после родов еще недомогала и потому лежала у себя в опочивальне, не принимая участия в торжествах. Но когда она увидела за окнами своей спальни всполохи огней и россыпи звезд фейерверка, то, не удержавшись от соблазна полюбоваться всем этим, встала с постели и настежь распахнула одно из окон. Сильный холодный ветер ворвался в комнату – за окном стоял февраль, – и герцогиня простудилась. На следующий день она заболела воспалением легких и через десять дней умерла.
Торжества и в Киле, и в Петербурге сменились глубоким трауром, особенно же скорбел овдовевший Карл-Фридрих, ибо со смертью жены сильно уменьшались его собственные шансы возвращения в большую европейскую политику, так как петербургский двор становился для него почти недосягаем, по крайней мере до совершеннолетия его сына-младенца.
Падение всесильного фаворита
А в Петербурге всесильный Меншиков укрепился еще больше. Избавившись от голштинской герцогской четы и выслав остальных не угодных ему сановников из Петербурга, он, казалось, достиг вершины могущества, но внезапно серьезно заболел и на несколько недель отошел от государственных дел.
Этого времени оказалось достаточно, чтобы Петр II, рано созревший и чувственный юноша, прочно подпал под влияние своей столь же чувственной и весьма распущенной семнадцатилетней тетки Елизаветы, которая ни на шаг не отходила от племянника, всячески поощряя его к распутству и пьянству. Ей помогали в этом товарищи Петра – такой же, как и он, подросток Александр Меншиков и великовозрастный, по сравнению с ними, восемнадцатилетний князь Иван Долгоруков.
Об этой золотой молодежи рассказывали невероятные вещи, приписывая им все возможные пороки. А когда Александр Меншиков официально был награжден орденом
Святой Екатерины, которого удостаивались только женщины, то пересуды о его отношениях с императором приобрели вполне определенное направление, получив вроде бы серьезное фактическое подтверждение.
Все это привело к тому, что Петр II совершенно остыл к Марии Меншиковой – девушке нравственной и гордой, носившей среди ровесников прозвище «мраморная статуя». Когда же будущий тесть попробовал приструнить распоясавшегося юнца, то тринадцатилетний император закусил удила и пошел на открытый разрыв со всесильным еще вчера временщиком.
Петр II дал распоряжение забрать из дома Меншикова императорские экипажи и личные свои вещи, а 7 сентября 1727 года приказал арестовать Светлейшего. Через два дня и сам Александр Данилович, и несостоявшаяся невеста Мария Меншикова, и все семейство генералиссимуса были отправлены в ссылку, пока еще в Рязанскую губернию, в роскошное имение Светлейшего – Раннебург.
И 11 сентября 1727 года Светлейший отправился в путь, сопровождаемый 127 слугами и обозом в 33 экипажа. Вскоре все имущество Меншикова было конфисковано. По сделанной описи Меншикову принадлежало: 90 тысяч душ крестьян, 6 городов, 4 миллиона рублей наличными и 9 миллионов в банках Лондонском и Амстердамском, бриллиантов и других драгоценностей еще на один миллион рублей, серебряной посуды три перемены, каждая из 288 тарелок и приборов, и 105 пудов, т. е. 1680 кг, золотой посуды.
Однако в Раннебурге Меншиковы пробыли недолго: 16 апреля 1728 года их всех отправили в Березов – богом забытый сибирский городишко, закинутый в болота и тундру более чем на тысячу верст севернее Тобольска.
Сначала Меншиковы жили в тюрьме, но потом Александр Данилович сам срубил дом и даже пристроил к нему часовенку. Однако жить ему оставалось совсем немного. 12 ноября 1729 года он умер, разбитый параличом. А еще через месяц скончалась и его дочь Мария – бывшая царская невеста. Двое других детей Меншикова – сын и дочь – впоследствии были возвращены из ссылки только потому, что в банках Лондона и Амстердама хранилось девять миллионов рублей, которые могли быть выданы только прямым наследникам Меншикова. Это обстоятельство и заставило русское правительство вернуть брата и сестру Меншиковых в Петербург, и львиная часть вкладов в конце концов оказалась в руках государства и его высших сановников.
Конец царствования императора-ребенка
Избавившись от всесильного временщика, Петр II пустился во все тяжкие. Саксонский посланец Лефорт – племянник Франца Лефорта – в декабре 1727 года писал: «Император занимается только тем, что целыми днями и ночами рыскает по улицам с царевной Елизаветой и сестрой, посещает камергера (восемнадцатилетнего князя Ивана Долгорукого), пажей, поваров и бог весть еще кого.
Кто мог бы себе представить, что эти безумцы способствуют возможным кутежам, внушая царю привычки самого последнего русского. Мне известно помещение, прилегающее к бильярдной, где помощник воспитателя приберегает для него запретные забавы. В настоящее время он увлекается красоткой, бывшей прежде у Меншикова, и сделал ей подарок в пятьдесят тысяч рублей… Ложатся спать не раньше семи часов утра».
Беспрерывные попойки и ночные оргии не только подрывали не очень-то крепкое здоровье Петра II, но и сильно деформировали его характер. Он стал вспыльчивым, капризным, жестоким и упрямым.
Уже на следующий день после ареста Меншикова Петр II подписал манифест о коронации, а 9 января 1728 года выехал в Москву, чтобы по традиции совершить обряд венчания на царство в Успенском соборе Московского Кремля.
По дороге в Первопрестольную Петр заболел корью и две недели пролежал в постели, остановившись в Твери.
4 февраля наконец совершился его торжественный въезд в Москву, где старая русская аристократия, в большинстве своем ненавидевшая Петра I и благоговевшая перед памятью великомученика Алексея, встретила нового императора с неподдельной радостью и восторгом.
На волне этого приема самыми близкими людьми для Петра II оказались князья Долгорукие – Василий Лукич и Алексей Григорьевич, введенные в состав Верховного Тайного совета, а любовь юного императора к Москве оказалась столь велика, что он официально объявил ее единственной столицей.
Коронация состоялась 25 февраля 1728 года, а 29 ноября 1729 года Петр II обручился с княжной Екатериной Долгорукой и назначил день свадьбы с нею – 19 января 1730 года. Однако свадьбе не суждено было состояться: 7 января, менее чем за две недели до намеченного срока, четырнадцатилетний император сильно простудился, тут же заболел оспой и за день до свадьбы, не приходя в сознание, умер. Он не успел написать никакого завещания, и потому судьба российского престола снова оказалась весьма неопределенной.
* * *
В момент смерти Петра II возле него, в Лефортовском дворце, кроме родственников, находились шесть человек: трое Долгоруких – Алексей Григорьевич, Василий Лукич и Михаил Владимирович, барон Андрей Иванович Остерман, князь Дмитрий Михайлович Голицын и генерал-адмирал Федор Матвеевич Апраксин – брат царицы Марфы, жены царя Федора Алексеевича. Посоветовавшись друг с другом, они решили пригласить для обсуждения создавшейся ситуации еще и трех фельдмаршалов – князей Василия Владимировича Долгорукого, Михаила Михайловича Голицына, Ивана Юрьевича Трубецкого, а также морганатического мужа царевны Прасковьи Ивановны, сенатора и генерал-поручика Ивана Ильича Дмитриева-Мамонова.
Первым заговорил Дмитрий Голицын, прямо заявивший, что дети Екатерины I не более чем выблядки Петра I и никаких прав на престол не имеют. Он же первым назвал в качестве претендентки на престол Курляндскую герцогиню Анну Ивановну. 19 января в десять часов утра Сенат, Синод и генералитет единогласно подтвердили принятое решение. После этого семь членов Верховного Тайного совета выработали условия, так называемые «кондиции», которые, по их мысли, должна была принять Анна Ивановна, прежде чем станет императрицей. По этим «кондициям» Анна Ивановна обязывалась: править страной вместе с Верховным Тайным советом; без его согласия не начинать войны и не заключать мира; передать в подчинение Верховному Тайному совету командование гвардией; не присваивать своей властью никаких чинов выше полковничьего; не употреблять государственные доходы для собственного пользования; не казнить без суда, по собственному произволу, никого из дворянства; не выходить замуж и не назначать себе преемника без согласия Верховного Тайного совета.
«Кондиции» завершались фразой: «А буде чего по сему обещанию не исполню, то лишена буду короны Российской».
Добавив к «Кондициям» письмо о том, что все это одобрено Сенатом, Синодом и генералитетом, чего на самом деле не было, Василий Лукич Долгорукий поехал в Митаву к Анне Ивановне.
Звездный час братьев Левенвольде
В предыдущих главах уже упоминалось, что в 1727 году, сразу после смерти Екатерины I, один из ее любовников, граф Рейнгольд-Густав Левенвольде уехал на свою родину – в Ливонию. Брат же его, граф Карл-Густав Левенвольде, остался в Петербурге и сделал после смерти Екатерины неплохую карьеру. Карл-Густав был камергером при Петре II и в связи с этим имел доступ ко многим государственным тайнам. Был он осведомлен и о замысле «верховников» ограничить самодержавную власть Анны Ивановны.
Как только Карл-Густав узнал об этом намерении, он тотчас же написал письмо своему брату Рейнгольду-Густаву, жившему под Ригой, и отправил послание с быстро-конным нарочным, который примчался к адресату, на сутки обогнав «верховников», медленно ехавших в каретах.
Рейнгольд-Густав, прочитав письмо и тоже не теряя ни минуты, сам понесся в Митаву к Анне Ивановне, чтобы вовремя предупредить ее о коварных планах Долгоруких «со товарищи».
Рейнгольд-Густав не только передал письмо, но и посоветовал Анне Ивановне подписать «кондиции», не показав вида, что она знает о чем-либо, а потом, в Петербурге, уничтожить эту бумагу. Анна Ивановна не забыла этой услуги братьев Левенвольде и, став императрицей, произвела Рейнгольда-Густава в обер-гофмаршалы, а Карла-Густава в генерал-поручики и генерал-адъютанты.
28 января 1730 года Анна Ивановна подписала «Кондиции» и на следующий день выехала из Митавы в Москву.
Анна Ивановна, «верховники» и Эрнст Бирон
Встретившие Анну Ивановну «верховники» с удовлетворением отметили, что Бирон не приехал с нею вместе, о чем специально просил ее Василий Лукич Долгорукий. Зато жена Бирона и его дети были рядом с нею, что было дурным предзнаменованием – вслед за женой в Москве мог появиться и муж.
На следующий день, 11 февраля, состоялись похороны Петра II, которые откладывались из-за ожидания приезда новой императрицы.
Когда похоронная процессия стала выстраиваться за гробом Петра II, его невесту Екатерину Долгорукую просто-напросто не подпустили к покойному, и «порушенная невеста», как стали ее называть, осталась вся в слезах во дворце, а потом уехала к себе домой. Брат ее, князь Иван, был поставлен в середину процессии, хотя как ближайший друг покойного порывался встать сразу за гробом.
Все это красноречиво свидетельствовало о том, что звезда Долгоруких закатилась.
20 февраля в Успенском соборе Кремля Анна приняла присягу высших сановников империи и князей церкви, а 25 февраля при большом стечении московских дворян и гвардейских офицеров на клочки изорвала «кондиции», но все же пригласила «верховников» вместе со своими сторонниками к пиршественному столу, накрытому в Грановитой палате.
Во главе стола был поставлен малый императорский трон, и, пока собравшиеся устраивались на своих местах, императрица вдруг встала и сошла к князю Василию Лукичу Долгорукому. Вплотную приблизившись к нему, Анна Ивановна взяла князя двумя пальцами за большой нос и повела вокруг опорного столба, поддерживавшего своды Грановитой палаты.
Обведя Долгорукого вокруг столба, Анна Ивановна остановила его против портрета Ивана Грозного и спросила:
– Князь Василий Лукич, ты знаешь, чей это портрет?
– Знаю, государыня. Царя Ивана Васильевича.
– Ну, так знай, что я хотя и баба, но такая же буду, как и он. Вы, семеро дураков, собирались водить меня за нос, да прежде-то я тебя провела.
Через десять дней специальным Манифестом Анна Ивановна упразднила Верховный Тайный совет, а с течением времени все его члены оказались либо в ссылке, либо на плахе.
Сделавший более прочих для укрепления самодержавной власти офицер-преображенец Семен Андреевич Салтыков – двоюродный брат императрицы по матери, Прасковье Федоровне Салтыковой, на следующий же день после переворота стал генерал-лейтенантом, а вскоре и генерал-аншефом. Кроме того, он получил придворный чин гофмейстера и имение с десятью тысячами душ.
Теперь и Бирон мог приехать к своей возлюбленной, что он вскоре и сделал.
Анна Ивановна снова перенесла столицу в Петербург и со всем двором переехала на берега Невы, оставив Салтыкова генерал-губернатором и главнокомандующим Москвы, а 9 февраля 1732 года пожаловала ему и титул графа.
* * *
И все же Салтыков не стал первым сановником империи. Им несомненно являлся обер-камергер Анны Ивановны Эрнст-Иоганн Бирон, пока еще остававшийся Бюреном.
И в Митаве, и в Москве, и в Петербурге Бирон и его семья жили в одном дворце с Анной Ивановной. И до женитьбы Бирона, и после спальни герцогини Курляндской и ее фаворита находились рядом и соединялись дверью. То же самое было потом и в России. Казалось бы, фаворит должен был сохранять абсолютную верность своей государыне или уж, во всяком случае, скрывать от нее свои похождения. Однако не тут-то было. Как и при дворе Петра I, Екатерины I и Петра II, ветреность и переменчивость сердечных привязанностей оставались неизменными в царствование Анны Ивановны. Правда, первое время Бирон был осторожен и не подавал императрице поводов к ревности. Но когда Анна Ивановна стала стареть и все чаще болеть, он увлекся по-прежнему влиятельной «конфиденткой» – доверенной подругой и наперсницей Елизаветы Петровны, уже знакомой нам Маврой Егоровной Шепелевой, которая после смерти Анны Петровны возвратилась из Киля в Петербург и снова перешла к цесаревне в прежнем своем качестве – «фрейлины двора Ее Императорского Высочества». Шепелева была умна, богата, но некрасива, хотя последнему ее качеству мало кто из мужчин придавал значение, вполне довольствуясь двумя первыми. Кроме того, она слыла большой искусницей в альковных делах, а эту сторону женского нрава мужчины всегда считали наизначительнейшей. Что же касается ее влияния на Елизавету Петровну, то здесь Мавра Егоровна не имела равных.
Всего этого в совокупности оказалось вполне достаточно, чтобы Эрнст Бирон, имевший свои политические, и не только, виды на цесаревну, стал любовником Шепелевой, а вскоре уже и искренне, насколько он был на это способен, полюбил ее.
Анна Ивановна знала об их романе, сердясь, называла Шепелеву не иначе, как «Маврушка», но ничего поделать не могла, хотя однажды не постеснялась прибегнуть к помощи нелюбимой кузины, чтобы образумить изменника. В одном из немногих писем Елизавете Петровне раздосадованная Анна Ивановна писала: «Герцог и Маврушка окончательно опошлились. Он ни одного дня не проводит дома, разъезжает с нею совершенно открыто в экипаже по городу, отдает с нею вместе визиты и посещает театры».
Разумеется, что амурные похождения фаворита были не самым важным его делом: для Бирона на первом месте всю жизнь стояла «одна, но пламенная страсть» – обладание властью. И чем более безграничной была эта власть, тем более счастлив он был. Все же иные свои стремления, увлечения и привязанности Бирон ставил в прямую зависимость от того, способствуют ли они достижению его главной цели – безграничной, практически самодержавной, власти. Он хорошо понимал, что одного влияния на императрицу, хотя и беспредельного, недостаточно, как недостаточно и признания его первым сановником империи со стороны российских министров и фельдмаршалов. Требовалась еще и известность в этом качестве при важнейших иноземных дворах.
Курляндское захолустье не могло сделать Бирона широко известным в Европе, во всяком случае в Европе Западной. Но после приезда в Россию Анна сделала его сначала камергером, а потом и обер-камергером своего двора, затем выхлопотала у австрийского императора титул графа и наконец наградила фаворита орденом Андрея Первозванного. Иноземные дворы, союзные России, последовали примеру Австрии, поднося Бюрену ордена и иные знаки отличия. Тогда-то Бюрен и стал известен в Западной Европе, в том числе и во Франции, как Бирон, где среди французских аристократов блистала фамилия герцогов де Биронов.
После того как Эрнст-Иоганн в 1737 году стал герцогом Курляндским, французский герцог Бирон учтиво поздравил своего очевидно искусственного однофамильца, но все же спросил его, в каком родстве находятся их герцогские династии? Эрнст-Иоганн не ответил на это письмо.
* * *
Следом за фаворитом вскоре приехали в Россию и два его брата – старший и младший.
Старший брат Бирона, Карл, еще в ранней молодости поступил на русскую службу, но вскоре попал в плен к шведам. Карл бежал из плена и, вступив в польскую армию, дослужился до подполковника. Как только Анна Ивановна стала императрицей, Карл приехал в Москву и был удостоен чина генерал-аншефа и должности военного коменданта Москвы. Однако образцом дисциплины военный комендант не был: из-за постоянных драк в пьяном виде Карл Бирон получил так много ран и увечий, что стал инвалидом и вследствие этого оказался неспособным к службе.
Младший брат герцога, Густав, приехал в Россию тоже из Польши и тоже из военной службы. И появился при дворе Анны Ивановны одновременно с Карлом. Сначала Густаву был дан чин майора гвардии, а потом, очень скоро, и генерал-аншефа.
Он не отличался ни умом, ни храбростью, и если бы не его знаменитый брат, то о нем не осталось бы ни следов, ни памяти.
Крушение фаворита повлекло за собою арест и ссылку обоих его братьев, которые и потом разделяли участь Эрнста-Иоганна. Но об этом – чуть позже.
* * *
Вырвавшись из митавского захолустья, Анна Ивановна с головой окунулась в роскошь и удовольствия. Однако удовольствия были грубыми и довольно однообразными, а развлечения скорее напоминали утехи средневековых восточных владык, нежели европейский политес XVIII века. Единственное, чем отличалась от своих предшественников Анна Ивановна в лучшую сторону – это тем, что она не любила пьянства.
Двор был забит юродивыми и приживалками, ворожеями и шутами, странниками и предсказателями. В шуты не гнушались идти князь Голицын, князь Волконский, родственник царицы Апраксин, гвардейский офицер Балакирев.
День новой императрицы проходил так.
Вставала Анна Ивановна в семь утра, ела за завтраком самую простую пищу, запивая ее пивом и двумя рюмками венгерского вина. Гуляла за час до обеда, который был в полдень, и перед ужином – с четырех и до половины девятого, а затем полтора часа ужинала и в десять часов ложилась спать.
День ее был заполнен игрой в карты, разговорами и сплетнями с приживалками и гадалками, разбором драк шутов и дураков.
Очень любила она стрельбу из ружей и была столь в ней искусна, что на лету била птицу. Во всех ее комнатах стояло множество заряженных ружей, и Анна стреляла через открытые окна в сорок, ворон и даже ласточек, пролетающих мимо.
В Петергофе был заложен для нее зверинец со множеством зайцев и оленей, завезенных из Германии и Сибири. Если заяц или олень пробегали мимо ее окон, участь их была решена – Анна Ивановна стреляла без промаха.
Для нее был сооружен и тир, и императрица стреляла по черной доске даже зимой при свечах. Остаток дня проводила она в манеже, обучаясь верховой езде, в чем ей очень способствовал Бирон, пропадавший в манеже и в конюшне целыми днями.
Летом же Анна Ивановна превращалась в страстную охотницу, выезжавшую со сворой гончих на травлю зайцев и лис, на ловлю зверей в силки и капканы, чтобы затем перевести своих четвероногих пленников в дворцовый зверинец.
Государственные же дела были у Анны Ивановны в таком же загоне, как и у Екатерины I и у Петра II. Ими занимались Бирон, Остерман, Миних и Артемий Петрович Волынский. О фактическом правителе России, герцоге Бироне, уже и при его жизни сложилось противоречивое мнение. Одни считали его глупцом и грубияном, другие – истинно государственным человеком.
Австрийский посол при Петербургском дворе граф Остейн сказал как-то о Бироне: «Он о лошадях говорит, как человек, а о людях, как лошадь». Однако было бы чересчур опрометчиво полагать, что Бирон был
глуп или бездарен. Сохранилось много доказательств и его высокой образованности, и ума, и, если было нужно, такта.
* * *
Приехав в Россию, Анна начала с того, что оправила в ссылку всех Долгоруких с женами и детьми. Фамилия была велика и потому разнообразна и в отношении к случившемуся, и в характерах, и в судьбах. Автор не имеет возможности в этой книге рассказать о каждом из них, тем более что история рода князей Долгоруких не имеет отношения к брачным сюжетам Романовых с немецкими династиями. Кратко коснемся лишь роли немцев, которую играли они в России того времени. Укрепляя доставшуюся ей власть, Анна Ивановна восстановила Сенат, а 18 октября 1731 года по инициативе Остермана был образован Кабинет министров «для лучшего и порядочнейшего отправления всех государственных дел, подлежащих рассмотрению императрицы». Будучи Советом при императрице, Кабинет министров обладал широкими правами в области законодательства, управления, суда и контроля за всеми государственными учреждениями в столице и на местах.
В его состав вошли три кабинет-министра: граф Гавриил Иванович Головкин, родственник матери Петра I Натальи Кирилловны Нарышкиной, при Петре I канцлер и президент Коллегии иностранных дел, князь Алексей Михайлович Черкасский, сенатор и один из активнейших врагов «верховников», и граф Андрей Иванович Остерман, фактический руководитель русской внешней политики во все годы правления Анны Ивановны.
В 1735 году по указу императрицы подписи всех трех кабинет-министров равнялись ее собственной подписи. После смерти Головкина его место в Кабинете занимали последовательно Павел Иванович Ягужинский, Артемий Петрович Волынский и ближайший сподвижник Бирона Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. По властным прерогативам Кабинет министров стал верховным учреждением государства, отодвинув Сенат на второе место.
Выдающиеся немцы – вице-канцлер Остерман и фельдмаршал Миних
Теперь настала пора хотя бы кратко рассказать и о двух выдающихся деятелях эпохи Анны Ивановны – Генрихе-Иоганне, на русский манер Андрее Ивановиче, Остермане и фельдмаршале Бурхарде-Христофоре Минихе. Первый из них был видным соратником Петра I. Остерман поступил на русскую службу еще в 1703 году, в Амстердаме. Он и тогда уже был одним из самых образованных сотрудников Посольского приказа, а впоследствии сделал блестящую дипломатическую карьеру, подписав Ништадтский мир и став в тридцать семь лет вице-президентом Коллегии иностранных дел. Он вовремя отошел от «верховников» и тем сохранил свое влияние на Анну Ивановну и Бирона. Миних, прозвавшийся на русский лад Христофором Антоновичем, начал службу в России намного позже Остермана – с 1721 года. Петр I сразу же дал Миниху звание инженер-генерала и поручил ему строительство шлюза на реке Тосне и прокладку двух каналов – Обводного и Ладожского. В 1728 году Миних был назначен генерал-губернатором Ингерманландии, Карелии и Финляндии, тогда же получив и графский титул, а с воцарением Анны Ивановны стал фельдмаршалом и Президентом Военной коллегии, обойдя по должности шестерых фельдмаршалов, имевших перед ним преимущество в старшинстве. Миних обладал крутым характером, был смел, жесток, талантлив в воинском деле и с успехом командовал армией, воюя в Польше, а также против татар и турок – в Крыму и Бессарабии.
Благодаря военным успехам в Польше, к власти в этой стране пришел угодный России Август III, предоставивший трон Курляндского герцогства Бирону. А военные успехи на юге, в борьбе против татар и турок привели к захвату армией Миниха Крыма. Прорвавшись через Перекоп, русские войска 17 июня 1736 года заняли столицу Крымского ханства – Бахчисарай, но из-за недостатка провианта, воды и начавшихся болезней вынуждены были отойти на Украину. Следующим летом войсками Миниха были взяты Очаков и Азов. И снова из-за эпидемии чумы русские вынуждены были оставить занятые ими позиции и вернуться на Украину. И все же по Белградскому мирному договору, подписанному 18 сентября 1739 года, Россия возвращала себе Азов и получала право на строительство крепости на Дону, на острове Черкасе.
Мекленбург-Шверинская герцогиня Анна – наследница русского трона
5 октября 1740 года императрица Анна Ивановна слегла, страдая сразу множеством тяжелейших болезней – воспалением костей, цингой, подагрой и каменной болезнью в почках. Главная проблема, занимавшая ее во время болезни, была проблема престолонаследия.
Из-за острой и стойкой неприязни к цесаревне Елизавете Петровне умирающая считала единственной наследницей российского трона племянницу Анну Леопольдовну – дочь своей родной сестры Екатерины Ивановны и герцога Карла-Леопольда Мекленбург-Шверинского.
Екатерина Ивановна, дочь царя Ивана Алексеевича и родная племянница Петра I, была выдана замуж, когда ей исполнилось двадцать четыре года. Мы встречались с нею весной 1716 года. Екатерина Ивановна только-только приехала в Шверин, как к ней пожаловал ее дядюшка Петр Алексеевич и совершенно бесцеремонно утащил ее на глазах молодого мужа в спальню.
И этот эпизод, и некоторые другие пассажи такого же свойства не могли способствовать любви Карла-Леопольда к Екатерине Ивановне. К тому же герцог был мелочен, сварлив и деспотичен, а Екатерина Ивановна – вольнолюбива, независима и горда своим царским происхождением. На первых порах жизнь супругов перемежалась ссорами и примирениями и полтора-два года была кое-как терпима.
7 декабря 1718 года у них родилась дочь, которую крестили по протестантскому обряду и нарекли Елизаветой-Христиной. После ее рождения семейная жизнь Карла-Леопольда и Екатерины Ивановны вконец разладилась, и после трех лет мучений Екатерина Ивановна, забрав с собою трехлетнюю дочь, уехала в Россию.
Петр встретил ее неприветливо, и Екатерина Ивановна поселилась у своей матери, пятидесятишестилетней вдовы царя Ивана – Прасковьи Федоровны, урожденной Салтыковой.
И Екатерина Ивановна, и Прасковья Федоровна были плохо образованы, суеверны, почитали за грех чтение богопротивных, еретических нецерковных книг, и потому маленькую Елизавету-Христину обучили только православному катехизису и началам богословия, тем более что она должна была переменить религию и креститься еще раз по православному обряду.
Так дело шло до восшествия на престол ее родной тетки, бездетной Анны Ивановны, которая сохраняла старый, полувековой уже, но все еще непреодолимый антагонизм между Милославскими и Нарышкиными и, будучи сама по бабке Милославской, хотела сохранить трон за своей кровной родней, отказывая в этом родственникам Нарышкиных.
Поэтому, вступив на престол, Анна Ивановна приблизила к себе единственную племянницу и стала подготавливать ее к наследованию престола. В православии ее наставником был Феофан Прокопович – образованнейший богослов, один из высших иерархов русской церкви, автор «Истории об избрании и восшествии на престол государыни Анны Иоанновны», которую он считал продолжательницей дела Петра Великого, чьим непоколебимым сторонником был до конца своих дней. Прокопович подготовил Анну Леопольдовну к крещению по православному обряду.
С другими науками дело обстояло похуже. Анна Леопольдовна выучила немецкий и французский языки, пристрастилась к чтению светских книг, но дальше дело не пошло – девочка плохо усваивала и географию, и арифметику, и историю.
Когда ей исполнилось двадцать лет, встал вопрос о замужестве. Поиском жениха занялся Левенвольде и вскоре представил две кандидатуры – Бранденбургского маркграфа Карла и Брауншвейг-Беверн-Люнебургского принца Антона-Ульриха. Из политических соображений Карл был отвергнут, ибо за ним стояла Пруссия, сближение с которой было нежелательно, а за Антоном-Ульрихом стояла Австрия, так как он доводился племянником австрийскому императору Карлу VI, что представлялось намного предпочтительней.
Появление в России принца Антона-Ульриха Брауншвейг-Беверн-Люнебургского
Выбор был сделан в пользу Австрии, и 28 января 1733 года Антон-Ульрих приехал в Россию. 12 мая того же года жених присутствовал при крещении невесты по православному обряду, когда Елизавета-Христина получила имя Анны Леопольдовны, разумеется, в честь ее крестной матери императрицы Анны.
Однако со свадьбой не торопились из-за совершенно очевидной холодности и даже враждебности Анны Леопольдовны к навязанному ей жениху. Сторонники принцессы объясняли это юностью невесты – ей шел всего лишь пятнадцатый год, и на этом основании решили отложить свадьбу до ее совершеннолетия. А дело было не в возрасте, а во вкусах невесты – Антон-Ульрих был низкого роста, хрупок и женоподобен, сильно заикался, а его мягкость и податливость воспринимались как бесхарактерность и трусость.
Решение было разумным, потому что и жених тоже был еще молод – ему сравнялось только восемнадцать, и императрица считала, что со временем все образуется и жених с невестой привыкнут друг к другу.
А пока решено было отдать принца в военную службу, и здесь оказалось, что он и расторопен, и смел, и любим своими солдатами.
В 1735 году, когда Анне Леопольдовне шел семнадцатый год, она вдруг влюбилась в тридцатипятилетнего саксонского посланника при петербургском дворе, красавца и щеголя, графа Линара. Екатерина II, увидевшая Линара через пятнадцать лет, так обрисовала его: «По внешности это был в полном смысле фат. Он был высокого роста, хорошо сложен, рыжевато-белокурый, с нежным, как у женщины, цветом лица. Говорят, что он так ухаживал за своей кожей, что каждый день перед сном покрывал лицо и руки помадой и спал в перчатках и маске. Он хвастался, что имел восемнадцать детей и что все их кормилицы могли заниматься этим делом по его милости. Граф Линар имел белый дамский орден и носил одежду самых светлых цветов – небесно-голубого, абрикосового, лилового, телесного».
А ведь речь шла о пятидесятилетнем селадоне. Что же можно было рассказать о Линаре пятнадцатью годами раньше?
Разумеется, Анна Ивановна вскоре узнала об этом и выслала графа обратно в Саксонию.
Между тем Антон-Ульрих дослужился до чина полковника и стал командиром кирасирского полка. В 1737 году он, поступив под команду фельдмаршала Миниха, принял участие в войне с Турцией и отличился при штурме Очакова. Принц все более укреплялся в глазах императрицы как достойный претендент на руку ее племянницы, и наконец 3 июля 1739 года, после шестилетнего пребывания в России Антона-Ульриха в ранге жениха, была сыграна его свадьба с Анной Леопольдовной, и он стал ее мужем.
Рождение императора и смерть императрицы
12 августа 1740 года у Антона-Ульриха и Анны Леопольдовны родился сын, названный Иваном. В это время императрица была уже сильно озабочена вопросом о престолонаследии из-за того, что часто болела, и потому поспешила стать крестной материю младенца, еще раз подчеркнув его близость к своей августейшей особе. После крестин Анна Ивановна тут же забрала младенца к себе во дворец и поместила его в покои рядом с собственной спальней. 5 октября того же года, когда мальчику еще не было и двух месяцев, Анна Ивановна слегла в постель, потеряв всякую надежду на выздоровление. И первое, что она сделала, почувствовав себя на пороге смерти, – объявила в манифесте, что Иван Антонович является Великим князем с титулом Императорского Высочества и объявляется наследником российского престола.
А через одиннадцать дней, чувствуя, что кончина ее совсем близко, императрица подписала еще один манифест, которым назначала регентом при Иване Антоновиче герцога Бирона. Не отец младенца – герцог Брауншвейг-Люнебургский Антон-Ульрих, и не мать младенца – Анна Леопольдовна, Великая княгиня, внучка законного русского царя Ивана Алексеевича, были объявлены регентами, а курляндский выходец сомнительного происхождения, к тому же не пользовавшийся симпатиями многих сановников империи.
В этом была заложена мина замедленного действия, и она вскоре сработала.
Подписав манифест, Анна Ивановна попрощалась с каждым из собравшихся у ее постели, последним удостоив Миниха.
– Прощай, фельдмаршал. Простите все, – сказала она и умерла.
Падение герцога Бирона
На следующий день, 18 октября 1740 года, все присягнули новому императору-младенцу и его регенту. Но на этом тихое и благополучное для Бирона развитие событий кончилось. Гвардия открыто призвала к его свержению, называя регентами при Иване VI или мать, или отца императора. На сторону гвардейцев стали и Антон-Ульрих, и Анна Леопольдовна, а первым и важнейшим действующим лицом неминуемого переворота сделался главный соперник Бирона фельдмаршал Миних.
Он действовал решительно и энергично. В ночь с 8 на 9 ноября Миних с тремя десятками преображенцев и со своим адъютантом Манштейном пришел в Летний дворец, где жили регент и его жена, и арестовал их. В ту же ночь были арестованы братья Бирона и его немногочисленные сторонники.
Во время всего переворота не произошло ни единого выстрела, и к шести утра все было кончено. А уже в восемь утра всех взятых под стражу в арестантских каретах повезли в Шлиссельбург.
Регенство, продолжавшееся двадцать два дня, закончилось. На смену ему пришло новое правление, в котором роль регентши должна была играть Анна Леопольдовна. Но и ее правление оказалось очень недолгим. Однако в день переворота этого никто еще не знал.
Как только Бирона и его прозелитов отвезли в Шлиссельбург, тотчас же приступили к конфискации его имущества, находившегося в Петербурге.
Утверждали, что он накопил денег и драгоценностей на 14 миллионов рублей. Среди вещей был у его жены и туалетный стол из чистого золота, украшенный драгоценными камнями. Все дома Бирона в Курляндии были опечатаны, но дружественно настроенный к опальному герцогу польский король Август III попросил пока что ничего не трогать.
Король просил и о высылке Бирона из России в Курляндию, но получил отказ, ибо, как ему было сказано, вины Бирона велики и неисчислимы. Когда же был наконец составлен приговор, то его читали народу в церквах три воскресенья подряд. Бирона обвинили во всех смертных грехах, но прежде всего в том, что он покушался на жизнь покойной императрицы, что сам написал акт о передаче ему власти, а также в многократных случаях превышения власти. 8 апреля 1741 года его приговорили к четвертованию, но Анна Леопольдовна заменила мучительную смерть вечной ссылкой в Пелым, на Северный Урал, за три тысячи верст от Петербурга.
Там быстро выстроили четырехкомнатный дом по чертежам, сделанным лично Минихом – вот где пригодились ему знания инженера, – не подозревавшим, что в этом самом доме вскоре придется очутиться ему самому и прожить в нем двенадцать лет. Но пока дом предназначался для Бирона и его семьи. В соседних домах были поселены шестеро слуг, а содержание от казны оказалось весьма щедрым – 450 рублей в месяц.
Регентша российской короны Анна Леопольдовна
Очередная «коронная перемена», произошедшая в Петербурге, отдала судьбу России в руки двадцатидвухлетней женщины – ленивой, чувственной и весьма недалекой.
Анна Леопольдовна почти все время валялась в постели, читая душещипательные романы и постоянно беседуя со своей возлюбленной фрейлиной Юлией Менгден, о которой ходил упорный слух, что она и регентша – лесбиянки. Возможно, такой слух распространился из-за того, что Анна Леопольдовна могла сутки напролет проводить время в одной постели с Юлией Менгден. И хотя многие современники утверждали, что это – не порочная любовь, а платонические чувства двух близких друг другу душ и сердец, все же находились и такие, которые утверждали обратное. Как бы то ни было, но обе женщины не могли и часа провести друг без друга и постоянно находились рядом.
Как только Анна Леопольдовна превратилась в первую персону в государстве, она стала делать то, чего раньше делать не могла из-за покойной императрицы. Первым делом возле нее появился граф Линар. На сей раз его амурная игра была несколько усложнена – граф, приехав в Петербург, продолжал при каждом удобном случае выказывать глубочайшую влюбленность в Анну Леопольдовну, но одновременно откровенно волочиться и за Юлией Менгден.
Наконец, с благословения регентши, он сделал предложение ее фрейлине, но было решено, что они останутся пока втроем, ибо невозможно было разлучить двух любящих женщин. Таким образом, возник классический треугольник, впрочем, вскоре распавшийся, ибо Линар срочно уехал в Дрезден, взяв с собой кучу денег и шкатулку с бриллиантами, которые, как говорили, он повез дрезденским ювелирам для того, чтобы сделать корону для Анны Леопольдовны, желавшей превратиться из регентши и Великой княгини в Российскую императрицу.
Во время поездки Линар получал нежнейшие письма от Анны Леопольдовны, а в Петербурге уже видели в нем нового Бирона и полагали, что Антон-Ульрих вскоре станет не более чем марионеткой в руках всесильного фаворита.
Пока Линар занимался ювелирными забавами, в верхних этажах власти начались новые баталии. Миних, арестовавший Бирона и занявший пост Первого министра, продолжая оставаться и Президентом Военной коллегии, стал внушать Остерману и его сторонникам большие опасения из-за почти неограниченной власти, сосредоточившейся в его руках. Чтобы создать фельдмаршалу достаточно серьезный противовес, Антону-Ульриху присвоили звание генералиссимуса, князю Алексею Михайловичу Черкасскому – генерал-адмирала, и таким образом Миних перестал быть бесспорно первым военным России. К тому же его противниками были и регентша, и, что не менее опасно, граф Остерман – хитрый, умный, очень осторожный и дальновидный политик. Воспользовавшись тем, что Миних в декабре 1740 года заболел, Остерман сумел внушить регентше мысль, что это – надолго, что фельдмаршал не только болен, но и стар и нуждается в покое от непосильных для него государственных дел.
С этого момента Брауншвейгская чета начала откровенно пренебрегать Минихом: регентша не принимала его, отсылая к мужу, а тот, если и удостаивал фельдмаршала краткой и холодной аудиенции, то подчеркнуто вел себя с ним, как с подчиненным, давая понять старому воину, что перед ним не только герцог, но и генералиссимус. Не выдержав нового для себя унизительного положения, Миних в марте 1741 года подал в отставку, и она была принята.
За всеми этими коллизиями внимательно следили все противники Брауншвейгской фамилии и ее окружения. А ими прежде всего были гвардейские офицеры. Они сделали ставку на цесаревну Елизавету Петровну и составили «комплот», как на французский манер именовали тогда заговор.
Подготовка заговора против Брауншвейгской фамилии
Брауншвейгская фамилия, ее немецкие и русские сторонники располагали кое-какими сведениями о готовящемся заговоре, но, как минимум, недооценивали его опасности для себя. Остерман знал, что одним из заговорщиков является французский посол, маркиз Иоахим-Жак де Шетарди, имевший прямое указание своего правительства всячески способствовать приходу к власти Елизаветы Петровны. Другим иностранным дипломатом, сориентированным на то же самое, был извечно враждебный России шведский посол Нолькен, становившийся таким образом естественным союзником де Шетарди.
Хуже обстояло у правительства дело с осведомленностью о своих собственных, отечественных заговорщиках. По-видимому, подозреваемых было много, так как в гвардии каждый второй мог почитаться сторонником Елизаветы, и потому никаких действий до поры до времени не предпринимали.
Весной 1741 года в Петербурге распространились слухи о раскрытии заговора, об ожидаемом заключении Елизаветы в монастырь и даже о ее предстоящей казни. Говорили, что Елизавета и ее очередной фаворит – Семен Кириллович Нарышкин – тайно обвенчались, и теперь у новой августейшей четы появилось намерение овладеть российским троном. Дело кончилось, однако, не тюрьмой, а высылкой Нарышкина в Париж.
Разговоры прекратились, когда 24 июля 1741 года началась очередная война России со Швецией, и общественное мнение теперь оказалось полностью поглощено военными действиями, происходившими неподалеку от Петербурга. Но война – войной, а заговор – заговором. Тем более что в него потихоньку вовлекались все новые люди, среди которых немаловажную роль стал играть и еще один иностранец – лейб-медик Елизаветы Петровны Арман Лесток.
Француз-протестант Иоганн-Герман Лесток, на французский лад – Арман, в России – Иван Иванович, родился в Ганновере, куда его родители уехали из-за религиозных преследований. Его отец – искусный хирург, ставший в Ганновере врачом герцога Люнебургского, обучил своему ремеслу и Иоганна-Германа, сразу же проявившего немалые к тому способности.
Однако молодому Лестоку было тесно в немецкой провинции, и он уехал в Париж, вступив врачом во французскую армию. Но здесь молодому, красивому, жадному до удовольствий и бедному лекарю хронически не хватало денег. К тому же Лесток был безудержный волокита и повеса, и его амурные приключения следовали беспрерывно. Страдая от бедности и невозможности удовлетворить свои желания, он отправил в 1713 году письмо в Петербург, предлагая свои услуги хирурга, и получил приглашение из Аптекарской канцелярии при Коллегии иностранных дел. По приезде в Россию он был представлен Петру I и так понравился царю своим нравом, внешностью, образованностью, что тут же был назначен лейб-хирургом Его Величества. Лесток вскоре стал своим человеком у царя и царицы и завсегдатаем их застолий. А когда Петр и Екатерина в 1716 году более чем на год отправились за границу, Лесток был назначен лейб-хирургом Екатерины и провел рядом с нею все путешествие, давая немало поводов к довольно нескромным пересудам.
По возвращении в Петербург молодого хирурга неожиданно постигла немилость царской семьи, и Петр велел Лестоку немедленно покинуть Петербург и уехать в Казань для занятий все тем же ремеслом. Причиной опалы стало желание Лестока поухаживать за женой и дочерьми любимого шута Петра I, испанского еврея д’Акосты. Шут не стал жаловаться царю, а посадил жену и дочерей под домашний арест в дом его соседа кухмистера Матиса, а Лестоку сказал, что если тот еще раз появится возле дома, то он прикажет побить кавалера палками. Лесток все же решил переговорить с одной из дочерей д’Акосты, желая сделать ей официальное предложение руки и сердца, но не успел он войти в дом, как на него напали четыре человека и, повалив на землю, начали избивать его, отняли у него парик, часы, бумажник и футляр с хирургическими инструментами. А потом отвели Лестока под стражу, откуда он попал в Преображенский приказ, где и просидел под караулом четыре месяца.
Начальник приказа, знаменитый Андрей Ушаков, докладывая Петру, отметил, что ни в чем другом Лесток не виноват, а кроме того, из-за четырехмесячной отсидки в тюрьме «он в великой десперации находится, опасно, дабы не учинил какой над собой причины». И предложил ограничиться ссылкой Лестока в Казань.
Через четыре года, как только Петр I умер, Екатерина I тут же вернула своего лейб-хирурга в Петербург и приставила его к цесаревне Елизавете. С этих пор Лесток прочно вошел в высший петербургский свет, сохранив прекрасные отношения и со старой московской знатью. Умел он ладить и с Бироном, и с Остерманом, и с кабинет-секретарем Артемием Волынским, который конфиденциально читал ему свои секретные сочинения «Генеральное рассуждение о поправлении внутренних государственных дел» и «Записку о недостоинстве окружающих императрицу людей и о печальном положении людей достойных», за что незадолго до смерти Анны Ивановны, в апреле 1740 года, был обезглавлен. Не попав вместе с Волынским на плаху и даже избежав ссылки, Лесток опасался новой опалы, гораздо худшей, чем прежняя, и потому примкнул к заговору, составленному сторонниками Елизаветы, а вскоре стал играть в нем одну из ведущих ролей.
По роду своей профессии он был вхож в любой дом, а благодаря хорошему знанию нескольких языков незаменим в сношениях с иностранцами. По этой причине он стал посредником между французским послом де Шетарди и шведским Нолькеном, которые, по указанию своих правительств, должны были всемерно содействовать свержению Брауншвейгской фамилии и переходу власти к Елизавете Петровне из соображений собственной выгоды Франции и Швеции.
Маркиз де Шетарди прибыл в Петербург в 1739 году, а более-менее сблизился с Елизаветой лишь после падения Бирона, в конце 1740 года, но и тогда вел себя с ней крайне сдержанно и осторожно, так как еще не имел инструкций своего министра иностранных дел. От союзного Франции шведского посла Шетарди узнал, что на организацию заговора Швеция ассигновала сто тысяч червонцев. И хотя солидность суммы говорила и об основательности намерений, и о достаточной прочности задуманного предприятия, но долгое время прошло в колебаниях, проявляемых обоими иностранными заговорщиками.
Так обстояло дело до последней декады ноября 1741 года, когда в действие вступило испытанное средство неожиданных и насильственных «коронных перемен» – петербургская гвардия.
Толчком к совершению государственного переворота послужили два обстоятельства. Во-первых, 23 ноября на куртаге (торжественном приеме), состоявшемся в Зимнем дворце, Анна Леопольдовна сказала Елизавете, что попросит отозвать Шетарди во Францию, а Лестока прикажет арестовать.
Во-вторых, 24 ноября гвардии было приказано выступить в поход к Выборгу, где шли военные действия против шведов. Да и чисто по-человечески можно было вполне понять нежелание гвардейцев уходить в самом начале зимы из теплых петербургских квартир под Выборг. А кроме того, Елизавета и ее сторонники-гвардейцы не без оснований опасались, что если они покорно уйдут из столицы, то заговор, лишенный своей единственной серьезной опоры, будет немедленно разгромлен.
И в этих обстоятельствах решающую роль сыграли не холодность расчета, не полная готовность заговорщиков, а, как это ни парадоксально, трусость Лестока, более всего боявшегося пыточного каземата Петропаловской крепости. Он ежечасно торопил Елизавету и пугал ее тем, что и она разделит его участь и будет не просто насильно пострижена и навечно заточена в монастырь или пожизненно заключена в крепость, но и, возможно, повешена.
Лесток рассказывал, что поздним вечером 24 ноября 1741 года он в последний раз пришел к Елизавете и положил перед нею две игральные карты. На одной из них Лесток нарисовал цесаревну в короне и мантии, на другой – ее же в монашеском клобуке и черной рясе, стоящей под виселицей.
Взглянув на рисунки Лестока, Елизавета решилась. Переворот начался.
Долгий пролог к молниеносному действию
Мы расстались с Елизаветой Петровной после того, как в Москву на коронацию приехала Анна Ивановна, настолько не любившая свою двоюродную сестру, что порой даже подумывала о ее аресте и заточении в крепость.
Немаловажно заметить, что такие идеи подавал Анне Ивановне Миних, а Бирон и Остерман возражали против этого. Особенно категорическим противником ареста Елизаветы Петровны был Бирон, что впоследствии отразилось на его судьбе. Впрочем, на судьбах Миниха и Остермана их отношение к Елизавете Петровне тоже сказалось должным образом. Но об этом – чуть впереди.
Близкие ей люди утверждали, что Елизавета Петровна спаслась от тюрьмы и ссылки вследствие веселого, легкомысленного нрава, а также своей удивительной необразованности. До конца дней своих она, например, так и не поверила, что Англия – это остров (действительно, что за государство на острове!).
В «Записке о воцарении Екатерины II» граф Никита Панин, говоря об Елизавете Петровне, замечал: «Государыня эта была очень умна от природы, но столь мало образованна, что недостатком образования выделялась даже среди женщин».
Зато внешне цесаревна была необыкновенно хороша и по справедливости считалась одной из красивейших женщин России. По словам одного современника, во время коронации Анны Ивановны принцессу Елизавету разглядел некий гамбургский профессор, который «от красоты ее сошел с ума и вошел обратно в ум, только возвратившись в город Гамбург».
Восторг, приведший некоего гамбургского профессора к безумию, разделяли по отношению к цесаревне почти все, кто ее видел. Ее бесспорно считали одной из самых красивых, буквально умопомрачительных женщин России. Видный русский историк, прекрасный знаток XVIII века В. А. Бильбасов так писал о Елизавете Петровне: «Стройная, с густою каштановою косою и темными бровями, оттеняющими большие голубые глаза, с привлекательною улыбкой, легко переходившей в шаловливый смех, выказывавший строй белых зубов, всегда приветливая с чужими, ласковая с близкими, живая, любезная, веселая, царевна Елизавета Петровна производила чарующее впечатление.
Враждебно относившийся к царевне испанский посланник герцог де Лириа называл ее красоту сверхъестественной. Французские резиденты Лави и Кампредон считали ее красавицей…
Трудно пересчитать все проекты брачных союзов, составлявшихся ради Елизаветы Петровны, всех искателей ее руки и счастливцев, избранных ее сердцем».
Во всяком случае, ее сватали и за Людовика XV, и за трех французских герцогов, и за семерых германских принцев, и за наследника португальского престола, и за сына персидского шаха Надира, не считая русских претендентов – ее племянника Петра II и двух князей – Ивана Долгорукого и Алексея Александровича Меншикова, единственного сына всесильного фаворита.
Что же касается «счастливцев, избранных ее сердцем», то наиболее близкими и любимыми ею были не короли и принцы, а чаще всего люди простого звания.
Первым галантом цесаревны считается Александр Борисович Бутурлин, солдат гвардии, определенный в Морской шляхетский корпус. Выпущенный из него мичманом, Бутурлин был взят царем Петром в денщики. После смерти Петра Екатерина I обратила на него свое благосклонное внимание и в 1725 году сделала Бутурлина гоф-юнкером двора своей дочери – цесаревны Елизаветы.
В ту пору Елизавете было шестнадцать лет, а Бутурлину шел 31-й год. Несмотря на то что до этого он был одним из денщиков Петра I, он сохранял хорошие отношения и со сторонниками царевича Алексея, и с окружением императора.
Как только Петр II взошел на престол, он отблагодарил Бутурлина за расположение к своему отцу, наградив его орденом Александра Невского и пожаловав чины действительного камергера и генерал-майора. Однако благополучие Бутурлина было нарушено, как только Петр II узнал о его истинных отношениях с Елизаветой, в которую юный император был тогда влюблен. Бутурлина отправили на Украину, в армию князя Голицына, а в 1731 году еще дальше – на границу с Персией. Это произошло и потому, что в политической борьбе при дворе он занял сторону Бестужева, своего старого друга и единомышленника, и именно из-за этого враждебные Бестужеву князья Долгоруковы донесли Петру II о близости Елизаветы с Бутурлиным.
Столь же неудачным оказался и роман Елизаветы Петровны со вторым ее любовником – обер-гофмейстером императорского двора Семеном Кирилловичем Нарышкиным. В 1739 году его даже прочили в мужья Елизавете Петровне, а потом из-за слухов о произошедшем тайном венчании отослали в Париж. Об этом, впрочем, говорилось раньше, а здесь я повторяюсь, чтобы не нарушить последовательность хронологии романов любвеобильной «дщери Петровой».
Перед отъездом в Париж С. К. Нарышкину было строго наказано соблюдать глубочайшее инкогнито, проживая во Франции под фамилией дворянина Тенкина.
Вернуться в Россию Семену Кирилловичу удалось лишь после вступления Елизаветы на престол, когда ему уже ничто не могло угрожать. Вскоре по возвращении в Петербург именно он встречал в 1744 году Ангальт-Цербстскую принцессу Софью-Шарлотту – будущую российскую императрицу Екатерину II.
В том же году он стал гофмаршалом «малого двора» и во все время царствования Елизаветы Петровны пользовался ее симпатией и расположением.
После того как Петр II разлучил Елизавету Петровну с Нарышкиным, она нашла утешение в бурной и искренней страсти с Алексеем Яковлевичем Шубиным, бедным дворянином из окрестностей Александровой слободы. Он привлек Елизавету своей сказочной красотой, ласковым и ловким обхождением и веселостью нрава. Елизавета приблизила Шубина, когда он был прапорщиком лейб-гвардии Семеновского полка.
Цесаревна уехала со своим новым возлюбленным на его родину и там, наслаждаясь любовью, с утра до вечера гуляла по окрестным полям и лугам, водила хороводы с деревенскими девушками, играла в горелки с парнями и очень любила щеголять в тесно обтягивающем ее офицерском мундире.
Эта связь почему-то особенно не понравилась императрице Анне Ивановне, и она приказала сослать Шубина на Камчатку, повелев женить его там на камчадалке.
Поговаривали и о том, что ссылка Шубина не обошлась без Бирона, тайно любившего красавицу Елизавету и считавшего, что из-за прапорщика он не может добиться взаимности цесаревны.
А между тем ссыльный прапорщик был едва ли не самым любимым мужчиной в жизни Елизаветы. Может быть, только два будущих ее фаворита – Алексей Разумовский да Иван Шувалов – лишь в какой-то степени могли с ним сравниться.
Во всяком случае, Шубин был единственным возлюбленным, которому цесаревна посвятила стихи.
Вот они:
Я не в своей мочи огнь утушить, Сердцем болею – да чем пособить, Что всегда разлучно И без тебя скучно. Лучше бы тя не знати, Нежль так страдати Всегда по тебе.Не будем строго судить Елизавету-поэта. Ведь эти стихи были написаны во времена Кантемира и Тредиаковского, которые, ей-богу, писали не лучше.
Только после вступления Елизаветы на престол Шубина с большим трудом после двухлетних поисков нашли на Камчатке. Причем ни сам Шубин, ни жители его стойбища не знали, что в России уже два года царствует Елизавета Петровна – в столь глубокой глуши они жили. Привезя Шубина в Петербург, его «за невинное претерпение» произвели в генерал-майоры и наградили орденом Александра Невского. Получив богатые поместья в Ярославском и Нижегородском уездах и очередной чин генерал-поручика, Шубин через год вышел в отставку и удалился на покой в одну из своих деревень.
А Елизавета Петровна, пока ее возлюбленный пребывал в ссылке, с истинно поэтическим легкомыслием утешалась в объятиях целой череды кратковременных любовников. Это были: конюх Никита Андреянович Возжинский, не имевший фамилии из-за своего «подлого» происхождения и получивший ее от названия одного из атрибутов своей профессии; юный прелестник, камер-паж Пимен Лялин; столь же юный сын другого кучера – Ермолай Скворцов.
Все они, как только Елизавета оказалась на троне, мгновенно стали камергерами, получив и значительные поместья, и потомственное дворянство.
Среди близких Елизавете людей был и дворцовый истопник Василий Васильевич Чулков. В отличие от своих более удачливых товарищей, природа не одарила его ни красотой, ни ростом. Он был безобразен лицом и очень мал. Но у Чулкова было и очевидное преимущество перед ними – Василий обладал исключительно тонким слухом и, когда дремал, был необычайно чуток. Елизавета очень боялась ночного ареста, и потому Чулков все ночи проводил в комнате перед ее спальней, подремывая, но не засыпая, в кресле. Оттого-то и он, знавший о всех галантах своей госпожи, проходивших мимо него в ее опочивальню, так же, как и они, был удостоен императорских милостей. Да только милости эти были большими, чем у мимолетных фаворитов. Если каждый из них стал только камергером, то истопник Чулков получил все, что и они, а кроме того орден Александра Невского, чин генерал-поручика и большие богатые поместья.
Однако и Лялин, и Возжинский, и Скворцов оказались не более чем мотыльками-однодневками по сравнению с новым их соперником, прочно завладевшим сердцем цесаревны.
В 1731 году из Венгрии возвратился в Петербург полковник Федор Степанович Вишневский, куда он ездил покупать вино для Анны Ивановны. Он привез императрице не только обоз с вином, но и прекрасного лицом и статью двадцатидвухлетнего казака-малоросса Алексея Розума, встреченного им по дороге из Венгрии возле села Чемер, что неподалеку от города Глухова на пути из Киева в Чернигов. Полковник, остановившись на отдых, услышал, как поет Розум, и упросил чемерского дьячка, у которого Алексей жил, отпустить певца в Петербург. Там парень был представлен обер-гофмаршалу Рейнгольду Левенвольде, и тот поместил его в дворцовый хор Анны Ивановны. А оттуда забрала Розума к себе цесаревна Елизавета, пораженная и дивным голосом, и сказочной красотой своего ровесника-певчего.
Французский посол, маркиз де Ла Шетарди, хорошо осведомленный об интимных делах двора, писал в 1742 году о событиях, произошедших за десять лет до того: «Некая Нарышкина, вышедшая с тех пор замуж (речь идет об Анастасии Михайловне Нарышкиной, вышедшей замуж за генерал-майора Василия Андреевича Измайлова и ставшей затем статс-дамой Екатерины II. – В.Б.), женщина, обладающая большими аппетитами и приятельница цесаревны Елизаветы, была поражена лицом Разумовского, случайно попавшегося ей на глаза. Оно действительно прекрасно. Он брюнет с черной, очень густой бородой, а черты его, хотя и несколько крупные, отличаются приятностью, свойственной тонкому лицу. Он высокого роста, широкоплеч… Нарышкина, обыкновенно, не оставляла промежутка времени между возникновением желания и его удовлетворением. Она так искусно повела дело, что Разумовский от нее не ускользнул. Изнеможение, в котором она находилась, возвращаясь к себе, встревожило цесаревну Елизавету и возбудило ее любопытство. Нарышкина не скрыла от нее ничего. Тотчас же было принято решение привязать к себе этого жестокосердого человека, недоступного чувству сострадания».
К этому времени Шубин уже томился в неволе, а конюхи и истопники не шли ни в какое сравнение с неожиданно появившимся могучим чернобородым любовником.
Елизавета пришла в восторг от альковных утех с ним и огромной силы его страсти. Приближая Разумовского к своей особе, Елизавета сначала переименовала своего нового друга из певчих в «придворные бандуристы», а затем он стал и «гоф-индентантом», получив под свое начало двор и все имения своей благодетельницы.
Став одним из влиятельных придворных, Розум, превратившийся в Алексея Григорьевича Разумовского, остался добрым, скромным, умным человеком, каким и был прежде. Он любил свою мать, заботился о брате и трех сестрах, посылая им деньги, принимал своих деревенских земляков, приезжавших в Петербург, и старался никому не делать зла.
Приблизившись к Елизавете Петровне в 1731 году, Алексей Разумовский оказался чуждым дворцовых интриг, политических игр, коварства, хитростей, борения страстей и не изменил себе на протяжении всей своей жизни. Этими качествами он снискал уважение многих сановников и аристократов. В числе его друзей были и многие родственники Елизаветы Петровны. И сама цесаревна, казалось, приняла тот образ жизни и характер отношений, какой был свойственен ее «другу нелицемерному», как в одном из писем назвала она своего возлюбленного Алексея Разумовского.
Кроме того, не следует забывать, что и Алексей, и Елизавета были необычайно сладострастны, молоды и сильны и обуревавшую их страсть ставили на первое место среди всех прочих чувств.
Уже в самом конце описанных здесь событий, когда заговор вот-вот должен был разразиться, произошел эпизод, красноречиво свидетельствующий об интимных отношениях Елизаветы с Разумовским, а в связи с этим и о подлинных ее отношениях с Лестоком, о чем в довольно изысканнной манере и вместе с тем не без натуралистических подробностей информировал прусского короля Фридриха II его посол Мардефельд-: «Особа, о которой идет речь, соединяет в себе большую красоту, чарующую грацию и чрезвычайно много приятного с большим умом и набожностью, исполняя внешние обряды с беспримерной точностью». (Добавим, что эта ее набожность, любовь к церковным службам и особенно к их обрядовой стороне, как и сердечная склонность цесаревны к русским песням, хороводам и простой народной пище приводили в восторг патриотов, негодовавших против засилья немцев, руководивших страной, но не знавших даже ее языка. Переходя же к личным отношениям цесаревны и ее лейб-медика, Мардефельд продолжал: «Родившаяся под роковым созвездием, то есть в самую минуту нежной встречи Марса с Венерой, она ежедневно по несколько раз приносит жертву на алтаре матери Амура, значительно превосходя такими набожными делами супруг императора Клавдия и Сигизмунда. Первым жрецом, отличенным ею (Елизаветой. – В. Б.), был подданный Нептуна, простой рослый матрос. Теперь эта важная должность не занята в продолжение двух лет. До того ее исполняли жрецы, не имевшие особого значения (Возжинский, Лялин, Скворцов и др. – В. Б.). Наконец, нашелся достойный, в лице Аполлона с громовым голосом, уроженец Украины, и должность засияла с новым блеском. Не щадя сил, он слишком усердствовал, и с ним стали делаться обмороки, что побудило однажды его покровительницу отправиться в полном дезабилье к Гиппократу, посвященному в тайны, чтобы просить его оказать помощь больному. Застав лекаря в постели, она уселась на край ее и упрашивала его встать. А он, напротив, стал приглашать ее позабавиться. В своем нетерпении помочь другу сердечному (т. е. потерявшему сознание Разумовскому. – В. Б.) она отвечала с сердцем: «Сам знаешь, что не про тебя печь топится!» – «Ну, – ответил он грубо, – разве не лучше бы тебе заняться этим со мной, чем со столькими из подонков?» Но разговор этим ограничился, и Лесток повиновался».
Из этого письма Мардефельда следует, что, несмотря на известную зависимость Елизаветы от Лестока как одного из главных участников заговора, она не ответила на его притязания, хотя легкость нрава цесаревны подавала лейб-медику основательные к тому надежды. И все же любовь к Разумовскому и желание помочь ему как можно быстрее оказались сильнее плотской чувственности, постоянно обуревавшей Елизавету.
Можно предположить также, что в это время на первое место у цесаревны выступили вполне понятные политические амбиции и мотивы, ранее не столь для нее важные.
А теперь экстремальные обстоятельства, при которых неотвратимой реальностью могли стать и тюрьма, и плаха, все чаще заставляли Елизавету вспоминать, что она – не кто-нибудь, а дочь всемирно прославленного первого Всероссийского императора. И потому, делая вид, что грязная политика ее не касается, что вся она поглощена любовью и удовольствиями, молодая женщина пела, плясала, охотилась и кутила едва ли не больше любой из своих предшественниц.
Так и проходила жизнь родной дочери Петра Великого и при племяннике ее Петре II, и при кузине Анне Ивановне, и при формальном императоре Иване VI, ее внучатом племяннике, который ее отцу-императору Петру Великому был и вовсе десятая вода на киселе. А уж о регенте Бироне и вообще говорить не приходилось: был он – теткин сожитель, хахаль, как говаривал казак Разумовский. А Елизавета Петровна почти никому не говорила, да зато ни на минуту не забывала, чья она дочь, и, конечно же, знала, что и многие в России помнят о том и вместе с нею свято верят, что ее права на российский императорский трон единственно законные и самые из всех основательные.
Так наступила ночь с 24 на 25 ноября 1741 года – ночь очередного дворцового переворота, когда волею судьбы рядом с цесаревной оказались: врач-француз Арман Лесток, русский аристократ, камер-юнкер Михаил Воронцов, мелкий служитель из Академии наук – немец Карл Шварц и рядовой Преображенского полка, крещеный еврей Петр Грюнштейн.
Главные заговорщики
Именно этот квартет сыграл главную партию в грядущем перевороте, поэтому имеет смысл поближе познакомиться с каждым из новых героев.
Об Армане Лестоке мы уже знаем.
Второй заговорщик, Михаил Илларионович Воронцов, был камер-юнкером Елизаветы с четырнадцати лет. Он пользовался расположением цесаревны еще и потому, что в трудных для нее финансовых обстоятельствах ссужал деньги, которые давал ему старший брат – Роман Воронцов, женатый на богатой купчихе Марфе Ивановне Сурминой. Эта сторона отношений была скрыта от непосвященных и придавала им оттенок дружеской доверительности, которая впоследствии переросла в прочное доверие, позволившее ввести Михаила Воронцова в круг главных участников переворота.
Третий участник заговора – Христофор-Якоб, на русский манер Карл Иванович, Шварц – был вначале трубачом в Семеновском полку, но из-за скудости заработка играл еще и на свадьбах и похоронах, безуспешно пытаясь стать дворцовым музыкантом.
Не добившись успеха в Петербурге, Шварц решил поправить свои дела в чужих краях и добился назначения в русскую дипломатическую миссию, отправлявшуюся в Китай. Эта миссия готовилась еще при жизни Петра I, но начало ее деятельности относится к осени 1725 года. Остановимся более подробно на биографии
Карла Шварца, потому что до сих пор он не привлекал внимания наших историков и оставался в тени забвения.
На подмостках истории Шварц появился тогда, когда рядом с ним оказался Савва Лукич Рагузинский-Владиславич – «действительный статский советник, чрезвычайный посланник и полномочный министр, иллирический граф».
Савва Рагузинский перед отъездом в Китай 1 сентября 1725 года подал в Государственную Коллегию иностранных дел «до-ношение», в коем просил включить в состав уезжающих с ним в Китай людей и четырех музыкантов – двух валторнистов и двух трубачей. Среди этих музыкантов значился и трубач Семеновского полка Христофор Шварц. Эти музыканты, по-видимому, умели играть и на других инструментах, потому что посол запросил дать им скрипки, виолончель, флейты, гобой и др. Из последующих донесений Владиславича мы узнаем, что Христофор-Якоб Шварц исполнял роль не только трубача, но был еще – а может быть, прежде всего – и на роли инженера. «Шварц, – писал Владиславич, – в Швеции инженерству учился и в практике фортецы (фортеции – т. е. крепости. – В. Б.) строил, хотя ныне и трубачом при мне обретается». Когда посольство доехало до Селенги, Шилки и Амура, Шварц после долгих поисков нашел отличное место для строительства двух новых крепостей – Селенгинской и Нерчинской, а после того составил и чертежи для их строительства. Владиславич сообщал также, что Шварц, с его слов, «при швецких и дацких войсках в инженерном деле служил, и сказывает, что такому делу из младенчества обучался».
Возвратившись из Китая в Россию, Шварц поступил в Академию наук, использовав познания, приобретенные им во время путешествия в Пекин и жизни в Китае. В Академию наук его пристроил Лесток, но не смог добиться для своего протеже приличного оклада и предложил ему войти в число заговорщиков, использовав прежние связи в гвардии и агитируя солдат и офицеров в пользу Елизаветы. Шварц согласился, ревностно принялся за новое дело и стал получать от цесаревны и Лестока довольно значительные суммы, которые он передавал их сторонникам.
И, наконец, следует упомянуть и о еще одном активном участнике заговора – Юрии или, по другим данным, Петре Грюнштейне. Он был рядовым в Преображенском полку и вместе со Шварцем вел агитацию в пользу Елизаветы Петровны в гренадерской роте, которая и стала главной силой в совершении государственного переворота, произошедшего в ночь с 24 на 25 ноября 1741 года.
Однако прежде чем это случилось, произошли и другие события, предопределившие успех задуманного предприятия.
Вспомним, что 25 ноября гвардия должна была выступить в поход, и письменные приказы об этом уже были разосланы в гвардейские полки.
Вспомним также, что Лесток принес Елизавете рисунки, на которых были изображены трон и виселица.
Вместе с Лестоком вечером 23 ноября 1741 года пришли к Елизавете и несколько гвардейцев, самым решительным и красноречивым из которых оказался солдат Грюнштейн.
Было решено, что на следующую ночь гвардейцы арестуют Антона-Ульриха и Анну Леопольдовну. Для того чтобы быть уверенным в успехе, Грюнштейн предложил цесаревне выдать деньги на жалованье гвардейцам. У Елизаветы денег не было, но на следующее утро она отдала петербургским ювелирам свои бриллианты под залог и получила необходимую сумму.
В одиннадцать часов вечера 24 ноября Грюнштейн с двенадцатью гвардейцами, его приятелями, пришли к цесаревне и заявили, что для них предпочтительнее совершить государственный переворот, нежели идти среди зимы под Выборг.
Елизавета собрала у себя людей, которым абсолютно доверяла. К ней были созваны: Лесток, Шварц, Алексей Разумовский, трое Шуваловых – Петр, Александр и Иван, Михаил Воронцов, дядя Анны Ивановны Василий Салтыков и четверо дядьев Елизаветы Петровны – все четверо либо братья покойной императрицы Екатерины I, либо мужья ее разных сестер, в прошлом – крепостные лифляндские крестьяне, а теперь – графы российские – Карл и Фридрих Скавронские, Симон Гендриков, Михаил Ефимовский, а также принц Эссен-Гамбургский с женою. И хотя все собравшиеся были достаточно единодушны, главная героиня заговора – Елизавета – все еще колебалась.
Первый дворцовый переворот
Тогда Лесток надел ей на шею орден Святой Екатерины, учрежденный в память о мужестве и предприимчивости ее матери, дал в руки серебряное распятие и вывел из дворца к ожидавшим у ворот саням.
Усадив цесаревну в сани, Лесток сел с нею рядом, а Воронцов и Иван Шувалов встали на запятки. За ними следом помчались Грюнштейн с товарищами, Разумовский, Салтыков и Шуваловы – Александр и Петр.
Все заговорщики остановились возле кордегардии Преображенского полка и попытались пройти в казармы, но часовой ударил в барабан, выбивая сигнал тревоги. Тогда Лесток ударом кинжала пробил барабанную шкуру, и Грюнштейн с товарищами побежали в казармы полка. Преображенцы жили не в корпусах, а в отдельных избах, и их военный городок представлял из себя деревню. В избах жили солдаты, сержанты, капралы и дежурные офицеры, а свободные от службы офицеры ночевали по своим особнякам в городе. Заговорщики разбудили всех, и Елизавета вышла к собравшимся с распятием в руках.
Она взяла с них клятву верности и приказала никого не убивать. Солдаты поклялись, и 364 человека пошли по Невскому проспекту к Зимнему дворцу. У Адмиралтейства заговорщики остановились. Лесток отобрал ударную группу из двадцати пяти человек, а из их числа выбрал восемь солдат, которые, изобразив ночной патруль, подошли к четырем часовым, стоявшим у входа в Зимний, и, внезапно напав на них, обезоружили.
Затем заговорщики пошли во дворец, арестовали Анну Леопольдовну и Антона-Ульриха, а младенца Ивана передали на руки Елизавете Петровне. Она бережно завернула ребенка в теплое одеяло и повезла к себе во дворец, приговаривая: «Бедный, невинный крошка! Во всем виноваты только твои родители!» Разумеется, это было бесспорно, да только «бедный невинный крошка» после этого двадцать два года просидел в разных секретных тюрьмах и в конце концов 4 июля 1764 года в возрасте двадцати четырех лет был убит стражей при попытке освободить его из Шлиссельбургской крепости подпоручиком Смоленского пехотного полка Василием Яковлевичем Мировичем…
Однако и этому сюжету будет уделено внимание в свое время и в своем месте, и историю «заговора Мировича» читатель узнает в подробностях.
Горестная судьба Брауншвейгской фамилии
Под утро 25 ноября Елизавета привезла в свой дворец не только низложенного императора-младенца, но и его родителей – Антона-Ульриха и Анну Леопольдовну, где их всех взяли под арест. Кроме герцогской четы, были арестованы еще шесть человек: Юлия Менгден, Головкин, Остерман, Миних, Левенвольде и Лопухин.
Чтобы навсегда расстаться с Брауншвейгской фамилией, забегая вперед, скажем, что сначала их всех решили выслать на родину, но, довезя до Риги, посадили там в крепость, а затем стали перевозить как арестантов из одного острога в другой.
Анна Леопольдовна умерла от неудачных родов 7 марта 1746 года в Холмогорах, под Архангельском, на двадцать восьмом году жизни. На руках Антона-Ульриха осталось пятеро детей – Иван, Петр, Алексей, Елизавета и Екатерина. Обращало на себя внимание и то, что имена детей были родовыми, царскими, и даже это, казалось, таило в себе определенную опасность.
Мертвую Анну Леопольдовну, по приказу Елизаветы, увезли в Петербург и там торжественно похоронили в Благовещенской церкви Александро-Невского монастыря, объявив, что причиной смерти была горячка-«огневица», а не роды, так как появление на свет еще нескольких претендентов на трон нужно было скрыть. А в 1756 году у Антона-Ульриха забрали шестнадцатилетнего сына Ивана и увезли в Шлиссельбург, в одиночный каземат, не сказав, разумеется, несчастному отцу, куда и зачем увозят от него сына.
Когда в 1762 году, более чем через двадцать лет после ареста «Брауншвейгской фамилии» на трон взошла Екатерина II, Антону-Ульриху была предложена свобода, при условии, что все его дети останутся там же, где и жили – в Холмогорах. Однако Антон-Ульрих отказался оставить детей и не поехал в Данию, где королевой была его родная сестра Юлиана-Мария. Он предпочел неволю с детьми одинокой жизни без них на воле и в достатке. От горя и нервных потрясений, от страданий и тоски по своему первенцу – Ивану Антоновичу, о чьей судьбе ему ничего не было известно, Антон-Ульрих ослеп. Он умер 4 мая 1774 года в Холмогорах в возрасте шестидесяти лет. Место его захоронения неизвестно.
О судьбе Ивана Антоновича будет рассказано дальше, что же касается его братьев и сестер, то судьба их была такова: проведя сорок лет в заточении и ссылке, в 1780 году они были освобождены и отправлены из Ново-Двинской крепости в датский город Горсенс. Там они и доживали свой век, получая ежегодную пенсию от Екатерины по восемь тысяч рублей в год на каждого. Да только не всем им оставалось долго жить – через два года умерла Елизавета, еще через пять – Алексей.
Петр прожил на свободе восемнадцать лет и умер в 1798 году. Последней осталась одинокая, глухая и косноязычная Екатерина, к тому же умевшая говорить только по-русски. Она долго просилась обратно в Россию, чтобы умереть монахиней в одном из монастырей, ибо и по крещению была православной, но ей было отказано. Екатерина умерла последней, 9 апреля 1807 года.
Судьба Бирона, Миниха и Остермана
Новое царствование, как и всякое иное, началось с раздачи наград и милостей тем, кто оказался «в случае», и гонениями на тех, кто в глазах новой императрицы представлял или мог представлять какую-либо угрозу. Если даже тихое, спокойное и легитимное восшествие на престол непременно сопровождалось отличиями и пожалованиями, то чего же следовало ожидать от победительницы в борьбе без правил, которую еще вчера ждал каземат, монастырь или даже эшафот?
Разумеется, отмечена по-царски была вся преображенская рота, возведшая Елизавету Петровну на престол. Все солдаты стали офицерами, а все офицеры – генералами. Рота стала называться «Лейб-компанией» и получила особую форму, а все солдаты не из дворян получили права потомственных дворян, поместья и крепостных.
А главные заговорщики получили ордена, служебные повышения и десятки тысяч рублей каждый.
Немногочисленные сторонники Анны Леопольдовны и Антона-Ульриха были по национальности немцами, и их удаление со всех постов посчитали победой русской национальной политики.
Современникам казалось, что с воцарением Елизаветы изменилось само существо национальной политики России. Но это только казалось, ибо новые русские министры – Бестужев-Рюмин, Воронцов, Олсуфьев и Волков, получали от иностранных дворов не меньшие пенсии и подношения, чем немецкие предшественники. Правда, сама императрица при каждом удобном случае любила говорить, что русский офицер или русский чиновник для нее всегда предпочтительнее иноземца, но существа дела это не изменило, ибо система оставалась прежней и в своей основе, и в принципах.
А вот судьбы трех выдающихся немцев оказались весьма различными. Помня хорошее к себе отношение Бирона, Елизавета велела возвратить его из Пелыма, однако въезд в Петербург и Москву для него остался закрытым, но место поселения было далеко не самым худшим – герцог и все его семейство переехали в Ярославль.
Елизавета приказала купить для него большой дом и вернуть опальному временщику полтора десятка слуг, мебель, кареты, серебряную посуду и библиотеку. На его содержание казна отпускала большие деньги, но сам герцог все равно находился под стражей и даже на охоту ездил в сопровождении караульных. Так прожил Бирон все царствование Елизаветы, – все двадцать лет, – и вернулся в Петербург лишь после ее смерти, когда ему уже перевалило за семьдесят.
Другая судьба ожидала врагов Бирона – Остермана и Миниха. Их обоих приговорили к четвертованию.
На Васильевском острове, против здания Двенадцати коллегий, построили эшафот и приготовили все необходимое для мучительной смертной казни.
Первым подвели к эшафоту Миниха. Он шел из расположенной недалеко от места казни Петропавловской крепости с высоко поднятой головой, твердой походкой, чисто выбритый, в сверкающих ботфортах и красном фельдмаршальском плаще. Офицеры стражи, шедшие с ним рядом, вспоминали, что старый фельдмаршал рассказывал им о сражениях, в которых довелось ему побывать, был совершенно спокоен и даже улыбался.
Миних быстро и решительно взошел на эшафот и без тени страха подошел к плахе с воткнутым в нее огромным топором, которым его через несколько минут должны были разрубить на куски.
Ему прочитали приговор о четвертовании, но потом, после недолгой паузы, сообщили, что смертная казнь заменяется вечной ссылкой. Фельдмаршал, не переменясь в лице, выслушал и это и, так же спокойно сойдя с эшафота, отправился обратно в Петропавловскую крепость.
С Остерманом была проделана та же процедура, и очевидцы утверждали, что он держался столь же достойно и мужественно.
Остермана повезли в Березов, где до него жили Меншиковы и Долгорукие. Его поселили в доме Меншикова, и он, проведя в его стенах шесть лет, умер.
Миниха отвезли в Пелым, где он оказался в доме Бирона: план этого дома Миних нарисовал собственноручно, – ведь он был инженером, – не предполагая, что здесь ему самому придется прожить более двадцати лет. Миних еще ждал, когда его отправят в Пелым, когда Бирон уже выехал в Ярославль. По иронии судьбы случилось так, что экипажи Бирона и Миниха встретились на столбовой дороге и бывшие великие сановники – герцог и фельдмаршал – посмотрели друг на друга и, даже не кивнув один другому, молча разъехались.
Живя в Пелыме, Миних писал мемуары, учил детей местных жителей математике, разводил скот, оставаясь спокойным и равнодушным к постигшему его несчастью.
Его возвратили в Петербург одновременно с Бироном, и оба они, несмотря на то что Миниху было уже 79 лет, а Бирону – 72, еще сумели сыграть немаловажную роль в истории России. Но об этом будет рассказано в свое время.
Жизнь герцога Карла-Петера-Ульриха в Голштинии
Для всякого монарха одним из важнейших государственных актов является акт коронации. И Елизавета Петровна, подобно своим предшественникам, готовилась к этой важнейшей церемонии. Однако до обряда коронации новая императрица, три года назад перешагнувшая порог тридцатилетия и уже оставившая надежду произвести на свет наследника или наследницу Российского престола, решила уладить свои семейные и наследственные дела и приказала привезти в Петербург своего ближайшего родственника – сына ее родной сестры Анны Петровны, вышедшей замуж за Шлезвиг-Голштинского герцога Карла-Фридриха.
Анна Петровна родила мальчика, названного Карлом-Петером-Ульрихом, 10 февраля 1728 года, и меньше чем через месяц после его рождения умерла от неудачных родов, осложненных воспалением легких.
Племянник Елизаветы Петровны, внук Петра I, будущий российский император Петр III в детстве был очень несчастен. Мать он не помнил, а отец его скончался, когда Петру было одиннадцать лет. Чтобы пристроить сироту хоть куда-нибудь, Петра отправили к его дальнему родственнику в Любек, где этот человек занимал епископскую кафедру. Епископ дал в наставники мальчику двух учителей – фон Брюммера и Берггольца. Оба этих наставника были невежды, пьяницы и грубияны. Они часто били мальчика, держали его на хлебе и воде, а то и просто морили голодом, ставя на колени в угол столовой, откуда он наблюдал за тем, как проходит обед.
Если же Петр крал из кухни кусок хлеба, то к экзекуции добавлялось и нечто новое: поставив принца на колени, в руки ему давали пучок розог, а на шею вешали рисунок, на коем был изображен осел.
Петр рос худым, болезненным, запуганным и начисто лишенным чувства собственного достоинства. Ко всему прочему, он стал лжив и патологически хвастлив. Учителя, порой пребывавшие в добром расположении духа, приучили своего воспитанника к спиртному, и он пристрастился к питию почти с детства, предпочитая всем прочим общество кучеров, лакеев, слуг и служанок, которых трудно было считать скромными или добродетельными. Он не любил учиться, все свое время посвящал забавам и потехам. Любимым его занятием были игры с оловянными солдатиками, а любимым зрелищем – пожары. Впоследствии эта страсть стала почти маниакальной: став Великим князем, Петр Федорович велел будить себя даже среди ночи, лишь бы не пропустить очередного пожара.
И вдруг этому праздному и бездеятельному времяпрепровождению пришел конец.
Как только на российский престол взошла Елизавета, Петру было велено начинать изучение русского языка и православных канонов, которые стали ему преподавать два приехавших из России наставника. Однако дело заглохло в самом начале, потому что возникло предположение, что Петра ждет не российский трон, а шведский, так как по матери он был внуком Петра I, а по отцу – внуком сестры шведского короля Карла XII. По-видимому, именно на его примере природа решила убедительно продемонстрировать очевидность того постулата, что на потомках великих людей она отдыхает.
Не успел несчастный принц взяться за шведский язык и протестантский катехизис, как Фортуна вновь обернулась к нему лицом – в конце 1741 года его судьба была окончательно решена – Петра ждала Россия.
Приезд Карла-Петера-Ульриха в Россию
В январе 1742 года он въехал в Петербург под радостные клики тысяч людей, устроивших ему торжественную и теплую встречу.
Карла-Петера-Ульриха начали сразу же обучать русскому языку и догматам православного вероисповедания, причем во втором случае дело было поручено высокообразованному священнику, хорошо знавшему немецкий язык.
А пока принц с великим трудом и со столь же великой неохотой занимался науками, началась подготовка к коронации его августейшей тетки Елизаветы, которая по традиции должна была происходить в Москве.
28 февраля 1742 года Елизавета торжественно въехала в Москву, а коронация состоялась через два месяца – 25 апреля. В этот же день Алексей Разумовский стал кавалером ордена Андрея Первозванного и обер-егермейстером.
Гендриковы, Ефимовские, Петр Михайлович Бестужев-Рюмин и два его сына – вице-канцлер Алексей Петрович и обер-гофмаршал Михаил Петрович – получили графские титулы, а секретарь Елизаветы Петровны, Иван Антонович Черкасский, стал бароном.
Вскоре после коронации Елизавета Петровна без всякой помпы обвенчалась с Разумовским в бедной небольшой церковке подмосковного села Перово. Обряд венчания произвел ее духовник Федор Яковлевич Дубянский, очень образованный богослов, пользовавшийся большим уважением у набожной императрицы.
После венчания Елизавета Петровна зашла к местному священнику, выпила с ним и с попадьей чаю, а выходя из дома, сказала Алексею Григорьевичу Разумовскому – теперь уже ее законному, венчанному мужу, что она хочет познакомиться со своей свекровью – Натальей Демьяновной, овдовевшей крестьянкой, содержавшей корчму неподалеку от города Глухова, и велела послать за нею карету.
Необыкновенная история, произошедшая в глухове и Петербурге
Три сестры Алексея Григорьевича – Агафья, Анна и Вера и младший брат Кирилл жили в Черниговской губернии, в Козелец-ком уезде, на хуторе Лемеши вместе с матерью Натальей Демьяновной. Мать держала шинок, Кирилл пас скотину, а сестры все были замужем за местными: Агафья – за ткачом Будлянским, Анна – за закройщиком Закревским, а Вера – за казаком Дараганом.
Когда в Лемеши прибыл целый кортеж придворных карет, изумлению хуторян не было предела.
– Где живет здесь госпожа Разумовская? – спросили приехавшие.
– У нас никогда не было такой пани, а есть, ваша милость, вдова Розумиха, шинкарка, – по-украински отвечали хуторяне.
Когда же Наталья Демьяновна вышла к ним, то приехавшие поднесли ей богатые подарки и среди прочего – соболью шубу. Затем они стали просить ее вместе со всеми детьми поехать в Москву, к сыну.
– Люди добрые, не насмехайтесь надо мною, что я вам плохого сделала? – отвечала Наталья Демьяновна, в глубине души уже веря случившемуся, потому что кое-какие слухи все же доходили до нее.
Потом она постелила соболью шубу у порога своей хаты, посадила на нее родных – и дочерей, и зятьев, и кумовьев, и сватьев со свахами, выпила с ними горилки – «погладить дорожку, шоб ровна була», – и, обрядившись во все самое лучшее, отправилась в Москву, где после коронации все еще оставался двор.
Почтительный сын выехал ей навстречу и в нескольких верстах от Москвы увидел знакомые ему кареты. Он приказал остановить собственный экипаж и пошел навстречу матери, одетый в расшитый золотом камергерский мундир, в белом пудреном парике, в чулках и туфлях, при шпаге и орденской ленте. Когда возница, увидев Разумовского, остановил карету Натальи Демьяновны, она, выглянув в окно, не узнала в подошедшем вельможе своего некогда бородатого сына, носившего широкие казацкие шаровары да бедную свитку.
А когда поняла, кто это, то от счастья заплакала.
Разумовский обнял маменьку и, пересадив в свою карету, повез в Москву. По дороге он наказал Наталье Демьяновне при встрече с невесткой не чиниться, а помнить, что Елизавета не только невестка, но и российская императрица, дочь Петра Великого.
Наталья Демьяновна была женщиной умной и дала слово, что проявит к Лизаньке всяческую почтительность.
В Москве императрица занимала Лефортовский дворец, имевший высокое парадное крыльцо в два марша.
Наталья Демьяновна обмерла, когда двое придворных, бережно взяв ее под руки, повели к огромной резной двери мимо великанов-лакеев, одетых в затканные серебром ливреи и стоявших двумя рядами на лестнице. (Потом свекровь императрицы признавалась, что приняла их всех за генералов, – так богат был их наряд и такими важными они ей показались.)
Сопровождавшие Наталью Демьяновну придворные ввели ее в маленькую комнатку и передали в руки женщин-служанок. А те попросили ее, самым вежливым образом, снять роскошную, расшитую шелками кофту и прекрасную новую юбку, а также
дорогие модные черевички, сказав, что все это для встречи с государыней непригодно, а взамен почтительно настояли, чтоб надела она все другое – обруч и каркас из китового уса, на который они тут же ловко натянули неимоверно широкую златотканую юбку, столь же прелестную кофту-некофту, на руки надели ей высокие, до локтей, белые перчатки, на ноги – золотые черевички и в довершение всего на голову водрузили высокий белый парик, усыпанный пудрой.
После того нарумянили щеки, насурьмили брови, покрасили губы и повели по еще одной, теперь уже внутренней парадной лестнице – во дворец.
Нужно отметить, что в комнатке, где Наталью Демьяновну обряжали, не было зеркала, и ловкие женщины сделали все это без его помощи.
На новой лестнице стояли такие же «генералы», что и перед входом во дворец, и Наталья Демьяновна, совсем уж оробев, подошла к еще одной огромной двери.
Ах, как не хватало ей сына, который, будь он рядом, успокоил бы ее и все объяснил! Но Алешеньки не было. Оставив ее у ловких служанок, он сказал, что уходит к государыне и вместе с нею выйдет к маменьке, когда Лизанька будет готова к встрече.
Двое лакеев медленно и торжественно, будто царские врата на Пасху, раскрыли перед Натальей Демьяновной двери, и деревенская шинкарка вошла в огромный зал сказочной красоты. Она в мгновение ока оглядела сверкающий паркет, огромные окна, расписанный летящими ангелами и прелестными женами потолок и вдруг увидела, что прямо напротив нее, в другой стороне зала, стоит императрица – в златотканом платье, золотых туфельках, в белых, до локтя, перчатках и высоком – волосок к волоску – парике. Издали Наталья Демьяновна не разобрала, красива ли ее невестка, увидела только широкие черные брови и румяна во всю щеку.
Затаив дыхание, Наталья Демьяновна пошла императрице навстречу и увидела, что та тоже двинулась к ней. И тут, вспомнив слова Алешеньки, что надобно быть с государыней почтительной, свекровь, хоть и было то, вроде бы, и не по обычаю, смиренно опустилась на колени и опустила глаза долу.
Она простояла так несколько мгновений, но невестка почему-то не подходила, и тогда Наталья Демьяновна подняла голову, глянула вперед и увидела, что и Лизанька стоит на коленях и тоже смотрит на нее.
Наталья Демьяновна испугалась, растерялась – видимое ли дело, чтоб царица стояла перед шинкаркой на коленях? – и, протянув к невестке руки, проговорила напевно, ласково, с материнской добротой и всеконечной уважительностью:
– Лизанька, донюшка, царица-матушка! Встань с колен, то мне, простой мужичке, не по чести.
И с удивлением увидела, что и невестка тоже протянула к ней руки и тоже стала что-то говорить, но Наталья Демьяновна, хоть и сохранила отменный слух, ничего не слышала, кроме собственного голоса, и, в растерянности поглядев налево и направо, вдруг заметила, что возле небольшой двери, которую, войдя в зал, она и не разглядела, стоит ее Алешенька, а рядом с ним несказанной красы барыня. Они стояли, держась за руки, и тихонько смеялись. А потом подошли к ней, и краса-барыня подняла ее с колен, обняла и поцеловала. А Алешенька, улыбаясь, сказал:
– То зеркало такое – от пола до потолка.
И Наталья Демьяновна все сразу поняла. Умная она была женщина, но никогда не думала, что зеркало может быть таким большим – во всю стену.
А с Лизанькой они поладили сразу и любили друг друга всю жизнь, потому что много общего оказалось в характерах и нравах деревенской шинкарки и императрицы Всея Руси.
И все же венчание с Разумовским династических проблем не разрешало: он не мог быть наследником трона, да и сам совершенно не хотел этого. И посему 7 ноября 1742 года Карл-Петер-Ульрих, принявший православие и ставший Петром Федоровичем, был объявлен «Великим князем, с титулом Его Императорского Высочества и наследником престола».
А вслед за тем Елизавета Петровна решила женить племянника, и ее выбор окончательно остановился на четырнадцатилетней принцессе Софии-Августе-Фредерике Ангальт-Цербстской.
Детство и юность принцессы Ангальт-Цербстской
Девочка, как уверяли Елизавету Петровну, была умна, красива, получила очень неплохое образование и, что весьма немаловажно, провела несколько лет в Берлине, при дворе прусского короля Фридриха II, вошедшего в историю под именем «Великого» и доводившегося Софии-Августе-Фредерике двоюродным дядей со стороны матери.
Будущая императрица России родилась 21 апреля (2 мая) 1729 года в Штетине, в семье тридцативосьмилетнего генерал-майора прусской армии, князя Христиана-Августа Ангальт-Цербстского. Матерью девочки была семнадцатилетняя жена генерала Иоганна-Елизавета, происходившая из княжеской фамилии Гольштейн-Готторпов.
Существовала версия, что подлинным отцом будущей Екатерины II был один из сотрудников русского посольства в Париже Иван Иванович Бецкой, по другой версии отцом называли самого прусского короля Фридриха Великого.
И действительно, Екатерина была очень похожа на Бецкого, что же касается Фридриха, то его «отцовство» выводили из особо дружеских и доверительных отношений прусского короля с матерью Екатерины, доводившейся ему двоюродной сестрой, однако серьезные историки эту версию достоверной все-таки не признают.
Девочку назвали в честь трех ее теток Софией-Августой-Фредерикой, а называли уменьшительным именем Фике. Фике была не только хороша собой, но и отменно трудолюбива, обладала веселым нравом и добрым сердцем.
Однажды, в начале 40-х годов, маленькая София вместе с матерью приехала в гости к герцогине Брауншвейгской, у которой в то время гостили принцесса Марианна Бевернская и несколько священников. Один из них, некто Менгден, славился как прорицатель. Взглянув на принцессу Бевернскую, он не сказал ничего об ожидавшем ее будущем. Зато посмотрев на Софию Ангальт-Цербстскую, заявил ее матери: «На лбу вашей дочери вижу короны, по крайней мере три».
Девочку учили французскому и немецкому языкам, танцам, истории и географии, музыке и чистописанию. Она училась легко и быстро схватывала все, чему ее обучали.
Когда Софии было десять лет, ее привезли в столицу Любекского княжества город Эйтин, и там при дворе местного епископа она впервые встретилась с одиннадцатилетним голштинским принцем Петером-Ульрихом, будущим ее мужем и российским императором.
А просватали ее за Петера-Ульриха в 1743 году, когда он жил уже в Петербурге и официально был объявлен наследником российского престола. Немало способствовал этому сватовству давний доброхот княгини Иоганны-Елизаветы Фридрих Великий. 30 декабря 1743 года он писал матери будущей императрицы: «Я не хочу дольше скрывать от Вас, что вследствие уважения, питаемого мною к Вам и к принцессе, Вашей дочери, я всегда желал доставить ей необычное счастье, и у меня явилась мысль, нельзя ли соединить ее с ее троюродным братом, русским Великим князем. Я приказал хлопотать об этом в глубочайшем секрете». Далее Фридрих советовал княгине ехать в Россию без мужа, не говоря никому ни слова об истинной цели поездки… По приезде в Москву княгине Иоганне-Елизавете следовало говорить, что эта поездка предпринята единственно для того, чтобы поблагодарить Елизавету Петровну за ее милости к Голштинскому дому.
Первые годы жизни в России
10 января 1744 года мать и дочь выехали из Цербста и через Берлин, Кенигсберг и Ригу 3 февраля прибыли в Петербург, а 9 февраля достигли Москвы, где находились и Елизавета Петровна, и Петр Федорович, и весь императорский двор. В Москву они приехали в канун дня рождения Петра Федоровича, когда ему должно было исполниться шестнадцать лет.
За три версты до Первопрестольной, на Тверской дороге, Софию и ее мать встретил Карл Сиверс, тогдашний кофешенк императрицы и один из ее мимолетных любовников, вскоре ставший камер-юнкером двора Петера-Ульриха, а через некоторое время и графом. Сиверс выразил большую радость в связи с приездом дорогих гостей, которых, по его словам, с нетерпением ожидали в Кремле.
Встреча превзошла все ожидания: обе женщины были обласканы, засыпаны подарками и награждены орденом Святой Екатерины.
Елизавета Петровна была очарована невестой племянника и при любом удобном случае ласкала и одаряла ее. Да и жених в первые дни был очень внимателен и предупредителен по отношению к невесте, но вскоре она поняла, что перед нею не более чем неразвитый, хвастливый и физически очень слабый подросток, хотя в это время ему уже сравнялось шестнадцать лет.
Готовясь к свадьбе, София-Августа-Фредерика много сил и времени отдавала изучению русского языка и проникновению в премудрости православного богословия, чем крайне расположила к себе Елизавету Петровну и многих придворных.
28 июня произошло принятие Ангальт-Цербстской принцессой нового, православного, исповедания и нового имени – Екатерины Алексеевны. Это и была будущая Российская императрица Екатерина Великая.
Без ошибок и почти без акцента произнесла Екатерина символ веры, чем поразила всех, присутствовавших в церкви. А на следующий день состоялась помолвка Петра и Екатерины, официально объявленных женихом и невестой, сопровождаемая и обрядом обручения. Новой Великой княжне, объявленной и «Императорским Высочеством» был придан и придворный штат, который возглавляла приставленная к ней метрессой-оберегательницей сорокачетырехлетняя графиня Мария Андреевна Румянцева – жена графа Румянцева, поймавшего царевича Алексея Петровича.
Хуже обстояло дело с будущим мужем: к Петру Федоровичу для досмотра за ним и опеки не приставили никого, и он в ожидании свадьбы пил водку и слушал от своих лакеев, камердинеров и слуг разные сальности об обращении с женщинами. А Екатерина, зная это, все более охладевала к своему жениху.
Наконец, 21 августа 1745 года состоялось венчание и началась свадьба, продолжавшаяся десять дней, в которой принял участие весь Петербург. Город был украшен арками и гирляндами, из дворцового фонтана било вино, столы, заполненные яствами, стояли на площади перед дворцом, предоставляя каждому, кто хотел побывать на свадьбе Петра и Екатерины, возможность поесть, выпить и повеселиться.
Свадебный пир проходил под орудийные залпы, при свете большого праздничного фейерверка. В эти дни Екатерина была усыпана сапфирами, бриллиантами и изумрудами. На верфях Адмиралтейства произвели спуск на воду 60-пушечного корабля, десять дней в Петербурге звонили во все колокола, а с Невы палили десятки корабельных пушек. Но веселье занимало всех, кроме Екатерины.
Петр и Екатерина, оставаясь наедине, вскоре почувствовали неодолимую неприязнь друг к другу. И эта неприязнь, разрастаясь все более, не оставила их более никогда. Доверяясь дневнику, Екатерина писала: «Мой возлюбленный муж мною вовсе не занимается, а проводит свое время с лакеями, то занимаясь с ними шагистикой и фрунтом в своей комнате, то играя с солдатиками или же меняя на дню по двадцати разных мундиров. Я зеваю и не знаю, куда деться со скуки».
Вскоре размолвка переросла в отчуждение, и императрица приставила к Екатерине свою двоюродную сестру графиню Марию Симоновну Гендрикову, в замужестве Чоглокову, почтенную 23-летнюю мать семейства, чтобы она своим примером и влиянием помогла Екатерине выполнить свой главный долг – родить наследника престола. Мария Симоновна была единственной в истории российского императорского двора статс-дамой, возведенной в это звание еще до замужества, когда ей было девятнадцать лет. Правда, исправляя этот промах, через три месяца она уже вышла замуж за обер-церемониймейстера Николая Наумовича Чоглокова, став образцовой женой и матерью, что, по мысли императрицы, должно было воодушевить к тому же и Екатерину.
Однако время шло, а молодая жена наследника престола не беременела. И дело было не в ней, а в ее супруге. «Если бы великий князь желал быть любимым, то относительно меня это вовсе было не трудно, – писала Екатерина, – я от природы была наклонна и привычна к исполнению своих обязанностей». А Петр Федорович, не обращая внимания на молодую жену, сразу же после свадьбы стал волочиться за фрейлиной Корф, потом за девицей Шафировой, затем почти за всякой придворной дамой, которая проявляла к нему интерес.
В «Записках» за 1746 год Екатерина писала: «Я очень хорошо видала, что Великий князь совсем меня не любит. Через две недели после свадьбы он мне сказал, что влюблен в девицу Карр, фрейлину императрицы… Он сказал графу де Виейре, своему камергеру, что не было и сравнения между этой девицей и мною».
История сохранила, кроме уже названных имен, и многие другие, но ни одну из этих мимолетных любовниц Петра Федоровича нельзя было назвать фавориткой.
К этому разряду могла быть отнесена лишь одна его пассия – главная страсть Петра Федоровича – Елизавета Романовна Воронцова, которую Екатерина называла «фаворит-султаншей». Воронцова была дочерью Романа Илларионовича, ссужавшего некогда бедную цесаревну Елизавету Петровну капиталами своей жены-купчихи, и племянницей одного из героев дворцового переворота – Михаила Илларионовича.
Все современники согласны в том, что любовницы Петра, как на подбор, были некрасивы, невоспитанны и глупы. Особенно уродливой была Воронцова – маленькая, толстая, с лицом, покрытым оспой, с дурным вспыльчивым характером, скандальная, злая и весьма недалекая. И тем не менее именно она имела на Петра Федоровича наиболее сильное влияние. Под горячую руку Воронцова могла и побить наследника престола.
И хотя Елизавета Романовна Воронцова имела на Петра сильное влияние, единственной его любовницей она не была. Особенно неразборчив был император в связях во время бесконечных кутежей, длившихся иногда по нескольку суток. Сам он нередко допивался до бесчувствия, и лакеи выносили его из-за стола, взяв под мышки и за ноги, в то время как под столом оставались допившиеся до последней степени титулованные и нетитулованные сотрапезницы, лежавшие рядом с городскими девками и танцовщицами.
Вместе с тем Петр иногда начинал говорить о том, что заточит Екатерину в монастырь, разведется с ней и обвенчается с Воронцовой, а как только станет императором, то тотчас же возведет Елизавету Романовну на трон.
Красивая, молодая, цветущая, остроумная и веселая Екатерина, конечно же, имела на успех у мужчин гораздо больше шансов, чем ее муж – неказистый, инфантильный, болезненный и недоразвитый во многих отношениях – у женщин. Она хорошо осознавала это и так писала в «Записках»: «Я получила от природы великую чувствительность и наружность, если не прекрасную, то во всяком случае привлекательную; я нравилась с первого разу и не употребляла для того никакого искусства и прикрас. Душа моя от природы была до такой степени общительна, что всегда, стоило кому-нибудь пробыть со мною четверть часа, чтобы чувствовать себя совершенно свободным и вести со мною разговор, как будто мы с давних пор были знакомы. По природной снисходительности моей, я внушала к себе доверие тем, кто имел со мною дело; потому что всем было известно, что для меня нет ничего приятнее, как действовать с доброжелательством и самою строгою честностью. Смею сказать (если только позволительно так выразиться о самой себе), что я походила на рыцаря свободы и законности; я имела скорее мужескую, чем женскую, душу, но в том ничего не было отталкивающего, потому что с умом и характером мужским соединялась во мне привлекательность весьма любезной женщины.
Да простят мне эти слова и выражения моего самолюбия: я употребляю их, считая их истинными и не желая прикрываться ложною скромностью. Впрочем, само сочинение это должно показать, правду ли я говорю о моем уме, сердце и характере. Я сказала о том, что я нравилась; стало быть, половина искушения заключалась уже в том самом; вторая половина в подобных случаях естественно следует из самого существа человеческой природы, потому что идти на искушение и подвергнуться ему – очень близко одно от другого. Хотя в голове запечатлены самые лучшие правила нравственности, но, как скоро примешивается и является чувствительность, то непременно очутишься неизмеримо дальше, нежели думаешь. Я по крайней мере не знаю до сих пор, как можно предотвратить это. Может быть, скажут, что есть одно средство – избегать; но бывают случаи, положения, обстоятельства, где избегать невозможно; в самом деле, куда бежать, где найти убежище, как отворачиваться посреди двора, который перетолковывает малейший поступок. Итак, если не бежать, то, по-моему, нет ничего труднее, как уклониться от того, что вам существенно нравится. Поверьте, все, что вам будут говорить против этого, есть лицемерие и основано на незнании человеческого сердца. Человек не властен в своем сердце; он не может по произволу сжимать его в кулак и потом опять давать свободу».
Искренне следуя тому, о чем она здесь написала, Екатерина не стала смирять чувства, овладевавшие ее сердцем, – плоть, кажется, она еще смиряла и сердечно привязалась к одному из камер-лакеев своего мужа – Андрею Гавриловичу Чернышову, сыну крепостного крестьянина, служившего недавно рядовым в Гренадерской роте Преображенского полка. Андрей Чернышов оказался в числе лейб-компанцев и вместе с другими солдатами стал прапорщиком и наследственным дворянином. Вместе с ним служили во дворце и два его брата – Алексей и Петр. Все они были любимцами Петра Федоровича, но особенно благоволил он к старшему – Андрею.
Из-за своей редкой красоты, силы и высокого роста он был взят камер-лакеем к Петру Федоровичу и стал одним из его ближайших и доверенных людей.
Он понравился и Екатерине, и она тоже подружилась с ним, шутливо называя его «сынком», а Чернышов ее – «матушкой». В мае 1746 года де Виейра застал Чернышова и Екатерину возле спальни Великой княгини, донес об этом Елизавете, – и та распорядилась арестовать Чернышова и его братьев.
Два года просидел Чернышов в заключении, а потом был отправлен на службу – далеко на Урал, на границу с Сибирью, в Оренбург, в армейский полк.
Эти подозрения основывались не более чем на сплетнях, потому что, кроме братьев Чернышовых, были допрошены и Петр с Екатериной, и другие их придворные, но никаких доказательств найдено не было. Однако несмотря на невиновность Екатерины, приставленную к ней обер-гофмейстерину Чоглокову постигла опала, так как она не только не добилась того, ради чего была приставлена к молодым супругам, но и не замечала очевидного, о чем, кроме нее, знали все придворные: а именно, что ее собственный муж обер-гофмейстер и камергер Николай Наумович Чоглоков смело заглядывается на Екатерину и одновременно откровенно волочится за фрейлиной Кошелевой, что брат мужа императрицы Кирилл Разумовский тоже открыто бросает влюбленные взоры на жену Петра Федоровича, а последний, пренебрегая всеми правилами приличия, откровенно увивается вокруг любой юбки.
Чоглокова отставили от должности, назначив вместо него гофмаршалом двора Петра Федоровича князя Репнина, который был полной противоположностью Чоглокову – умным, честным, спокойным и добрым человеком.
К этому времени произошел окончательный разрыв отношений между Петром и Екатериной. Тому способствовало многое, но наиболее сильное и неблагоприятное впечатление произвело на Екатерину то, что ее муж начал проявлять еще и жестокость по отношению к животным.
Сначала Екатерина стала свидетельницей того, как во время игры в солдатики, слепленные, кстати сказать, из теста, выскочившая из-под пола крыса прыгнула на бруствер игрушечной крепости и съела одного из часовых. Кто-то из партнеров Петра, забавлявшихся вместе с ним игрой в солдатики, поймал крысу, и над ней был учинен военно-полевой суд, после чего преступницу под барабанный бой повесили.
Кроме того, Петр поселил в своих комнатах, расположенных рядом со спальней Екатерины, целую свору собак и под видом дрессировки постоянно истязал их.
От собачьего воя Екатерина буквально не знала куда деваться, но августейший дрессировщик был неумолим.
Молодая женщина сначала скучала в одиночестве, потом с головой погрузилась в книги, а досуги проводила на охоте, на рыбалке, занимаясь, кроме того, танцами и верховой ездой.
Как и следовало ожидать, таких невинных забав оказалось недостаточно для сильной, молодой женщины, обладавшей к тому же более чем пылким темпераментом.
Роман Екатерины с графом Сергеем Салтыковым
Ее первым любовником стал камергер Петра Федоровича Сергей Васильевич Салтыков.
Салтыков был двумя годами старше Екатерины. Он принадлежал к старшей линии знаменитого рода Салтыковых, известного с XIII века. Его отец – граф и генерал-аншеф Василий Федорович Салтыков – был родным братом царицы Прасковьи Федоровны, жены царя Ивана Алексеевича, и таким образом приходился Елизавете Петровне родней. Немаловажно было также и то, что Василий Федорович Салтыков был женат на княжне Марии Алексеевне Голицыной, чьи многочисленные родственники пользовались популярностью в гвардейских полках, и немалое число их оказалось на стороне Елизаветы Петровны.
В 1750 году двадцатичетырехлетний Сергей Васильевич Салтыков женился на фрейлине императрицы Матрене Павловне Балк – племяннице уже известных нам, близких к Петру I и Екатерине немцев Балков и Монсов. Благодаря обширным родственным связям, а также своей редкой красоте, Сергей Салтыков, став камергером Великого князя Петра Федоровича, одновременно стал душой «малого» или, как его называли, «молодого» двора. Он не пропускал повода постоянно появляться возле Екатерины.
Однажды «Сергей Салтыков, – пишет Екатерина, – дал мне понять, какая была причина его частых посещений… Я продолжала его слушать; он был прекрасен, как день, и, конечно, никто не мог с ним сравняться ни при большом дворе, ни тем более при нашем. У него не было недостатка ни в уме, ни в том складе познаний, манер и приемов, какие дают большой свет и особенно двор. Ему было 25 лет; вообще, и по рождению, и по многим другим качествам это был кавалер выдающийся… Я не поддавалась всю весну и часть лета».
Как-то во время охоты на зайцев, оставшись наедине с Екатериной, Салтыков признался ей в страстной любви. Ответному чувству Екатерины способствовало то, что Петр Федорович в это время стал волочиться за девицей Марфой Исаевной Шафировой – внучкой петровского сподвижника барона П. П. Шафирова. В это же время Елизавета Петровна запретила Екатерине ездить верхом по-мужски, а не амазонкой, утверждая, что именно поэтому у нее и нет до сих пор детей. Вслед за тем Елизавета Петровна присмотрела в Ораниенбауме хорошенькую молодую вдовушку художника Грота и через придворных стала склонять ее к любовной связи с Петром Федоровичем.
14 декабря 1752 года двор выехал из Петербурга в Москву, и Екатерина «отправилась с кое-какими легкими признаками беременности», но по дороге у нее случился выкидыш, и ожидавшиеся роды не состоялись.
«Заподозрив Екатерину в неверности и окончательно возненавидев ее, – писал известный мемуарист и ученый-агроном Андрей Тимофеевич Болотов, – Петр Федорович стал обходиться с нею с величайшею холодностию и слюбился напротив того с дочерью графа Воронцова и племянницею тогдашнего великого канцлера, Елисаветою Романовною, прилепясь к ней так, что не скрывал даже ни пред кем непомерной к ней любви своей, которая даже до того его ослепила, что он не восхотел от всех скрыть ненависть свою к супруге и сыну своему и при самом еще вступлении своем на престол сделал ту непростительную погрешность и с благоразумием совсем несогласную неосторожность, что в изданном первом от себя Манифесте не только не назначил сына своего по себе наследником, но не упомянул об нем ни единым словом.
Не могу изобразить, как удивил и поразил тогда еще сей первый его шаг всех россиян и сколь ко многим негодованиям и разным догадкам и суждениям подал он повод».
Когда же Болотов во время дворцового приема впервые увидел Елизавету Романовну Воронцову, то, не зная еще, что за дама прошла перед ним, спросил дежурного полицейского офицера: «Кто б такова была толстая и такая дурная, с обрюзглою рожею, боярыня?» И был поражен, когда тот сказал, что это Воронцова. «Ах, Боже мой! Да как это может статься? Уж этакую толстую, нескладную, широкорожую, дурную и обрюзглую совсем любить, и любить еще так сильно, государю?… ибо в самом деле была она такова, что всякому даже смотреть на нее было отвратительно и гнусно».
К этому времени Елизавета Петровна окончательно изверилась в способности своего племянника стать отцом наследника престола. Императрица очень хотела иметь внука, точнее внучатого племянника, во всяком случае, цесаревича и продолжателя династии – и нетерпение ее стало столь велико, что она даже приказала найти для Екатерины надежного фаворита, который сумел бы сделать то, чего не мог добиться венчаный августейший супруг.
Александр Михайлович Тургенев – столбовой московский дворянин, живший в конце XVIII – начале XIX веков и прекрасно осведомленный о тайных делах двора, оставил прелюбопытнейшие «Записки», основывавшиеся на семейном архиве, дневниках и преданиях его семьи и рода. Да и сам Тургенев много знал, а еще больше был наслышан о секретнейших делах двора, потому что с четырнадцати лет стоял на часах в императорских дворцах, был на посту и в день смерти Екатерины II и с первых же дней нового царствования состоял при императоре Павле ординарцем. Тургенев служил при штабах князя Волконского и графа Салтыкова, был в ближайшем окружении статс-секретаря Александра I – Михаила Михайловича Сперанского. Он был дружен с воспитателем царских детей Василием Андреевичем Жуковским и многое знал от него.
В «Записках» Тургенева сохранилось много интересных подробностей, в том числе и некоторые фрагменты из истории взаимоотношений Екатерины Алексеевны и графа Салтыкова.
Тургенев сообщал, что канцлер Алексей Петрович Бестужев-Рюмин узнал от самой Великой княгини Екатерины Алексеевны пикантную комическую подробность ночного ее времяпрепровождения с Петром Федоровичем.
Тургенев писал: «Бестужев… был ее министром, поверенным всех тайных ее помыслов. От нее непосредственно Бестужев сведал, что она с супругом своим всю ночь занимается экзерцицею ружьем, что они стоят попеременно на часах у дверей, что ей занятие это весьма наскучило, да и руки и плечи болят у нее от ружья. Она просила его (Бестужева) сделать ей благодеяние, уговорить Великого князя, супруга ее, чтобы он оставил ее в покое, не заставлял бы по ночам обучаться ружейной экзерциции, что она не смеет доложить об этом императрице, страшась тем прогневить ее величество… Пораженная сею вестью, как громовым ударом, Елизавета казалась онемевшею, долго не могла вымолвить ни слова. Наконец зарыдала и, обращаясь к Бестужеву, сказала ему:
– Алексей Петрович, спаси государство, спаси меня, спаси все, придумай, сделай, как знаешь!
Бестужев предложил для действия прекрасного собою, умного и отличного поведения перед прочими камергера Сергея Салтыкова…»
Поручив Бестужеву уладить это дело, императрица, по-видимому для надежности, дала такое же задание уже известной нам статс-даме Марии Семеновне Чоглоковой, и та, отозвав однажды Екатерину в сторону, сказала, что сама она, Чоглокова, абсолютно верна своему мужу, но бывают «положения высшего порядка, которые вынуждают делать исключения из правила». Таким «положением высшего порядка» было продолжение династии. Причем Чоглокова предложила Екатерине одного из двух претендентов в фавориты – или Сергея Салтыкова, или Льва Нарышкина.
Это предложение императрицы Чоглокова передала уже после того, как роман между Екатериной и Салтыковым был в полном разгаре и когда она уже забеременела от него, хотя и неудачно.
Между тем Салтыков, хотя, кажется, и любил Екатерину, но только еще более любил себя и свою карьеру, за которую при сложившихся обстоятельствах не мог не опасаться.
Все происходившее вокруг него заставило Сергея Васильевича в конце 1752 года взять отпуск и уехать к родным, но не прошло и трех месяцев, как Салтыков вновь появился при «малом дворе», который вместе с «большим двором» на весь 1753 год переехал из Петербурга в Москву.
Салтыков то появлялся возле Екатерины, то исчезал, объясняя такую тактику нежеланием ее компрометации. Так проходило время в обеих столицах. Лето 1754 года двор снова провел в Москве и Подмосковье, а затем тысячи телег и экипажей двинулись из Первопрестольной в Петербург. На сей раз Елизавета Петровна решила не спешить и приказала проезжать каждые сутки только от одной станции до другой. Между столицами было тогда 29 станций, и потому дорога заняла ровно месяц.
Рождение наследника престола Павла Петровича
Екатерина, вновь беременная, успела благополучно добраться до Петербурга и в среду, 20 ноября 1754 года, около полудня в Летнем дворце родила сына.
«Как только его спеленали, императрица ввела своего духовника, который дал ребенку имя Павла, после чего тотчас же императрица велела акушерке взять ребенка и следовать за ней… – писала потом Екатерина. – Как только удалилась императрица, Великий князь тоже пошел к себе, и я никого не видела ровно до трех часов. Я много потела, я просила Владиславлову (одну из статс-дам Екатерины) сменить мне белье, уложить меня в кровать; она мне сказала, что не смеет. Она посылала несколько раз за акушеркой, но та не приходила; я просила пить, но получила тот же ответ… Со следующего дня я начала чувствовать невыносимую ревматическую боль, и притом я схватила сильную лихорадку. Несмотря на это, на следующий день мне оказывали почти столько же внимания; я никого не видела и никто не справлялся о моем здоровье. Я то и дело плакала и стонала в своей постели».
А в городе, как бы намеренно подчеркивая контраст в положении несчастной роженицы и прочих родственников появившегося на свет цесаревича, начались пышные торжества. Во всех церквах Петербурга служили благодарственные молебны, над городом плыл густой, непрерывающийся колокольный звон, а сановники наперебой поздравляли императрицу и Петра Федоровича с рождением цесаревича, начисто забыв о Екатерине.
Вечером было объявлено, что крестными отцом и матерью новорожденного будут «оба Римско-Императорские Величества», персоны которых при крестинах станет представлять посол Австрии в Петербурге граф Эстергази.
Во дворце и в домах знати вспыхнули великие празднества – пиры и маскарады, на улицах появились длинные ряды столов с даровыми яствами и питиями, а в ночном небе полыхал фейерверк, изображавший написанную огненными красками картину: коленопреклоненная женщина, символизировавшая Россию, стояла пред алтарем, на коем красовалась надпись: «Единого еще желаю». Как только картина угасла, вспыхнула новая: на облаке возлежал на пурпуровой подушке младенец, а под облаком сверкала другая надпись: «Тако исполнилось твое желание».
Был не только фейерверк, – были также и стихи. Фейерверк вскоре отполыхал и угас, а стихи остались, ибо были они написаны первым пиитом России Михаилом Васильевичем Ломоносовым:
С великим прадедом сравнися, С желаньем нашим восходи. Велики суть дела Петровы, Но многие еще готовы Тебе остались напреди.На шестой день после родов, в день крестин, Елизавета сама принесла Екатерине на золотом блюде указ своему Кабинету о выдаче ей ста тысяч рублей. Кроме того, она принесла и небольшой ларчик. Этот ларчик Екатерина открыла, когда императрица ушла. В нем лежало «очень бедное маленькое ожерелье с серьгами и двумя жалкими перстнями, которые мне, – писала Екатерина, – совестно было бы подарить моим камер-фрау».
После крестин младенца не оставили у матери, – на крестины, кстати, не приглашенную, а потому на оных и не бывшую, – а отнесли к августейшей его бабке – бездетной и потому совершенно неопытной в уходе за новорожденным. Мальчика, завернув во фланелевые пеленки, положили в колыбель, обитую мехом черно-бурых лисиц, закрыли двумя одеялами и оставили в жарко натопленной опочивальне, под надзором кормилицы и нянек. Из-за этого Павел всю жизнь боялся простуды и все же часто ею болел.
Праздник еще гудел, сверкал и разливался, а по Петербургу уже пополз слушок, что отцом новорожденного является никак не Великий князь, а граф Сергей Салтыков – полюбовник Екатерины Алексеевны. Уже известный нам Тургенев писал: «Секретнее еще всего сказанного говорили старики вполголоса, что Великая княгиня разрешилась от бремени дочерью, одни утверждали – живою, другие спорили, что дитя было мертвое. Что наскоро было сыскано новорожденное дитя в селе Галичине и заступило место рожденного Великою княгинею».
Когда Екатерина родила Павла, Бестужев доложил императрице, что «начертанное по премудрому соображению Вашего Величества восприяло благое и желанное начало, – присутствие исполнителя высочайшей воли Вашего Величества теперь не только здесь не нужно, но даже к достижению всесовершенного исполнения и сокровению на вечные времена тайны было бы вредно. По уважению сих соображений, благоволите, всемилостивейшая государыня, повелеть камергеру Салтыкову быть послом Вашего Величества в Стокгольме, при короле Швеции».
(В «Записки» А. М. Тургенева вкралась небольшая неточность: С. В. Салтыков не был назначен послом России в Швеции, а был послан в Стокгольм с почетной миссией протокольного характера – известить о рождении наследника шведского короля Адольфа-Фредерика, близкого родственника Петра Федоровича, из одной с ним Гольштейн-Готторпской династии.)
Правда, кривотолки только еще более усилились, так как поездка в недалекий в общем-то от «Северной Пальмиры» Стокгольм предусматривалась на необычайно долгий для такой миссии срок – более чем на полгода: Салтыков, выехав 7 октября 1754 года, должен был возвратиться лишь на масленицу, то есть к проводам зимы и началу весны. Но и к этому времени Салтыков не вернулся. Прямо из Стокгольма его отправили в Гамбург, главой русской дипломатической миссии, куда он и прибыл 2 июля 1755 года. Однако по дороге туда Салтыкова ждал поистине царский прием в Варшаве и еще более теплый и радушный у родителей Екатерины в Цербсте, после чего слухи о его отцовстве распространились и по Европе. И, наконец, когда 22 июля
1762 года, через две недели после прихода Екатерины к власти, она назначила Салтыкова русским послом в Париже, прозвучал последний аккорд в признании его необычайной близости к Екатерине.
А Салтыков после Парижа, побывав еще и посланником в Дрездене, заслужил от Екатерины нелестную характеристику «пятого колеса у кареты» и никогда более не появлялся при дворе, умерев в почти полной безвестности.
Екатерина – ученица и наставница
«Когда прошло сорок дней со времени моих родов, – писала Екатерина II, – императрица пришла вторично в мою комнату. Я встала с постели, чтобы ее принять, но она, видя меня такой слабой и такой исхудавшей, велела мне сидеть, пока ее духовник читал молитву. Сына моего принесли в мою комнату: это было в первый раз, что я его увидела после его рождения». Но его тут же унесли обратно.
Дальнейшие события – с 1754 по 1760 год – мы будем, главным образом, освещать с помощью «Записок» Екатерины, потому что этот период отражен в них весьма интересно, полно и очень подробно. Историк Карамзин в письме к поэту Дмитриеву писал: «Нынешней зимой читал я „Записки“ Екатерины Великой… очень, очень любопытно! Двор Елизаветы как в зеркале…»
Давайте же взглянем в это зеркало и мы.
…После рождения Павла отношения между Екатериной и мужем еще более ухудшились. Дело дошло до того, что однажды Петр, придя в апартаменты жены, несколько раз сказал, что сумеет образумить ее. А когда Екатерина спросила: «Как же?», Петр до половины вытянул из ножен шпагу.
Между тем к этому времени Екатерина сумела приобрести среди многих придворных, – и поголовно у всех дворцовых слуг – большой авторитет. Она была ровна в обращении, ничуть не высокомерна, свободно и почти без акцента говорила по-русски, питая слабость к простонародным оборотам речи и зная множество пословиц и поговорок. Екатерина при каждом удобном случае подчеркивала свою набожность, почитание и пылкую любовь к своей новой Родине – России.
Первые два года русскому языку обучал ее по рекомендации Кирилла Григорьевича Разумовского, родного брата Алексея Григорьевича, один из лучших русских лингвистов и лексикографов Василий Евдокимович Адодуров. Писатель и переводчик, он был первым русским адъюнктом Академии наук по высшей математике, избранным по представлению великого Эйлера. Выбор К. Г. Разумовского был не случаен – Адодуров свободно владел немецким и французским языками, которые знала его ученица, а это являлось непременным условием того, чтобы образование было высококачественным.
Английский посол Уильямс так отзывался об Адодурове: «Я не видел ни одного из туземцев, столь совершенного, как он; он обладает умом, образованием, прекрасными манерами; словом, это русский, соизволивший поработать над собой».
Адодуров стал для Екатерины не только учителем русского языка, но и на всю жизнь остался большим и преданным другом, сохранив ее верность в несчастьях, постигших его в 1759 году, когда он был обвинен в соучастии в заговоре, якобы имевшем целью возвести Екатерину на престол.
Когда же его ученица стала императрицей, она не забыла своего учителя, друга и слугу – Адодуров стал сразу сенатором, куратором Московского университета и президентом Мануфактур-коллегии, а скончался он Почетным членом Академии наук и действительным тайным советником, что по «Табели о рангах» соответствовало званию генерал-аншефа. Через два года занятий русским языком происками недоброжелателей Адодуров был отстранен от преподавания и перешел на службу в Коллегию иностранных дел к А. П. Бестужеву-Рюмину.
После этого Екатерина начала упорно заниматься самообразованием, вставая в шесть часов утра и не тратя времени попусту. Принято думать, что большую часть времени занимали у нее штудии иноземных авторов-немцев и французов, однако это не так – на первом месте стояли у нее книги по русской словесности, по истории и географии России. Именно это впоследствии позволило ей стать одним из лучших историков России, уступая лишь таким корифеям, как И. Н. Болтин, Г. – Ф. Миллер, В. Н. Татищев, А. – Л. Шлецер и М. М. Щербатов. А ее литературные труды поставили Екатерину в ряд русских писателей-профессионалов. Екатерина оставила после себя тысячи писем, сказки, стихи, комедии, драмы, учебники, записки мемуарного характера, свидетельствующие об универсальности и энциклопедичности знаний.
Ее самообразование носило и чисто прагматичный, утилитарный характер – она хотела знать страну, которой всерьез готовилась управлять.
А что касается ее научных и литературных интересов, связанных с Западом, то и они были весьма многообразны и широки. Екатерина переписывалась с французскими энциклопедистами – Вольтером, Дидро, Монтескье, с великим естествоиспытателем Бюффоном, со скульптором Фальконе – будущим автором «Медного всадника», украшенного лапидарной надписью: «Петру Первому от Екатерины Второй», читала множество французских и немецких книг, заказывая, кроме того, переводы с английского, с латыни, с итальянского, если эти книги почему-либо интересовали ее.
Ее чтение не было искусством для искусства. Когда Дидро спросил Екатерину о населении России, о сословных отношениях и русском земледелии, то получил в ответ несколько статей, тщательно и серьезно написанных императрицей.
Вместе с тем Екатерина находила время заниматься верховой ездой, игрой в бильярд, любила гравировать по металлу, работать за токарным станком, рисовать карандашом.
К этому следует добавить страстную любовь Екатерины встречаться со всеми выдающимися людьми, приезжавшими в Петербург из разных стран, постоянное общение с крупнейшими русскими учеными, литераторами, издателями, актерами, музыкантами, живописцами. Причем очень часто знаменитые иноземные визитеры оказывались в России по ее приглашению.
Все это впоследствии привело к тому, что Екатерину по справедливости стали считать самой просвещенной государыней Европы.
Барон Гримм, дважды побывавший в Петербурге, основываясь на непосредственных впечатлениях от общения с Екатериной, отзывался о ней так: «Надо было видеть в такие минуты эту необычайную голову, эту смесь гения с грацией, чтобы понять увлекавшую ее жизненность; как она своеобразно схватывала, какие остроты, проницательные замечания падали в изобилии одно за другим, как светлые блестки природного водопада. Отчего не в силах моих воспроизвести на письме эти беседы! Свету досталась бы драгоценная, может быть, единственная страница истории ума человеческого. Воображение и разум были одинаковы поражаемы этим орлиным взглядом, обширность и быстрота коего могли быть уподоблены молнии. Да и возможно ли было уловить на лету ту толпу светлых движений ума, движений гибких, мимолетных! Как перевести их на бумагу? Расставаясь с императрицей, я бывал обыкновенно до того взволнован, наэлектризован, что половину ночи большими шагами разгуливал по комнате».
Однако все это будет потом, а сейчас мы оставили Екатерину еще не императрицей, а Великой княгиней, только что родившей наследника престола, и вот к ней-то мы и возвратимся.
Первые шаги в европейской политике
Отрешенная от сына, покинутая мужем, деятельная, умная и энергичная Екатерина не могла ограничиться чтением, письмом, охотой и ремеслами. Она понимала, что ее удел – политика, и стала исподволь готовить себя к той роли, которую вскоре стала играть столь блистательно. Следует отметить, что Петр Федорович, будучи наследником российского престола, оставался и герцогом Голштинским.
Управление Голштинией было его прерогативой, требовало знания дел в герцогстве, проникновения во внешнеполитические коллизии, связанные с соседями этого государства, верного понимания проблем большой европейской политики. На все это у Петра Федоровича не было ни времени, ни желания, ни способностей.
И, мало-помалу, Екатерина прибрала голштинские дела к своим рукам, к вящему удовольствию Петра Федоровича. Для нее занятия голштинскими делами оказались очень полезны, ибо она стала стажироваться в управлении государством, входя во все аспекты внутренней и внешней политики. А в начале 1755 года Петр Федорович и официально передал ей занятия голштинскими делами.
Чуть раньше произошло сближение Екатерины с канцлером Бестужевым. Канцлер был рад потеплению отношений с Екатериной и стал одним из верных и преданных ее сотрудников, вводя ее в сферу наиболее важных государственных дел и исподволь готовя Екатерину к мысли, что российский трон после смерти Елизаветы должен перейти не к Петру Федоровичу, а к ней.
Такого рода идеи пали на хорошо подготовленную почву – Екатерина и сама думала о том же, и не только думала, но и готовилась к такого рода развитию событий, хотя и очень неспешно и осторожно.
Вопрос о том, кому будет принадлежать трон, приобретал жгучую актуальность из-за того, что Елизавета Петровна, подорвавшая свое здоровье беспрерывными кутежами и совершенно безалаберной жизнью, стала все чаще болеть и месяцами не прикасалась к государственным бумагам.
И русские вельможи, и резиденты иностранных дворов, и живо на все реагировавшие офицеры гвардии хорошо понимали серьезность ситуации и, задумываясь над всем происходящим, отдавали предпочтение Екатерине.
Прусский резидент в Петербурге Мардефельд, слывший умным и проницательным человеком, сказал однажды Екатерине: «Вы будете царствовать, или я совсем глупец».
Все это происходило в условиях резкого изменения международной обстановки, когда на первый план выдвинулись англо-французские противоречия и России надлежало либо сохранять нейтралитет, чего она не сделала, либо принять чью-либо сторону.
В 1754 году произошли вооруженные столкновения между англичанами и французами в Канаде, а в 1756 году военные действия были перенесены на территорию Европы.
К этому времени возникло две коалиции: англо-прусская, поддержанная рядом северогерманских государств, и франко-австрийская, на стороне которой были Саксония и Швеция. Россия сохраняла нейтралитет до конца 1756 года, ибо в правительстве Елизаветы Петровны не было единства, и вопрос этот был сначала передан на усмотрение канцлера – ярого сторонника англорусского союза.
Энергично взявшись за дело, он быстро подготовил союзный русско-английский договор, и сэр Уильямс без замедления подписал его. Однако буквально на следующий день на пути этой, уже свершившейся, инициативы, возникло непреодолимое препятствие – Конференция при высочайшем дворе. Конференция была детищем Бестужева, совсем недавно созданная по его собственному почину. В состав Конференции при Высочайшем дворе входили: канцлер А. П. Бестужев-Рюмин, его старший брат Михаил, генерал-прокурор Сената Н. Ю. Трубецкой, вице-канцлер М. И. Воронцов, начальник Тайной канцелярии А. И. Шувалов, фельдмаршалы А. Б. Бутурлин и С. Ф. Апраксин, сенаторы П. И. Шувалов и М. М. Голицын, а также Великий князь Петр Федорович. Секретарем Конференции был Д. В. Волков. Большинство членов Конференции были противниками Бестужева, а первую скрипку в ней играли братья Шуваловы и Воронцов.
Конференция при Высочайшем дворе являлась советом по внешнеполитическим делам при императрице, и она-то и приняла совершенно другое решение: Россия отказывалась от только что подписанного союзного договора с Англией и, сделав крутой поворот в другую сторону, присоединялась к врагам Англии и Пруссии – Австрии и Франции, подписавшими 1 мая 1756 года в Версале Конвенцию о совместной борьбе с общими противниками. Английский посланник Уильямс оказался обманутым и терялся в догадках о причинах столь резкой и внезапной перемены. Однако дело объяснялось просто – так, во всяком случае, представляет ситуацию Екатерина в своих «Записках». Екатерина пишет, что неожиданную роль в перемене ориентации России сыграла любовница французского короля Людовика XV маркиза де Помпадур. Фаворитке надоела обстановка ее дворца, и она продала мебель своему любовнику – королю. А Людовик подарил эти ненужные ему мебельные гарнитуры вице-канцлеру Воронцову, который, по сообщению французского посла в Петербурге маркиза де Лопиталя, только что отстроил себе новый дом и еще не купил мебель. Подарок пришелся весьма кстати, и за него надо было отплатить признательностью, не без расчета на будущие благодеяния.
Что же касается братьев Шуваловых, то у них был свой резон: Петр Иванович, один из крупнейших предпринимателей России, не пропускавший ни одного случая нажиться за счет казны, в это время успешно добивался откупа на табачную монополию и рассчитывал, что именно Франция станет его потенциальным заграничным рынком сбыта.
Вступление России в состав австро-французской коалиции состоялось в канун нового, 1757 года, и послы Версаля и Вены были официально о том уведомлены канцлером, как ни горько было ему сообщать им об этом. А над канцлером стали сгущаться тучи царской немилости, и ему надлежало принимать собственные контрмеры.
Роман будущей императрицы с будущим королем
Канцлер мог опереться при этом на своих испытанных сторонников, в ряду которых на первом месте стояла Екатерина с близкими ей людьми, на старого друга фельдмаршала Степана Федоровича Апраксина и по-прежнему сохранявшего с канцлером дружественные отношения сэра Уильямса.
Кроме того, среди сторонников канцлера находился человек, который был близок и Бестужеву, и Екатерине, и английскому послу. Это был польский дипломат в России Станислав-Август Понятовский. Он появился в Петербурге менее двух лет назад, но за это время значение его в столице и при дворе очень выросло. Понятовский приехал в Петербург вместе с английским посланником сэром Генбюри Уильямсом, в свите которого и находился. Это произошло весной 1755 года, и Екатерина впервые увидела Понятовского в начале июня – на Троицын день. Было хорошо известно, что отец Станислава-Августа, князь Станислав Понятовский, краковский кастелян, был адъютантом шведского короля Карла XII, дрался рядом с ним под Полтавой, разделил со своим сюзереном изгнание, скитания и опасности и до кончины Карла XII оставался ярым врагом России. Затем он активно поддерживал то одного претендента на польский трон, то другого, не выдвигая собственной кандидатуры. Его сын – Станислав-Август, был тремя годами младше Екатерины. Он слыл истинным великосветским бонвиваном, любившим пожить в свое удовольствие, покутить и поволочиться. В 1753 году, когда Станиславу-Августу шел двадцать первый год, его отослали в Париж, где он жил в лучших традициях французской аристократической «золотой молодежи».
Вскоре от английского посланника Екатерина узнала, что мать Понятовского – урожденная Чарторыйская – является решительной сторонницей России, а ее родственники составляют основу русской партии в Польше. Уильямс сказал Екатерине, что родители Понятовского поручили Станислава-Августа именно ему, чтобы сэр Генбюри воспитал их сына в чувствах любви и преданности к России. Это не было чем-то странным, ибо английский посланник хотел видеть Россию союзницей своей страны, и дружественная Польша хорошо бы дополнила такой альянс.
В это самое время Екатерине донесли, что Сергей Салтыков и в Швеции, и в Саксонии не пропускает ни одной юбки, и чувства к нему, если они еще у нее были, очень скоро исчезли совершенно.
Меж тем на следующий год Станислава-Августа назначили посланником Польши в России, хотя канцлер Бестужев и был против, желая видеть на этом посту кого-нибудь из своих прозелитов. Новый посланник стал все более определенно выказывать симпатии Екатерине, которая заметила, что все ее фрейлины – либо любовницы, либо наперсницы ее мужа и, рассчитывая на его защиту, не оказывают ей должного почтения и пренебрегают своими обязанностями.
Весной 1756 года Петр Федорович всерьез рассорился с Елизаветой Воронцовой и тут же стал волочиться за племянницей Разумовского, женой Григория Николаевича Теплова. «Кроме этой дамы, – писала Екатерина в своих „Записках“, – ему приводили еще по вечерам, чтобы ужинать с ним, немецкую певичку, которую он содержал и которую звали Леонорой». Петр Федорович оттого что был совершенно бестактен, подробно рассказывал о своих интрижках и победах Екатерине, а иногда спрашивал у нее совета и даже искал сочувствия, если почему-либо не мог добиться успеха.
Все это еще больше сблизило Екатерину с Понятовским, который несколько раз совершенно недвусмысленно говорил с нею о нежных чувствах, которые он испытывает.
Секретарь французского посланника в Петербурге барона Бретейля – талантливый молодой писатель Рюльер, оставил интереснейшую рукопись «История и анекдоты революции в России в 1762 году», изданную его наследниками после смерти Екатерины II и самого Рюльера. Хорошо знавший российский двор, с интересом вникавший в интимные подробности личной жизни главных действующих лиц, особенно членов императорской фамилии, Рюльер сохранил в своей книге массу интереснейших подробностей.
Описывая историю романа Екатерины и Понятовского, Рюльер сообщает, что Уильямс свел Екатерину с Понятовским и «после тайного свидания, где Великая княгиня была переодета, изъявила она всю свою благосклонность».
Рюльер знал о случившемся достаточно много, но все же не больше Екатерины и Понятовского. И потому прочтем воспоминания обо всем этом деле самого любовника Екатерины.
В то лето Понятовский жил в Петергофе, а Екатерина – неподалеку от него – в Ораниенбауме. 25 июня Понятовский сел в карету и поехал к Екатерине на свидание, предупредив ее заранее. Когда карета подъезжала к Ораниенбауму, Понятовский увидел в лесу пьяного Петра с неизменной Елизаветой Воронцовой и всей его свитой. Кучера спросили, кого он везет, и тот ответил, что везет портного.
Однако Елизавета Воронцова узнала Понятовского и при нем ничего не сказала, а когда он уехал, стала, насмехаясь, намекать Великому князю, кто был на самом деле в карете. Петр сначала не обращал на ее слова внимания, но через несколько часов послал трех кавалеристов к павильону, где жила Екатерина.
Они схватили Понятовского в нескольких шагах от павильона, откуда он только что вышел, и за шиворот потащили к Петру Федоровичу.
Петр прямо обвинил Понятовского, что он был у Екатерины, и, назвав вещи своими именами, сказал, что именно он там делал.
Понятовский категорически отказался, и Петр велел задержать его.
Через два часа к Понятовскому зашел «великий государственный инквизитор» Александр Шувалов, и Понятовский заметил ему, что для чести русского двора необходимо, чтобы вся эта история закончилась без всякого шума. И Шувалов, согласившись, отвез польского посланника в Петергоф, а сам рассказал обо всем Екатерине.
Понятовский писал потом только о том, что произошло с ним самим и было ему досконально известно. Однако он не знал, что произошло в Ораниенбауме после того, как его привезли в Петергоф. Невероятно скрытная Екатерина, по-видимому, ничего не рассказала Понятовскому об очень важной встрече ее с Петром Федоровичем. А вот Рюльер откуда-то узнал об этом, и потому мы опять предоставляем ему слово, ибо он – единственный, на кого мы можем сослаться.
«Узнав о случившемся, Екатерина пошла к разгневанному мужу и честно призналась ему в любовной связи с польским посланником, – пишет Рюльер. – Она сказала, что если кто-нибудь узнает о произошедшем казусе, то Петр Федорович прослывет рогоносцем по всей Европе. Екатерина сказала также, что ее связь с Понятовским возникла после того, как Петр Федорович приблизил к себе Воронцову, что и стало известно всему Петербургу. Далее она обещала не только переменить свое отношение к Воронцовой на значительно более любезное, но и давать ей из своих средств ежегодную пенсию, освободив от непосильных расходов Петра Федоровича».
Петр согласился и обещал молчать. «Случай, долженствовавший погубить Великую княгиню, доставил ей большую безопасность и способ держать на своем жалованье и самую любовницу своего мужа; она сделалась отважнее на новые замыслы и начала обнаруживать всю нелепость своего мужа столь же тщательно, сколь сперва старалась ее таить».
29 июня в Петергофе был бал в честь именин и Петра Великого, и Петра Федоровича. Понятовский, сговорившись с Елизаветой Воронцовой, пришел в «Монплезир», где были апартаменты Великого князя и его жены.
К этому времени Екатерина уже во всем призналась Петру, о чем загодя уведомила Понятовского, и ему пришлось во всем сознаться, на что обманутый муж ответил, смеясь: «Ну, не большой ли ты дурак, что не открылся мне вовремя! Если бы ты это сделал, не произошла бы вся эта распря!»
После этого Петр ушел в спальню своей жены, вытащил ее из кровати, – был второй час ночи, – и привел ее к Понятовскому и Воронцовой в одной рубашке. Потом все они стали болтать, смеяться и шалить и разошлись только к четырем часам утра.
Описав все случившееся, Понятовский добавляет: «Я уверяю, что такое сумасшествие, каким все это могло казаться, было сущей правдой. На другой день все заискивали у меня. Великий князь заставил меня повторить до четырех раз еще мои поездки в Ораниенбаум. Я приезжал вечером, поднимался по потайной лестнице в комнату Великой княгини. Там я находил Великого князя и Воронцову. Мы ужинали вместе, после чего он уводил ее (Воронцову), говоря нам: „Ну, итак, дети мои, я вам больше не нужен, я думаю“.
Семилетняя война России с Пруссией в 1757—1760 годах
После того как 11 января 1757 года Россия присоединилась к Версальскому союзному договору, заключенному 1 мая 1756 года между Австрией и Францией против Англии и Пруссии, к усилившейся за счет России антипрусской коалиции примкнули Швеция, Саксония и некоторые мелкие государства Германии.
Война, начавшись в 1754 году в колониальных владениях Англии и Франции в Канаде, лишь в 1756 году перешла в Европу, когда 28 мая прусский король Фридрих II вторгся с армией в 95 тысяч человек в Саксонию. Фридрих разбил в двух сражениях саксонские и союзные им австрийские войска и занял Силезию и часть Богемии.
Следует заметить, что внешняя политика России в царствование Елизаветы Петровны отличалась почти все время миролюбием и сдержанностью. Доставшаяся ей в наследство война со Швецией была завершена летом 1743 года подписанием Абоского мирного договора, и до 1757 года Россия не воевала.
Что же касается Семилетней войны с Пруссией, то участие в ней России оказалось случайностью, роковым образом связанной с интригами международных политиков-авантюристов, о чем уже говорилось, когда речь зашла о мебели мадам Помпадур и табачной торговле братьев Шуваловых.
Но теперь, после побед, одержанных Фридрихом II в Саксонии и Силезии, Россия не могла оставаться в стороне. К этому ее обязывали опрометчиво подписанные союзные договоры с Францией и Австрией и реальная угроза ее владениям в Прибалтике, так как Восточная Пруссия была пограничной территорией, прилегавшей к новым российским провинциям.
В мае 1757 года семидесятитысячная русская армия, находившаяся под командованием фельдмаршала Степана Федоровича Апраксина, одного из лучших русских полководцев того времени, двинулась к берегам пограничной с Пруссией реки Неман.
Уже в августе была одержана первая крупная победа – при деревне Гросс-Егерсдорф русские войска разгромили корпус прусского фельдмаршала Левальда.
Однако вместо того чтобы идти на близкую отсюда столицу Восточной Пруссии Кенигсберг, Апраксин отдал приказ возвращаться в Прибалтику, объясняя это недостатком продовольствия, большими потерями и болезнями в войсках. Этот маневр породил в армии и в Петербурге слухи о его измене и привел к тому, что на его место был назначен новый главнокомандующий – обрусевший англичанин, генерал-аншеф, граф Вилим Вилимович Фермор, успешно командовавший войсками в войнах со Швецией, Турцией и в последней войне – с Пруссией.
Апраксину же было предписано отправиться в Нарву и ждать дальнейших распоряжений. Однако распоряжений не последовало, а вместо этого в Нарву пожаловал «великий государственный инквизитор», начальник Тайной канцелярии А. И. Шувалов. Следует иметь в виду, что Апраксин был другом канцлера Бестужева, а Шуваловы – ярыми его врагами. «Великий инквизитор», приехав в Нарву, незамедлительно учинил опальному фельдмаршалу строгий допрос, касающийся главным образом его переписки с Екатериной и Бестужевым.
Шувалову нужно было доказать, что Екатерина и Бестужев склоняли Апраксина к измене с тем, чтобы всячески облегчить положение прусского короля. Допросив Апраксина, Шувалов арестовал его и перевез в урочище Четыре Руки, неподалеку от Петербурга.
Апраксин отрицал и какой-либо злой умысел в своем отступлении за Неман и утверждал, что «молодому двору никаких обещаний не делал и от него никаких замечаний в пользу прусского короля не получал».
Тем не менее, он был обвинен в государственной измене, и все, заподозренные в преступной с ним связи, были арестованы и привезены на допросы в Тайную канцелярию.
14 февраля 1758 года, неожиданно для всех, был арестован и канцлер Бестужев. Его сначала арестовали и только потом стали искать: в чем бы обвинить? Сделать это было трудно, ибо Бестужев был честным человеком и патриотом, и тогда ему приписали «преступление в оскорблении Величества и за то, что он, Бестужев, старался посеять раздор между Ея Императорским Величеством и Их Императорскими Высочествами».
Дело окончилось тем, что Бестужева выслали из Петербурга в одну из его деревень, но в ходе следствия подозрения пали на Екатерину, ювелира Бернарди, Понятовского, бывшего фаворита Елизаветы Петровны, генерал-поручика Бекетова, учителя Екатерины Адодурова. Все эти люди были связаны с Екатериной, Бестужевым и английским посланником Уильямсом. Из них всех лишь Екатерина, как Великая княгиня, да Понятовский, как иностранный посол, могли бы чувствовать себя относительно спокойно, если бы не их тайные интимные отношения и сугубо секретные отношения с канцлером Бестужевым, которые легко было расценить как антиправительственный заговор. Дело в том, что Бестужев составил план, по которому, как только Елизавета Петровна скончается, Петр Федорович станет императором по праву, а Екатерина будет соправительницей. Себе же Бестужев предусмотрел особый статус, который облекал его властью, не меньшей, чем у Меншикова при Екатерине I. Бестужев претендовал на председательство в трех важнейших коллегиях – Иностранной, Военной и Адмиралтейской. Кроме того, он желал иметь звание подполковника во всех четырех лейб-гвардейских полках – Преображенском, Семеновском, Измайловском и Конном. Свои соображения Бестужев изложил в виде манифеста и прислал его Екатерине.
К счастью и для себя, и для Екатерины, Бестужев успел сжечь манифест и все черновики и таким образом лишил следователей серьезнейшей улики в государственной измене. Более того, через одного из своих преданнейших слуг – камердинера Василия Григорьевича Шкурина (запомните имя этого человека, вскоре, уважаемый читатель, вы вновь встретитесь с ним в обстоятельствах более чем неординарных), Екатерина узнала, что бумаги сожжены и ей опасаться нечего.
И все же подозрение осталось, и Елизавета Петровна стараниями братьев Шуваловых, Петра и Александра, была уведомлена об альянсе Бестужев – Екатерина. Импульсивная и неуравновешенная императрица решила, хотя бы внешне, выказать свое неудовольствие Екатериной и перестала принимать ее, что повлекло охлаждение к ней и значительной части «большого двора».
А Станислав-Август оставался по-прежнему любовником Великой княгини, и есть много оснований полагать, что в марте 1758 года Екатерина именно от него забеременела еще раз и 9 декабря родила дочь, названную Анной. Девочку унесли в покои Елизаветы Петровны сразу же после рождения, и дальше все происходило, как и четыре года назад, когда на свет появился ее первенец – Павел: в городе начались балы и фейерверки, а Екатерину вновь оставили одну. Правда, на этот раз у ее постели оказались близкие ей придворные дамы – Мария Александровна Измайлова, Анна Никитична Нарышкина, Наталья Александровна Сенявина и единственный мужчина – Станислав-Август Понятовский.
Анна Нарышкина, урожденная графиня Румянцева, была замужем за обер-гофмаршалом Александром Нарышкиным, а Измайлова и Сенявина были урожденными Нарышкиными – родными сестрами гофмаршала и доверенными наперсницами Екатерины. В «Записках» Екатерина сообщает, что эта компания собралась тайно, что Нарышкины и Понятовский прятались за ширмы, как только раздавался стук в дверь, а кроме того, Станислав-Август прошел во дворец, назвав себя музыкантом Великого князя. То, что Понятовский был единственным мужчиной, оказавшимся после родов у постели Екатерины, выглядит достаточно красноречивым свидетельством, подтверждающим версию о его отцовстве.
В своих «Записках» Екатерина приводит любопытный эпизод, произошедший незадолго до родов в сентябре 1758 года: «Так как я становилась тяжелой от своей беременности, то я больше не появлялась в обществе, считая, что я ближе к родам, нежели была на самом деле. Это было скучно для Великого князя… А потому Его Императорское Высочество сердился на мою беременность и вздумал сказать однажды у себя, в присутствии Льва Нарышкина и некоторых других: „Бог знает, откуда моя жена берет свою беременность, я не слишком-то знаю, мой ли это ребенок и должен ли я его принять на свой счет“.
И все же, когда девочка родилась, Петр Федорович был рад произошедшему. Во-первых, ребенка назвали точь-в-точь, как звали его покойную мать – родную сестру императрицы – Анной Петровной. Во-вторых, Петр Федорович получил, как отец новорожденной, 60 000 рублей, которые, конечно же, были ему более чем необходимы.
Девочка прожила очень недолго и умерла 8 марта 1759 года. Ее почему-то похоронили не в Петропавловском соборе, который с 1725 года стал усыпальницей дома Романовых, а в церкви Благовещения Александро-Невской лавры. И это обстоятельство тоже не ускользнуло от современников, наводя их на мысль о том, была ли Анна Петровна законной царской дочерью?
* * *
А события за стенами императорских дворцов шли своим чередом. 11 января 1758 года войска Вилима Фермора заняли столицу Восточной Пруссии – Кенигсберг.
Затем 14 августа последовало кровопролитное и упорное сражение при Цорндорфе, в котором противники потеряли только убитыми около тридцати тысяч человек. Екатерина писала, что в бою под Цорндорфом было убито более тысячи русских офицеров. Многие из погибших прежде квартировали или жили в Петербурге, и потому сообщение о цорндорфском побоище вызвало в городе скорбь и уныние, но война продолжалась, и пока ей не было видно конца. Вместе со всеми переживала и Екатерина. Совсем по-другому и чувствовал, и вел себя Петр Федорович.
С известием о Цорндорфском сражении в Петербург прибыл полковник Розен. Денщик Розена стал болтать, что русские под Цорндорфом потерпели поражение. За это денщика посадили на гауптвахту. Когда тот освободился, Петр Федорович призвал его к себе. В зале, где произошла их встреча, стояла группа офицеров-голштинцев. В их присутствии Петр сказал: «Ты поступил как честный малый. Расскажи мне все, хотя я и без того хорошо знаю, что русские никогда не могут побить пруссаков». И указывая на стоящих рядом голштинцев, добавил: «Смотри, это все пруссаки, – разве такие люди могут быть побиты русскими?» Разумеется, и этот эпизод вскоре стал известен многим.
Меж тем 6 августа 1758 года, так и не дождавшись суда, внезапно скончался С. Ф. Апраксин. Он умер от паралича сердца, но по Петербургу тут же распространились слухи о насильственной смерти – ведь он умер в заточении. Еще более убедило сторонников этой версии то, что фельдмаршала похоронили без всяких почестей, наспех и втайне ото всех на кладбище Александро-Невской лавры.
Апраксин умер от паралича сердца, однако отчего паралич произошел, можно было только гадать. Косвенным признанием невиновности Апраксина было то, что все привлеченные к следствию по делу Бестужева, – а оно возникло после ареста Апраксина – были либо понижены в должностях, либо высланы из Петербурга в свои деревни, но никто не понес уголовного наказания.
Екатерина еще некоторое время пребывала в немилости у императрицы, но после того как попросила отпустить ее в Цербст, к родителям, чтобы не испытывать унижений и оскорбительных для нее подозрений, Елизавета Петровна сменила гнев на милость и восстановила с невесткой прежние отношения.
* * *
А на театре военных действий удачи сменялись неудачами, и, как следствие этого, сменялись и главнокомандующие: Фермора в июне 1759 года сменил фельдмаршал, граф Петр Семенович Салтыков, а в сентябре 1760-го появился еще один фельдмаршал, граф Александр Борисович Бутурлин. Любимец императрицы блеснул мимолетной удачей – без боя занял Берлин, малочисленный гарнизон которого ушел из города при приближении русского кавалерийского отряда.
Однако через трое суток так же поспешно ретировались и русские, узнав о подходе к столице Пруссии превосходящих сил Фридриха II. «Диверсия» на Берлин ничего не изменила в ходе войны. А решающим для ее исхода оказалась не военная кампания, а приход к власти в Англии нового правительства, которое отказало Пруссии в дальнейших денежных субсидиях.
Братья Орловы
Следствие по делу Бестужева все же бросило тень на Понятовского, он вынужден был оставить свой пост и уехать в Польшу.
…После отъезда Понятовского из Петербурга Екатерина недолго пребывала в одиночестве. На сей раз ее избранником оказался один из самых популярных гвардейских офицеров, красавец, силач, буян и задира, 25-летний капитан Григорий Григорьевич Орлов, один из пяти братьев Орловых, четверо из которых служили в гвардии, в разных, дислоцированных в Петербурге, полках.
Орловы происходили из тверских дворян и свое благородное происхождение могли подтвердить грамотой, относящейся к концу XVI века. Основателем своего рода они считали помещика Лукьяна Ивановича Орлова, владельца села Люткино, Бежецкого уезда, Тверской губернии.
Его внук Иван Иванович Орлов в конце XVII века служил подполковником одного из московских стрелецких полков. Его полк выступил против Петра, и, когда царь примчался из Вены выводить крамолу, то среди тех, кто был приговорен к смерти, оказался и Иван Орлов. Когда Орлова и его товарищей привели к эшафоту, вдруг приехал Петр и поднялся на эшафот, став рядом с палачом. А следом за царем на помост ступил Иван Орлов. И как только он поднялся, под ноги ему подкатилась отрубленная стрелецкая голова. Орлов засмеялся и пнул голову так, что та слетела с помоста на землю. А потом подошел к плахе и с улыбкой сказал Петру: «Отодвинься, государь, здесь не твое место – мое». И с улыбкой положил голову на плаху.
Петру понравилось и то, что он видел, и слова, ему сказанные, и он помиловал Орлова за бесстрашие и удаль.
Таким был родной дед братьев Орловых. А их отцом стал сын Ивана Ивановича – Григорий Иванович. Он тоже пошел по стезе военной службы и уже с юных лет стал солдатом, проведя в походах и сражениях все царствование Петра I, участвуя и в Северной войне, и в Прутском походе. К концу Северной войны он был командиром Ингерманландского полка – одного из лучших армейских пехотных полков России, первым командиром которого был Меншиков. Григорий Орлов был лично известен Петру I и с гордостью носил на золотой цепи его портрет, подаренный самим императором.
Все было бы хорошо, но не везло Григорию Ивановичу в делах семейных: хотел он иметь потомство, да не дал ему Бог детей. Так и жил он с бесплодной женой, пока та не умерла. Было вдовцу в ту пору под пятьдесят, но бурлила в нем кровь Орловых, и бесшабашная удаль не оставляла старика, не оставляла его и надежда родить и взрастить детей. И в 1733 году он женился на шестнадцатилетней красавице Лукерье Ивановне Зиновьевой, и она за восемь лет родила ему шестерых сыновей: Ивана, Григория, Алексея, Федора, Михаила и Владимира.
Только один из них, Михаил, умер во младенчестве, остальные же выросли красавцами и богатырями.
Женитьба заставила Орлова-отца выйти в отставку. Ему дали чин генерал-майора, но вскоре вновь призвали на службу, на сей раз – статскую, предложив пост Новгородского губернатора. Он умер в этой должности в 1746 году, на шестьдесят втором году жизни. В то время его старшему сыну, Ивану, было 13 лет, а младшему, Владимиру – три года. Оставшись одна, Лукерья Ивановна не смогла дать своим сыновьям хорошего домашнего воспитания, но вырастила их необычайно здоровыми, сильными и смелыми.
Хорошо понимая, что будущее ее сыновей в Петербурге, молодая вдова отправила туда четырех сыновей, оставив при себе лишь самого младшего – Владимира. Первым уехал старший – Иван. Окончив Сухопутный шляхетский кадетский корпус, он поступил в гвардию унтер-офицером.
В 1749 году в корпус привезли и четырнадцатилетнего Григория, проявившего незаурядные способности к языкам и за короткое время овладевшего немецким и французским. Учился Григорий Орлов всего один год, а затем поступил на службу рядовым лейб-гвардии Семеновского полка, но через семь лет, в 1757 году, был переведен в армию офицером и сразу же принял участие в Семилетней войне. 14 августа 1758 года в жестоком сражении под Цорндорфом Григорий Орлов был трижды ранен, проявив отменную храбрость и хладнокровие, отчего стал очень популярен в офицерской среде. Григорию, отлично знавшему языки, был препоручен взятый в плен под Цорндорфом адъютант Фридриха II граф Шверин. После Цорндорфа Орлова вместе со Шверином отправили на зимние квартиры в Кенигсберг, а оттуда по приказанию Елизаветы Петровны оба они приехали в Петербург. Здесь Орлов не мог не обратить на себя внимания двора. Петр Шувалов, на беду себе, взял Григория Григорьевича в адъютанты, и в двадцатипятилетнего красавца-адъютанта тут же влюбилась светская львица, княгиня Елена Степановна Куракина, бывшая в ту пору любовницей Шувалова. Граф не потерпел этого и перевел Орлова в фузелерный гренадерский полк. Однако это не убавило популярности Григорию Орлову – он по-прежнему оставался в чести во всех полках гвардии и при «малом» дворе, где ему особенно благоволил Петр Федорович. И, конечно же, не могла не обратить на Григория благосклонного внимания и Екатерина Алексеевна, симпатизировавшая и третьему Орлову – Алексею.
Теперь вкратце и о нем.
Алексей Орлов в Кадетский корпус не пошел. Четырнадцати лет он поступил рядовым в лейб-гвардии Преображенский полк и вскоре стал признанным коноводом гвардейской молодежи, прежде всего потому, что был самым сильным человеком в полку.
Алексей Орлов, не будучи тучным, весил около 150 килограммов. Одним сабельным ударом он отсекал голову быку. Ему не составляло труда раздавить яблоко между двумя пальцами или поднять Екатерину с коляской, в которой она сидела. Вместе с тем, он был очень умен, хитер и необычайно храбр.
Четвертый из братьев – Федор – вначале повторил путь Григория, поступив в Сухопутный шляхетский кадетский корпус, а затем – в Семеновский полк. Так же, как и Григорий, Федор вскоре перешел в армию офицером и шестнадцати лет принял участие в Семилетней войне, отличившись, как и Григорий, неустрашимостью и отвагой. И он, подобно своим старшим братьям, в конце 50-х годов оказался в Петербурге, разделяя вместе с Григорием славу отменного драчуна, повесы, кутилы и храбреца.
Иначе сложилась судьба младшего из Орловых – Владимира. Он не служил ни в военной, ни в статской службе, а провел юность в деревне, ведя жизнь, совершенно противоположную братьям. Владимир более всего любил чтение и ученые занятия, отдавая предпочтение ботанике, агрономии и астрономии. В Петербурге он появился позже всех и здесь тоже стоял особняком, прослыв среди братьев «красной девицей».
Особенно прославились своими подвигами два брата Орловых – Алексей и Федор. Громкую известность получило их неугасающее соперничество с самым сильным человеком в Петербурге – Александром Мартыновичем Шванвичем. Здесь уместно будет познакомиться с ним поближе.
Александр Шванвич – правильное написание этой немецкой фамилии «Шванвиц» – был сыном преподавателя Академической гимназии, переводчика с немецкого и латинского языков, Мартина Шванвица, натурализовавшегося в России в последние годы царствования Петра I. Поскольку сын Александра был введен в русскую литературу под фамилией «Шванвич» самим Пушкиным, то и в этой книге сохраним его фамилию в таком же написании.
В 1727 году у него родился второй сын – Александр, крестной матерью которого стала восемнадцатилетняя Елизавета Петровна. Александр был отдан в Академическую гимназию, где и проучился с 1735 по 1740 год. По окончании гимназии Шванвича зачислили в артиллерию, а через восемь лет – 21 ноября 1748 года – он стал гренадером поручьичьего ранга лейб-компании. А. М. Шванвич был таким же пьяницей, повесой и задирой, как и братья Орловы, и потому справедливо считать их всех одного поля ягодами.
Около 1752 года произошло событие, которое заставило говорить об Алексее и Федоре Орловых и Шванвиче весь светский Петербург.
Дело было в том, что бесконечные выяснения, кто из них троих самый сильный, и возникавшие в связи с этим столь же бесконечные драки заставили наконец и Шванвича, и Орловых найти мирный выход из создавшейся нелепой и опасной ситуации. Было постановлено, что если Шванвич встретит где-либо одного из братьев, то встреченный беспрекословно ему подчиняется. А если Шванвич встретит двоих Орловых вместе, тогда он должен будет во всем повиноваться им. Однажды Шванвич зашел в трактир, где сидел Федор Орлов. Шванвич приказал Федору отойти от бильярда и отдать ему кий. Затем он велел ему же уступить место за столом, отдав вино и понравившуюся ему девицу. Федор, выполняя условия соглашения, повиновался, как вдруг в трактир вошел Алексей Орлов, и ситуация сразу же переменилась: теперь братья потребовали вернуть им все – бильярд, вино и девицу. Шванвич заартачился, но Орловы вытолкали его за дверь.
Шванвич затаился и, спрятавшись за воротами, стал поджидать братьев. Первым вышел Алексей, и Шванвич нанес ему палашом удар по лицу. Орлов упал, но рана оказалась не смертельной. (Впоследствии, когда Алексей Орлов вошел в историю как победитель турецкого флота в бухте Чесма и стал графом Орловым-Чесменским, знаменитый скульптор Федот Иванович Шубин изваял из мрамора его бюст и запечатлел этот огромный шрам, идущий через всю щеку.)
Братья Орловы не стали мстить Шванвичу, и он не был наказан за бесчестный поступок.
(Чтобы распрощаться с Александром Шванвичем, скажем только, что потом служил он на Украине, в Торжке, а в феврале 1765 года был пожалован чином секунд-майора и умер в этом же чине через 27 лет командиром батальона в Кронштадте.)
* * *
Главным героем дальнейшего повествования станет теперь второй из братьев Орловых – Григорий.
Итак, Григорий появился в Петербурге с пленным адъютантом прусского короля графом Шверином. Орлова и Шверина поселили в доме придворного банкира Кнутцена, стоявшем рядом с Зимним дворцом. Это облегчало встречи Григория Орлова с Екатериной, которая, как утверждали, влюбилась в красавца и силача с первого взгляда. Екатерина тайно навещала своего нового любовника в доме Кнутцена и вскоре поняла, что беременна.
Однако из-за того, что Петр Федорович давно уже пренебрегал своими супружескими обязанностями и делил ложе с кем угодно, но только не со своею женой, беременность Екатерины была почти для всех тайной, кроме очень узкого круга самых доверенных и близких ей лиц.
Екатерина, оказавшаяся в положении в августе 1761 года, решила сохранить ребенка и родить его, чем бы ей это ни грозило. Первые пять месяцев – до конца 1761 года – скрывать беременность было не очень трудно, тем более что Екатерина не находилась в центре внимания, так как и «большой», и «малый» дворы более всего волновало все ухудшающееся состояние здоровья Елизаветы Петровны и постоянно возникающий в связи с этим вопрос о престолонаследии.
Болезни и смерть Елизаветы Петровны
При дворе в этом вопросе не было единодушия. Одни склонялись к тому, чтобы трон наследовал Петр III; другие считали, что императором должен быть объявлен Павел Петрович, а соправителями при нем оба его родителя; третьи хотели видеть Екатерину регентшей, а ее мужа отправить в Голштинию. Были и сторонники того, чтобы только Екатерине принадлежал российский престол, ибо ее качества правительницы государства были очевидны и бесспорно предпочтительнее качеств Петра Федоровича.
Тем временем здоровье Елизаветы Петровны все более ухудшалось. Врачи давали ей лекарства, и она их принимала, но когда те же врачи давали ей благие советы, требуя воздержания в пище и питье, она отмахивалась от целителей, как от надоедливых мух, и продолжала вести себя как прежде, отказавшись только от парадных обедов, балов и дворцовых выходов. Затем вдруг впала в другую крайность – перестала употреблять скоромную пищу. В марте 1760 года ее врач Пуассонье приходил в отчаяние потому, что Елизавета Петровна, ссылаясь на Великий пост, отказывалась выпить бульон, предпочитая греху грозящую ей смерть от отека легких.
Первый серьезный случай, заставивший многих задуматься над тем, долго ли осталось жить императрице, произошел 8 сентября 1758 года в Царском Селе на праздник Рождества Богородицы: Елизавета Петровна во время службы в церкви почувствовала себя дурно, вышла на крыльцо и потеряла сознание. Рядом не оказалось никого из ее свиты, а простые люди, собравшись вокруг нее, не смели подойти к царице. Когда наконец появились врачи, больная, едва придя в себя, открыла глаза, но никого не узнала и невнятно спросила: «Где я?»
Несколько дней после этого Елизавета Петровна говорила с трудом и встала с постели лишь к концу месяца.
А с конца пятидесятых годов Елизавета Петровна стала часто и подолгу болеть. Нередко случались у нее истерические припадки. Из-за невоздержанности в еде и всяческого отсутствия режима постоянно шла кровь носом, а потом открылись и незаживающие, кровоточащие раны на ногах. За зиму 1760—1761 года она участвовала только в одном празднике, все время проводя в своей спальне, где принимала и портных, и министров. Она и обеды устраивала в спальне, приглашая к столу лишь самых близких людей, так как шумные и многолюдные застолья уже давно стали утомлять больную императрицу, недавно перешагнувшую пятидесятилетний рубеж. Пословица «Бабий век – сорок лет» в XVIII столетии понималась буквально, ибо тогда было совершенно иным восприятие возрастных реалий – двадцатилетняя девушка считалась уже старой девой, а сорокалетняя женщина – старухой.
И хотя Елизавета Петровна всеми силами старалась казаться молодой, прибегая к услугам парикмахеров и гримеров, здоровья у нее от этого не прибавлялось. Внешне она была все еще хороша, даже привлекательна, но внутренне организм ее представлял руину, а она сама была подобна развалине, искусно задекорированной умелым художником.
До поры до времени только самые близкие знали об истинном положении вещей, – случай, произошедший 8 сентября 1758 года, был редким исключением, но уже 1761 год – последний год ее жизни – Елизавета Петровна почти весь пролежала в постели. В ноябре болезнь резко усилилась, а с середины декабря медики уже не верили в выздоровление императрицы, ибо приступы жестокого кашля и сильная, часто повторяющаяся рвота с кровью в конце концов привели больную к смерти. Уже на смертном одре Елизавета, мостя собственной душе дорогу в царствие небесное, амнистировала 13 000 контрабандистов и 25 000 несостоятельных должников, чьи долги были менее пятисот рублей.
Соборовавшись и причастившись, но еще находясь в сознании, Елизавета Петровна передала безутешно плакавшему И. И. Шувалову, не покидавшему ее ни на минуту, ключ от шкатулки, где хранились золото и драгоценности стоимостью в триста тысяч рублей. Шувалов часто и прежде видел эту шкатулку и знал, что в ней хранится. После смерти Елизаветы он передал все ему подаренное в государственную казну. Хотя, как только Елизавета Петровна умерла, Шувалова тут же выселили из его апартаментов.
Ненавидевший дом Романовых генеалог и публицист, князь Петр Владимирович Долгоруков написал сто лет спустя, что 25 декабря 1761 года в четвертом часу дня «истомленная распутством и пьянством Елизавета скончалась на пятьдесят третьем году от рождения, и дом Гольштейн-Готторпский вступил на престол всероссийский».
Петр Федорович и Екатерина Алексеевна последние дни почти целиком проводили у постели умирающей. Как только Елизавета Петровна скончалась, из ее спальни в приемную, где собрались высшие чины империи, вышел старший сенатор, князь и фельдмаршал Никита Юрьевич Трубецкой и объявил, что ныне «государствует его величество император Петр III».
Новый император тут же отправился в свои апартаменты, а у тела усопшей осталась Екатерина, которой Петр III поручил озаботиться устройством предстоящих похорон.
Вступление Петра III на трон и его первые мероприятия
Вечером 25 декабря Петр III, уже провозглашенный императором, учинил в «куртажной галерее» – традиционном месте проведения веселых придворных праздников, – радостное пиршество, во время которого многие царедворцы не скрывали ликования в связи со случившимся. И первым из них был сам Петр Федорович.
К вечеру была произведена первая важная перемена – генерал-прокурор князь Яков
Петрович Шаховской был отставлен от должности, а на его место назначен Александр Иванович Глебов. По поводу этой перемены Екатерина заметила: «То есть слывущий честнейшим тогда человеком отставлен, а бездельником слывущий, и от уголовного следствия спасенный Петром Шуваловым, сделан на его место генерал-прокурором».
Пока Екатерина была погружена в организацию похорон, Петр III занимался другими делами: он переселил Ивана Шувалова из его покоев, находившихся рядом с апартаментами покойной императрицы, и разместился там сам, а Елизавете Воронцовой велел поселиться в комнатах Елизаветы Петровны. Все дни, пока тело Елизаветы Петровны еще не было погребено, он ездил из дома в дом, празднуя святки и принимая поздравления с восшествием на престол.
Траурные церемонии в обеих столицах шли своим чередом, а святки – своим. Две недели – от Рождества до Крещенья – новый император предавался веселью, вызывая не только изумление, но и возмущение жителей Петербурга.
Екатерина, погруженная в глубокий траур, облаченная в черные одежды, делившая все свое время между церковными службами и устройством предстоящей церемонии погребения, выглядела благочестивой, глубоко верующей, искренне опечаленной смертью императрицы.
Уже в самые первые дни царствования Петра III Екатерина сумела тонко, ловко и умно выявить способности и качества души и характера, привлекшие к ней сердца и умы лучших сановников и военных, ясно увидевших и осознавших огромную разницу между новым императором и новой императрицей. Те же самые мысли и чувства вызывала Екатерина и у многочисленных дворцовых служителей, духовенства, солдат, сержантов и офицеров гвардии, наблюдавших за всем происходящим во дворце и, конечно же, делавших свои собственные заключения, не отличающиеся, впрочем, от выводов, которые делали наиболее дальновидные и порядочные придворные.
25 января 1762 года, ровно через месяц после смерти, тело Елизаветы Петровны было погребено в Петропавловском соборе.
На третий день после похорон, 28 января, Петр III ликвидировал Конференцию при Высочайшем дворе, передав ее функции Сенату и Коллегии иностранных дел.
А еще через три недели, 18 февраля 1762 года, был обнародован самый значительный законодательный акт из подписанных Петром III – манифест «О даровании вольности и свободы всему Российскому дворянству». По этому манифесту дворяне освобождались от обязательной военной и гражданской службы, могли выходить в отставку, выезжать за границу, но по требованию правительства обязаны были возвращаться обратно. Единственной сословной обязанностью дворян осталось воспитание своих детей дома и в училищах.
Современник Петра III, видный историк, князь Михаил Щербатов писал, что автором и инициатором этого манифеста Петр III не был. Щербатов утверждал, что Петр III незадолго до того увлекся одной из первых красавиц Петербурга княгиней Еленой Степановной Куракиной и потому ему было нужно улизнуть хотя бы на одну ночь от опостылевшей Елизаветы Воронцовой. Щербатов писал: «Имел государь любовницу, дурную (здесь – некрасивую. – В. Б.) и глупую графиню Елизавету Романовну Воронцову; но ею, взошед на престол, он доволен не был, а вскоре все хорошие женщины под вожделение его были подвергнуты. Уверяют, что Александр Иванович Глебов подвел падчерицу свою Чеглокову, и уже помянутая выше княгиня Куракина была привожена к нему на ночь Львом Александровичем Нарышкиным, и я сам от него слышал, что безстыдство ее было таково, что когда по ночевании ночи, он ее отвозил домой поутру рано, и хотел для сохранения чести ее, а более, чтобы не учинилось известно сие графине Елизавете Романовне, закрывши гардины ехать, она, напротив того, открывая гардины, хотела всем показать, что она с государем ночь переспала.
Примечательна для России сия ночь, как рассказывал мне Дмитрий Васильевич Волков, тогда бывший его секретарем. Петр III, дабы сокрыть от графини Елизаветы Романовны, что он в сию ночь будет веселиться с новопривозною, сказал при ней Волкову, что он имеет с ним ночь препроводить в исполнении известного им важного дела в рассуждении благоустройства государства. Ночь пришла, государь пошел веселиться с княгинею Куракиной, сказав Волкову, чтобы он к завтрему какое знатное узаконение написал, и был заперт в пустую комнату с датскою собакою. Волков, не зная намерения государственного, не знал, о чем писать, а писать надобно. Но как он был человек догадливый, то вспомнил нередкие вытвержения государю от Романа Ларионовича Воронцова о вольности дворянства. Седши, написал Манифест о сем. Поутру его из заключения выпустили, и Манифест был государем опробован и обнародован».
Дворяне, встречаясь друг с другом не только в домах, но и на улицах, обнимались и плакали от радости. Популярность Петра III выросла невероятно. Почувствовав себя на гребне волны, ощущая поддержку первого сословия государства, император сделал следующий шаг, на который он едва ли бы смог решиться до опубликования манифеста «О вольности дворянства».
21 февраля, через три дня после провозглашения дворянской свободы, был опубликован еще один исключительно важный манифест «Об уничтожении Тайной розыскной канцелярии». Манифест объяснял, что Петр I, «монарх великодушный и человеколюбивый», учредил Тайную канцелярию из-за «тогдашних времен обстоятельств и неисправленных еще в народе нравов».
И так как на протяжении полувека Тайная розыскных дел канцелярия всегда оставалась в своей силе, то злым, подлым и бездельным людям подавался способ или ложными затеями протягивать вдаль (т. е. оттягивать, отсрочивать. – В. Б.) заслуженные ими казни и наказания, или же злостнейшими клеветами обносить своих начальников или неприятелей». Теперь же «если кто-либо, зная об оскорблении Величества или о государственной измене, хотел бы известить об этом власти, то надлежит ему явиться в суд или к ближайшему воинскому начальнику, а если доноситель окажется прав, то отсылать его в Петербург, Москву или ближайший губернский город и там его отнюдь не пытать, но действовать кротостью и увещеванием».
Кроме двух названных манифестов, несколько законодательных актов было посвящено делам церкви. 29 января вышел указ, по которому всем сбежавшим за границу раскольникам было разрешено возвращение в Россию и гарантировалось свободное отправление их веры.
Через два дня вышел указ о прекращении следствий по делам о раскольниках-самосожигателях, причем местным властям предписывалось разъяснить всем староверам, что впредь никаких гонений их вере не будет и в связи с этим самосожжения теряют всякий смысл.
Еще через шесть дней вышел Сенатский указ «О защите раскольников от чинимых им обид и притеснений». И, наконец, 1 марта 1762 года Сенату был дан именной указ о секуляризации церковных и монастырских земель. По этому указу деревни и земли, ранее принадлежавшие церкви, переходили под управление государственных чиновников из отставных офицеров. Доходы с земель и деревень предписано было употреблять как на содержание монахов, но строго по штату, так и отставных солдат, а также на содержание инвалидных домов. Общее управление всеми новыми имениями осуществляла специально для того созданная Коллегия экономии, а вместо разных сборов был введен единый подушный налог – один рубль в год с души. Вместе с тем прекращались всякие дотации тем монастырям, которые не могли обеспечить сами себя, а во всех вообще обителях повелено было «слуг и служебников оставить самое малое число, без которых по самой нужде быть не можно». Одновременно не были забыты и крестьяне: если окажется, что монастырские служки взяли у крестьян лишнее, то надлежит «оное, с них взыскав, возвратить крестьянам немедленно».
Все это, разумеется, сделало русское духовенство злейшим врагом Петра III. Прусский посланник барон Гольц писал Фридриху II, что духовенство направило императору коллективное послание, более похожее на декларацию, чем на прошение, в котором «жаловалось на насилие, причиненное ему этим указом (имеется в виду указ о секуляризации церковных имений. – В. Б.), на странный относительно его (духовенства) образ действий, которого нельзя было бы ожидать даже от басурманского правительства».
21 марта был издан указ о ликвидации лейб-компании. И хотя указ назывался «О распределении Корпуса лейб-компании по другим местам», но на самом деле этим актом почти все лейб-компанцы либо отправлялись в отставку, либо возвращались в отдаленные гарнизоны, либо определялись в статскую службу.
Из 412 человек 330 отправлялись в отставку, 36 – переходили в гражданскую службу, остальные, как правило с понижением в чине, становились армейскими офицерами. И только 8 офицеров оставались в гвардии.
На место лейб-компанцев заступали верные Петру III голштинцы, но не они определяли погоду во дворцах, ибо непоколебленной осталась главная сила дворцовых переворотов – Российская императорская лейб-гвардия, распустить которую у Петра III не было сил.
Пожар
После вступления Петра III на трон распущенность нравов при дворе стала всеобщей. М. М. Щербатов писал: «Не токмо государь, угождая своему любострастию, тако благородных женщин употреблял, но и весь двор в такое пришел состояние, что каждый почти имел незакрытую свою любовницу, а жены, не скрываясь ни от мужа, ни от родственников, любовников себе искали… И тако разврат в женских нравах, угождение государю, всякого рода роскошь и пьянство составляло отличительные черты и умоначертания двора, оттуда они уже разлилися и на другие состояния людей…»
Все это происходило на глазах сотен свидетелей и не только не прикрывалось, не пряталось от них, но, напротив, нагло выпячивалось, демонстрировалось с откровенной бравадой и дерзким вызовом.
Особенно гордился и хвастал своими многочисленными победами сам император, сообщая о них с особым удовольствием собственной жене. Что же касается Екатерины, то она свою связь с Григорием Орловым хранила в глубочайшей тайне. И эта тайна становилась тем сокровеннее, чем ближе подходили роды. И таким образом, Екатерина представала перед двором чистой и нравственной страдалицей, а Петр Федорович выглядел этаким козлоногим сатиром, сексуальным маньяком и беспробудным пьяницей.
Однако же в доме банкира Кнутцена скрывалась не только эта тайна. Григорий Орлов и два его брата, Алексей и Федор, все чаще стали поговаривать о том, что престол должен принадлежать Екатерине и надобно от слов переходить к делу – готовить гвардию к новому перевороту.
Настроения такого рода не были неожиданностью или же новостью для Екатерины.
Еще в декабре 1761 года, когда дни Елизаветы Петровны уже были сочтены, с нею доверительно поговорил воспитатель Павла Петровича, граф Никита Иванович Панин. Он сказал Екатерине, что Петра Федоровича следует отрешить от наследования трона, короновав его малолетнего сына, и поручить регентство ей, Екатерине. А в день кончины Елизаветы Петровны к ней приехал капитан гвардии, князь Михаил Иванович Дашков, женатый на племяннице Н. И. Панина – Екатерине Романовне Воронцовой, родной сестре фаворитки Петра Елизаветы, и сказал: «Повели, мы тебя взведем на престол».
Тогда Екатерина отказалась, понимая, что такого рода предприятие не совершается экспромтом и его следует тщательно и надежно подготовить. Однако мысли об этом не оставляли ее ни на минуту, так как Екатерина понимала, что у нее нет выхода: Петр III либо заточит ее в тюрьму, либо насильно пострижет в монастырь, чтобы вслед за тем немедленно жениться на Елизавете Воронцовой и с нею короноваться на царство.
А тем временем роды приближались, и Екатерина боялась, что Петр Федорович узнает об этом.
В начале апреля 1762 года Екатерина поделилась своими опасениями с одним из наиболее доверенных слуг Василием Григорьевичем Шкуриным.
Во дворец принимали мужчин и женщин «статных, лицом пригожих и взору приятных», по пословице: «Молодец – хоть во дворец», и Шкурин полностью тому соответствовал.
Когда Екатерина приехала в Петербург, он служил истопником в ее апартаментах в Зимнем дворце и с самого начала сумел завоевать ее симпатии и доверие. Шкурин свято хранил тайны своей госпожи, особенно потворствуя ее роману с Григорием Орловым.
За несколько дней до родов Екатерина сказала Шкурину, что боится, как бы из-за ее крика во время родов Петр Федорович не узнал об этой тайне. На что Шкурин, бывший в то время уже не истопником, а камердинером, сказал:
– Чего бояться, матушка? Ты уж дважды рожала. Родишь и в третий – дело бабье. А что касаемо до государя, то я так сделаю, что его в тот момент во дворце не будет.
– Не много ли на себя берешь, Вася? – усомнилась Екатерина. – Петр Федорович все же император, а кто – ты?
– Не сомневайся, матушка. Как я сказал, так тому и статься, – ответил камердинер.
На следующее утро Шкурин пришел во дворец со своим двенадцатилетним сыном Сергеем и сказал Екатерине, что приехали они сюда о двуконь и кони их стоят рядом с дворцом, у коновязи возле кордегардии, на Миллионной улице.
– Сына, матушка, я оставлю здесь, а ты вели ему постелить где-нибудь в соседней комнате. И как тебе пристанет, как почувствуешь, что вот-вот начнется, скажи ему, что он-де более тебе не надобен, и пусть скачет домой, поелику можно быстрее, и о том мне скажет. А я знаю, как свое дело делать.
Затем Шкурин сказал Екатерине, где его искать, и с тем уехал, а мальчик остался. Шкурин жил на самой окраине Петербурга, в большой бревенчатой избе с женой, сыном и двумя дочерьми. Приехав, Василий Григорьевич вывез весь домашний скарб, отправил жену и дочерей на другую улицу, где жили его родственники, а сам, запершись в пустой избе, стал заниматься тем делом, которое и задумал. Сотворив все, что было надобно, он лег на пол и заснул. Проснулся Шкурин оттого, что услышал под окном конский топот и тут же увидел, как с седла слетел его сын.
Шкурин вышел к нему навстречу и спросил:
– Как государыня?
– Велели скакать во весь дух и сказать, что я более им не надобен, – выпалил мальчик.
– Садись на коня и поезжай к матушке и сестрам, – велел ему Шкурин, объяснив и то, где они нынче живут. Мальчик уехал, а Василий Григорьевич быстро оседлал коня, затем вернулся в избу и вскоре снова показался во дворе. Взглянув на избу, Шкурин перекрестился, вскочил в седло и рысью выехал за ворота. Оглянувшись через несколько минут назад, Шкурин увидел над своим двором струйки дыма.
…Шкурин сам поджег свою избу, основательно все к тому подготовив. Изба горела хорошо – медленно, но верно, выкидывая снопы искр и облака черного дыма. Недаром, видать, был Шкурин долгие годы истопником, – знал толк в том, как надежно разжечь хороший огонь.
Расчет его был прост. Он знал, что Петр Федорович в городе и что по заведенному им порядку, как только петербургский обер-полицмейстер получит сообщение о пожаре, то тут же помчится конный полицейский офицер известить государя, где и что горит. И государь прикажет немедленно ехать на пожар, ибо, хотя и было Петру Федоровичу за тридцать, – детская страсть к созерцанию пожаров засела в нем навечно.
Расчет Шкурина оправдался. В то время как он скакал к центру города, навстречу ему попала карета государя, запряженная шестериком, несшаяся во весь опор по направлению к его дому.
…Когда Шкурин вошел в опочивальню Екатерины, он услышал тонкий и неуверенный детский крик. Екатерина лежала на постели счастливая и обессиленная. Заметив Шкурина, она чуть-чуть улыбнулась и тихо проговорила:
– Мальчик.
Было 11 апреля 1762 года. Петр Федорович в это время сидел в карете и с замиранием сердца следил, как крючники растаскивают баграми горящие бревна, как в облаках дыма и пара дюжие мужики тянут от бочек с водой заливные трубы, усмиряя бушующий огонь.
А в опочивальне Екатерины бабка-повитуха, принимавшая роды, ловко запеленала младенца и вместе со Шкуриным, никем не замеченная, осторожно вышла из дворца…
Небезосновательные слухи
В то время как Екатерина благополучно родила сына и сумела сохранить случившееся в совершеннейшей тайне, в Петербурге продолжали происходить события, привлекавшие всеобщее внимание и вызывавшие различные толки.
Весной в Петербурге объявились опальные вельможи – Бирон и Миних.
Герцог Курляндский въехал в Петербург в роскошной карете, шестериком, в мундире обер-камергера, с Андреевской лентой через плечо. Миних – в фельдъегерской повозке, в мужицком сермяке и старых сапогах. Направляясь в столицу, старый фельдмаршал не знал, что в Петербурге у него остался сын, и когда у въезда в город его встретили тридцать три родственника и стали обнимать и целовать его, Миних заплакал первый и последний раз в своей жизни.
Миниха и Бирона не видели в Петербурге двадцать лет, но память и о том, и о другом хорошо сохранилась. И потому их внезапный приезд вызвал опасения в усилении возле нового императора немецкой партии. Однако вскоре стало ясно, что опасения эти совершенно напрасны, так как и Бирон, и Миних продолжали непримиримо враждовать друг с другом.
Когда они впервые оказались в Зимнем дворце за одним столом, Петр III подошел к обоим старикам и сказал:
– А вот два старых добрых друга – они должны чокнуться.
Петр сам налил им вина и протянул бокалы. Но вдруг к императору подошел его генерал-адъютант Андрей Васильевич Гудович, бывший одним из самых доверенных и верных его друзей, и, что-то прошептав на ухо своему сюзерену, увел Петра в соседнюю комнату.
Как только Петр и Гудович вышли из зала, Бирон и Миних одновременно поставили бокалы на стол и, злобно взглянув друг на друга, повернулись спинами один к другому.
Как оказалось, Гудович предупредил императора о готовящемся дворцовом перевороте в пользу Екатерины, но Петр не придал этому значения, хотя генерал-адъютант долго убеждал его в достоверности сообщения и крайней необходимости в энергичных действиях.
А слухи эти не были безосновательны: ведь уже в день смерти Елизаветы Петровны к Екатерине приезжал князь Дашков – капитан лейб-гвардии Измайловского полка – и уверял ее, что офицеры-измайловцы готовы возвести ее на престол. Такие же настроения распространялись и в трех других гвардейских полках.
Роспуск лейб-компании был воспринят гвардейцами как сигнал приближающейся опасности. Многие думали, что вслед за лейб-компанией наступит черед и лейб-гвардии. Подтверждение таким опасениям видели в том, что на смену лейб-компанцам во дворец пришли и прочно там обосновались офицеры-голштинцы, с утра до утра окружавшие Петра III и ставшие не только его незаменимыми сотрапезниками и собутыльниками.
Кроме того, голштинские офицеры были внедрены во все гвардейские полки и стали там преподавателями фрунта, шагистики и экзерциции.
Во дворце они же учили русских генералов и даже фельдмаршалов «тянуть носок», «держать ножку» и «хорошенько топать». Гвардию переодели в мундиры прусского образца и по много часов в день гоняли по плацу, на вахт-парадах и смотрах. Гвардия была раздражена, унижена, озлоблена. Особенно бурное негодование овладело гвардейцами после того, как был заключен мир с Пруссией. Это случилось 24 апреля 1762 года, когда канцлер М. И. Воронцов, с русской стороны, и прусский посланник в Петербурге, адъютант Фридриха II, полковник и действительный камергер барон Бернгард-Вильгельм Гольц заключили «Трактат о вечном между обоими государствами мире». «Трактат» начинался с утверждения о пагубности войны и «печальном состоянии, в которое приведены толико народов и толико земель», раньше живших в мире и дружбе. Искренне желая мира, Петр III и Фридрих II заявляли, что «отныне будет вечно ненарушимым мир и совершенная дружба» между Россией и Пруссией. Россия же брала на себя обязательство никогда не воевать с Пруссией, но «принимать участие в войне его величества короля Прусского с неприятелями его в качестве помочной или главной воюющей стороны». Россия обязывалась в течение двух месяцев вернуть Фридриху II все захваченные у него «земли, города, места и крепости». В «Артикуле сепаратном втором» выражалось намерение подписать и отдельный договор об оборонительном союзе между Россией и Пруссией.
Ждать пришлось недолго: трактат был подписан Воронцовым и Гольцем через полтора месяца – 8 июня 1762 года. Примечательно, что в нем впервые говорилось о защите диссидентов-православных и лютеран, проживающих в Литве и Польше, государствами-гарантами – Россией и Пруссией. Разумеется, что подписание трактата о вечном мире с Пруссией не обошлось без грандиозного пира, состоявшегося на седьмой день после случившегося. Присутствовавший при этом французский посланник писал в своем донесении в Париж: «Все видели русского монарха утопающим в вине, не могущего ни держаться, ни произнести ни слова и лишь бормочущего министру-посланнику Пруссии пьяным тоном: „Выпьем за здоровье нашего короля. Он сделал милость поручить мне полк для его службы. Я надеюсь, что он не даст мне отставки. Вы можете его заверить, что, если он прикажет, я пойду воевать в ад“.
А дело было в том, что по случаю подписания мира Фридрих II произвел русского императора в прусские генерал-майоры и дал ему под команду полк. Это событие стало главной темой застольных выступлений Петра III. Их нелепость была настолько очевидной, что граф Кирилл Разумовский, не выдержав, заметил: «Ваше величество с лихвою можете отплатить ему – произведите его в русские фельдмаршалы».
Однако не это событие было наиболее одиозным и, как показало ближайшее будущее, наиболее исторически значимым. Во время пира Петр III предложил тост за августейшую фамилию. Все встали. Одна Екатерина продолжала сидеть. Петр послал генерал-адъютанта Гудовича спросить ее, почему она позволяет себе такое поведение.
Екатерина ответила, что так как августейшая фамилия это – император, она сама и их сын, то пить ей стоя не имеет смысла. Петр, выслушав ответ, закричал через весь стол: «Дура!»
Екатерина заплакала. Вечером Петр Федорович приказал своему адъютанту князю Барятинскому арестовать ее.
…В 1788 году в Берлине вышла книга аббата Денина – впоследствии библиотекаря Бонапарта – «Опыт о жизни и царствовании Фридриха II, короля Прусского». Вскоре эту книгу прочла Екатерина II и сделала на полях критические заметки.
Одна из них касалась эпизода с Елизаветой Романовной Воронцовой.
Денин писал, что Петр III «заставил императрицу, свою супругу, украсить графиню Воронцову Екатерининскою лентою. Императрица, естественно, была задета этим за живое».
Екатерина оставила против этого фрагмента следующее возражение: «Никогда не заставлял он императрицу возлагать на графиню Воронцову Екатерининскую ленту, а потрудился возложить собственноручно. Он хотел на ней жениться и в тот самый вечер, как возложена была лента, приказал адъютанту своему князю Барятинскому арестовать императрицу в ее покоях. Испуганный Барятинский медлил с исполнением и не знал, как ему быть, когда в прихожей повстречался ему дядя императора, принц Георгий Голштинский. Барятинский передал ему, в чем дело. Принц побежал к императору, бросился перед ним на колени и насилу уговорил отменить приказание».
Кружева заговора
Екатерина, разумеется, вскоре же узнала об опасных намерениях супруга-императора и, зная его непредсказуемый нрав, а также не без оснований опасаясь, что все это может повториться, да не так благополучно кончиться, решилась принимать контрмеры.
Самой кардинальной мерой могло быть лишение Петра III престола, тем более что никакое другое средство не изменило бы создававшейся ситуации.
А положение оказывалось все более грозным не только для Екатерины. В промежутке между подписанием «Трактата о вечном мире» и «Трактата об оборонительном союзе», то есть за время с конца апреля и до начала июня, произошли два других немаловажных события. Во-первых, Петр III отдал приказ корпусу Чернышова, который совсем недавно брал Берлин, идти в Австрию и стать там под начало прусского главного командования для совместной борьбы с австрийцами – вчерашними союзниками русских.
Во-вторых, была объявлена война Дании в защиту интересов Голштинии. Вторая война казалась не менее нелепой, чем первая, ибо речь шла о борьбе за кусок болота – так, во всяком случае, при российских масштабах воспринимался спор по поводу крохотного клочка приграничной территории со Шлезвигом.
Мир с Пруссией, война с Австрией и Данией, твердое намерение Петра III отправить в Данию гвардейские полки сделали вопрос о свержении ненавистного всем императора практической политической задачей.
И выполнить эту задачу было не столь трудно потому, что Екатериной и ее сообщниками уже была проделана необходимая подготовительная работа.
* * *
Главным действующим лицом готовившегося заговора с самого начала была сама Екатерина. Она одна знала всех его участников, но позволяла каждому из них знать только то, что касалось непосредственно того круга лиц, в который входил он сам. Екатерина никому не сообщала ни стратегии задуманного предприятия, ни тех тактических приемов и частностей, при помощи которых все это дело медленно, но неуклонно продвигалось вперед.
Гнездом заговорщиков стал дом банкира Кнутцена, где квартировал Григорий Орлов. К нему часто наведывались Алексей и Федор, бывшие офицерами Преображенского и Семеновского полков, как мы знаем, пользовавшиеся немалым авторитетом у своих товарищей. Каждый из них исподволь настраивал солдат и офицеров своего полка в пользу Екатерины, распространял слухи, в свете которых она выглядела благодетельницей России, светочем разума и олицетворением доброты и правды, а ее муж – слабоумным монстром, врагом дворянства и ярым ненавистником гвардии. Рассказы эти подкреплялись небольшими безвозвратными денежными субсидиями, которые Алексей и Федор давали гвардейцам от имени Екатерины.
О происхождении этих денег братья и сами не знали. Екатерина же получала их через своего агента Одара от купца-англичанина Фельтена. Предоставленный ей кредит равнялся 100 000 рублей.
Однако наиболее распропагандированным в пользу Екатерины оказался третий лейб-гвардейский полк – Измайловский, где служили пять офицеров, вовлеченных в заговор с первых же его дней.
Наряду с Орловыми, активным участником заговора стал капитан-измайловец князь М. И. Дашков, раньше других предлагавший поднять полк для ее поддержки. Но, как мы помним, тогда Екатерина от предложения Дашкова отказалась.
То, что именно Дашков играл во всем этом деле главную роль, ничуть не было случайностью. Его дядя по матери – Никита Иванович Панин был воспитателем цесаревича Павла и считал наиболее целесообразным и справедливым после смерти Елизаветы Петровны возвести на престол своего воспитанника, образовав для управления государством Регентский совет во главе с Екатериной. Панин был сторонником аристократической олигархии, ограничивавшей абсолютное самодержавие.
Этими соображениями Панин сугубо конфиденциально поделился с Екатериной, но состоявшийся разговор сначала не получил никакого развития. И все же Панин не оставлял увлекавшей его идеи, беспокоясь за судьбу своего семилетнего воспитанника, которого он искренне любил, и понимая, что если Екатерина попадет в крепостной каземат, то рядом с ней непременно окажется и Павел, ибо Петр Федорович не считал его своим сыном.
Заговор созревал, но Панин на первых порах не был вовлечен в него. Меж тем одну из первых ролей в подготовке рискованного и опасного предприятия стала играть жена князя М. И. Дашкова – Екатерина Романовна Воронцова-Дашкова. Ее отцом был граф Роман Илларионович Воронцов, а Великий канцлер Михаил Илларионович Воронцов – дядей.
О старшей сестре Екатерины Воронцовой-Дашковой – Елизавете Романовне – мы уже знаем.
Близость родителей Екатерины Романовны к императорской фамилии послужила причиной того, что ее крестной матерью была Елизавета Петровна, а крестным отцом – Петр Федорович.
Воспитывалась Екатерина Романовна в доме дяди – Михаила Воронцова вместе с его дочерью и не только получила блестящее образование, но и на всю жизнь сохранила пылкую любовь и страстную привязанность к наукам и книгам.
О ее любви к чтению узнал Иван Иванович Шувалов и стал присылать любознательной девочке книги из своей богатой библиотеки. Екатерина Романовна позднее скажет, что, кроме нее и Великой княгини Екатерины Алексеевны, не было в то время женщин, занимавшихся серьезным чтением. Решительный поворот в ее судьбе произошел в начале 1759 года, когда она познакомилась с Великой княгиней Екатериной Алексеевной, заехавшей поужинать к Воронцову.
Вспоминая впоследствии об этой первой встрече с Екатериной, Дашкова писала: «Мы почувствовали взаимное влечение друг к другу, а очарование, исходившее от нее, в особенности когда она хотела привлечь к себе кого-нибудь, было слишком могущественно, чтобы подросток, которому не было и 15 лет, мог противиться, и я навсегда отдала ей свое сердце… Великая княгиня осыпала меня своими милостями и пленила своим разговором. Возвышенность ее мыслей, знания, которыми она обладала, запечатлели ее образ в моем сердце и в моем уме, снабдившем ее всеми атрибутами, присущими богато одаренным природой натурам. Этот длинный вечер, в течение которого она говорила почти исключительно со мной одной, промелькнул для меня, как одна минута». Он и стал первоначальной причиной многих событий, о которых речь пойдет ниже.
Шестнадцати лет Екатерина Романовна вышла замуж за штабс-капитана Преображенского полка, красавца и великана князя Михаила Ивановича Дашкова, матерью которого была Анастасия Михайловна Леонтьева – племянница матери Петра I Натальи Кирилловны Нарышкиной. И таким образом Михаил Иванович Дашков доводился Петру I двоюродным внучатым племянником.
За два первых года Екатерина Романовна родила дочь и сына, но это не помешало ей и много читать, и вести светскую жизнь. Летом 1760 года она еще более сблизилась с Великой княгиней Екатериной. Екатерина Романовна установила тесные отношения и с родственниками князя Дашкова – Еверлаковыми, Леонтьевыми и Паниными, принадлежавшими к российской знати.
В канун смерти Елизаветы Петровны Е. Р. Дашкова ночью, больная, тайно проникла во дворец и сказала Екатерине, что она будет верна ей до конца, разделит с нею любые тяготы и пойдет ради нее на любые жертвы.
После того как на обеде в честь подписания мира с Пруссией произошел скандал, Екатерина Алексеевна начала форсированно готовить заговор, и вместе с братьями Орловыми ее решительными сторонниками стали муж и жена Дашковы. Они расширили круг заговорщиков, втянув в комплот еще нескольких гвардейских офицеров: преображенцев – капитанов Пассека, Баскакова, Бредихина и поручика князя Барятинского; конногвардейца секунд-ротмистра Хитрово; измайловцев – премьер-майора Рославлева и его брата – капитана Рославлева, а также капитанов Ласунского и Черткова. В заговор был вовлечен и командир Измайловского полка Кирилл Разумовский.
А сама Дашкова привела графа Панина и его племянника генерала Репнина.
Вскоре ряды заговорщиков пополнились за счет возвратившегося в Петербург с театра военных действий генерала Михаила Никитича Волконского.
Среди заговорщиков многие были связаны друг с другом родством и свойством, а Дашковы и Воронцовы отличались в этом более прочих. Так, их близкими только среди названных здесь были: Панины, Бредихин, Репнин, Волконский, а несколько других состояли в свойстве и дальнем родстве. Кроме военных, в заговор были вовлечены директор Академии наук Григорий Николаевич Теплов, практический руководитель Академии, и один из самых авторитетных и грозных иерархов церкви – архиепископ Новгородский и Великолуцкий Димитрий (в миру – Даниил Алексеевич Сеченов).
В то время как заговор набирал силу, Петр III вел себя по-прежнему. Дашкова писала о нем: «Поутру быть первым капралом на вахтпараде, затем плотно пообедать, выпить хорошего бургундского вина, провести вечер со своими шутами и несколькими женщинами и исполнять приказания прусского короля – вот что составляло счастье Петра III, и все его семимесячное царствование представляло из себя подобное бессодержательное существование изо дня в день, которое не могло внушать уважение».
Вместе с тем атмосфера становилась все более напряженной.
Рюльер сообщает, что Пассек даже просил у Екатерины согласия на убийство Петра III. Он и Баскаков подстерегали императора с кинжалами около домика Петра Великого – в парке, на правом берегу Невы, на Петровской набережной, где император любил вечерами прогуливаться с Елизаветой Воронцовой. Часто Петр оставался там ночевать со своею возлюбленной. Заговорщики продумали и другой вариант покушения – ворваться в домик ночью и арестовать императора, а если будет сопротивляться, то заколоть. Причем ни в какой мере не связывать убийство с императрицей, представив этот акт как их собственную инициативу, согласную с волей народа. И хотя покушение не состоялось, но острота ситуации оставалась прежней.
Однажды ночью Дашкову разбудил ее троюродный брат князь Репнин и сказал, что он только что был у императора, и при нем Петр III наградил Елизавету Воронцову орденом Святой Екатерины. До сих пор этим орденом награждались только особы императорской фамилии и иностранные принцессы, а так как Елизавета Воронцова иностранной принцессой не была, то оставалось предполагать, что скоро она займет место в императорской фамилии.
Такой поворот событий показался Репнину угрожающим, и он не преминул уведомить о том свою кузину.
Вскоре после этого, 27 июня 1762 года, в Преображенском полку один из солдат, осведомленный о готовящемся заговоре, рассказал об этом капитану Измайлову, думая, что он на стороне заговорщиков. Солдат не знал, что Измайлов – один из преданнейших Петру офицеров, и потому предательство его товарищей-заговорщиков было совершено им по неведению.
Измайлов тут же доложил об услышанном, и первым из заговорщиков был арестован капитан Пассек. Об этом тотчас же сообщил Дашковой Григорий Орлов.
В это время императрица Екатерина находилась в Петергофе, и Дашкова опасалась, что если Пассека начнут допрашивать и он расскажет об участии Екатерины в заговоре, тут же арестуют и ее. Предупреждая такой оборот событий, Дашкова послала жене камердинера Шкурина записку, чтобы она отправила в Петергоф наемную карету и сообщила своему мужу, как всегда сопровождавшему императрицу, что эту карету надлежит держать наготове, не выпрягая лошадей, чтобы государыня в случае опасности могла немедленно воспользоваться ею.
Отправив записку, Дашкова накинула офицерскую шинель и поспешила к братьям Рославлевым, жившим неподалеку от ее дома. Но по дороге ей встретился мчавшийся во весь опор Алексей Орлов. Он уже побывал у Рославлевых и ехал к ней, чтобы сообщить об аресте Пассека. Дашкова сказала, что она все знает, а теперь следует всем офицерам-измайловцам поспешить в свой полк и ждать там императрицу, ибо именно Измайловский полк стоит ближе всех прочих к Петергофу, и Екатерина, выехав из Петергофа, может рассчитывать прежде всего на поддержку и защиту измайловцев.
«За несколько часов до переворота, – писала потом Е. Р. Дашкова, – никто из нас не знал, когда и чем кончатся наши планы; в этот день был разрублен гордиев узел, завязанный невежеством, несогласием мнений насчет самых элементарных условий готовящегося великого события, и невидимая рука провидения привела в исполнение нестройный план, составленный людьми, не подходящими друг к другу, не достойными друг друга, не понимающими друг друга и связанными только одной мечтой, служившей отголоском желания всего общества».
Начало государственного переворота
В ночь на 28 июня Алексей Орлов примчался в Петергоф. Он знал, что Екатерина не живет во дворце: там иногда, наездами, бывал Петр III, а ей не хотелось лишний раз видеть его, а тем более с ним встречаться. Императрица поселилась в отдаленном от дворца павильоне, построенном на берегу канала, впадающего в Финский залив. Под окном ее спальни стояла большая лодка, на которой, в крайнем случае, она могла уйти в Кронштадт или спрятаться на берегу, если будут перекрыты дороги.
Орлов прискакал к павильону, вывел Екатерину из ее опочивальни и посадил в карету, присланную Шкуриным. Карета, запряженная восьмериком, понеслась в Петербург. Ворвавшись в расположение Измайловского полка, экипаж Екатерины остановился. Ей навстречу стали выскакивать полуодетые солдаты и офицеры. Вскоре появился священник и принял от измайловцев присягу на верность Екатерине. Она же, беспомощно протянув к ним руки, с дрожью в голосе стала говорить, что император приказал убить ее и сына и что убийцы уже гонятся по пятам за нею.
Измайловцы, негодуя, кричали, что все как один умрут за нее и цесаревича Павла.
В это время появились в полку знатные, титулованные сторонники Екатерины: генерал-аншеф князь Волконский, граф Петр Шувалов, двоюродный брат бывшего канцлера опального Бестужева-Рюмина – адмирал Талызин, бывший близким родственником и братьев Паниных. Среди стоявших рядом с Екатериной были графы Строганов и Яков Брюс, чьи красавицы-жены находились в это время возле Петра III в Ораниенбауме, их поведение там давало поводы мужьям требовать развода. Так что у сторонников Екатерины было много причин и для глубокой личной неприязни к Петру III.
Вслед за измайловцами присягнули семеновцы и затем – преображенцы. В Преображенском полку под арестом находился Пассек. Когда его пришли освобождать, он подумал, что это – хитрая инсценировка и что на самом деле его выпускают только для того, чтобы проследить, к кому он пойдет, а затем выявить и других участников заговора, и он отказался выходить с гауптвахты.
Последними принесли присягу императрице артиллеристы, после чего, около 9 часов утра, Екатерина, окруженная десятитысячной толпой солдат и офицеров, подъехала к Казанскому собору, куда граф Никита Панин привез и своего воспитанника, семилетнего цесаревича Павла.
Собор был окружен множеством жителей Петербурга – ремесленников, мещан, купцов, чиновников, – и в сочетании с армией и гвардией, придворными и духовенством, тоже стоявшими на площади, это стихийно возникшее собрание, чем-то напоминающее вече, представлялось общенародным форумом, единогласно приветствовавшим Екатерину.
На глазах у всех этих людей архиепископ Новгородский и Великолуцкий Димитрий провозгласил Екатерину императрицей-самодержицей, а Павла – наследником престола.
После этого императрица возвратилась в Зимний дворец и начала диктовать манифесты.
В первом из них, от 28 июня 1762 года, говорилось, что Петр III поставил под угрозу существование государства и православной церкви и что он готов отдать на порабощение Пруссии самую славу России, «возведенную на высокую степень своим победоносным оружием». Но законотворчество императрицы было прервано в самом начале из-за того, что Петр оставался в Ораниенбауме в окружении верных ему голштинцев, а рядом с ним находился верный и храбрый старик-фельдмаршал Миних. Нужно было прежде всего ликвидировать это опасное гнездо, и Екатерина, оставив перо, чернила и бумагу, вышла навстречу духовенству, которое прибыло во дворец, чтобы совершить обряд миропомазания. Перед тем священники медленно и торжественно прошли по площади, на которой ровными шеренгами уже стояли тысячи солдат и офицеров при оружии и в полной амуниции.
Приняв миропомазание, Екатерина вышла на Дворцовую площадь в гвардейском мундире, с голубой лентой ордена Андрея Первозванного через плечо. Ей подвели коня, и она легко и грациозно взлетела в седло. Вот когда пригодились ей многочасовые уроки верховой езды! На другого коня, тоже в гвардейском мундире, села семнадцатилетняя княгиня Дашкова, которую из-за ее стройности и молодости приняли за юного офицера.
Екатерина объехала выстроившиеся на площади полки и приказала им пройти мимо фасада дворца, а сама вернулась в Зимний. Распахнув окно, она встала в проеме с высоко поднятым бокалом вина, показывая, что пьет за их успех и здоровье. Проходящие полки ревели: «Ура!» и, весело разворачиваясь и перестраиваясь в походные колонны, направлялись на дорогу, шедшую к Петергофу.
Площадь еще не опустела, а Екатерина уже вновь была на коне и, обогнав двенадцатитысячную колонну, встала впереди, ведя ее навстречу голштинцам. В нескольких верстах за городом к колонне примкнул трехтысячный казачий полк, а потом присоединялись все новые и новые роты, эскадроны и батальоны.
На ночь войска разбили бивак, а Екатерина и Дашкова переночевали в пригородном трактире, заснув на единственной имевшейся там кровати.
Утром следующего дня двадцатитысячная армия Екатерины вошла в Петергоф. Город был пуст, так как голштинцы загодя отошли к Ораниенбауму.
Следует добавить, что еще до того как к Петергофу подошли главные силы Екатерины, туда в 5 часов утра уже примчался гусарский отряд под командованием Алексея Орлова. Голштинцев перед городом уже не было, а гусары Орлова увидели на окраинах Петергофа толпы крестьян, вооруженных вилами и косами, которых пригнали туда по приказу Петра III для борьбы с узурпаторшей Екатериной.
Увидев скачущих на них гусар с обнаженными палашами, крестьяне разбежались, и отряд Орлова вошел в Петергоф.
Вскоре на его улицы вступила и армия Екатерины.
Большой Петергофский дворец превратился в военную ставку и императорскую Главную квартиру. Десятки сановников и придворных, еще большее число офицеров и генералов сновали по многочисленным комнатами и залам. У дверей в апартаменты Екатерины и у всех входов и выходов стояли часовые, по коридорам бегали посыльные и курьеры. И едва ли не больше всех носилась из конца в конец дворца Дашкова. Ее знали уже почти все и беспрепятственно пропускали в любые покои. Возвращаясь из комнат голштинской принцессы – родственницы Екатерины, – Дашкова вошла в покой императрицы.
Каково же было ее удивление, когда она вдруг увидела Григория Орлова, лежавшего на канапе и вскрывавшего толстые пакеты. Такие пакеты Дашкова видела в кабинете своего дяди-канцлера и знала, что они по-
ступают из Кабинета его императорского величества. Дашкова спросила Орлова, что он делает.
– Императрица повелела мне открыть их, – ответил Орлов.
Дашкова очень удивилась увиденному и выразила сомнение в том, что Орлов что-нибудь поймет в этих бумагах.
Затем Дашкова побежала дальше, а возвратившись, увидела возле канапе, где лежал Орлов, стол, сервированный на три куверта. Вышедшая к ним Екатерина пригласила к столу ее и Орлова. Из их поведения во время обеда Дашкова поняла, что императрица и Орлов – любовники. С этого момента стремление первенствовать сделало сотрапезников Екатерины непримиримыми врагами. И победителем в этом противоборстве оказались Орловы.
Ответные маневры Петра III
…Во всем Петербурге нашелся только один человек, который решился уведомить Петра III о совершившемся государственном перевороте. Это был парикмахер императора француз Брессан. Он переодел своего слугу в крестьянский костюм, дал ему записку для Петра III, посадил на мужицкую телегу и велел ехать в Петергоф. Едва посланец переехал мост, как за его спиной встала цепь солдат, которым было велено не выпускать из города ни одного человека. Но было уже поздно – мнимый крестьянин оказался последним, кто проехал по дороге на Петергоф и Ораниенбаум.
…Утром 28 июня Петр III выехал из Ораниенбаума в Петергоф, намереваясь там отпраздновать свои именины, приходящиеся на этот самый день. Была прекрасная погода, и Петр ехал в открытой коляске, радуясь предстоящему празднику.
С ним вместе ехали прусский посланник фон дер Гольц и Елизавета Воронцова, а следом тянулась вереница экипажей с прекраснейшими женщинами и преданнейшими ему придворными и слугами.
А в это время в Петергофе обнаружили исчезновение Екатерины. Часовой, видевший, как две женщины рано утром вышли из парка, ничего другого сказать не мог, и тогда двое слуг отправились в Ораниенбаум, чтобы сообщить императору о случившемся. Как только они вышли на дорогу, навстречу им попался ехавший верхом Гудович, и слуги обо всем ему рассказали. Гудович помчался обратно, навстречу императору, остановил его карету и рассказал об исчезновении Екатерины.
Петр тут же высадил из экипажей дам, приказал им идти в Ораниенбаум, а сам погнал карету со всей возможной скоростью в Петергоф. Подкатив к павильону, где жила Екатерина, он бросился в ее спальню, открыл шкафы, заглянул под кровать и стал зачем-то тыкать шпагой в панели и потолок.
Через некоторое время прибежала Елизавета Воронцова и с нею вместе дамы, ослушавшиеся приказа и побежавшие вслед за ним в Петергоф, а вскоре появился и посланец Брессана с запиской, где говорилось о произошедшем в Петербурге государственном перевороте.
Петр послал к Екатерине канцлера Воронцова, надеясь, что тот сумеет убедить ее в безнадежности и преступности затеянного ею предприятия, а сам стал диктовать манифесты и приказы, коими надеялся поправить положение. Он приказал голштинцам выступить с артиллерией навстречу мятежникам, послал в Петербург за своим кавалерийским полком, разослал гусарские пикеты по окрестным дорогам, чтобы задержать и перевести на свою сторону движущиеся войска, и отправил в соседний Кронштадт полковника Неелова, приказав ему направить оттуда в Петергоф три тысячи солдат с боеприпасами и продовольствием на пять дней. Сам же, сняв прусский мундир, надел российскую форму и сменил прусский орден Черного орла на ленту и знаки Андрея Первозванного.
Однако находившийся рядом с ним Миних убедил Петра III не начинать военных действий, ибо силы неравны и сражение, если только оно начнется, непременно будет им проиграно. Взамен Миних предложил отправиться в Кронштадт, и Петр согласился, тем более что у него было под рукой много денег и в случае опасности он мог беспрепятственно уйти из Кронштадта в Германию вместе с Елизаветой Воронцовой и верными друзьями и слугами.
Петр тотчас же велел своему адъютанту Антону де Виейре – сыну того самого Эммануила де Виейры, который прославился интригами и доносами в предыдущие царствования, отправиться вместе с флигель-адъютантом князем Барятинским в Кронштадт и отменить приказ, данный час назад Неелову. Едва де Виейра и Барятинский отошли от причала, как Петру сообщили, что в Петергоф с минуты на минуту войдут верные ему голштинцы. Воспылав новой надеждой, Петр тут же переменил решение и стал осматривать местность, задумав оборонять Ораниенбаум. Но вдруг, около 8 часов вечера, к Петру примчался один из его адъютантов и сказал, что к Петергофу подходит армия Екатерины. При этом известии Петр и бывшие при нем придворные бросились к стоявшим наготове яхте и галере, которые тотчас же пошли в близкий, хорошо видный невооруженным глазом Кронштадт.
На галере и яхте было 32 мужчины и 15 женщин. Наиболее значительными из них были: фельдмаршал Миних, дядя императора – принц Гольштейн-Бек, Алексей Григорьевич Разумовский, прусский посланник Гольц, Елизавета Воронцова и ее родственницы, а также родственницы дяди императора.
Петр надеялся, что посланные в Кронштадт де Виейра и Барятинский удержат гарнизон и крепость на его стороне. Однако Петр не знал, что за последние несколько часов в Кронштадте произошли решительные перемены.
* * *
Комендант Кронштадта Нуммерс до появления там Неелова не знал о произошедшем в Петербурге, да и сам Неелов тоже ничего не мог объяснить толком, потому что имел обрывочные и противоречивые сведения – даже не сведения, а просто слухи, в которые трудно было поверить.
Поэтому Нуммерс, который пока только обдумывал приказ, привезенный Нееловым, и еще не распорядился грузиться на суда, даже обрадовался, получив от де Виейры новое предписание – готовиться к приему императора.
Де Виейра и Барятинский, исполнив данное им поручение, уже собрались было отправляться обратно в Петергоф, как вдруг около 7 часов вечера на пристани высадился прибывший из Петербурга корабельный секретарь Федор Кадников с запечатанным конвертом, о содержимом которого он ничего не знал, а должен был лишь передать конверт коменданту Нуммерсу.
Нуммерс вскрыл пакет, не показывая содержащегося в нем ордера никому. А в ордере, подписанном адмиралом Иваном Лукьяновичем Талызиным, коему Нуммерс подчинялся непосредственно, предписывалось никого не впускать в Кронштадт и никого оттуда не выпускать.
Де Виейра и Барятинский стали расспрашивать Кадникова о событиях в Петербурге, но он отвечал, что ничего не знает. Тогда де Виейра отправил Барятинского и арестованного им Кадникова в Петергоф, а сам остался в Кронштадте.
Между тем Нуммерс понял, что происходит, но решил не вмешиваться в арест Кадникова, не желая раньше времени себя обнаруживать. Его предусмотрительность вскоре же оправдалась.
Де Виейра еще не добрался до Петергофа, когда к Кронштадту подошла шлюпка и на берег высадился Талызин. Нуммерс, встретив адмирала, стал расспрашивать его о новостях, но Талызин из осторожности отвечал, что он не из Петербурга, а со своей дачи, но слышал о каких-то беспорядках в столице и потому решил, что его место не в городе, а здесь – в Кронштадте.
После этого он вместе с Нуммерсом ушел в его дом и там предъявил именной указ Екатерины – «что адмирал Талызин прикажет, то исполнить».
Талызин приказал привести гарнизон крепости к присяге на верность Екатерине, и через час под громкие крики «ура!» ей присягнули и гарнизон Кронштадта, и экипажи всех кораблей. Адмирал усилил посты и караулы, со стороны Петергофа закрыл гавань бонами и за три часа несколько раз пробил учебную тревогу, поддерживая в крепости состояние повышенной боевой готовности.
Гарнизон оказался на высоте положения и четко выполнял предусмотренные действия. Повышенная готовность оказалась не напрасной – в первом часу ночи часовые заметили подходящие со стороны Петергофа галеру и яхту, которые из-за бон не смогли подойти к стенке и остановились в тридцати шагах. Думая, что Нуммерс точно исполняет приказ, посланный с де Виейрой – никого не впускать в Кронштадт, – Петр приказал спустить шлюпку и убрать боны.
Караульный на бастионе, мичман Михаил Кожухов, «отказывает в том с угрозами».
Петр все еще считает, что моряки точно выполняют его приказ, так как доплывший до Петергофа Барятинский сообщил, что в Кронштадте ждут императора и готовы защищать его. Тогда он вышел на палубу и закричал:
– Я сам тут, впустите меня! Кожухов в ответ прокричал:
– Не приказано никого впускать! Петр ответил:
– Я император Петр III! В ответ на что услышал:
– Нет теперь никакого Петра III, а есть Екатерина II, а ежели галера и яхта не отойдут, то в них будут стрелять.
Как бы поддерживая мичмана Кожухова, в крепости забили очередную тревогу, и корабли поспешно ретировались.
Отойдя от Кронштадта, яхта направилась в Петергоф, а галера с Петром III и его приближенными – в Ораниенбаум.
Петр спустился в каюту и впал в полуобморочное состояние. Воронцова и графиня Брюс, сидя возле него, тихо плакали. Миних и Гудович остались на палубе. Для них уже не было сомнения, что все кончено.
(…Адмирал Талызин, возвратившись в Петербург, подал рапорт Екатерине и попросил наградить Михаила Кожухова «двойным чином и годовым жалованьем».
Екатерина согласилась с первым предложением Талызина и присвоила Кожухову чин капитан-лейтенанта, а вместо годового жалованья дала двухгодовое.)
* * *
Галера и яхта еще не успели отойти от Кронштадта, как до всех матросов и пассажиров донесся клич многотысячной толпы, собравшейся на причале: «Галеры прочь! Да здравствует императрица Екатерина!»
Рано утром, придя в себя, Петр III позвал в свою каюту Миниха и попросил у него совета, что делать дальше.
Миних посоветовал идти не в Ораниенбаум, а в Ревель. Взять там военный корабль и уйти на нем в Пруссию, где все еще находилась восьмидесятитысячная армия Виллима Фермора.
Миних сказал, что если Фермор встанет во главе армии, то понадобится не более полутора месяцев для того, чтобы восстановить Петра III на престоле.
При этом разговоре присутствовали многие дамы, и они стали возражать фельдмаршалу, что у гребцов не хватит сил, чтобы дойти до Ревеля.
– Что ж, – возразил им Миних, – мы все будем им помогать!
Дамы бурно запротестовали, и это решило исход дела: Петр приказал следовать в Ораниенбаум и высадить его там. Оказавшись на берегу, Петр сначала хотел, переодевшись, в одиночку пробираться в Польшу, но этому намерению стала возражать Елизавета Воронцова, которая в конце концов уговорила императора послать кого-нибудь к Екатерине и передать ей отречение от престола и просьбу отпустить их обоих в Голштинию.
Петр согласился и велел сложить оружие. Голштинцы беспрекословно повиновались, свезли с высот пушки и ушли с позиции.
Разгневанный Миних сказал Петру, что если он не умеет умереть перед своими солдатами как император, то пусть возьмет в руки, вместо шпаги, распятие, и тогда его враги не посмеют ударить его.
– А я, – сказал Миних, – буду командовать в сражении.
Петр пропустил эту филиппику мимо ушей и, быстро написав все, что советовала его любовница, послал в Петергоф к Екатерине генерала Измайлова.
Окончание государственного переворота
Измайлов, передав бумаги, тут же принес присягу на верность Екатерине и отправился обратно в Ораниенбаум уже не как слуга Петра, а как верноподданный императрицы, облеченный ее доверием и выполняющий ее первое поручение. Измайлов повез в Ораниенбаум приказ о полной и безоговорочной сдаче войск Петра, а также и другой, еще более важный документ – новый текст отречения Петра от престола, написанный в ставке Екатерины тайным советником Тепловым. Этот новый текст Петру предлагалось подписать без малейших изменений.
В отречении говорилось: «Во время кратковременного и самовластного моего царствования, я узнал на опыте, что не имею достаточных сил для такого бремени, и управление таковым государством, не только самовластное, но и какою бы то ни было иною формою превышает мои понятия, и потому и приметил я колебание, за которым могло бы последовать и совершенное оного разрушение, к вечному моему бесславию. Итак, сообразив благовременно все сие, я добровольно и торжественно объявляю всей России и целому свету, что на всю жизнь свою отрекаюсь от правления помянутым государством, не желая там царствовать ни самовластно, ни под другою какою формой правления, даже не домогаться того никогда посредством какой-либо посторонней помощи.
В удостоверение чего клянусь перед Богом и всею вселенною и подписав сие отречение собственною своею рукою».
Петр переписал отречение собственной рукой, а затем и подписал его.
Измайлов прибыл в Ораниенбаум не один. Вместе с ним туда вошел отряд, которым командовал генерал-поручик Василий Иванович Суворов. Его солдаты собрали оружие, арестовали наиболее опасных офицеров, а сам Суворов возглавил работы в Ораниенбаумском дворце, где составлялась точная опись денег и драгоценностей, там находившихся. Суворов разделил солдат и унтер-офицеров – голштинцев – на две части: уроженцев России и собственно голштинцев. Первых он привел к присяге, а вторых под конвоем отправил в Кронштадт, где их заключили в бастионы. Офицеров и генералов отпустили на их квартиры под честное слово.
Петра Федоровича, Елизавету Воронцову и Гудовича Измайлов привез в Петергоф. Как только их карета появилась в городе и Петра увидели в ее окне, солдаты стали кричать: «Да здравствует Екатерина!». И когда подъехали они к главному подъезду Большого дворца, Петр лишился чувств. С Елизаветы Воронцовой солдаты сорвали украшения, Гудовича – побили, а Петр в ярости сорвал сам с себя шпагу, ленту Андрея Первозванного, ботфорты и мундир и сел на траву босой, в рубашке и исподнем белье, окруженный хохочущими солдатами.
По распоряжению Панина Гудовича увели в один из флигелей, а Петра и Елизавету Воронцову привели во дворец. Когда они остались наедине, Петр зарыдал. Панин рассказывал впоследствии датскому посланнику Асебургу, что он, увидев Петра, «нашел его утопающим в слезах». И пока Петр старался поймать руку Панина, чтобы поцеловать ее, любимица его бросилась на колени, испрашивая позволения остаться при нем. Петр также только о том просил.
После этой аудиенции с Паниным никаких других встреч у Петра не было. Воронцову увели, поместив в одном из павильонов, а Петра накормили обедом и велели ждать решения императрицы. Во встрече с Екатериной бывшему императору было решительно отказано.
Воронцова, оставшись одна, продолжала умолять всех, кого видела, отпустить ее к Петру, хотя бы ее ожидал вместе с ним Шлиссельбург, но Екатерина велела выслать фаворитку в одну из принадлежавших Воронцовым подмосковных деревень. Гудовича отправили в его черниговскую вотчину.
Привезенного чуть позже Миниха ожидал совершенно другой прием.
– Вы хотели против меня сражаться? – спросила Екатерина, когда Миниха привели к ней.
– Я хотел пожертвовать своей жизнью за государя, который возвратил мне свободу, но теперь я считаю своим долгом сражаться за вас, и вы найдете во мне вернейшего слугу, – с солдатской прямотой ответил Миних. И в этом ответе не было ни заискивания, ни угодливости.
Миних был оставлен в прежнем звании и назначен главнокомандующим над портами: Ревельским, Рогервикским, Нарвским и Кронштадским, а также над Ладожским каналом и над Волховскими порогами.
Из окружения Петра III почти никто не был наказан. Кроме Гудовича, некоторые неудобства испытали лишь двое близких Петру людей – тайный секретарь Волков и генерал-поручик Мельгунов. Первого отправили вице-губернатором в Оренбург, второго – в «южные украины», однако же ненадолго – в 1764 году Мельгунов был уже новороссийским губернатором.
Что же касается самого Петра III, то было решено, что временно, как ему на первых порах было обещано, поедет он в Ропшу – его собственную мызу, подаренную ему еще в бытность его Великим князем Елизаветой Петровной.
В 8 часов вечера 29 июня Петра Федоровича в сопровождении сильного кавалерийского отряда привезли в Ропшу. Его поместили в спальне, а к дверям приставили часового. Сам же дворец охранялся солдатами со всех сторон. Окна в спальне были занавешены зелеными гардинами, чтобы из сада не было видно, что происходит внутри. Петра не пускали не только в сад, но даже в другую комнату.
Переспав одну ночь, Петр потребовал собственного врача – Лидерса, но Лидерс боялся, что если он приедет в Ропшу, то потом разделит с бывшим императором его судьбу и отправится вместе с ним в Шлиссельбург или в ссылку.
Так, в одиночестве, со всех сторон окруженный стражей, Петр долго не мог заснуть на очень неудобной кровати, слушая, как далеко за полночь в соседнем зале кричат и хохочут пьяные офицеры. Лишь на рассвете он забылся беспокойным сном.
Триумф победителей
Екатерина выехала из Петергофа, как только Петра Федоровича увезли в Ропшу. В одной с ней карете ехали Дашкова, Кирилл Разумовский и генерал Волконский. Остановившись по дороге, на даче князя Куракина, обе женщины легли отдохнуть на единственную кровать, оказавшуюся на этой даче. Через несколько часов они проехали через Екатерингоф, заполненный огромной толпой, выражавшей желание сражаться за Екатерину, если голштинцы посмеют оказать сопротивление. А затем их ждала столица. «Въезд наш в Петербург невозможно описать, – сообщала Дашкова. – Улицы были запружены ликующим народом, благословлявшим нас; кто не мог выйти – смотрел из окон. Звон колоколов, священники в облачении на паперти каждой церкви, полковая музыка производили неописуемое впечатление».
Однако Екатерина не позволила ни себе, ни своему ближайшему окружению впасть в эйфорию и сразу же прочно взяла бразды правления в свои руки. Это стало видно из ее первых самостоятельных шагов, когда солдатская и офицерская стихия попробовала было выйти из берегов под предлогом великой радости в связи с одержанной ими победой.
30 июня армия и гвардия заполнили все кабаки.
Очевидец и рядовой участник переворота, солдат Преображенского полка, будущий знаменитый поэт Гаврила Романович Державин писал впоследствии:
«Солдаты и солдатки, в неистовом восторге и радости, носили ушатами вино, водку, пиво, мед, шампанское и всякие другие дорогие вина и лили все вместе, без всякого разбору, в кадки и бочонки, что у кого случилось. В полночь, на другой день, с пьянства, Измайловский полк, обуяв от гордости и мечтательного своего превозношения, что императрица в него приехала и прежде других им препровождаема была в Зимний дворец, собравшись без сведения командующих, приступив к дворцу, требовал, чтоб императрица к нему вышла и уверила его персонально, что она здорова». Екатерина вынуждена была встать среди ночи, одеться в гвардейский мундир и даже пойти вместе с измайловцами в их казармы. Но зато уже на следующее утро был издан манифест, где говорилось, что воинская дисциплина должна быть незыблемой, и впредь за всякое непослушание и дерзость ослушники будут наказаны по законам.
В то же утро на улицах Петербурга появились многочисленные патрули и пикеты. На всех площадях и перекрестках главных улиц была выставлена артиллерия, и у орудий стояли канониры с зажженными фитилями. Особенно много войск было сосредоточено вокруг Зимнего дворца, и такое положение сохранялось в столице в течение недели.
* * *
Возвратившись в Петербург, активные участники переворота с немалым удивлением стали узнавать о том, о чем ранее и не подозревали. Если даже такая близкая к Екатерине наперсница, как Дашкова, только за сутки до переворота с изумлением узнала, что Григорий Орлов является любовником императрицы, то что говорить о других придворных, стоявших намного дальше от императрицы, чем Екатерина Романовна?
Многие были поражены, когда в первый же день увидели на Григории Орлове генеральский мундир, украшенный красно-желтой лентой ордена Александра Невского, и усыпанную бриллиантами шпагу.
Новые знаки отличия были и на других участниках «революции», как сразу же стали называть переворот.
Алексей Орлов уже 29 июня был произведен в секунд-майоры Преображенского полка, но самые главные награды ждали всех пятерых братьев, включая и Владимира, не принимавшего ни малейшего участия в перевороте, в дни предстоящих коронационных торжеств, главным распорядителем которых был назначен Григорий Орлов.
Федор Орлов стал капитаном Семеновского полка, Иван, почти ничего не сделавший для победы Екатерины, получил чин капитана, а вскоре, выйдя в отставку, и ежегодную пожизненную пенсию в двадцать тысяч рублей.
Награждены были и другие участники переворота, правда это произошло чуть позже – 3 августа 1762 года, когда страсти немного улеглись и Екатерина могла отметить героев «революции», учитывая не только их истинную роль в событиях, но и то, как они показали себя в первый месяц после одержанной победы.
Последние дни свергнутого императора
Одним из главных вопросов, возникших перед Екатериной в эти дни, был вопрос о судьбе свергнутого императора. В дни подготовки переворота почти все были согласны с тем, что Петра надлежит заточить в крепость. Наиболее подходящей крепостью заговорщики считали Шлиссельбург. Скорее всего, срабатывала историческая аналогия – в Шлиссельбурге вот уже шесть лет сидел несчастный Иван Антонович Брауншвейгский, почему бы не поместить рядом с ним и Петра Федоровича Голштинского?
Более того, 28 июня в Шлиссельбург был послан генерал-майор Савин с приказом устроить помещения для приема нового узника. Не успел Савин приехать в Шлиссельбург, как получил новый приказ, посланный ему вдогонку из Петергофа и датированный 29 июня, в котором ему предписывалось вывезти из Шлиссельбурга в Кексгольм Ивана Антоновича, а в Шлиссельбурге подготовить лучшие покои. Для кого они предназначались, в приказе не говорилось, но двух мнений на этот счет быть не могло.
Идея заточения Петра Федоровича в Шлиссельбург была жива, по крайней мере
до 2 июля, – именно тогда поручик Плещеев повез туда некоторые вещи.
После 2 июля эта идея, по-видимому, уступила место другой, но вслух о ней не говорили, хотя отлично понимали, что лучше всего было бы, если бы Петра не стало. Об убийстве никто не заикался, а вот мысль о желательности естественной, ненасильственной смерти буквально носилась в воздухе, и люди из ближайшего окружения Екатерины не могли не ощущать этого…
* * *
В Ропше, в первую ночь, Петр заснул лишь под утро. Он долго и тихо плакал, по-детски жалея себя, досадуя, что лежит не в своей постели, а в новой – жесткой и неудобной, что нет с ним любимой собаки, нет арапа-карлы Нарцисса, нет доктора, нет камердинера. Он ворочался без сна чуть ли не до утра, а проснувшись около полудня, попросил перо, чернил, бумаги и написал своей жене, чтобы все это прислали к нему, и, кроме того, попросил еще любимую скрипку, от звуков которой Екатерина не находила себе места, когда Петр Федорович пытался играть в соседнем с ее спальней покое.
В тот же день, в воскресенье 30 июня, Екатерина написала генералу Василию Суворову, чтобы он отыскал среди пленных, взятых в Ораниенбауме, «лекаря Лидерса, да арапа Нарцыся, да обер-камердинера Тимлера; да велите им брать с собою скрипицу бывшего государя, его мопсика-собаку; да на тамошние конюшни кареты и лошадей отправьте их сюда скорее…».
1 июля все было спокойно: Алексей Орлов даже играл в карты с Петром и одолжил бывшему императору несколько червонцев, заверив, что распорядится дать ему любую сумму. Но карты картами, а все прочее выглядело очень уж непривлекательно. К тому же уже 30 июня Петр почувствовал приближение болезни, а в ночь на 1 июля не на шутку заболел.
Об этих днях повествуют три его записки, отправленные Петром к Екатерине.
Письменных ответов на них нет, – по-видимому, свои ответы ропшинскому узнику Екатерина передавала устно.
А вот записки Петра Федоровича сохранились. Они приводятся здесь полностью. Ознакомьтесь с ними:
«Сударыня, я прошу Ваше Величество быть уверенной во мне и не отказать снять караулы от второй комнаты, так как комната, в которой я нахожусь, так мала, что я едва могу в ней двигаться. И так как Вам известно, что я всегда хожу по комнате, то от этого у меня распухнут ноги. Еще я Вас прошу не приказывать, чтобы офицеры находились в той же комнате со мной, когда я имею естественные надобности – это для меня невозможно; в остальном я прошу Ваше Величество поступать со мной, по меньшей мере, как с большим злодеем, не думая никогда его этим оскорбить. Отдаваясь Вашему великодушию, я прошу отпустить меня в скором времени с известными лицами в Германию. Бог Вам заплатит непременно. Ваш нижайший слуга Петр.
P. S. Ваше Величество может быть уверена во мне, что я не подумаю ничего, не сделаю ничего, что могло бы быть против ее особы или ее правления».
Достаточно задуматься лишь над единственным штрихом этой картины, и нам все станет ясно: Петра беспрерывно унижали, не давая ему даже справить «естественные надобности» и глумясь над его застенчивостью. Ему, уже больному, не давали выйти в парк и лишили всяческого общения с близкими.
И он, уже официально отрекшийся от престола, снова униженно заверяет Екатерину в рабской покорности ее воле.
А вот и вторая записка:
«Ваше Величество, если Вы совершенно не желаете смерти человеку, который уже достаточно несчастен, имейте ко мне жалость и оставьте мне мое единственное утешение – Елизавету Романовну. Вы сделаете этим большее милосердие Вашего царствования; если же Ваше Величество пожелало бы меня видеть, то я был бы совершенно счастлив. Ваш нижайший слуга Петр».
И, наконец, – третья, написанная по-русски, в отличие от предыдущих, написанных по-французски.
«Ваше Величество, я еще прошу меня, который в Вашей воле исполна во всем, отпустить меня в чужие края с теми, о которых я Ваше Величество прежде просил. И надеюсь на Ваше великодушие, что Вы меня не оставите без пропитания.
Преданный Вам холоп Петр».
Так, менее чем за сутки, переменилась судьба человека, самодержавно повелевавшего самой большой и одной из самых могущественных стран мира. Австрийский посланник в России, граф Мерси де Аржанто, писал: «Во всемирной истории не найдется примера, чтобы государь, лишаясь короны и скипетра, выказал так мало мужества и бодрости духа, как он, царь, который всегда старался говорить так высокомерно. При своем же низложении с престола поступил до того мягко и малодушно, что невозможно даже описать». Графу Мерси вторил Фридрих II, сказавший французскому посланнику в Берлине графу Сегюру: «Он позволил свергнуть себя с престола, как ребенок, которого отсылают спать».
А возвратившийся в Петербург Бирон прокомментировал причины падения Петра так: «Снисходительность была важнейшею ошибкою сего государя, ибо русскими должно повелевать не иначе, как кнутом или топором».
* * *
Петр заболел серьезно и тяжело. Врач Лидерс появился только вечером 3 июля, когда истекал уже четвертый день болезни. Задержка с врачом объяснялась тем, что сначала его не сразу отыскали, а затем Лидерс не захотел ехать в Ропшу, опасаясь, что его отправят вместе с августейшим пациентом в ссылку или в тюрьму.
Он ограничился тем, что, выслушав посланца, отправил больному лекарство, заверив, что болезнь не опасна и ему в Ропше делать нечего.
Однако болезнь развивалась, и 3 июля Лидерс вынужден был приехать к Петру Федоровичу. 4 июля больному стало еще хуже и к нему приехал еще один врач – штаб-лекарь Паульсен.
Сохранились три записки командира отряда и начальника ропшинской охраны Алексея Орлова. Из них мы можем проследить за ходом болезни и развитием событий в Ропше.
Первое сообщение: «Матушка, милостивая Государыня; здравствовать Вам мы все желаем несчетные годы. Мы теперь по отпуске сего письма и со всею командою благополучны, только урод наш очень занемог, и схватила его нечаянная колика, и я опасен, чтоб он сегодняшнюю ночь не умер, а больше опасаюсь, чтоб не ожил. Первая опасность – для того, что он все вздор говорит, и нам это несколько весело, а другая опасность, что он действительно для нас всех опасен, для того, что он иногда так отзывается, хотя (желая) в прежнем состоянии быть…» Далее Алексей Орлов сообщал, что он солдатам и офицерам из команды, охраняющей Петра III, выдал жалованье за полгода, «кроме одного Потемкина, вахмистра, для того, что служил без жалованья». (Это был тот самый Григорий Александрович Потемкин, который через двенадцать лет станет могущественнейшим из фаворитов Екатерины II, светлейшим князем и фельдмаршалом.)
«И многие солдаты, – писал дальше Орлов, – сквозь слезы говорили, что они еще не заслужили такой милости».
Впрочем, вскоре они эту малость отработали сполна, что и подтвердили события, произошедшие спустя немного времени.
Во втором сообщении Орлов писал: «Матушка наша, милостивая Государыня! Не знаю, что теперь начать, боясь гнева от Вашего Величества, чтоб Вы чего на нас неистового подумать не изволили, и чтоб мы не были причиною смерти злодея Вашего и всей России, также и закона нашего (т. е. православия. – В. Б.). А теперь и тот, приставленный к нему для услуги лакей Маслов занемог, а он сам (т. е. Петр III. – В. Б.) теперь так болен, что не думаю, чтоб он дожил до вечера, и почти совсем уж в беспамятстве, о чем уже и вся команда здешняя знает и молит Бога, чтоб он скорее с наших рук убрался. А оный же Маслов, и посланный офицер, могут Вашему Величеству донесть, в каком он состоянии теперь, ежели Вы обо мне усумниться изволите. Писал сие раб Ваш верный…».
Вторая записка осталась без подписи. Вернее, подпись была, но чья-то рука ее оборвала. А вот почерк – Алексея Орлова.
Кажется, вторая записка была сочинена и отослана утром 6 июля, потому что именно тогда был схвачен камердинер Петра Федоровича Маслов. Петр еще спал, когда Маслов вышел в сад, чтобы подышать свежим воздухом. По-видимому, к утру 6-го Маслову стало получше, и он, оставив постель, стал прогуливаться по саду. Однако дежурный офицер, увидев в этом нарушение режима, приказал схватить Маслова, посадить его в приготовленный экипаж и вывезти из Ропши вон.
В 6 часов вечера в субботу, 6 июля, из Ропши в Петербург примчался нарочный и передал в собственные руки Екатерине еще одну записку от Алексея Орлова. Она была написана на такой же бумаге, что и предыдущая, и тем самым почерком. Эксперты полагают, что почерк был «пьяным».
«Матушка, милосердная Государыня! – писал Орлов. – Как мне изъяснить, описать, что случилось: не поверишь верному своему рабу, но как перед Богом скажу истину. Матушка! Готов идти на смерть, но сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Матушка, его нет на свете. Но никто сего не думал, и как нам задумать поднять руки на Государя! Но, государыня, свершилась беда. Он заспорил за столом с князь Федором (Барятинским). Не успели мы разнять, а его уж и не стало. Сами не помним, что делали, но все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй меня, хоть для брата. Повинную тебе принес, и разыскивать нечего. Прости или прикажи скорее окончить. Свет не мил. Прогневили тебя и погубили души навек».
Получив известие о смерти Петра Федоровича, Екатерина приказала привезти его тело в Петербург и учинить вскрытие, чтобы узнать, не был ли он отравлен. Вскрытие показало, что отравления не было.
Убедившись в этом, Екатерина выдвинула официальную версию, изложив ее в манифесте от 7 июля 1762 года.
В манифесте сообщалось, что «бывший император Петр III обыкновенным, прежде часто случавшимся ему припадком геморроидическим, впал в прежестокую колику». После чего, говорилось в манифесте, больному было отправлено все необходимое для лечения и выздоровления. «Но, к крайнему нашему прискорбию и смущению сердца, вчерашнего вечера получили мы другое, что он волею Всевышнего Бога скончался».
Таким образом, не было даже формальной необходимости проводить расследование случившегося, опрашивать многочисленных свидетелей произошедшего на их глазах убийства, пусть даже непреднамеренного. А свидетелей тому, кроме Алексея Орлова и упомянутого в третьей записке князя Федора Барятинского, которого не «успели разнять» с покойным, было около полутора десятков.
Современники знали, что в последнем застолье с Петром III, кроме Алексея Орлова и князя Федора Барятинского, принимали участие князь Иван Сергеевич Барятинский – родной брат Федора, лейб-медик Карл Федорович Крузе, камергер Григорий Николаевич Теплов – автор текста отречения Петра III от престола, вахмистр конной гвардии Григорий Александрович Потемкин, Григорий Никитич Орлов – родственник братьев Орловых, знаменитый актер Федор Григорьевич Волков, уже известный нам Александр Мартынович Шванвич, бригадир Александр Иванович Брессан, камергер Петра III – еще неделю назад обыкновенный парикмахер, получивший чины камергера и бригадира за то, что известил Петра III о грозившей ему опасности, и наконец гвардии сержант Николай Николаевич Энгельгардт.
Кроме того, в комнате, где Петра III настигла смерть, были еще и трое безымянных лиц – двое часовых и кабинет-курьер, приехавший накануне из Петербурга. Современники утверждали, что Григорий Орлов, Теплов и Потемкин были только свидетелями и зрителями, а Федор Барятинский, Шванвич и особенно Энгельгардт – прямыми и активными убийцами. Брессан же был единственным из всех, кто кинулся на помощь Петру Федоровичу.
Награды убийцам
3 августа 1762 года Екатерина II дала Сенату указ, в котором говорилось: «За отличную и всем нашим верноподданным известную службу, верность и усердие к нам и отечеству нашему, для незабвенной памяти о нашем к ним благоволении, всемилостивейше пожаловали мы деревнями в вечное и потомственное наследное владение, а некоторых из Кабинетной нашей суммы денежного равномерного противу таковых деревень суммою…». И далее идут знакомые нам фамилии – Орловы, Пассек, Федор Барятинский, Баскаков, Потемкин, братья Рославлевы, Ласунский, Бибиков, Мусин-Пушкин и другие.
Указ от 3 августа 1762 года был опубликован в «Санкт-Петербургских новостях» и сопровождался следующей сентенцией: «Ее Императорское Величество нимало не сомневалась об истинном верных своих подданных при всех бывших прежде обстоятельствах сокровенном к себе усердии, однако же к тем особливо, которые по ревности для поспешения благополучия народного побудили самим делом Ее Величества сердце милосердное к скорейшему принятию престола российского и к спасению таким образом нашего отечества от угрожавших оному бедствий, на сих днях оказать соизволила особливые знаки своего благоволения и милости…». Весьма любопытно, что здесь же упоминались и четверо простолюдинов: «…Федора и Григория Волковых в дворяне и обоим 700 душ».
Этим же указом Василию Шкурину даровались 1000 душ, а Алексею Евреинову – 300 (Алексей Евреинов был казначеем и часто выручал Екатерину деньгами).
После главных героев переворота жаловались и его второстепенные участники. И среди них, к немалому изумлению, обнаруживаем мы и Екатерину Дашкову, которая должна бы была занимать подобающее ее заслугам место среди главнейших Спасителей Отечества. С этого момента отношения двух Екатерин разладились, и хотя окончательно их пути не разошлись, но и о былой близости тоже уже не могло быть и речи.
7 августа того же года из Сената в Герольдмейстерскую контору было послано дело о пожаловании братьев Волковых, В. Шкурина и А. Евреинова в потомственное дворянство.
«Наименование дела Герольдмейстерской конторы, августа 7,1762 года.
Известие, отданное от Сената о пожаловании гардеробмейстера Василия Шкурина в российские дворяне, да Федора и Григория Волковых и кассира Алексея Евреинова во дворяне и о пожаловании их деревнями, а Евреинова чином капитанским…»
О заслугах Шкурина перед Екатериной мы знаем точно. Стало быть, и заслуги братьев Волковых тоже были немалыми, если в наградах сравнялись они со Шкуриным, спалившим свою избу ради сохранения чести Екатерины и вовремя пославшего ей карету для бегства из Петергофа в самый решительный момент ее жизни.
А вот о Ф. Г. Волкове следует сказать кое-что, о чем не знал почти никто из его современников…
Крайне интересный сюжет содержат «Записки» уже знакомого нам Тургенева. Они сообщают о совершенно скрытой от всех, неизвестной стороне жизни Ф. Г. Волкова.
Тургенев писал: «При Екатерине первый секретный, немногим известный, деловой человек был актер Федор Волков, может быть, первый основатель всего величия императрицы. Он, во время переворота при восшествии ее на трон, действовал умом; прочие, как-то: главные, Орловы, князь Барятинский, Теплов – действовали физическую силою, в случае надобности, и горлом привлекая других в общий заговор.
Екатерина, воцарившись, предложила Ф. Г. Волкову быть кабинет-министром ее, возлагала на него орден Святого Андрея Первозванного. Волков от всего отказался и просил Государыню обеспечить его жизнь в том, чтобы ему не нужно было заботиться об обеде, одежде, о найме квартиры, когда нужно, чтобы давали ему экипаж. Государыня повелела нанять Волкову дом, снабжать его бельем и платьем, как он прикажет, отпускать ему кушанье, вина и все прочие к тому принадлежности от двора, с ее кухни, и точно все такое, что подают на стол ее величеству; экипаж, какой ему заблагорассудится потребовать… Всегда имел он доступ в кабинет к государыне без доклада».
Волков не только отказался от поста кабинет-министра и высшего ордена империи, но и не принял поместье и крепостных. Сохранилось свидетельство такого рода: «Рассказывают с достоверностью, что государыня, при восшествии на престол, благоволила жаловать его дворянским достоинством и вотчиною, но он, со слезами благодарности, просил императрицу удостоить этою наградою женатого брата его, Гавриила, а ему позволить остаться в том звании и состоянии, которому он обязан своею известностью и самыми монаршими милостями. И государыня… уважила просьбу первого русского актера и основателя отечественного театра».
Был ли Федор Волков в столь высокой доверенности у Екатерины? Занимал ли он столь значительное место в организации заговора? Несомненно, что Волков и Екатерина представляли друг для друга взаимный интерес. В беседах о театре и литературе они не могли не касаться политических тем и, вероятно, могли обсуждать и конфиденциальные вопросы. Мнение Волкова и в этих вопросах могло быть очень значимым, ибо многие современники Волкова считали его одним из умнейших людей России.
Выдающийся просветитель Николай Иванович Новиков считал его «мужем великого, обымчивого (т. е. объемлющего) и проницательного разума, основательного и здравого рассуждения и редких дарований, украшенных многим учением и прилежным чтением наилучших книг».
Блистательный драматург Денис Иванович Фонвизин считал Волкова «мужем глубокого разума, наполненного достоинствами, который имел большие знания и мог бы быть человеком государственным».
Третий современник – знаменитый поэт Гавриила Романович Державин называл Волкова «знаменитым по уму своему», но участие выдающегося актера в ропшинской драме справедливо считается наименее выясненным моментом в биографии Волкова.
И все же даже то немногое, что нам стало известно сейчас, проливает новый свет на Федора Волкова, который был не только актером и основателем русского профессионального театра, но и незаурядным политическим деятелем, истинную роль которого еще предстоит выяснить историкам.
Похороны Петра III
7 июля был издан манифест о предстоящей коронации Екатерины II. Обращала на себя внимание необычайная поспешность церемонии, которая должна была состояться в Москве менее чем через два месяца, что не имело прецедента в российской истории. Красноречивым было и то, что главным распорядителем всех торжеств был назначен Григорий Орлов. Но еще более скоропалительными оказались похороны Петра III.
Местом его погребения был избран не Петропавловский собор, а Александро-Невская лавра, что тоже добавило уверенности в насильственной смерти Петра III.
По предложению Н. И. Панина Сенат «рабски просил Екатерину не участвовать в похоронах», так как «сия процедура была бы для нее невыносима». Екатерина согласилась и в похоронах не участвовала.
Сохранилось немного свидетельств о похоронах Петра III. Одно из них оставил флигель-адъютант Петра III, полковник Давид Рейнгольд Сиверc, двоюродный брат близкого Елизавете Петровне Карла Сиверса, о котором в этой книге уже говорилось. Его перу принадлежат довольно любопытные «Записки». Он был в Ораниенбауме, когда арестовывали Петра III, и сам был арестован Василием Суворовым. Благодаря заступничеству своего кузена перед Екатериной II, он был освобожден и уехал в Петербург.
Там он услышал о кончине Петра III. Сиверc сообщает: «Ночью с 7 на 8 июля тело его было перевезено из места его заточения в Александро-Невский монастырь и стояло до 10-го в гробу, обитом в красный атлас с немногими золотыми украшениями. Он лежал в своем любимом голштинском мундире, но без всяких орденов, без шпаги и без караула. Стражею при нем были – малого чина офицер и несколько человек солдат».
Бывший император был одет в светло-голубой с белыми отворотами мундир голштинских драгун. На руки покойного были надеты большие кожаные перчатки с крагами до локтей, какие носили шведские офицеры времен Карла XII.
Простые люди шли к гробу императора непрерывно, и были их многие тысячи. Они видели относительную бедность похоронного убранства, малочисленность караула, но более всего поражало их то, что в гробу лежал человек с черным лицом: от большой потери крови и удушения лицо покойного стало необычайно темным.
От этого в Петербурге тотчас же распространился слух, что Петр Федорович спасся, а в гроб положили убитого вместо него царского арапа. Однако останавливаться было запрещено, и люди быстро проходили мимо покойного.
В среду 10 июля в Александро-Невский монастырь прибыло множество военных и статских генералов и огромная толпа простолюдинов. После краткой заупокойной литургии в Благовещенской церкви тело покойного было предано земле здесь же, в церкви, рядом с бывшей правительницей Анной Леопольдовной.
Гроб опустили в могилу без орудийного салюта и без колокольного звона. Но не только это отличало его похороны от похорон других российских монархов: ему предстояло лежать в этой могиле только 33 года. А 18 декабря 1796 года его, по распоряжению сына Петра Павла хоронили вторично вместе со скончавшейся накануне Екатериной II и рядом с нею.
Коронация и первые годы царствования Екатерины II
1 сентября 1762 года Екатерина выехала в Москву на коронацию.
В пятницу, 13 сентября совершился ее торжественный въезд в Москву. Под звон колоколов и грохот пушек Екатерина ехала по Тверской, убранной гирляндами, украшенной вывешенными коврами и гобеленами, густой зеленью ельника и множеством цветов.
Она ехала в открытой коляске, окруженная эскортом конногвардейцев, вдоль стоящих шпалерами десяти полков, одетых в парадные мундиры и сверкающие каски.
22 сентября в 10 часов утра началась церемония коронации, завершившаяся тем, что Екатерина из Успенского собора прошла в Архангельский и Благовещенский, где прикладывалась к святым мощам и самым почитаемым иконам. Во время ее шествия по территории Кремля полки «отдавали честь с музыкою, барабанным боем и уклонением до земли знамен, народ кричал „ура“, а шум и восклицания радостные, звон, пальба и салютация кажется воздухом подвигли, к тому ж по всему пути метаны были в народ золотые и серебряные монеты».
Коронационные торжества продолжались семь дней. В первый день в Кремле три часа били фонтаны белого и красного вина, бесплатно угощали жареным мясом, продолжали бросать монеты. То же самое происходило и на седьмой день торжеств, сменив затем официальное празднество – «празднеством партикулярным» в домах московской знати.
Хлебосольная и щедрая аристократия Москвы на сей раз превзошла самое себя – балы, парадные обеды, маскарады, фейерверки и прочие увеселения длились более полугода – с октября 1762 года до июня 1763-го.
Главным распорядителем коронационных торжеств был действительный камергер, генерал-майор и кавалер ордена Александра Невского Григорий Григорьевич Орлов.
В эти же дни все пять братьев Орловых были возведены в графское достоинство, а Григорий, кроме того, был пожалован и званием генерал-адъютанта. На графском гербе Орловых бал начертан девиз: «Храбростью и постоянством».
Екатерина начала царствование милостью к недругам и наградами друзьям. Она сразу же встала над дворцовыми партиями и распрями и подобно тому, как была безусловным лидером в удачно проведенном заговоре, стала столь же безусловным принципалом, уверенно и твердо повела за собою государство.
Восемнадцать лет, проведенные ею в России, не прошли даром: она хорошо знала страну, ее историю, ее народ, понимала, с кем и с чем имеет дело, и не строила наивных и беспочвенных иллюзий относительно всего этого. С первых же дней царствования Екатерина проявила необычайную работоспособность – до двенадцати часов в сутки, а при необходимости и более, умение подбирать себе знающих и надежных помощников, способность быстро и основательно вникать в суть самых разных сложных проблем.
Во внутренней политике она сделала главным принципом рост силы государства, поставив на первое место интересы России. На одном из первых заседаний Сената она узнала о недостаточности денег в казне и отдала собственные средства, заявив, что «принадлежа сама государству, она считает и все принадлежащее ей собственностью государства, и на будущее время не будет никакого различия между интересом государственным и ее собственным». При этом она исходила из принципа превосходства интереса государства над интересом отдельной личности, утверждая: «Где общество выигрывает, тут на партикулярный ущерб не смотрят».
Позднее Екатерина сформулировала и иные важнейшие принципы своей политики, названные ею «Пятью предметами»: «Если государственный человек ошибается, если он рассуждает плохо или принимает ошибочные меры, целый народ испытывает пагубные следствия этого.
Нужно часто себя спрашивать: справедливо ли это начинание? – полезно ли?» – писала императрица. И, перечисляя «Пять предметов», указывала:
«1. Нужно просвещать нацию, которой должен управлять.
2. Нужно ввести добрый порядок в государстве, поддерживать общество и заставить его соблюдать законы.
3. Нужно учредить в государстве хорошую и точную полицию.
4. Нужно способствовать расцвету государства и сделать его изобильным.
5. Нужно сделать государство грозным в самом себе и внушающим уважение соседям. Каждый гражданин должен быть воспитан в сознании долга своего перед Высшим Существом, перед собой, перед обществом, и нужно ему преподать некоторые искусства, без которых он почти не может обойтись в повседневной жизни».
Исходя из «предмета пятого», Екатерина видела смысл внешней политики в соблюдении собственных интересов России. Ни от кого не зависимая Россия, преследовавшая только свои «резоны и выгоды, свой авантаж и профит», как тогда говорили, приобрела гораздо большее значение в мировой политике и вскоре добилась наивысших успехов.
Однако достичь этого Екатерине удалось не сразу и не без борьбы с извечной рутиной, политическими противниками и подстерегавшей на каждом шагу угрозой переворотов и заговоров.
Об административной канцелярской рутине весьма красноречиво говорил хотя бы такой факт. На одном из первых заседаний Сената Екатерина спросила, есть ли в Сенате реестр городов? Его не оказалось, хотя Сенат назначал в города воевод. Не было даже карты России. Тогда Екатерина послала сенатского служителя в Академию наук и, дав ему пять рублей, велела купить географический атлас И. К. Кириллова, изданный еще за тридцать лет до того, и подарила его Сенату.
В одном из писем к Понятовскому Екатерина признавалась: «Мое положение таково, что я должна принимать во внимание многие обстоятельства; последний солдат гвардии считает себя виновником моего воцарения, и при всем том заметно общее брожение».
В первые же месяцы нового царствования в среде гвардейских офицеров возник заговор в пользу шлиссельбургского узника Ивана Антоновича. Трое братьев Гурьевых – Петр, Иван и Семен – и Петр Хрущев намеревались освободить Ивана Антоновича и посадить его на российский трон. Заговор был раскрыт, и все участники были сосланы в Якутск и на Камчатку.
Вслед за тем обнаружился заговор против Григория Орлова. Объектами недовольства,
нападок и даже готовящихся покушений были две «государственных персоны» – правящая императрица и ее фаворит. Общая опасность еще более сблизила их, и у любовников возникла даже мысль обвенчаться, тем более что еще до убийства Петра III Екатерина допускала возможность брака с Орловым.
Для того чтобы грядущее бракосочетание не казалось чем-то необычным, было решено обнародовать документы о венчании Елизаветы Петровны и Разумовского. Однако, когда посланцы императрицы приехали к Алексею Григорьевичу и попросили показать им соответствующий документ, Разумовский, человек умный, осторожный и не желающий изменения собственного положения, открыл ларец с документами и на глазах у нежданных гостей бросил какие-то бумаги в камин, хотя если бы его официально объявили законным супругом Елизаветы Петровны, то Разумовский был бы уравнен в правах с членами императорской фамилии и получил титул «Императорского Высочества».
Тогда в игру включился поверенный в сердечных делах Екатерины, бывший канцлер, граф Алексей Петрович Бестужев, первым из сановников удостоенный Екатериной II звания генерал-фельдмаршала.
Во время коронационных торжеств в Москве он составил челобитную на имя императрицы, «в которой ее всеподданнейше, всепочтительнейше и всенижайше просили избрать себе супруга ввиду слабого здоровья Великого князя». (То есть цесаревича Павла Петровича.)
Несколько вельмож поставили свои подписи под этой челобитной, но когда дело дошло до Михаила Илларионовича Воронцова, он не только не подписал ее, но тотчас же поехал к императрице и обо всем рассказал ей, заявив, что «народ не пожелает видеть Орлова ее супругом».
Екатерина, как утверждает Дашкова, вняла голосу «народа», представителем которого считал себя Воронцов – канцлер и граф, и сказала, что челобитная была плодом самодеятельности Бестужева и что она не имеет к его инициативе никакого отношения и вовсе не собирается брать в мужья себе Григория Орлова.
Меж тем Григорий Орлов был пожалован германским императором Францем I Габсбургом титулом князя Священной Римской империи, и это вызвало новые опасения, что фаворит может оказаться на троне.
Описанные выше события происходили в Москве, где после коронационных торжеств все еще оставался двор и празднества не затихали, а сменяли друг друга бесконечной чередой. Апофеозом невиданных дотоле сценических действ был грандиозный уличный маскарад, проведенный Федором Волковым по сценарию Хераскова и Сумарокова. Четыре тысячи человек приняли участие в этом действе, названном авторами «Торжествующая Минерва».
Режиссер и организатор этого действа – Федор Волков, разъезжая верхом, во время маскарада простудился и 4 апреля 1763 года скончался.
Основателя национального русского театра похоронили в мужском Спасо-Андрониковом монастыре, в котором за три века перед тем нашел приют и последнее упокоение и основатель русской живописи Андрей Рублев. И когда гроб с телом Волкова опускали в могилу, почти никто не знал, что хоронят не только великого актера, сыгравшего десятки ролей на подмостках сцены, но и великого заговорщика, чья роль, тайно сыгранная им в истории России, надолго окажется скрытой и от современников, и от потомков.
Не успели похоронить «глубинного» заговорщика Федора Волкова, чуть более полугода назад «замышлявшего» против Петра Федоровича, как тут же объявились новые «заводчики» нового комплота, на сей раз нацеленного против Григория Орлова. Теперь главой недовольных им стал камер-юнкер и секунд-ротмистр конной гвардии Федор Хитрово, которого Дашкова называла «одним из самых бескорыстных заговорщиков». Хитрово, по неосторожности, поделился своими соображениями о замышляемом заговоре с собственным двоюродным братом Ржевским, рассказав, что им привлечены еще двое офицеров – Михаил Ласунский и Александр Рославлев, оба совсем недавно возведшие Екатерину на престол. Он рассказал Ржевскому, что все они будут
умолять государыню отказаться от брака с Орловым, а если она не согласится, то убьют всех братьев Орловых.
Перепуганный Ржевский передал все Алексею Орлову, и Хитрово арестовали.
24 мая 1763 года Екатерина, находившаяся на богомолье в Ростове Великом, направила Василию Суворову секретнейшее письмо о производстве негласного следствия о поступках секунд-ротмистра и камер-юнкера Федора Хитрово, рекомендуя ему «поступать весьма осторожно, не тревожа ни город, и сколь можно никого; однако ж таким образом, чтоб досконально узнать самую истину, и весьма различайте слова с предприятием… Впрочем, по полкам имеете уши и глаза».
Следствием было установлено, что Хитрово с небольшим числом сообщников видел главного виновника всего происходящего в Алексее Орлове, ибо «Григорий глуп, а больше все делает Алексей, и он великой плут и всему оному делу причиною». Было установлено, что на жизнь Екатерины заговорщики посягать не намеревались, а ограничивались лишь устранением братьев Орловых.
Исходя из всего этого, Екатерина ограничилась тем, что главный заговорщик Федор Хитрово был сослан в свое имение, в село Троицкое Орловского уезда, где и умер 23 июня 1774 года, а его единомышленники Михаил Ласунский и Александр Рославлев были уволены с военной и дворцовой службы в чине генерал-поручика.
И все же Екатерина решилась передать вопрос о своем замужестве на усмотрение Сената. И тогда встал сенатор, граф Никита Панин, воспитатель цесаревича Павла Петровича, и сказал:
– Императрица может делать все, что ей угодно, но госпожа Орлова не будет нашей императрицей.
Панина тотчас же поддержал Кирилл Разумовский.
Существовало мнение, что все, произошедшее в Сенате, было подстроено самой Екатериной, и Панин произнес то, что было угодно императрице.
Заговоры против Орлова и Екатерины возникали несколько раз и составлялись то в пользу Ивана Антоновича, то Павла. О заговоре подпоручика Мировича, провалившемся летом 1764 года, подробно будет рассказано дальше. Еще один заговор возник в 1768 году, когда капитан Панов, премьер-майор Жилин и гвардейские обер-офицеры Степанов и Озеров поставили перед собою задачу возвести на трон Павла Петровича. Однако в основе этого заговора лежала не столько нелюбовь к Екатерине, сколько зависть к Орловым и надежда на то, что новый император отомстит убийцам своего отца. Но и этот заговор был раскрыт и виновные оказались в ссылке – в Сибири и на Камчатке.
Еще через два года объявился мнимый сын Елизаветы Петровны, молодой офицер Опочинин, тоже возмечтавший возвести на престол Павла и учинивший для этого «комплот» с другими дворянами, главную роль среди которых играл поручик Батюшков.
Наконец, в 1772 году созрел заговор среди солдат гвардии – и снова в пользу Павла. Старшему из крамольников было 22 года, и Екатерина приговорила всех к пожизненной ссылке в Сибирь.
Граф Григорий Орлов
Разумеется, и сам Григорий Григорьевич, и все его сторонники отлично понимали, что никакие заговорщики им не страшны, пока императрица любит его. А Екатерина отличалась не только пылкостью нрава, но и привязанностью, столь характерной для женщин нежных и любящих по-настоящему.
Ее роман с Григорием Орловым продолжался десять лет и прервался не по ее вине – о чем будет рассказано ниже.
А в первые годы после ее вступления на престол их любовь была безоблачной, чистой и крепкой. Да и сам предмет любви Екатерины был достоин того. Вот что писал о Григории Орлове его биограф Голомбиевский: «Природа щедро одарила Орлова. „Это было, – по выражению императрицы, – изумительное существо, у которого все хорошо: наружность, ум, сердце и душа“. Высокий и стройный, он, по отзыву Екатерины, „был самым красивейшим человеком своего времени“. Превосходя красотой, смелостью и решительностью всех своих братьев, Григорий не уступал никому ни в атлетическом сложении, ни в геркулесовой силе. При этом Григорий был несомненно добрый человек с мягким и отзывчивым сердцем, готовый помочь и оказать покровительство, доверчивый до неосторожности, щедрый до расточительности, неспособный затаивать злобу, мстить; нередко он разбалтывал то, чего не следует, поэтому казался менее умным, чем был. Способный, но ленивый, Григорий обладал умом несамостоятельным и глубоким, но чутким к вопросам, которые его интересовали. Схватив на лету мысль, понравившуюся ему, быстро усваивал суть дела и нередко доводил эту мысль до крайности. Часто вспыльчивый, всегда необузданный в проявлении своих страстей, он обладал веселым и ветреным нравом, любил кулачные бои, состязания в беге и борьбе и охоту на медведя один на один».
К этой характеристике Григория Орлова может быть присоединена и еще одна, высказанная английским посланником лордом Каткартом: «Орлов – джентльмен, чистосердечный, правдивый, исполненный высоких чувств и обладающий замечательным природным умом».
Несмотря на то что дождь благодеяний пролился на всех участников переворота, самым обласканным оказался Григорий Григорьевич, получивший кроме того, о чем уже было сказано, две прекрасных богатых мызы, расположенных неподалеку от Петербурга – Гатчину и Ропшу. А помимо этого Григорий Григорьевич получал от императрицы и большие суммы денег, чаще всего выдаваемые ему на именины – 25 января и на день рождения – 6 октября. Екатерина дарила Орлову всякий раз от 50 до 150 000 рублей.
В марте 1763 года Екатерина попросила посланника Австрийской империи графа Мерси ходатайствовать перед императором о возведении графа Г. Г. Орлова в княжеское достоинство с титулом светлости, что и было подтверждено дипломом от 21 июля 1763 года. На следующий день Орлов стал главой Канцелярии опекунства иностранных поселенцев (то есть иностранцев, переселившихся в Россию).
Иностранные поселенцы получали земли в Поволжье, освобождались на тридцать лет от податей, имели право продавать плоды своего труда беспошлинно за границу, заводить торги и ярмарки, строить фабрики и мануфактуры.
К 1769 году только вокруг Саратова в 104 колониях поселилось более 23 000 выходцев из Швейцарии, Германии, Франции, Австрии и других стран. Карта Поволжья запестрела новыми поселениями – Берн, Люцерн, Унтервальден и т. п.
В январе 1765 года Орлов был назначен шефом Кавалергардского корпуса, а 14 марта того же года генерал-фельдцейхмейстером и генерал-директором над фортификациями, заняв сразу две важнейших должности – командующего артиллерией и командующего инженерными войсками.
О всех деловых и служебных качествах Григория Григорьевича и о том, как проявлялись они в конкретных обстоятельствах, мы еще узнаем, а пока перейдем к последовательному пересказу важнейших событий, вернувшись к центральной фигуре – Екатерине Второй.
Заговор поручика Василия Мировича
Подпоручик Смоленского пехотного полка Василий Яковлевич Мирович, бедный дворянин-украинец, родители которого потеряли свои поместья из-за приверженности Мазепе, долго обивал пороги знатных петербургских земляков, умоляя помочь ему вернуть конфискованное добро. Однажды попал он на прием и к гетману Кириллу Разумовскому. Как показывал потом на допросе Мирович, гетман сказал ему: «Ты, молодой человек, сам себе прокладывай дорогу. Старайся подражать другим, старайся схватить Фортуну за чуб, и будешь таким же паном, как другие».
Отчаявшись добиться желаемого законным путем, Мирович стал подумывать об иных способах поправить дела: то он мечтал о выгодной женитьбе, то пытался выиграть состояние в карты, но Фортуна ловко увертывалась от неудачливого бедного подпоручика.
Осенью 1763 года Мирович случайно узнал, что в Шлиссельбурге томится несчастный экс-император Иван Антонович – сын Антона-Ульриха Брауншвейгского и регентши Анны Леопольдовны. Этого было довольно, чтобы толкнуть его мысли в новом направлении. Всю зиму он обдумывал, каким образом можно было бы осуществить эту «затейку», и решил, что как только наступит его очередь нести караульную службу в Шлиссельбургской крепости, – а Смоленский полк по частям выполнял и такую задачу, – он и осуществит немедленно свой замысел.
Он не знал, что даже если бы его замысел вполне удался, на престол возводить было бы некого: Иван Антонович от строгого многолетнего заключения в одиночных казематах превратился в полусумасшедшего человека, плохо и невнятно говорившего и не знавшего большинства реалий обыкновенной жизни.
В начале июля 1764 года Мировичу была поручена команда из 45 солдат и унтер-офицеров.
В крепости постоянно находилось три десятка солдат при коменданте Бередникове и двух офицерах – Власьеве и Чекине. Мирович лишь в самые последние дни перед осуществлением задуманного им дела стал склонять солдат и капралов отряда на свою сторону, зачитывая им подложный манифест и суля богатства и почести наподобие тех, какие получили лейб-компанцы Елизаветы Петровны. Кроме того, он предложил принять участие в заговоре и капитану Власьеву, не зная, что именно Власьев, согласно секретной инструкции, должен был при попытке освобождения Ивана Антоновича убить царственного арестанта.
Власьев мнимо согласился и тут же сообщил о сделанном ему предложении Никите Панину. Мирович не знал и этого, но, почувствовав опасность, решился на немедленные действия. Ночью он собрал свою команду и отдал приказ ворваться в каземат к Ивану Антоновичу.
Солдаты повиновались. Они арестовали коменданта и двинулись к каземату. Однако Власьев и Чекин, услышав выстрелы, немедленно исполнили инструкцию, и когда Мирович проник в каземат, Иван Антонович был уже мертв. О подробностях того, каким образом был он убит, свидетельств не сохранилось.
Так закончилась трагическая история царственного отпрыска из Брауншвейгской фамилии. Мировича арестовали, долго допрашивали – сначала в Шлиссельбурге, потом в Петропавловской крепости, – причем следствием и допросами руководил Григорий Орлов, проявивший и здесь известную снисходительность и не позволивший применить пытку. Но Мирович все же был приговорен к смерти и казнен 15 сентября 1764 года.
* * *
Став у кормила власти, Екатерина делала один шаг за другим, укрепляя могущество России как во внутренней, так и во внешней политике.
В 1765 году был издан Манифест о генеральном межевании, которым ставилась грандиозная задача точно определить границы земельных владений помещиков, свободных крестьян, казаков, городов, сел, монастырей, церквей, императорских уделов и всех прочих категорий землевладельцев.
Межевание проводилось до 1843 года, охватив территорию более 300 миллионов гектаров.
Для ускорения прохождения законов в Сенате была проведена реформа, изменившая его структуру: в Петербурге работало четыре департамента, в Москве – два. До того в Москве сенатских департаментов не было, и все вопросы управления и судебных дел решались только в Петербурге. Теперь же почти половина проблем решалась в Москве.
В Россию на льготных и весьма выгодных условиях привлекалось большое число иностранцев-колонистов, которыми заселялись преимущественно южные губернии, где было много невозделанной земли. Важную роль в колонизации играли немецкие переселенцы. В 1764—1774 годах на Волге, между городами Камышином и Саратовом, было образовано более ста немецких земледельческих колоний. Позже сотни немецких колоний появились в Новороссии и Крыму, отвоеванных русскими у татар и турок. Преимущественно это были переселенцы из юго-западных земель Германии – Вюртемберга, Бадена, Пфальца, Гессена, Баварии и Тюрингии. Немецким колонистам принадлежала важная роль в распространении новых для России сельскохозяйственных культур, особенно – картофеля.
Исключительно важное значение имела деятельность по подготовке, а затем по выборам и работе последней в истории России Комиссии об уложении, которая была седьмой по счету, начиная с 1700 года. Все предыдущие комиссии работали над созданием Свода законов, но ни одна не довела дело до конца. Екатерина поставила перед собой задачу такой Свод законов составить.
14 декабря 1766 года был опубликован Манифест о выборах депутатов от всех свободных сословий России для выработки нового Свода законов. Для этого были предусмотрены выборы депутатов в Комиссию об уложении из всех районов государства. Свод законов должны были создавать депутаты, избранные всеми народами и сословиями России, кроме крепостных крестьян, интересы которых представляли их владельцы. Все пять братьев Орловых были избраны депутатами от тех уездов, где были их имения. Григорий Орлов представлял дворян Копорского уезда Петербургской губернии.
Пока шли выборы, Екатерина и ее фаворит отправились в путешествие по Волге. 2 мая их лодки вышли из Твери и поплыли вниз по реке через Ярославль, Кострому, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань и Симбирск, откуда путешественники пересели в экипажи и поехали в Москву.
Во время путешествия по Волге Екатерина осмотрела заводы и фабрики, монастыри и церкви, мастерские и соляные варницы. В Нижнем Новгороде она познакомилась с замечательным механиком-самоучкой Иваном Кулибиным.
В дороге Екатерина размышляла над тем, какие законы могли бы улучшить положение дел в России. Именно в эти дни императрица начала интенсивно разрабатывать свой знаменитый «Наказ» – философско-юридический трактат, основанный на трудах Монтескье «Дух Законов» и Беккариа «О преступлении и наказании», который она чуть позже представила депутатам Уложенной комиссии. Орлов для «Наказа» переводил одну из глав романа Мармонтеля «Велизарий».
Екатерину поразила пестрота отношений, народов, языков, обычаев, костюмов, которые она встречала на каждом шагу.
Екатерина в каждом из городов, в монастырях и селах, попадавшихся ей по дороге, принимала челобитные, выслушивала жалобы, решала различные дела и тяжбы, беседуя с губернаторами и с крестьянами, с попами и купцами, с русскими и инородцами: только в Казани проживало более двух десятков разных народностей.
Из Казани она писала Вольтеру: «Эти законы, о которых так много было речей, собственно говоря, еще не сочинены, и кто может отвечать за их доброкачественность? Конечно, не мы, а потомство будет в состоянии решить этот вопрос. Представьте, что они должны служить для Азии и для Европы, и какое различие в климате, людях, обычаях и самих понятиях!… Можно легко найти общие правила, но подробности? И какие подробности? Это почти все равно, что создать целый мир, соединить части, оградить и прочее».
22 июня, находясь в Москве, Екатерина сообщила сенаторам, что за время путешествия она получила шестьсот челобитных и почти все они содержали жалобы крестьян на помещиков и споры между иноверными народами о землях.
30 июля 1767 года в Успенском соборе Кремля состоялось торжественное открытие заседаний Уложенной комиссии. В конце церемонии Екатерина вручила генерал-прокурору князю Вяземскому завершенный ею накануне «Наказ», состоящий из 22 глав и 665 статей.
На следующий день 420 депутатов собрались в Грановитой палате, чтобы тайным голосованием избрать маршала комиссии. Маршалом был избран костромской депутат, генерал А. И. Бибиков.
А потом Г. Г. Орлов оказался одним из трех чтецов, которые по очереди читали «Наказ» депутатам.
Депутаты с прилежанием, вниманием и восхищением сие сочинение слушали, а вслед за тем, находясь под сильным впечатлением от всего услышанного, на следующем заседании 9 августа решили поднести императрице новый титул.
Поступило несколько предложений, но принята была редакция Григория Орлова – «Екатерина Великая, Премудрая, Мать Отечества».
12 августа одиннадцать депутатов и маршал Бибиков поднесли Екатерине новый титул, но она поручила от своего имени вице-канцлеру князю А. М. Голицыну сказать так:: «О званиях же, кои вы желаете, чтоб я от вас приняла: на сие ответствую:
1) на «Великая» – о моих делах оставляю времени и потомкам беспристрастно судить;
2) «Премудрая» – никак себя таковою назвать не могу, ибо один Бог премудр;
3) «Мать Отечества» – любить Богом врученных мне подданных я за долг звания моего почитаю, быть любимою от них есть мое желание».
Так откорректировала Екатерина верноподданные излияния господ депутатов и своего любимца.
А по окончании аудиенции она сказала:
– Надобно господам депутатам обсуждать и составлять законы, а не заниматься моей анатомией.
14 декабря состоялось последнее заседание Уложенной комиссии в Москве, потом были объявлены каникулы, и следующее заседание было открыто 18 февраля 1768 года в Санкт-Петербурге, после чего Комиссия проработала около года. Закрыта она была из-за разногласий между депутатами и малой эффективности ее работы.
Предлогом же для закрытия послужило то, что осенью 1768 года Турция объявила России войну, и 19 января 1769 года состоялось последнее общее собрание Комиссии, а осталось существовать лишь несколько частных комиссий.
Как и в вопросах политики внутренней, в вопросах политики внешней руководящей «персоной» была сама Екатерина. Первым ее самостоятельным шагом на этом поприще сразу по восшествии на престол было письмо Фридриху II, уведомлявшее, что Россия останется верна миру с Пруссией, который незадолго перед этим подписал Петр III. Причем письмо Фридриху Екатерина отправила, не сообщив об этом ни одному из русских сановников. Нейтрализовав Пруссию, Екатерина тут же прибрала к рукам Курляндию, герцогом которой был сын польского короля Августа III – принц Карл. По приказу Екатерины в Митаву вошли русские войска, и в начале января 1763 года туда торжественно въехал семидесятидвухлетний герцог Эрнст Бирон со своим старшим сорокалетним сыном Петром, а весной оттуда отбыл польский принц Карл.
* * *
Во время коронационных торжеств Екатерина послала из Москвы в Польшу большую денежную субсидию, приложив к ней и орден Андрея Первозванного, своему старому другу и любовнику Станиславу-Августу Понятовскому, который рассматривался ею как надежный союзник и беспрекословный проводник русских интересов в Речи Посполитой.
В январе 1763 года тяжело заболел польский король Август III, и в предвидении его возможной кончины Екатерина и Фридрих II обменялись письмами по поводу будущего Польши. То же самое делали австрийцы и французы, противопоставляя австро-французскую коалицию русско-прусской и намереваясь посадить на польский трон своего кандидата.
Август III умер 5 октября 1763 года, а уже в начале 1764 года между Россией и Пруссией был заключен военный союз, русские войска вступили в Польшу, и сторонникам Понятовского были выделены огромные денежные субсидии.
7 сентября 1764 года Понятовский был избран королем. Впоследствии Екатерина так объясняла мотивы поддержки ею Понятовского: «Россия выбрала его в кандидаты на польский престол, потому что из всех искателей он имел наименее прав, а следовательно, наиболее должен был чувствовать благодарность к России».
Однако не только король решал судьбу своего королевства: в Польше нашлось
множество патриотов, которые отважились выступить против Понятовского и русских войск, чтобы сделать свою родину свободной и независимой. Это были польские аристократы братья Адам и Михаил Красиньские, Юзеф Пулаский, львовский архиепископ Сераковский и другие. 29 февраля 1768 года они создали Конфедерацию, которая стала называться «Барской» по имени города Бар в Подолии (ныне Винницкая область Украины).
Бар был расположен неподалеку от турецкой границы, равно как и города Каменец, Балта, Дубоссары, ныне входящие в состав Украины и Молдавии, а тогда образовывавшие южную приграничную полосу польских владений. Своими союзниками Барские конфедераты считали кого угодно, лишь бы это был враг России. И потому особое место в их планах занимала Турция, как наиболее традиционный и последовательный противник России, хотя один из современников резонно заметил: «Изгнать русских при помощи турок, значит зажечь дом для того, чтобы избавиться от мышей». И все же Турция решилась на войну с Россией, чтобы помешать усилению России в Польше.
* * *
Русско-турецкая война началась 25 сентября 1768 года, после того как в Константинополе был арестован российский посол Обрезков. Однако случилось это не сразу, а после того, как началось восстание Барских конфедератов, и Понятовский 26 марта обратился к Екатерине с просьбой о помощи. На подавление восстания весной 1768 года двинулись крупные контингенты русских войск под командованием генералов Апраксина, Кречетникова и Прозоровского.
13 июня Кречетников занял Бердичев, полностью разграбив богатейший католический монастырь Босых Кармелитов, взятый после трехнедельной осады. В конце июня отряд Апраксина взял Бар, а затем Прозоровский двинулся на Львов и у местечка Броды нанес конфедератам сильное поражение, после чего дивизии Апраксина и Прозоровского вошли в Великую Польшу и овладели Краковом.
После того как русские казаки заняли Балту и Дубоссары, где погибло множество турок, татар и молдаван, султан сначала потребовал убрать российские войска от границы, потом – из Подолии, а затем уже и из всей Польши.
Эти условия для России были, конечно же, неприемлемы и потому отвергнуты. Тогда 25 сентября 1768 года Турция объявила России войну.
К 1769 году в военных действиях принимало участие 150-тысячное войско. В 1769 году русские войска заняли турецкие крепости Хотин и Яссы, а русский флот из 97 кораблей вошел в Средиземное море. Им командовал «генералиссимус и генерал-адмирал всего Российского флота» Алексей Орлов. 25 июня 1770 года русский флот под его командованием нанес сокрушительное поражение турецкому флоту в Чесменской бухте Хиосского пролива. Было уничтожено 68 кораблей и около 10 тысяч моряков. В честь этой победы Алексей Орлов стал именоваться «Чесменским». А в июле армия фельдмаршала Румянцева в битвах при реке Ларче и реке Кагуле наголову разгромила турецкую армию.
Через год генерал-аншеф, князь Василий Долгоруков прорвался в Крым и поставил на колени вассальное от Турции Крымское ханство. Тогда же под Бухарестом князем Репниным был разбит большой отряд Ахмата-паши. Все это привело к тому, что в ноябре 1772 года был подписан договор с Крымским ханом Сахиб-Гиреем о переходе Крыма из-под власти Турции под власть России.
Именно в это время серьезные изменения произошли и в личной жизни императрицы: закатилась звезда Григория Орлова и меньше чем на два года взошла звездочка нового ее любимца – конногвардейского поручика Александра Васильчикова.
Екатерине шел сорок четвертый год, а тихому, скромному, бескорыстному фавориту Васильчикову почти в два раза меньше. Он тут же был пожалован флигель-адъютантом и камергером и в этом качестве принял участие в семейных торжествах государыни, когда ее сын – Великий князь и наследник престола Павел Петрович – праздновал свое совершеннолетие и свадьбу с Гессен-Дармштадтской принцессой Вильгельминой.
Цесаревич Павел и Вильгельмины Гессен-Дармштадтская
29 сентября 1773 года в Петербурге торжественно отмечалось совершеннолетие Павла Петровича – ему накануне исполнилось девятнадцать лет – и одновременно праздновалась его свадьба с восемнадцатилетней Гессен-Дармштадтской принцессой Вильгельминой, ставшей в России Великой княгиней Натальей Алексеевной. Невеста не была первой любовью Павла, хотя следует признать, что серьезных увлечений у него еще не было.
Юный цесаревич увлекался то одной фрейлиной, то другой, о чем доверчиво рассказывал своему воспитателю Порошину. Павел даже сочиняет стихи в честь одной прелестницы:
Я смысл и остроту всему предпочитаю, На свете прелестей нет больше для меня, Тебя, любезная, за то я обожаю, Что блещешь, остроту с красой соединя.Несмотря на рано пробудившуюся в нем чувственность, Павел долго сохранял некоторую стыдливость и целомудрие.
С годами, не без влияния опекавших его фаворитов матери, увлечения Павла стали не столь платоническими.
А когда он из подростка превратился в юношу, его ухаживания за фрейлинами и смазливыми дворцовыми служанками начали беспокоить Екатерину и заставили ее подумать о том, чтобы женить возмужавшего сына.
Екатерина стала подыскивать невесту сыну еще в 1771 году. После долгих поисков решено было остановиться на Вильгельмине, и не только потому, что она была хороша собой, умна и обходительна, но еще и потому, что ее сестра Фредерика была женой наследника прусского престола Фридриха-Вильгельма. Впрочем, приятная наружность и обходительность сочетались в Вильгельмине с холодностью, честолюбием и настойчивостью в достижении цели.
В апреле 1773 года Екатерина пригласила Дармштадтскую герцогиню Генриетту-Каролину – мать Вильгельмины – приехать в Петербург с тремя дочерьми, чтобы познакомиться с будущими родственниками. И мать, и дочери были бедны, и потому Екатерина выслала для предстоящего путешествия 80 тысяч гульденов и, кроме того, отправила в Любек три корабля. На одном из них – корвете «Быстром» – капитаном был один из ближайших друзей цесаревича девятнадцатилетний капитан-лейтенант граф Андрей Кириллович Разумовский, любимый сын гетмана Разумовского.
Несмотря на свой юный возраст, Андрей был искушен в жизни и уже многое успел сделать и пережить. Обладая блестящими способностями, он в семнадцать лет окончил Страсбургский университет, тотчас поступил во флот и вскоре отправился в Архипелагскую экспедицию с эскадрой адмирала Свиридова. Он участвовал в Чесменском бою, после чего был назначен командиром фрегата «Екатерина». Возвратившись в Петербург, Разумовский стал камер-юнкером и попал в ближайшее окружение Павла. Встреча невесты цесаревича была одним из первых серьезных поручений молодого придворного – красивого, статного и самоуверенного, без труда кружившего головы многим светским барышням.
Еще до начала морского перехода Андрей Разумовский сумел покорить невесту своего друга цесаревича, который ему безгранично верил и считал вернейшим своим товарищем. Впрочем, кажется, и он искренне влюбился в Вильгельмину.
Однако принцессу, ее мать и сестер пригласили не на «Быстрый», а на один из других кораблей, и, разумеется, сделано это было не случайно.
В пути от Любека к Ревелю, где заканчивалось морское путешествие и откуда Гессен-Дармштадтское семейство должно было далее следовать в Петербург сухим путем, их встретил камергер барон Черкасов. К несчастью для Андрея Разумовского, его корабль не оправдал названия и на несколько суток отстал от двух других кораблей.
Черкасов, узнав о подозрениях придворных относительно Вильгельмины и Разумовского, поспешил с отъездом, не дожидаясь, пока «Быстрый» придет в Ревель.
15 июня, неподалеку от Гатчины, герцогский поезд встретил Григорий Орлов и пригласил дорогих гостей к себе в поместье отдохнуть с дороги и пообедать, сказав, что у него в доме их ждут несколько дам.
В Гатчине их действительно ждали: это были сама Екатерина и сестра фельдмаршала Румянцева графиня Прасковья Александровна Брюс. Из Гатчины все они поехали в Царское Село, встретив по дороге цесаревича и его воспитателя Никиту Панина. Пересев в восьмиместный фаэтон, компания наконец прибыла в отведенные для гостей апартаменты.
Павел влюбился в Вильгельмину с первого взгляда, и через три дня Екатерина официально попросила ее руки для своего сына у герцогини Генриетты.
15 августа произошло миропомазание принцессы Вильгельмины, принявшей православное имя Натальи Алексеевны, а на следующий день – ее обручение с Павлом Петровичем. А через полтора месяца состоялась и свадьба, продолжавшаяся с необычайной пышностью две недели.
Несмотря на блеск великого празднества, в первый же день свадьбы, 29 сентября 1773 года, многие стали предрекать новой семье несчастье, ибо именно в этот день в Петербурге впервые распространился слух о появлении в Оренбургских степях мятежных шаек Пугачева, назвавшего себя Петром III. Каково было слышать все это цесаревичу Павлу Петровичу!
Казак Пугачев и немец-подпоручик Шванвич
А теперь, оставив на время Петербург, перенесемся на бунташный Яик, где в самом конце 1772 года, в шестидесяти верстах от Яицкого городка (точнее Верхнего Яицкого городка, так как был еще и Нижний Яицкий городок; теперь первый из них носит название Уральск, а второй – Гурьев), в одинокой хижине на Таловом Умете, – глухом постоялом дворе, хозяином которого был наивный и простодушный пахотный солдат Степан Оболяев, носивший прозвище «Еремина курица», – некий странник объявил, что он не кто иной, как император Петр Федорович.
Как только об этом стало известно в Петербурге, в Военной коллегии идентифицировали персону самозванца с беглым донским казаком Емельяном Ивановичем Пугачевым.
Оказалось, что он был уроженцем Зимовейской станицы на Дону, той самой, где полтора столетия назад родился и Степан Разин. В документах не сохранилась точная дата его рождения, считали, что к моменту своего самозванства было ему около тридцати лет. С восемнадцати лет служил он в армии, принимал участие в Семилетней войне и в русско-турецкой. За «отличную проворность и храбрость» в 1770 году был произведен в хорунжие, но вскоре из-за болезни отпущен домой. Однако в Зимовейской Пугачев не усидел и ушел странствовать. Он побывал в Таганроге, в Черкасске и, наконец, добрался до Терека. Оттуда, по поручению терских казаков, Пугачев отправился в Петербург, чтобы передать в Военную коллегию просьбу об улучшении их положения и увеличении хлебного и денежного жалования. Не успев сделать и нескольких верст, он был арестован в Моздоке, но на четвертый день из-под ареста бежал. Едва он добрался до Зимовейской станицы, как его снова арестовали, но и на этот раз ему удалось бежать. Он отправился в раскольничьи скиты на реке Сож, а оттуда – за Волгу, в дворцовую Малыковскую волость, на реку Иргиз, где также обосновались раскольники. Но и там он не задержался, а двинулся на Яик и, добравшись до Талового Умета, объявил себя чудесно спасшимся от смерти императором Петром III, готовым помочь солдатам, казакам, раскольникам, крестьянам – всем, кого называли «черным, подъяремным людом», – хотя бы немного улучшить их беспросветную жизнь.
Сначала в тайну Петра Федоровича были посвящены немногие, потом слух о нем распространился по всему Яику.
17 сентября 1773 года на хуторе казака Михаила Толкачева первые восемьдесят казаков, татар и башкир принесли присягу на верность Петру Федоровичу, и он повел их к Яицкому городку. Крестьянская война началась.
По дороге в плен к восставшим попал сержант Дмитрий Кальминский, объезжавший форпосты с приказом арестовать самозванца. Казаки хотели повесить Кальминского, но Пугачев простил его и назначил писарем. Так на службе у самозванца в первый же день Крестьянской войны появился дворянин.
В последующем еще несколько дворян оказались в лагере Пугачева, но, как правило, их переход к самозванцу не был добровольным и объяснялся страхом за свою жизнь.
Так случилось и с подпоручиком Михаилом Александровичем Шванвичем, сыном Александра Мартыновича Шванвича, о стычках которого с братьями Орловыми было рассказано в предыдущих главах.
Судьба Михаила Шванвича, участника Пугачевского бунта, не имеет прямого отношения к главной теме этой книги, но она интересна хотя бы потому, что сам Пушкин сделал подпоручика действующим лицом трех своих произведений: «Истории Пугачева», «Замечаний о бунте» и «Капитанской дочки». В последней повести Шванвич послужил прототипом Алексея Швабрина.
…Михаил Шванвич был вторым сыном лейб-компанца Александра Шванвича, женатого на немке Софье Фохт. Он родился в 1755 году, и по просьбе отца крестной матерью новорожденного стала 46-летняя императрица Елизавета Петровна, воспреемница и Александра Шванвича.
Получив неплохое домашнее образование и выучив «указные науки: по-русски, по-французски, по-немецки читать и писать, также часть математики, фехтовать, рисовать и манежем ездить», Михаил пошел на военную службу, вступив в старый, боевой петровский Ингерманландский карабинерный полк. Там дослужился до чина вахмистра. В 1770—1771 годах Шванвич принял участие во Второй турецкой кампании, побывав однажды в жарком бою под Негоештами, после чего попал в ординарцы к генералу Григорию Александровичу Потемкину – будущему фавориту Екатерины II и будущему Светлейшему князю и генерал-фельдмаршалу.
В сентябре 1773 года Шванвича с ротой гренадер отправили в Симбирск для приема и отвода рекрутов. Но на пути в Симбирск, в Муроме, командир роты поручик Карта-шов получил приказ «с крайним поспешанием идти в Казань». Затем маршрут следования изменили еще раз, приказав двигаться к Оренбургу – центру пугачевского бунта.
К этому времени в Петербурге только-только узнали о происшествиях на Яике и посчитали, что начавшиеся «замятня и гиль» – обычное казацкое «воровство», не очень-то и грозное. Исходя из этого, правительство приказало обезвредить мятежников собственными силами, пообещав за голову Пугачева 500 рублей. (Позже эта награда выросла до 28 тысяч.)
В сентябре пугачевцы взяли полдюжины небольших крепостей, а в начале октября блокировали Оренбург.
На помощь осажденным вышел карательный отряд генерала Василия Кара численностью в 3500 человек при десяти пушках, но в трехдневном бою 7 – 9 ноября под деревней Юзеевой был разбит восставшими и бежал, за что генерал был уволен со службы с запрещением жить в столицах.
В этом же районе оказалась и рота поручика Карташова, в которой служил Михаил Шванвич.
Рота сдалась без боя. Карташова и еще одного офицера пугачевцы казнили тут же, а сдавшихся на их милость поручика Волженского и подпоручика Шванвича доставили вместе со всеми солдатами в село Берду, где сам Пугачев, узнав, что Волженский и Шванвич любимы солдатами, велел первому быть атаманом, а второму – есаулом и «быть над гренадерами, так, как и прежде, командирами».
Гренадеры присягнули Пугачеву на верность и поочередно приложились к его руке. Вместе с ними сделали то же самое и их командиры – атаман Волженский и есаул Шванвич.
Пугачев побеседовал со Шванвичем и, узнав, что тот знает немецкий и французский языки, велел вновь испеченному есаулу заведовать в его канцелярии иностранной перепиской.
Шванвич участвовал в бунте почти до самого конца, и по судьбе пленного подпоручика можно проследить ход пугачевского восстания. Вместе с Пугачевым Шванвич принимал участие в полугодовой осаде Оренбурга, под стенами которого сосредоточилось до 25 тысяч мятежников при 86 пушках. А вокруг Оренбурга – в Казанской губернии, Западной Сибири, Западном Казахстане и Башкирии – действовали крупные отряды сторонников Пугачева.
В декабре 1773 года на подавление восстания был двинут отряд генерал-аншефа Александра Бибикова численностью в 6 500 солдат и офицеров при 30 орудиях. Бибиков разбил отряды повстанцев под Самарой, Кунгуром и Бузулуком и двинулся к Оренбургу.
В это трудное для Пугачева время Шванвич, в противоположность другим офицерам-дворянам, оказавшимся в рядах повстанцев, сохранял верность самозванцу.
В феврале 1774 года Шванвич из есаулов был произведен в атаманы и командиры солдатского полка вместо Волженского, казненного пугачевцами за подготовку «изменнического действа»: Волженский и еще один бывший офицер, Остренев, решили заклепать пушки бунтовщиков и тем самым вывести их из строя. Их разоблачили и приготовили к повешенью. После казни Волженского и Остренева атаман Шванвич командовал всеми солдатами, согласившимися служить Пугачеву, и таким образом оказался в одном ряду с другими пугачевскими атаманами и полковниками. Закончил же он свою карьеру в армии Пугачева секретарем Военной коллегии – высшем органе руководства повстанческим войском. В марте 1774 года отряды Пугачева были разбиты под крепостью Татищевой, и, узнав об этом, Шванвич бежал в Оренбург и сдался на милость губернатора Рейнсдорпа.
По иронии судьбы, Рейнсдорп учился в Академической гимназии у деда Шванвича и был хорошо им аттестован. Рейнсдорп, не вдаваясь в подробности о службе Шванвича у Пугачева, снова привел его к присяге и отправил служить в отряд князя Голицына. Однако князь, узнав о службе Шванвича у бунтовщиков, велел посадить его в тюрьму.
17 мая на допросе в Оренбурге Шванвич заявил, что служил Пугачеву «из страха, боясь смерти, а уйти не посмел, ибо, если бы поймали, то повесили».
…Пугачевские войска были разгромлены летом 1774 года, когда против повстанцев выступили 20 пехотных и кавалерийских полков, казачьи части и отряды добровольцев-дворян. Общее руководство войсками осуществлял генерал-аншеф Петр Иванович Панин, один из лучших полководцев российской армии. А 2 сентября в Царицын в распоряжение Панина прибыл генерал-поручик Александр Суворов.
Разве мог устоять Пугачев против такой силы?
Он заметался в разные стороны, а потом бежал в заволжские степи. Люди из его окружения, которым он более всего верил, спасая собственные жизни, предали своего атамана. Пугачев был ими схвачен, повязан, пленен и в ночь с 15 на 16 сентября доставлен в Яицкий городок.
Затем Пугачева с женой Софьей и сыном Трофимом под конвоем двух рот пехоты, двух сотен казаков и при двух орудиях повезли для дальнейших допросов в Симбирск.
Самого Пугачева везли в железной клетке, показывая стекавшимся к дороге людям. Командовал конвоем сам Суворов.
Рано утром 4 ноября Пугачева ввезли в Москву и допрашивали в течение трех месяцев. 31 декабря 1774 года суд приговорил его к четвертованию, а четырех его сподвижников – к повешению.
10 января 1775 года в Москве, на Болотной площади, он был обезглавлен – Екатерина заменила четвертование отсечением головы. Шванвича приговорили, «лишив чинов и дворянства, ошельмовать, переломя над ним шпагу».
10 января 1775 года, в тот самый день, когда на Болотной площади был казнен
Пугачев и четверо его сообщников, там же был совершен и обряд гражданской казни над Шванвичем. После этого его сослали в Туруханск – гиблое место на краю света, в низовьях Енисея. Там и прожил Шванвич 27 лет, добывая средства к существованию тяжелой работой, охотой и рыбной ловлей.
Умер он в Туруханске в ноябре 1802 года.
Фавориты Екатерины – от Васильчикова до Римского-Корсакова
Фаворитизм как система, при которой многие государственные вопросы решались под влиянием сменяющих друг друга любимцев, был характерной чертой правления Екатерины II. Но если в Григории Орлове и его братьях императрица нуждалась как в опоре трона и могучей силе, стоящей во главе русской лейб-гвардии, то следующий ее фаворит, подпоручик-кавалергард Васильчиков, был не более чем забава и альковное утешение.
Васильчиков появился через десять лет после переворота 1762 года, когда Екатерина была полновластной самодержицей, не нуждавшейся более в офицерах, которые защищали бы ее и престол, и теперь она могла позволить себе роскошь приблизить к своей особе молодого красавца, в чьи функции входили лишь заботы о любовных утехах с государыней.
3 августа 1772 года прусский посланник в Петербурге граф Сольмс писал королю Фридриху II, весьма охочему до всяких интимных подробностей: «Не могу более воздержаться и не сообщить Вашему Величеству об интересном событии, которое только что случилось при этом дворе. Отсутствие графа Орлова обнаружило весьма естественное, но, тем не менее, неожиданное обстоятельство: Ее Величество нашла возможным обойтись без него, изменить свои чувства к нему и перенести свое расположение на другой предмет. Конногвардейский поручик Васильчиков, случайно отправленный с небольшим отрядом в Царское Село для несения караулов, привлек внимание своей Государыни… При переезде двора из Царского Села в Петергоф Ее Величество в первый раз показала ему знак своего расположения, подарив золотую табакерку за исправное содержание караулов. Этому случаю не придали никакого значения, однако частые посещения Васильчиковым Петергофа, заботливость, с которою она спешила отличить его от других, более спокойное и веселое расположение ее духа со времени удаления Орлова, неудовольствие родных и друзей последнего, наконец множество других мелких обстоятельств уже открыли глаза царедворцам. Хотя до сих пор все держится в тайне, но никто из приближенных не сомневается, что Васильчиков находится уже в полной милости у императрицы; в этом убедились особенно с того дня, когда он был пожалован камер-юнкером…
Некоторая холодность Орлова к императрице за последние годы, поспешность, с которою он в последний раз уехал от нее, оскорбившая ее лично, наконец обнаружение многих измен, – все это вместе взятое привело императрицу к тому, чтобы смотреть на Орлова, как на недостойного ее милостей».
Орлов был изрядным повесой и сердцеедом еще до того, как сблизился с Екатериной. Статус фаворита мало что изменил в его отношениях с женщинами. Уже в 1765 году, за семь лет до разрыва с Екатериной, французский посланник в России Беранже писал из Петербурга герцогу Праслину о Григории Орлове: «Этот русский открыто нарушает законы любви по отношению к императрице; у него в городе есть любовницы, которые не только не навлекают на себя гнев императрицы за свою угодливость Орлову, но, по-видимому, пользуются ее расположением. Сенатор Муравьев, накрывший с ним свою жену, едва не сделал скандала, прося развода. Царица умиротворила его, подарив земли в Ливонии».
Позднее Григорий Орлов был наречен отцом девицы Елизаветы Алексеевой, о которой говорили, что она его дочь от императрицы. Но имелась и другая версия происхождения Алексеевой.
Наступил момент, когда многочисленные похождения фаворита переполнили чашу терпения Екатерины, и она решилась на разрыв.
Выбор ею Васильчикова случайным не был: его «подставил» скучающей сорокатрехлетней императрице умный и тонкий интриган граф Никита Панин, к тому же весьма недовольный деятельностью Орлова на переговорах с турками, так как и он, Панин, как глава Коллегии Иностранных дел нес ответственность за их исход. Александр Семенович Васильчиков был родовит, но небогат. Молодой офицер показался Панину подходящей кандидатурой, ибо был хорош собой, любезен, скромен и отменно воспитан.
Как пишет Гельбиг, Панин и братья Чернышовы, сговорившись друг с другом, представили Васильчикова скучающей в одиночестве Екатерине.
Орлов уехал на Конгресс в Фокшаны, где должны были состояться переговоры с турками, 25 апреля, а уже через одиннадцать дней – 5 мая – в «Камер-Фурьерском Журнале» впервые появилось имя Васильчикова, который тотчас же с соизволения Екатерины занял апартаменты Григория Орлова и тут же стал камергером и кавалером ордена Александра Невского.
Однако, прежде чем поселиться в покоях Орлова, молодой и робкий конногвардеец был подвергнут многократному испытанию на служебное соответствие в выполнении прямых обязанностей фаворита императрицы.
Вот что писал об этой непростой и весьма ответственной процедуре хорошо осведомленный в дворцовых интригах уже известный нам Александр Тургенев:
«В царствование Великой посылали обыкновенно к Анне Степановне (Протасовой. – В. Б.) на пробу избираемого в фавориты Ее Величества. По осмотре предназначенного в высокий сан наложника матушке-государыне лейб-медиком Роджерсоном и по удостоверению представленного годным на службу относительно здоровья, препровождали завербованного к Анне Степановне Протасовой на трехнощное испытание.
Когда нареченный удовлетворял вполне требования Протасовой, она доносила всемилостивейшей государыне о благонадежности испытанного, и тогда первое свидание было назначено по заведенному этикету двора или по уставу, высочайше для посвящения в сан наложника конфирмованному. Перекусихина Марья Саввишна и камердинер Захар Константинович были обязаны в тот день обедать вместе с избранным. В 10 часов вечера, когда императрица была уже в постели, Перекусихина вводила новобранца в опочивальню благочестивейшей, одетого в китайский шлафрок, с книгою в руках и оставляла его для чтения в креслах подле ложа помазанницы. На другой день Перекусихина выводила из опочивальни посвященного и передавала его Захару Константиновичу, который вел новопоставленного наложника в приготовленные для него чертоги; здесь докладывал Захар уже раболепно фавориту, что Всемилостивейшая Государыня высочайше соизволила назначить его при высочайшей особе своей флигель-адъютантом, подносил ему мундир флигель-адъютантский, шляпу с бриллиантовым аграфом и 100 000 рублей карманных денег. До выхода еще государыни – зимою в Эрмитаж, а летом – в Царском Селе, в сад, прогуляться с новым флигель-адъютантом, которому она давала руку вести ее, передняя зала у нового фаворита наполнялась первейшими государственными сановниками, вельможами, царедворцами, для принесения ему усерднейшего поздравления с получением высочайшей милости. Высоко-преосвященнейший пастырь митрополит приезжал обыкновенно к фавориту на другой день посвящения его и благословлял его святою иконою!»
Впоследствии процедура усложнялась, и после Потемкина фаворитов проверяла не только «пробир-фрейлина» Протасова, но и графиня Брюс, и Перекусихина, и Уточкина. В случае же с Васильчиковым обошлись, кажется, не столь сложным испытанием. После этого его наставником по дворцовым делам стал князь Ф. С. Барятинский – один из убийц Петра III. Барятинский был посвящен в интригу с самого начала и успешно сыграл роль добровольного сводника. Роман с Васильчиковым только начался, как в Яссы от одного из братьев Орловых пришло известие о случившейся в Петербурге перемене. Григорий Григорьевич немедленно бросил все и помчался в Зимний дворец. Он скакал день и ночь, надеясь скорым появлением изменить положение в свою пользу. Но его надеждам не суждено было осуществиться: за много верст до Петербурга его встретил царский фельдъегерь и передал личное послание императрицы, которая категорически потребовала «избирать для временного пребывания Ваш замок Гатчину». Орлов повиновался беспрекословно, тем более что в рескрипте указывалась и причина: «Вам нужно выдержать карантин». А он ехал с территории, где свирепствовала чума. И потому у него не было резона не подчиниться приказу царицы.
* * *
Уже известный нам Гельбиг писал: «Воспитание и добрая воля лишь в слабой степени и на короткое время возмещают недостаток природных талантов. С трудом удержал Васильчиков милость императрицы неполные два года…
Когда Васильчиков был в последний раз у императрицы, он вовсе не мог даже предчувствовать того, что ожидало его через несколько минут. Екатерина расточала ему самые льстивые доказательства милости, не давая решительно ничего заметить. Едва только простодушный избранник возвратился в свои комнаты, как получил высочайшее повеление отправиться в Москву. Он повиновался без малейшего противоречия… Если бы Васильчиков, при его красивой наружности, обладал большим умом и смелостью, то Потемкин не занял бы его место так легко. Между тем Васильчиков прославился именно тем, чего ни один из любимцев Екатерины не мог у него оспорить – он был самый бескорыстный, самый любезный и самый скромный. Он многим помогал и никому не вредил. Он мало заботился о личной выгоде и в день отъезда в Москву был в том же чине, какой императрица пожаловала ему в первый день своей милости. Васильчиков получил за время менее двух лет, что он состоял в любимцах, деньгами и подарками 100 тысяч рублей, 7 тысяч крестьян, приносивших 35 тысяч рублей ежегодного дохода, на 60 тысяч рублей бриллиантов, серебряный сервиз в 50 тысяч рублей, пожизненную пенсию в двадцать тысяч и великолепный, роскошно меблированный дом в Петербурге, который императрица потом купила у Васильчикова за 100 тысяч рублей и подарила в 1778 году другому фавориту – Ивану Николаевичу Римскому-Корсакову. Вскоре по удалении от двора Васильчиков женился и был очень счастлив».
Придворные недоумевали, почему столь быстро и столь внезапно произошла такая странная и неожиданная перемена?
А перемена эта не была ни странной, ни неожиданной. Однако для того чтобы понять, как и почему все это случилось, следует вернуться назад и пристально присмотреться к человеку, внезапно появившемуся на горизонте, – 35-летнему кавалерийскому генералу Григорию Александровичу Потемкину.
…Секретари и столоначальники из Герольдии, старые придворные и генералы делились воспоминаниями об отце Потемкина, о его дядьях и со стороны отца, и со стороны матери, а люди из ученого сословия припоминали, что, как будто, в Московском университете или же в лицее при нем когда-то видели они и самого Григория Александровича.
Постепенно картина прояснилась.
Григорий Александрович Потемкин родился в селе Чижове, близ Смоленска, 13 сентября 1739 года и, стало быть, был десятью годами младше государыни.
Отец Потемкина – отставной шестидесятипятилетний подполковник Александр Васильевич Потемкин, первым браком женат был на своей сверстнице, однажды поехал из Смоленской губернии в Тульскую, в Алексинский уезд, сельцо Маншино, и там нечаянно увидел бездетную красавицу-вдову Дарью Васильевну Скуратову, старше которой он был на тридцать лет. Утаив, что он женат, и объявив себя вдовцом, Потемкин повенчался с Дарьей Васильевной и остался жить в Маншино. Вскоре молодая жена оказалась в положении и вдруг узнала, что ее муж – двоеженец. Дарья Васильевна добилась того, чтобы Потемкин отвез ее в смоленское имение и там познакомил со своей женой. Та, будучи женщиной доброй, милосердной, довольно старой и к тому же за долгие годы изрядно намучившейся со старым подполковником, по собственной воле ушла в монастырь и тем самым утвердила брак Дарьи Васильевны с Потемкиным.
Этот брак, весьма поздний для Александра Васильевича, оказался чрезвычайно плодоносным: у старого полковника, кроме сына Григория, родилось еще и пять дочерей – Мария, Пелагея, Марфа, Дарья и Надежда.
Мать Григория Александровича Дарья Васильевна Потемкина была хороша собой и умна и передала эти качества своему сыну, который впоследствии невзлюбил ее за то, что она осуждала его за разврат с собственными племянницами – всеми, как на подбор, писаными красавицами, – которых у него было пять. Дело дошло до того, что Потемкин перестал переписываться с матерью, а получая от нее письма, бросал их в огонь, не распечатав. Но это будет гораздо позже, а в детстве он был добр, весел, красив и необычайно легко схватывал все, о чем ему говорили. Александр Васильевич Потемкин умер в 1746 году, когда Грише исполнилось семь лет. Дарья Васильевна, овдовев, вместе с дочерьми переехала в Москву, где уже два года ее Гриша жил в доме своего двоюродного дяди – Кисловского.
Гришу отдали сначала в немецкую школу Литке, а потом, с открытием университетского лицея, перевели туда.
В 1757 году Потемкин оказался среди двенадцати лучших учеников, посланных в Петербург, где все они были представлены императрице Елизавете Петровне.
Двор, его роскошь, совсем иные, чем в Москве, нравы разбудили в душе молодого человека то, что уже давно в ней дремало: честолюбие, стремление к богатству, почестям и славе. Вернувшись в Москву, Потемкин стал другим: он говорил товарищам, что ему все равно, где и как служить, лишь бы только стать первым, а будет ли он генералом или архиереем – значения не имеет.
По-видимому, уже в Петербурге Потемкин решил серьезно переменить ход своей жизни. Следует заметить, что в мае 1755 года он был записан в Конную гвардию и с этого времени считался в домашнем отпуске для пополнения знаний.
Возвратившись в Москву, Григорий захандрил, перестал ходить в гимназию и через три года был исключен «за леность и нехождение в классы» вместе со своим однокашником и приятелем Николаем Новиковым – будущим великим русским просветителем.
К этому времени в полку он был уже произведен в каптенармусы, а когда приехал туда, оставив Москву, тут же получил чин вице-вахмистра и назначение в ординарцы к дяде цесаревича Петра Федоровича – принцу Георгу Голштинскому. Не прошло и года, как Потемкин стал вахмистром. Первые два года его жизни в Петербурге мало известны. Настоящая карьера Потемкина начинается с лета 1762 года, с его участия в дворцовом перевороте.
Среди 36 наиболее активных сторонников переворота, награжденных Екатериной, Потемкин значится последним, хотя ему было дано 10 тысяч рублей, 400 душ крестьян, чин поручика, серебряный сервиз и придворное звание камер-юнкера. Вспомним, что он был и в Ропше, сидя за одним столом с убийцами Петра III.
Однако участие в перевороте на первых порах мало что дало молодому офицеру. В связи с восшествием на престол Екатерины II был он послан в Стокгольм, чтобы сообщить об этом шведскому королю Густаву III. Отношения между Россией и Швецией были в это время довольно натянутыми, и последнее обстоятельство делало миссию Потемкина не очень простой.
Когда Потемкин прибыл в королевский Дроттигамский дворец, его повели через анфиладу залов. В одном из них шведский вельможа, сопровождавший Григория Александровича, обратил его внимание на развешанные там русские знамена. «Посмотрите, сколько знаков славы и чести наши предки отняли у ваших», – сказал швед. – «А наши предки отняли у ваших, – ответил Потемкин, – еще больше городов, коими владеют и поныне».
Кажется, этот ответ, ставший почти сразу же известным и в Петербурге, был наибольшей удачей в служебной деятельности Потемкина в это время, потому что по возвращении в Петербург дела Григория Александровича пошли из рук вон плохо.
Екатерина, остро нуждавшаяся в молодых, энергичных и образованных помощниках, направила несколько десятков офицеров в гражданскую администрацию, сохраняя за ними их военные чины и оклады. Среди этих офицеров оказался и Потемкин, направленный обер-секретарем Святейшего Синода. Казалось, что фортуна сама предложила выбор Григорию Александровичу – генерал или архиерей? – потому что, пожелай он принять сан, ему в этом едва ли бы отказали.
И Потемкин, часто принимавший решения по настроению, капризу или прихоти, чуть не стал монахом. Однажды, пребывая в сугубой меланхолии, не веря в удачу при дворе, он решил постричься. К тому же произошла у него немалая неприятность – заболел левый глаз, а лекарь оказался негодным – был он простым фельдшером, обслуживавшим Академию художеств, – и приложил больному такую примочку, что молодой красавец окривел.
Эта неудача вконец сокрушила Потемкина, и он ушел в Александро-Невский монастырь, надел рясу, отпустил бороду и стал готовиться к пострижению в монахи.
Об этом узнала Екатерина и пожаловала в монастырь. Говорили, что она, встретившись с Потемкиным, сказала: «Тебе, Григорий, не архиереем быть. Их у меня довольно, а ты у меня один таков, и ждет тебя иная стезя».
Потемкин сбрил бороду, снял рясу, надел офицерский мундир и, отбросив меланхолию, появился, как ни в чем не бывало, во дворце.
В1768 году Потемкин был пожалован в камергеры, но с самого начала войны с Турцией ушел волонтером в армию Румянцева и за пять лет войны был почти беспрерывно в боях. Он стал признанным кавалерийским военачальником, участвуя в сражениях при Хотине, при Фокшанах, при Браилове, под Журжой, при Рябой Могиле, при Ларге и Кагуле, в других походах и кампаниях. Он получил ордена Анны и Георгия 3-го класса и 33-х лет стал генерал-поручиком.
В январе 1774 года Екатерина вызвала его в Петербург, а в феврале он получил чин генерал-адъютанта. Последнее обстоятельство было более чем красноречивым свидетельством того, что в новый «случай» приходит новый фаворит и что песенка и Орлова, и Васильчикова – спета. Во дворце появился сильный, дерзкий, могучий и телом и душой, умный и волевой царедворец, генерал и администратор, который сразу же вошел во все важнейшие государственные дела, необычайно быстро продвигаясь по служебной лестнице.
Не успел Потемкин стать генерал-адъютантом, как тут же стал подполковником Преображенского полка, а следует заметить, что, как правило, в этом звании оказывались чаще всего генерал-фельдмаршалы, ибо традиционно его полковником был сам царь или царица. Что мог противопоставить «великому циклопу» кроткий и застенчивый Васильчиков?
Он, как мы уже знаем, оставил дворец, уехал в Москву и там узнал от хорошо осведомленных светских сплетников, что императрица уже давно больна любовным недугом к блистательному кавалерийскому генералу. Однако, хотя все это было истинной правдой, дело заключалось не только в любовном влечении. Екатерина угадала в Потемкине человека, на которого можно положиться в любом трудном и опасном деле, когда потребуются твердая воля, неукротимая энергия и абсолютная преданность делу.
Отставка Васильчикова лишь неосведомленным в любовных и государственных делах Екатерины могла показаться внезапной. На самом же деле Екатерина почти с самого начала этой связи тяготилась ею, о чем чистосердечно призналась новому предмету своей страсти, тогда еще потенциальному фавориту Григорию Александровичу Потемкину.
В письме к нему она откровенно исповедалась в своих прежних прегрешениях, открывшись, что мужа своего она не любила, а Сергея Васильевича Салтыкова приняла по необходимости продолжить династию, на чем настояла Елизавета Петровна. Совсем по-иному обстояло дело с Понятовским. «Сей был любезен и любим, – писала Екатерина, – от 1755 до 1761 года по тригодишной отлучке, то есть от 1758 и старательства князя Гр. Гр. (то есть Григория Григорьевича Орлова – В.Б.), которого паки добрые люди заставили приметить, переменили образ мысли».
Далее Екатерина призналась, что она любила Орлова и что не ее вина в том, что между ними произошел разрыв. «Сей бы век остался, – писала Екатерина, – есть ли б сам не скучал, я сие узнала… и, узнав уже доверки иметь не могу, мысль, которая жестоко меня мучила и заставила сделать из дешперации (лат. – безумства, отчаяния) выбор коя какой…».
Вот этот-то сделанный ею «выбор коя какой» – и не более того – и оказался В-сильчиковым.
«Во время пребывания Васильчикова в фаворе, – писала Екатерина, – и даже до нынешнего месяца я более грустила, нежели сказать могу, и никогда более, как тогда, когда другие люди бывают довольные и всякие приласканья во мне слезы принуждала, так что я думаю, что от рождения своего я столько не плакала, как сии полтора года; сначала я думала, что привыкну, но что далее, то – хуже, ибо с другой стороны (то есть со стороны Васильчикова. – В.Б.) месяцы по три дуться стали, и признаться надобно, что никогда довольнее не была, как когда осердится и в покое оставит, а ласка его мне плакать принуждала».
И наконец пришло избавление от капризного, обидчивого и давно уже немилого Васильчикова. «Потом приехал некто Богатырь. Сей Богатырь по заслугам своим и по всегдашней ласке прелестен был так, что, услыша о его приезде, уже говорить стали, что ему тут поселиться, а того не знали, что мы письмецом сюда призвали неприметно его, однако же с таким внутренним намерением, чтоб не вовсе слепо по приезде его поступать, но разбирать, есть в нем склонность, о которой мне Брюсша (П. А. Брюс, дочь фельдмаршала Румянцева, жена графа Брюса, ее ближайшая подруга. – В. Б.) сказывала, что давно многие подозревали, то есть та, которую я желаю, чтобы он имел».
И в заключение этого чистосердечного признания Екатерина писала: «Ну, Господин Богатырь, после сей исповеди могу ли я надеяться получить отпущение грехов своих; изволь видеть, что не пятнадцать (при дворе, перечисляя любовников императрицы, „знающие“ люди чаще всего говорили о пятнадцати ее бывших „галантах“), но третья доля из них» (т. е. пять. – В. Б.).
Первого – поневоле (то есть С. В. Салтыкова) да четвертого (т. е. Васильчикова) из дешперации, я думала на счет легкомыслия поставить никак не можно, о трех прочих, если точно разберешь, Бог видит, что не от распутства, к которому никакой склонности не имею, и если бы я в участь получила смолоду мужа, которого бы любить могла, я бы вечно к нему не переменилась; беда та, что сердце мое не хочет быть ни на час охотно без любви. Сказывают, такие пороки людские покрыть стараются, будто сие происходит от добросердечия, но статься может, что подобная диспозиция сердца более есть порок, нежели добродетель, но напрасно я к тебе сие пишу, ибо после того возлюбишь или не захочешь в армию ехать, боясь, чтобы я тебя позабыла, но, право, не думаю, чтоб такую глупость сделала, а если хочешь навек меня к себе привязать, то покажи мне столько ж дружбы, как и любви, а наипаче люби и говори правду».
Вместе с тем Екатерина в другом письме предостерегала Потемкина от недоброжелательства к братьям Орловым, которых она искренне почитала своими друзьями и всегдашними сторонниками: «Только одно прошу не делать – не вредить и не стараться вредить князю Орлову в моих мыслях, ибо сие почту за неблагодарность с твоей стороны: нет человека, которого он более мне хвалил, и более любил, и в прежнее время, и ныне до самого приезда твоего, как тебя. А если он свои пороки имеет, то не тебе, не мне их расценить и расславить.
Он тебя любит, и мне они друзья, и я с ними не расстанусь. Вот тебе – нравоученье – умен будешь – примешь. Не умно же будет противоречить сему, для того, что сущая правда».
Потемкин отлично все понял и в считанные месяцы сделал головокружительную карьеру.
10 июля 1774 года в связи с заключением очень выгодного для России Кючук-Кайнарджийского мира «за споспешествование к оному добрыми советами» он был возведен в графское достоинство, в октябре пожалован чином генерал-аншефа, а в ноябре стал кавалером ордена Андрея Первозванного. В эти же месяцы он получил «за храбрость и неутомимые труды» шпагу, усыпанную алмазами, а «в знак Монаршего благоволения» еще и украшенный бриллиантами портрет Екатерины для ношения на груди.
С мая 1774 года Потемкин был введен в члены Совета и оставался в его составе до смерти. Но не административные успехи и не придворная карьера определяли его положение при дворе. В 1774 году он был в глазах Екатерины «незакатным Солнцем», превратив ее в счастливую, любимую и любящую женщину, совершенно потерявшую из-за него голову.
Во многих письмах к Потемкину Екатерина называла его «дорогим и любимым супругом», «владыко и дорогой супруг».
Один из лучших знатоков этого периода Яков Барсков считал, что эти письма, а также рассказы осведомленных современников «дают повод решительно утверждать, что Потемкин был обвенчан с Екатериной. Уже один слух о том, что они были обвенчаны, создавал для Потемкина исключительное положение, особенно в первое время его „случая“, в нем действительно видели „владыку“, как называет его в письмах сама Екатерина, и оказывали царские почести при его поездках в подчиненные ему области или на театр военных действий. Как ни велико расстояние от брачного венца до царской короны, но по тем временам так же велико было расстояние, отделявшее случайного любовника царицы от ее мужа, которого она явно считала первым лицом в государстве после себя. Всем дальнейшим фаворитам она ставила в обязанность „поклоны“ Потемкину в письмах и, по ее собственному примеру, почтительное с ним обращение при дворе. Это был царь, только без титула и короны».
О браке Екатерины с Потемкиным существует по меньшей мере три рассказа. По словам издателя журнала «Русский архив» Петра Бартенева, племянница и любовница Потемкина графиня Александра Васильевна Браницкая, урожденная Энгельгардт, передала князю Михаилу Воронцову, что запись об этом браке хранилась в особой шкатулке, которую затем вместе с документом бросил в море по пути из Одессы в Крым граф Строганов, получивший строгий наказ сделать это от своей матери – урожденной графини Браницкой.
По словам князя Григория Голицына, Екатерина и Потемкин венчались у Самсония, что на Выборгской стороне, поздно вечером. Ее духовник был уже там в готовности, а сопровождала императрицу одна лишь камер-фрау Перекусихина. Венцы держали граф Самойлов – племянник Потемкина и Чертков.
Наконец, внук Екатерины и Григория Орлова, граф Алексей Бобринский, говорил, что брачная запись положена была в гроб его деда графа Самойлова, а вторая брачная запись, полученная Перекусихиной, должна была храниться у князя Петра Волконского и у Чертковых. По слухам, венчание происходило осенью 1774 или в середине января 1775 года перед отъездом двора в Москву. Лето 1775 года новобрачные проводили в Коломенском и в Царицыне. Казалось, что их отношения безоблачны, как их счастье, и прочны, как их любовь, но вскоре оказалось, что это совсем не так.
* * *
То, о чем будет рассказано ниже, до сих пор не получило какого-либо убедительного объяснения, поэтому сообщим конкретные факты, считающиеся бесспорными, а разъяснение или толкование произошедшего оставим на будущее: сегодня это – одно из маленьких белых пятен на карте российской истории.
Прошло всего несколько месяцев со дня венчания Екатерины и Потемкина, когда они, пожив в подмосковных селах, в середине лета 1775 года переехали в Москву, в дом князей Голицыных, что у Пречистенских ворот. С начала июля Москва жила ожиданием приезда победителя турок графа и фельдмаршала Румянцева. Однако Румянцев от триумфального въезда в город отказался и приехал к императрице к вечеру 8 июля в придворной карете, но без эскорта и без сопровождения, имея возле себя одного лишь дежурного офицера – тридцатисемилетнего полковника Петра Васильевича Завадовского, которого он взял с собою для ведения записей.
Екатерина встретила Румянцева на крыльце Голицынского дома и, обняв, расцеловала его. В эти же минуты она заметила и Завадовского, могучего, статного и исключительно красивого мужчину, который стоял, окаменев, ибо был поражен сердечностью встречи и простотой государыни, одетой в русский национальный костюм, очень шедший ей.
Заметив ласковый и заинтересованный взгляд императрицы, брошенный ею на Завадовского, фельдмаршал тут же представил красавца Екатерине, лестно о нем отозвавшись, как о человеке прекрасно образованном, трудолюбивом, честном и храбром.
Екатерина мгновенно пожаловала новому знакомцу бриллиантовый перстень с выгравированным по золоту собственным ее именем и тут же назначила его своим кабинет-секретарем.
10 июля начались необычайно пышные празднества по поводу заключения мира с Турцией, мало чем уступавшие коронационным торжествам: так же звенели колокола и гремели пушки, рекой лилось вино и ломились от яств столы, но в парадном шествии в Кремле Румянцев шел первым, а Екатерина и цесаревич Павел с женой Натальей Алексеевной шли следом.
Румянцеву к его титулу было добавлено прозвище «Задунайский», поднесены осыпанные алмазами фельдмаршальский жезл и шпага, крест и звезда ордена Андрея Первозванного, золотая медаль с его изображением и золотой лавровый венок. Были подарены 5 000 душ, 100 000 рублей, серебряный сервиз и картины для убранства дома. Царские почести были оказаны и матери фельдмаршала, семидесятисемилетней графине Марии Андреевне Румянцевой, в девичестве – графине Матвеевой. Она была посажена за стол с их Императорскими Высочествами, а сам фельдмаршал сидел за столом Екатерины. Старые придворные помнили историю двадцатилетней Матвеевой с Петром Великим и в этом приеме находили подтверждение тому, что Петр Румянцев – сын первого российского императора.
Дождь наград пролился на многих сподвижников победителя. Не был обойден и Завадовский, получивший сразу два чина – генерал-майора и генерал-адъютанта.
Екатерина пробыла в Москве до 7 декабря 1775 года, часто встречаясь с Румянцевым и ежедневно общаясь со своим новым кабинет-секретарем, который ведал ее личной канцелярией, доходами и расходами и в силу этого становился одним из самых приближенных к императрице людей, посвященных во многие ее дела и секреты.
По возвращении из Москвы в Петербург Завадовский стал не менее влиятельным царедворцем, чем Потемкин. Сановники высших классов начали искать у него протекции, набивались в друзья, демонстрируя Завадовскому нерасположение к их вчерашнему кумиру – Потемкину.
Потемкин же перед Екатериной стал играть роль обиженного и в апреле 1776 года попросился в Новгородскую губернию для инспектирования войск: он был вице-президентом Военной коллегии, и его просьба была небезосновательной. И все же Потемкин, вероятно, надеялся, что получит отказ, но последовало немедленное согласие, и Потемкину не оставалось ничего другого, как столь же немедленно уехать.
Не успел он скрыться из глаз, как Завадовский переехал во дворец, правда еще не занимая потемкинские апартаменты.
* * *
Недоброжелатели «одноглазого Циклопа» рано принялись ликовать, когда Потемкин был отодвинут в сторону Завадовским. Он не сдался, а стал искать способы и средства вернуть былое расположение Екатерины в полной мере. Прежде всего он решил во что бы то ни стало убрать Завадовского из апартаментов императрицы, даже если в этих комнатах окажется не он сам, а кто-нибудь другой, кого именно он, Потемкин, поставит на освободившееся место.
Таким человеком оказался георгиевский кавалер, герой-кавалерист, тридцатилетний красавец-серб Семен Гаврилович Зорич. Потемкин взял его к себе в адъютанты и почти сразу же представил к назначению командиром лейб-гусарского эскадрона и лейб-казачьих команд с одновременным производством в подполковники. Так как лейб-гусары и лейб-казаки были личной охраной императрицы, то назначению Зорича на должность их командира должно было предшествовать личное представление Екатерине.
26 мая 1777 года Потемкин устроил аудиенцию императрицы с потенциальным фаворитом – смуглым, изящным, кареглазым, затянутым в голубой гусарский мундир, – и сразу же понял, что выбор сделан верно: Екатерина показала это при первом свидании с Зоричем. Еще более убедился в этом Потемкин после того, как Завадовскому был предоставлен шестимесячный отпуск, а Зорич, став полковником, флигель-адъютантом и шефом лейб-гусарского эскадрона, поселился в апартаментах фаворитов, пройдя предварительную апробацию у доктора Роджерсона, графини Брюс и двух других пробир-фрейлин. (Далее, по мере появления новых фаворитов, мы не станем повторяться, ибо каждый из них проходил через те же самые ворота.)
Рассказывали, впрочем, и другое. Семен Гаврилович Зорич, рассорившись с командиром полка, в котором служил, поехал в Военную коллегию в Петербург проситься о переводе в другой полк. В первый же день в трактире он в пух и прах проигрался в карты, так что у него не осталось денег даже на обед. По счастью, он встретил на улице знакомого, который ехал в Царское Село к приятелю своему, гоф-фурьеру. Он взял Зорича с собой и хорошо угостил его, а точнее – напоил.
Выпивший Зорич пошел погулять в дворцовый сад, сел на скамью под липой и заснул. Вот тут-то и увидела его проходившая мимо Екатерина. Зорич приглянулся ей своей статью и ростом, и она велела камердинеру Зотову сесть рядом с офицером на скамью, дождаться, когда тот проснется, и пригласить гусара к ней на ужин.
Все так и произошло, и Зорич вошел в «случай».
Как бы то ни было, тридцатилетний полковник не был лишен романтичности, чему способствовала и его бурная, полная приключений жизнь. Пятнадцати лет он уже воевал с пруссаками в чине вахмистра в гусарском полку. Он храбро дрался, побывал в нескольких рукопашных схватках, получил три сабельных раны, попал в плен, но сумел бежать.
В 1764 году он воевал в Польше, в 1769—1770 – с турками в Бессарабии, прославившись на всю армию бесшабашной удалью, дерзостью, воинской удачливостью и немалым командирским талантом.
3 июля 1770 года отряд Зорича – тогда уже ротмистра – попал в окружение. Сам командир получил две раны копьем и одну саблей и был взят в плен. Четыре года просидел он в страшной султанской тюрьме – Семибашенном замке, потом еще год прожил в Константинополе, пока наконец по Кючук-Кайнарджийскому миру был разменен с другими пленными и вернулся в Россию. Здесь, получив орден Георгия четвертого класса, попал он на глаза Потемкину, и тот решил использовать Зорича в своих целях.
Через четыре месяца, в сентябре 1777 года, Зорич был уже генерал-майором, кавалером четырех иностранных орденов: шведских – Меча и Святого Серафима, и польских – Белого Орла и Святого Станислава. Он стал обладателем нескольких богатых поместий и целого большого местечка Шклова, купленного ему Екатериной за 450 тысяч рублей у князя Чарторыйского.
Эти поместья и Шклов перешли к России в результате первого раздела Речи Посполитой, совершенного русскими, пруссаками и австрийцами в 1772 году.
Зорич стал одним из богатейших вельмож и землевладельцев, однако ни земли, ни чины, ни ордена, ни богатства не прибавили Зоричу того, чего ему недоставало, а именно – ума, и из-за этого недостатка красавец-гусар решил, что он сможет свалить своего патрона и благодетеля – Потемкина, но, как говорится, не по себе выбрал Зорич древо, и его интрига, как мы узнаем чуть позже, закончилась для него конфузией.
…В декабре 1777 года Екатерине шел сорок восьмой год, и по меркам того времени она была уже далеко не молодой женщиной. И как раз в это время при дворе начала созревать еще одна интрига – новоявленный фаворит императрицы, не отметивший еще первой годовщины своего «случая», Семен Гаврилович Зорич, решился учинить афронт несокрушимому сопернику Григорию Александровичу Потемкину.
Пребывая вместе с ним и Екатериной в Царском Селе, он затеял ссору и даже вызвал Потемкина на дуэль, но вместо поединка отправился за границу, куда его мгновенно выслала Екатерина. А по возвращении осенью 1778 года ему велено было отправляться в Шклов.
Зорич поселился в старом замке польских графов Ходкевичей, отделав его с необычайной пышностью и устроив в своем доме беспрерывный праздник. Балы сменялись маскарадами, пиры – охотой, над замком чуть ли не каждую ночь горели фейерверки, по три-четыре раза в неделю устраивались спектакли, а в парке и садах вертелись карусели, устраивались катания на тройках, народные гуляния и бесконечные приемы гостей.
Дважды Зорича навещала Екатерина, когда весной 1780 года приезжала в Могилев, и была встречена экс-фаворитом с необычайной торжественностью и роскошью.
Чтобы завершить и эту сюжетную линию и более к Зоричу не возвращаться, скажем, что его дальнейшая жизнь сложилась не лучшим образом.
Зорич был азартным карточным игроком, причем имел нелестную репутацию шулера. К его грандиозным проигрышам вскоре примешалась и афера с изготовлением фальшивых ассигнаций, которые печатали гости Зорича – польские графы Аннибал и Марк Зановичи.
Расследование скандальной истории было поручено Потемкину. Он приехал в Шклов, арестовал обоих сиятельных братьев, а Зорича уволил в отставку.
Лишь после смерти Екатерины, в январе 1797 года, Павел вернул Зорича в армию, но уже в сентябре за растрату казенных денег снова его уволил, на сей раз окончательно.
И все же и Зорич оставил по себе добрую память. 24 ноября 1778 года – в день именин Екатерины – он основал на собственные деньги Шкловское благородное училище для мальчиков-дворян, готовившихся стать офицерами. В училище занималось до трехсот кадетов.
29 мая 1799 года здание училища сгорело, и это так сильно подействовало на Зорича, что он слег и 6 ноября того же года умер.
На следующий год занятия возобновились, но уже в Гродно, а затем после длительных скитаний по разным городам России в 1824 году училище обосновалось в Москве под именем Московского кадетского корпуса, в конце концов получив название «Первый Московский Императрицы Екатерины Второй кадетский корпус». Так и здесь восторжествовала справедливость: учрежденный в ее честь и в день ее именин корпус все же получил и ее имя.
* * *
А на месте отставленного Зорича появился еще один избранник – двадцатичетырехлетний кирасирский капитан Иван Николаевич Римский-Корсаков. Он оказался первым в конкурсе претендентов на должность фаворита, победив еще двух офицеров – немца Бергмана и побочного сына графа Воронцова – Ронцова.
У русских аристократов существовал обычай давать своим внебрачным, но признаваемым ими сыновьям так называемые «усеченные» фамилии, в которых отсутствовал первый слог родовой фамилии. Так, сын князя Трубецкого носил фамилию Бецкой – о нем упоминалось здесь как о мнимом отце Екатерины II. Сын князя Репнина назывался Пнин, Воронцова – Ронцов, Елагина – Агин, Голицына – Лицын, Румянцева – Умянцов.
Все трое были представлены Екатерине Потемкиным, и она остановила свой выбор на Корсакове.
Гельбиг рассказывает, что Екатерина вышла в приемную, когда там стояли ожидавшие аудиенции и Бергман, и Ронцов, и Корсаков. Каждый из них держал букет цветов, и императрица милостиво беседовала сначала с Бергманом, потом с Ронцовым и наконец с Корсаковым. Необыкновенная красота и изящество последнего сделали его единственным претендентом.
Екатерина милостиво улыбнулась всем, но с букетом цветов к Потемкину отправила Римского-Корсакова. Потемкин все понял, и выбор был им утвержден. Потрясенная красотой нового фаворита, Екатерина писала барону Гримму, считавшему этот новый альянс обычной прихотью: «Прихоть? Знаете ли Вы, что это выражение совершенно не подходит в данном случае, когда говорят о Пирре, царе Эпирском (таким было прозвище Корсакова. – В. Б.), об этом предмете соблазна всех художников и отчаяния всех скульпторов. Восхищение, энтузиазм, а не прихоть возбуждают подобные образцовые творения природы! Произведения рук человеческих падают и разбиваются, как идолы, перед этим перлом создания Творца, образом и подобием Великого (то есть Бога. – В. Б.)! Никогда Пирр не делал ни одного неблагородного или неграциозного жеста или движения. Он ослепителен, как Солнце, и, как оно, разливает свой блеск вокруг себя. Но все это в общем не изнеженность, а, напротив, мужество, и он таков, каким бы Вы хотели, чтобы он был. Одним словом, это – Пирр, царь Эпирский. Все в нем гармонично, нет ничего выделяющегося. Это – совокупность всего, что ни на есть драгоценного и прекрасного в природе; искусство – ничто в сравнении с ним; манерность от него за тысячу верст».
Новый фаворит вел происхождение от старинного аристократического польско-литовско-чешского рода Корсаков, старший в котором – Сигизмунд Корсак – выехал на службу в Московское княжество к Великому князю Василию Дмитриевичу – сыну Дмитрия Донского, в конце XIV столетия. Так как потом род Корсака часто путали с дворянским родом Корсаковых, то потомки Сигизмунда в мае 1677 года добились от царя Федора Алексеевича признания за ними двойной фамилии Корсаковых-Римских, так как их родоначальник был подданным римского императора. Так в конце XVII века возникла новая русская дворянская фамилия – Римские-Корсаковы.
Через день после победы в конкурсе фаворитов в Царском Селе появился новый флигель-адъютант, вскоре ставший прапорщиком кавалергардов, что соответствовало генерал-майору по армии, затем – камергером и вскоре генерал-адъютантом. Обладая удивительно красивой внешностью, Иван Николаевич имел к тому же прекрасный голос и очень хорошо играл на скрипке. Однако Екатерине всего этого оказалось недостаточно, ибо, кроме приятного голоса и великолепной внешности, она ценила еще и хороший ум, и прочное постоянство, а этого-то как раз у Римского-Корсакова не было. Как-то, разговаривая с одним из братьев Орловых, Екатерина сказала, что Иван Николаевич поет, как соловей. На что Орлов возразил ей:
– Это правда, но ведь соловьи поют только до Петрова дня.
Тонкое замечание Орлова оказалось пророческим – фаворит продержался около двух лет и был отставлен от двора в октябре 1779 года.
Что же касается ума и образованности Корсакова, то лучше всего об этом свидетельствует такой случай: когда Екатерина подарила Корсакову особняк на Дворцовой набережной, купленный ею у Васильчикова, то новый хозяин решил завести у себя хорошую библиотеку, подражая просвещенным аристократам и императрице. Выбрав для библиотеки большой зал, Корсаков пригласил известного книготорговца и велел ему привезти книги.
– Извольте же дать мне список тех книг, кои вы желаете, чтобы я привез вам, – сказал книготорговец.
На что фаворит ответил:
– Об этом я не забочусь – это ваше дело. Скажу только, что внизу должны стоять большие книги, а чем выше, тем они должны быть меньше, точно так, как у государыни.
При таком уме Корсаков рискнул интриговать против Потемкина, но Циклоп буквально в одночасье прихлопнул его, убив к тому же сразу двух зайцев.
Непримиримым врагом и соперником Потемкина был фельдмаршал Румянцев, чья сестра, графиня Брюс, являлась, как мы знаем, самой доверенной конфиденткой Екатерины. Неосторожный и влюбчивый Корсаков начал волочиться за графиней, о чем тотчас же донесли Потемкину, и тому не стоило труда создать ситуацию, пагубную для их обоих. Как только Екатерина узнала об этой связи, она тут же отправила неверную подругу в Москву, а Корсакова оставила в Петербурге из-за болезни, которая, кстати сказать, была мнимой.
Не прошло и месяца, как в Петербурге появились только что приехавшие из Парижа сорокашестилетний граф Строганов и его юная жена Екатерина Петровна, урожденная княжна Трубецкая. Корсаков тут же увлекся молодой и красивой женщиной и вскоре уехал из Петербурга в Москву, понимая, что терпение императрицы небеспредельно.
Следом за ним, к удивлению многих, уехала в Москву и графиня Строганова, где у ее обманутого мужа был роскошный дом, который великодушный супруг подарил ей. А кроме того, граф предоставил ей богатую подмосковную усадьбу Братцево и пожизненное денежное содержание. Когда же – через двадцать лет после всего случившегося – император Павел сослал Корсакова в Саратов, графиня Екатерина Петровна поехала за ним и туда.
По свидетельству князя Ивана Долгорукова, Екатерина Петровна была «женщина характера высокого и отменно любезная. Беседа ее имела что-то особо заманчивое, одарена прелестями природы, умна, мила, приятна. Любила театр, искусство, поэзию, художество… Была очень живого характера».
Так что двадцатипятилетнему Ивану Николаевичу было на что менять пятидесятилетнюю императрицу, да и у супругов Строгановых разница в возрасте была столь же значительной.
И потому, надо полагать, ни Римский-Корсаков, ни Строганова не сожалели о содеянном, тем более что Екатерина оставила своему бывшему фавориту дом на Дворцовой набережной и множество драгоценностей, оцениваемых в 400 тысяч рублей.
Завершая этот сюжет, добавим, что невенчаная жена его умерла около 1815 года, оставив Римскому-Корсакову сына и двух дочерей. Сам же Иван Николаевич скончался 16 февраля 1831 года семидесяти семи лет.
Смерть Натальи Алексеевны и воскрешение ее тайны
В апреле 1776 года в царской семье ожидалось важное событие – Великая княгиня Наталья Алексеевна должна была рожать первенца. Роды оказались не просто тяжелыми, но более чем драматичными: после пятидневных беспрерывных мучений двадцатилетняя женщина – здоровая и красивая – 15 апреля скончалась. Погиб и ребенок.
Екатерина почти все время была при невестке, хотя давно уже резко переменила о ней мнение, считая ее неприятной, неблагоразумной, расточительной и безалаберной женщиной.
К тому же императрица знала о любовной связи невестки с Андреем Разумовским, которому Павел – по доверчивости и душевной простоте – разрешил поселиться в одном дворце с ним и Натальей Алексеевной.
Екатерина уведомила об этом Павла, но Наталья Алексеевна сумела уверить мужа, что свекровь ненавидит ее и распускает намеренно ложные слухи только для того, чтобы поссорить их.
А вот что писал об этом любовном треугольнике уже знакомый нам Тургенев:
«Кто знал, то есть видал хотя издалека блаженной и вечно незабвенной памяти императора Павла, для того весьма будет понятно и вероятно, что дармштадтская принцесса не могла без отвращения смотреть на укоризненное лицеобразие его императорского высочества, вседражайшего супруга своего! Ни описать, ни изобразить уродливости Павла невозможно! Каково же было положение Великой княгини в минуты, когда он, пользуясь правом супруга, в восторге блаженства сладострастия обмирал!
Наталья Алексеевна была хитрая, тонкого, проницательного ума, вспыльчивого, настойчивого нрава женщина. Великая княгиня умела обманывать супруга и царедворцев, которые в хитростях и кознях бесу не уступят; но Екатерина скоро проникла в ее хитрость и не ошиблась в догадках своих!»
В заграничных журналах появились сообщения, что Наталья Алексеевна была неправильно сложена и из-за этого не смогла благополучно разрешиться от бремени.
Однако против такого утверждения решительно выступил русский посланник при Германском сейме барон Ассебург. За три года до того он вел переговоры о браке Павла и Натальи Алексеевны и, прежде чем состоялась помолвка, собрал подробные, хорошо проверенные сведения о состоянии здоровья невесты. Все врачи и придворные герцога Дармштадтского уверили барона в прекрасном здоровье Натальи Алексеевны. А то, что она была хорошо сложена, не требовало никаких доказательств – довольно было только хотя бы раз взглянуть на нее.
Не только среди досужих журналистов распространялись различные домыслы по поводу неудачных родов и смерти невестки Екатерины. Дипломаты и государственные деятели тоже толковали о случившемся. Злые языки говорили, что ее смерть была подстроена, чтобы избавиться от опасной претендентки на русский трон.
Великая княгиня, как утверждали ее недоброжелатели, не только вступила в любовную переписку и связь с графом А. К. Разумовским, но даже задумывала совершить вместе с ним государственный переворот. Князь Вальдек – канцлер Австрийской империи, хорошо осведомленный в династийных немецких делах, говорил родственнику Екатерины принцу Ангальт-Бернбургскому: «Если эта (то есть Наталья Алексеевна. – В. Б.) не устроила переворота, то никто его не сделает».
Английский посланник Джемс Гаррис писал о Наталье Алексеевне канцлеру Англии графу Суффолку, что вскоре после брака с цесаревичем принцесса Гессен-Дармштадтская легко нашла секрет управлять им, а сама, в свою очередь, находилась под влиянием своего любовника Андрея Разумовского. «Эта молодая принцесса, – писал Гаррис, – была горда и решительна, и если бы смерть не остановила ее, в течение ее жизни наверное возникла бы борьба между свекровью и невесткой».
Утверждали, что Екатерина, как только Наталья Алексеевна скончалась, немедленно обыскала ее кабинет, нашла там письма Разумовского и забрала их себе.
Павел очень любил Наталью Алексеевну и бесконечно страдал из-за ее смерти, едва не лишившись рассудка.
То ли для того чтобы положить конец его переживаниям, то ли по иной причине Екатерина велела прислать безутешному сыну связку писем, найденную в тайном ящике письменного стола Натальи Алексеевны. Прочитав письма, Павел совершенно ясно осознал, что между Разумовским и его покойной женой существовала прочная любовная связь и что отцом ребенка, из-за которого она умерла, вполне мог быть не он, а Разумовский.
Утверждают, что именно с этого момента Павел пришел в то состояние душевного расстройства, которое сопутствовало ему всю жизнь. Пережив невероятное душевное потрясение, Павел на второй день после смерти Натальи Алексеевны принял решение жениться на Вюртембергской принцессе Софии-Доротее.
Сватовство и женитьба Павла на Софии-Доротее Вюртембергской
Через два дня фельдмаршалу Румянцеву был отправлен рескрипт императрицы, содержавший приказ немедленно приехать из Глухова в Петербург, так как ему надлежит стать участником в «верном, нужном и приятном деле, о коем инако не желает объявить ему, как при свидании с ним».
К рескрипту П. В. Завадовский приложил записку, в которой, не раскрывая сути дела, писал: «Храни Бог от поездки отговариваться. Весьма неугодно будет Государыне и Великому князю».
Больной Румянцев, кряхтя и стеная, собрался в дорогу и поехал в Петербург.
Приехав, он узнал, что ему вместе с Павлом предстоит поездка в Берлин, где их будет ждать невеста цесаревича.
Павел, Румянцев, брат Фридриха II принц Генрих и сопровождавшие их царедворцы уехали в Берлин 13 июня. За два месяца, прошедшие со дня смерти Натальи Алексеевны, Екатерина успела послать к родителям невесты курьера, договориться о сватовстве, получить портрет принцессы и собрать в дорогу молодого вдовца, уже влюбившегося в свою будущую шестнадцатилетнюю жену.
Место свидания было выбрано не случайно – Берлин с давних пор был для Павла городом мечты, ибо там жил его кумир – Фридрих Великий, который к тому же становился его родственником, так как будущая теща Павла доводилась прусскому королю племянницей, а невеста – внучатой племянницей.
Павел и его свита двигались через Ригу и Кенигсберг и 10 июля торжественно въехали в Берлин. При встрече с Фридрихом Павел произнес пламенную речь, сказав, что он удостоился «видеть величайшего героя, удивление нашего века и удивление потомства».
Встретившись в тот же день с невестой, Павел так описал свое первое впечатление в письме к Екатерине: «Я нашел невесту свою такову, какову только желать мысленно себе мог: недурна собою, велика, стройна, незастенчива, отвечает умно и расторопно, и уже известен я, что есть ли она сделала действо в сердце моем, то не без чувства и она с своей стороны осталась… Дайте мне благословение свое и будьте уверены, что все поступки жизни моей обращены заслужить милость вашу ко мне».
Вюртембергская принцесса София-Доротея-Августа-Луиза – таково было полное имя Марии Федоровны до крещения по православному обряду – получила поверхностное домашнее образование, «женское» в самом уничижительном смысле этого слова. Ее отец только под старость, когда она уже давно была российской императрицей, стал владетельным герцогом Вюртембергским, а до того состоял в прусской службе и доходы его были не очень велики.
В одной из ученических тетрадей Софии-Доротеи сохранилось переписанное ею французское стихотворение «Философия женщин», являющееся своеобразным кредо будущей российской императрицы: «Нехорошо, по многим причинам, чтобы женщина приобрела слишком обширные познания. Воспитывать в добрых нравах детей, вести хозяйство, иметь наблюдение за прислугой, блюсти в расходах бережливость – вот в чем должно состоять ее учение и философия». Этот принцип Мария Федоровна исповедовала всю свою жизнь.
Екатерина была довольна итогом поездки сына в Берлин, в частности, и потому, что он сумел, как она думала, расположить к себе Фридриха Великого. Однако «Старый Фриц», как звали короля его подданные, разглядел в молодом человеке то, чего не видел в нем никто: написав Екатерине восторженное письмо о новом родственнике, Фридрих для себя записал следующее: «Он показался гордым, высокомерным и резким, что заставило… опасаться, чтобы ему не было трудно удержаться на престоле, на котором, будучи призван управлять народом грубым и диким, избалованным к тому же мягким управлением нескольких императриц, он может подвергнуться участи, одинаковой с участью его несчастного отца».
Павел уехал из Берлина, переполненный чувствами восхищения перед королем и его армией, которая произвела на цесаревича исключительно сильное впечатление, став вечным образцом для подражания.
Оставив Пруссию, Павел до конца своих дней хранил в уме и сердце преклонение перед прусской государственной и военной системами, пытаясь перенять все, что можно, для укоренения этих институтов в России. Но так как Россия не могла стать второй Пруссией, то усилия Павла были направлены на то, чтобы придать империи и армии хотя бы внешнее сходство с полюбившейся ему державой.
Два последних дня перед отъездом в Россию Павел провел вместе со своей невестой в гостях у принца Генриха в его Рейнсбергском замке. Там он вручил Софье-Доротее «Инструкцию», состоящую из 14 пунктов, в которой давалось подробное наставление в том, как вести себя в России, и особенно подчеркивалось, что ей «придется прежде всего вооружиться терпением и кротостью, чтобы сносить мою горячность и изменчивое расположение духа, а равно мою нетерпеливость». Павел категорически запрещал своей будущей жене вмешиваться в какие-либо интриги при дворе или принимать чьи бы то ни было советы, чего бы они ни касались.
Павел вернулся в Царское Село 14 августа, а 31 августа туда же приехала и София-Доротея.
Екатерина была совершенно очарована своей новой невесткой. В письме к мадам Бьельке, давней подруге ее матери, она сообщала: «Признаюсь вам, что я пристрастилась к этой очаровательной принцессе; она именно такова, какую можно было желать: стройна, как нимфа, цвет лица – смесь лилии и розы, прелестнейшая кожа в свете, высокий рост с соразмерной полнотой и легкость поступи».
К тому же шестнадцатилетняя девушка безоглядно влюбилась в своего суженого. За несколько дней до свадьбы она писала Павлу: «Я не могу лечь, мой дорогой и обожаемый князь, не сказавши вам еще раз, что я до безумия люблю и обожаю вас… Богу известно, каким счастьем представляется для меня вскоре принадлежать вам; вся моя жизнь будет служить вам доказательством моих нежных чувств; да, дорогой, обожаемый, драгоценнейший князь, вся моя жизнь будет служить лишь для того, чтобы явить вам доказательства той нежной привязанности и любви, которые мое сердце будет питать к вам».
А после того как 15 сентября Петербургский архиепископ Платон, перед тем преподававший Софии-Доротее православный закон, обручил ее с цесаревичем, назвав впервые новым именем и титулом: «Великая княжна Мария Федоровна», благодарная невеста прислала жениху по своему собственному почину такую записку: «Клянусь этой бумагой всю жизнь любить и обожать вас и постоянно быть нежно привязанной к вам; ничто в мире не заставит меня измениться по отношению к вам. Таковы чувства вашего навеки нежного и вернейшего друга и невесты». И впервые в жизни подписалась: «Мария Федоровна».
И еще до свадьбы Мария Федоровна послала цесаревичу свое первое письмо на русском языке, написав его очень грамотно, хотя занималась этим языком всего два месяца. И опять она говорила о своей любви и о том, что Павел ей дороже всего на свете.
26 сентября 1776 года состоялось венчание и свадьба Павла и Марии Федоровны.
Цесаревич был счастлив не менее жены и в день свадьбы отправил ей такую записочку: «Всякое проявление твоей дружбы, мой милый друг, крайне драгоценно для меня, и клянусь тебе, что с каждым днем все более люблю тебя. Да благословит Бог наш союз так же, как Он создал его. П.».
…И Бог благословил этот союз: уже в апреле 1777 года Мария Федоровна сообщила мужу, что она ждет ребенка.
Ее первенцем, которого Великая княгиня родила в конце года, стал будущий император Александр I.
Детство великих князей Александра и Константина
Это случилось 12 декабря 1777 года. Первенца назвали Александром – имя выбрала новорожденному его бабка – Екатерина.
В письме к барону Гримму она сообщала, что мальчик назван так в честь святого Александра Невского, и добавляла: «Хочу думать, что имя предмета имеет влияние на предмет, а наше имя знаменито».
И все же дача, построенная для мальчика на берегу Невы, называлась Пеллой, как и город, где родился Александр Македонский.
В другом письме к Гримму Екатерина уже признавала, что, возможно, ее внук будет подобен Александру Македонскому. «Итак, – писала Екатерина, – моему Александру не придется выбирать. Его собственные дарования направят его на стезю того или другого».
Для того чтобы все это не осталось только благими пожеланиями, Екатерина сразу же отобрала мальчика у родителей и начала воспитывать его по собственному разумению, из опасения, что отец и мать Александра повторят ошибки в воспитании, допущенные Елизаветой Петровной по отношению к Павлу.
Новорожденного, забрав у врачей, тут же передали под опеку опытной и хорошей матери – генеральши Софьи Ивановны Бенкендорф. (Это ее внук, Александр Христофорович Бенкендорф, прославится в русской истории и как герой Отечественной войны 1812 года, и как первый шеф Корпуса жандармов.)
Александра, в отличие от его отца, стали с первых же дней жизни воспитывать в спартанской обстановке – он спал на кожаном матраце, на тонкой подстилке, покрытой легким английским покрывалом. Температура в его комнате не превышала 14 – 15 градусов, когда он спал, кормилица и слуги говорили громко и даже на бастионах Адмиралтейства продолжали стрелять пушки.
Какой контраст представляло все это с первыми днями его отца, когда маленького Павла держали зимой и летом в колыбельке, обитой мехами чернобурых лисиц, когда в его спальне круглосуточно горел камин, а слуги не смели даже шептаться! Благодаря суровым условиям, Александр рос крепким, спокойным, веселым и здоровым ребенком.
Забегая чуть вперед, сообщим, что через полтора года, 27 апреля 1779 года, Мария Федоровна родила второго сына, которого назвали Константином. И это имя было выбрано не случайно: в нем таилась надежда в ближайшем будущем окончательно сокрушить империю Османов и покорить Константинополь.
С этого времени Александр и Константин воспитывались и жили вместе до двадцати с лишним лет, почти никогда не разлучаясь.
7 сентября 1780 года Екатерина писала Гримму об Александре: «Тут есть уже воля и нрав и слышатся беспрестанно вопросы: „К чему?“, „Почему?“, „Зачем?“ Мальчику хочется все узнавать основательно, и бог весть, чего-чего он не знает».
А еще через девять месяцев, 24 мая 1781 года, Екатерина писала ему же: «Надо сказать, что оба мальчишки растут и отменно развиваются… Один Бог знает, чего только старший из них не делает. Он складывает слова из букв, рисует, пишет, копает землю, фехтует, ездит верхом, из одной игрушки делает двадцать; у него чрезвычайное воображение, и нет конца его вопросам».
И наконец 24 мая 1783 года, она сообщала Гримму: «Если бы Вы видели, как Александр копает землю, сеет горох, сажает капусту, ходит за плугом, боронует, потом весь в поту идет мыться в ручье, после чего берет сеть и с помощью Константина принимается за ловлю рыбы…».
Продолжая ту же тему, Екатерина писала Гриму 10 августа 1785 года о семилетнем Александре и пятилетнем Константине: «В эту минуту господа Александр и Константин очень заняты: они белят снаружи дом в Царском Селе под руководством двух шотландцев-штукатуров». А в четырнадцать лет Александр получил даже диплом столяра.
Когда Александру не было еще и шести лет, Софья Бенкендорф внезапно умерла, и мальчиков передали в руки главного воспитателя, генерал-аншефа Николая Ивановича Салтыкова, а кавалером-воспитателем при обоих братьях стал генерал-поручик Александр Яковлевич Протасов.
Салтыков, прежде чем стать воспитателем Великих князей, десять лет был в том же качестве при их отце-цесаревиче Павле и благодаря своему уму, осторожности и хитрости, а также честностью и добронравием добился расположения и у Павла, и у Екатерины, всегда стараясь смягчать их отношения и примирять друг с другом.
Что же касается Константина, то во многом он был полной противоположностью
своему старшему брату, характером схожим с матерью – Великой княгиней Марией Федоровной, женщиной умной, выдержанной, спокойной.
У Константина же уже в раннем детстве проявились многие качества отца: он был вспыльчив, упрям, жесток. Когда однажды Лагарп пожаловался на нежелание Константина выполнять любые, даже самые простые задания, то Константин «в припадке бешенства укусил Лагарпу руку». В другой раз, когда воспитатель его Остен-Сакен заставлял своего питомца читать, Константин дерзко ответил:
– Не хочу читать, и не хочу потому именно, что вижу, как вы, постоянно читая, глупеете день ото дня.
Однажды, будучи уже юношей, – высоким и сильным, – Константин на вечернем собрании у Екатерины, отличавшемся вежливостью и утонченностью, вздумал бороться со стариком графом Штакельбергом. И так как граф не мог противостоять здоровяку-недорослю, Константин, разгорячась, бросил его на пол и сломал ему руку.
Оказываясь в домах аристократов, Константин не оставлял ни мужчину, ни женщину без позорного ругательства и черного сквернословия. Он позволял себе это даже в доме своего воспитателя Салтыкова. В августе 1796 года уже женатого семнадцатилетнего хулигана Екатерина приказала посадить под арест, и как только это произошло, Константин стал раскаиваться, просить прощения и, наконец, сделал вид, что заболел.
Жизнь и смерть Александра Ланского
А теперь снова возвратимся в осень 1779 года, когда Екатерина, уязвленная двоекратной изменой «царя Эпирского», выставила его из Петербурга. Кажется, самолюбивая, восторженная и в сердечных отношениях привязчивая Екатерина на сей раз переживала измену молодого красавца-артиста намного легче, чем это происходило раньше. Не успел Римский-Корсаков уехать из Петербурга, как возле Екатерины уже появился новый претендент на звание фаворита – двадцатидвухлетний конногвардеец Александр Дмитриевич Ланской, представленный обер-полицмейстером Петербурга графом Петром Ивановичем Толстым.
Ланской с первого взгляда понравился Екатерине, но она решила не спешить и на первый случай ограничиться лишь оказанием молодому офицеру очевидных знаков внимания и милости: Ланской стал флигель-адъютантом и получил на обзаведение десять тысяч рублей.
Появление нового флигель-адъютанта, через некоторое время ставшего и действительным камергером, конечно же, не осталось незамеченным.
Английский посланник, лорд Мальмсбюри, считал необходимым даже сообщить о нем своему правительству. «Ланской красив, молод и, кажется, уживчив», – писал дипломат.
В это самое время разные придворные доброхоты, почуяв, что вот-вот взойдет новое светило, стали наперебой говорить Ланскому обратиться за советом к Потемкину. Молодой флигель-адъютант послушался – и обрел в Потемкине своего заступника и друга. Для того чтобы получше узнать Ланского, Потемкин сделал Александра Дмитриевича одним из своих адъютантов и около полугода руководил его придворным образованием, одновременно изучая будущего фаворита.
Потемкин открыл в своем воспитаннике массу прекрасных качеств и весной следующего года мог с легким сердцем рекомендовать Ланского императрице.
На Святой неделе 1780 года Ланской вновь предстал перед Екатериной, был обласкан ею, удостоен чина полковника и в тот же вечер поселен в давно пустующих апартаментах бывших фаворитов.
При дворе сразу же стали интересоваться всем, относящимся к новому постояльцу в заветных комнатах, ибо мало что было известно и о самом счастливчике, и о его родителях.
Вскоре все уже досконально знали, что Александр Дмитриевич Ланской родился 8 марта 1758 года в не очень знатной и не очень богатой семье, имевшей поместья в Тульском уезде.
Стало известно, что отец фаворита – кирасирский бригадир Дмитрий Артемьевич – имел шестерых детей – двух сыновей и четырех дочерей: старшему сыну Александру и выпал жребий стать самым любимым фаворитом Екатерины, которой в день его появления на свет было уже двадцать восемь лет. Брат и все сестры фаворита, благодаря «случаю» своего старшего брата, породнились со знатнейшими фамилиями России, а их дети и внуки сделали блестящие служебные карьеры и матримониальные успехи. Следует заметить, что сам Александр Дмитриевич почти ничего не делал для их преуспевания, – виной тому была императрица, вскоре полюбившая Ланского больше, чем кого-либо прежде, и проливавшая эту любовь и на его родственников.
По отзывам современников, Ланской не вступал ни в какие интриги, старался никому не вредить и потому с самого начала отрешился от государственных дел, справедливо полагая, что политика заставит его, независимо от того, хочет он этого или не хочет, наживать себе врагов.
Даже когда ему доводилось встречаться с коронованными особами, приезжавшими в Петербург, – а это были австрийский кронпринц Иосиф, прусский кронпринц Фридрих-Вильгельм, шведский король Густав III, – Ланской вел себя очень сдержанно, не позволяя никому из них надеяться на его содействие или же противодействие кому или чему-либо.
Единственной всепоглощающей страстью Ланского была Екатерина, и, может быть, он сам в ее сердце, в ее душе и самых сокровенных ее помыслах. Он желал царствовать там единолично и делал все, чтобы добиться этого. Он хотел не просто нравиться своей повелительнице, но со временем добиться того, чтобы она ни на миг не могла даже помыслить о его замене кем-либо другим.
Одним из средств Ланской считал добрые отношения со всеми членами императорской фамилии. Он был хорош и с Екатериной, и с Павлом, и с Марией Федоровной, и с их детьми. Он оставался фаворитом более четырех лет – с весны 1780 до лета 1784 года.
Ланской много читал, старался вникать в существо важнейших дел, превращаясь на глазах императрицы из молодого красавчика-щеголя в серьезного и ответственного государственного деятеля, душою и телом до конца преданного своей повелительнице. Можно утверждать, что Ланской был самым любимым фаворитом Екатерины, хотя ей не было свойственно двоедушие в любовных делах, и она руководствовалась в интимных отношениях прежде всего сильным и искренним чувством.
Если бы не ранняя, внезапная смерть, то, возможно, он оставался бы фаворитом до конца жизни Екатерины. Из-за своей молодости и доброго, покладистого нрава он был даже соучастником игр и забав с Александром и Константином. Так, например, 1 июля 1783 года Екатерина писала Гримму: «У Александра удивительная сила и гибкость. Однажды генерал Ланской принес ему кольчугу, которую я едва могу поднять рукою; он схватил ее и принялся с нею бегать так скоро и свободно, что насилу можно было его поймать».
Так и представляется идиллическая семейная сцена – смеющаяся пятидесятичетырехлетняя бабушка, все еще полная огня и сил, двадцатипятилетний красавец-генерал и шустрый шестилетний мальчишка, ловко увертывающийся от своих преследователей.
Ланскому же читала Екатерина и свой замечательный труд, посвященный внукам – «Бабушку Азбуку» – оригинальное и высокоталантливое педагогическое сочинение, наполненное картинками, историями, сказками и нравоучениями. «У меня только две цели, – говорила об „Азбуке“ Екатерина, – одна – раскрыть ум для внешних впечатлений, другая – возвысить душу, образуя сердце».
(Впоследствии эта «Азбука», несколько видоизмененная, стала первым учебником в первых классах различных учебных заведений России.)
Чтоб еще более нравиться Екатерине, Ланской все четыре года своего фавора много читал, понимая, что он может быть интересен своей возлюбленной, если, кроме обожания, будет в состоянии подняться до ее интеллектуального уровня. И, надо сказать, это ему удалось.
Когда в июне 1784 года Ланской серьезно и опасно заболел – потом говорили, что он подорвал свое здоровье чрезмерным злоупотреблением возбуждающих снадобий, – Екатерина ни на час не покидала страдальца, почти перестала есть, оставила все дела и ухаживала за двадцатишестилетним любимцем не просто как образцовая сиделка, но как мать, смертельно боящаяся потерять единственного, бесконечно любимого сына.
Екатерина так описывала болезнь и смерть Ланского: «Злокачественная горячка в соединении с жабой свела его в могилу в пять суток».
Екатерина до последнего дня не допускала мысли, что ее любимец может умереть, и потому не обращалась к лучшему придворному медику доктору Вейкгардту, которого сумели опорочить его ловкие коллеги.
Когда же ученый немец только заглянул в горло больному и увидел сильнейшее воспаление и отек гортани, он сказал, что Ланской умрет в тот же вечер и спасти его невозможно.
Диагноз оказался настолько же беспощадным, насколько и верным.
Когда вечером 25 июня 1784 года Ланской умер, Екатерина совершенно потеряла былое несокрушимое самообладание, рыдала и причитала, как русская деревенская баба, и затем впала в прежестокую меланхолию. Она уединилась, никого не хотела видеть и даже отказалась от встреч с Александром и Константином. Единственным человеком, для которого она делала исключение, была сестра Ланского Елизавета – очень на него похожая.
Дело дошло до того, что Екатерина заболела и сама и не могла и часа провести без рыдания, без того, чтобы не захлебнуться слезами.
Более чем за полмесяца до случившегося, 7 июня, Екатерина начала писать одно из писем Гримму, но не успела закончить, как заболел Ланской. Только после его похорон, пребывая в неутешной печали и стараясь занять себя хоть чем-нибудь, она 2 июля села к столу и закончила письмо к барону Фридриху так: «Когда я начинала это письмо, я была счастлива, и мне было весело, и дни мои проходили так быстро, что я не знала, куда они деваются. Теперь уже не то: я погружена в глубокую скорбь, моего счастья не стало. Я думала, что сама не переживу невознаградимой потери моего лучшего друга, постигшей меня неделю тому назад. Я надеялась, что он будет опорой моей старости: он усердно трудился над своим образованием, делал успехи, усвоил мои вкусы. Это был юноша, которого я воспитывала, признательный, с мягкою душой, честный, разделяющий мои огорчения, когда они случались, и радовавшийся моим радостям.
Словом, я имею несчастие писать вам, рыдая… Не знаю, что будет со мною; знаю только, что никогда в жизни я не была так несчастна, как с тех пор, как мой лучший и дорогой друг покинул меня…».
Со смертью Ланского связана и еще одна история, подобная тем, которые время от времени происходят и в наши дни, подтверждая, что люди мало меняются, во всяком случае не становятся лучше.
Умирая, Ланской попросил, чтобы его похоронили в одном из романтических уголков Царскосельского парка, желая и после смерти быть поближе к Екатерине, проводившей там большую часть времени. Его просьба была исполнена, и гроб с телом покойного опустили в землю Царскосельского парка, поставив над могилой мраморную урну.
Однажды потрясенные служители обнаружили могилу разрытой, а рядом увидели изуродованное и оскверненное тело покойного. Негодяи оставили и позорные пасквили, оскорбляющие память Ланского.
После этого его похоронили в церкви близлежащего городка Софии, а потом построили и специальную небольшую капеллу-мавзолей.
Государственные дела конца 70-х – начала 80-х годов
Название книги всегда определяет и основное ее содержание. Так обстоит дело и в данном случае: брачные союзы членов Российского императорского дома с представителями разных немецких династий находятся в центре повествования. Однако, когда речь идет о царствующих особах и их ближайших родственниках, то волей-неволей перед читателем развертываются и многочисленные картины их личной жизни и государственной деятельности, ибо порой трудно бывает отделить одно от другого.
Поэтому и сейчас нам придется на короткое время окунуться в два важнейших события конца 70-х – начала 80-х годов – присоединение Крыма и включение в состав Российской империи Восточной Грузии.
В 1780 году Россия объявила «вооруженный нейтралитет», направленный против Англии в защиту только что образовавшихся Североамериканских Соединенных Штатов, что сильно обострило и ухудшило русско-английские отношения, соответственно сблизив Россию с противниками Англии.
В эти же годы Екатерина энергично проводила в жизнь так называемый «Греческий проект», инициатором которого был Потемкин. Суть «Греческого проекта» состояла в изгнании турок из Европы и создании в восточной части Балканского полуострова и земель вокруг Эгейского моря Греческой империи, главой которой должен был стать внук Екатерины – Константин. Дунайские княжества, находившиеся под властью османов – Молдавия и Валахия, должны были слиться в буферном христианском государстве – Дакии, а западная часть Балкан переходила под власть союзной России Австрии.
В связи с этим главным противником России становилась Османская империя, решительно поддерживаемая Англией.
Первым шагом в осуществлении задуманного проекта была окончательная ликвидация последыша Золотой Орды – Крыма. Еще в ходе русско-турецкой войны 1768—1774 годов Россия 1 ноября 1772 года заключила договор с крымским ханом Сахиб-Гиреем о переходе Крыма под протекторат России и о его полной независимости от турецких султанов. Однако часть крымских вельмож по-прежнему тяготела к Стамбулу, надеясь на возврат старых порядков.
Не желая до поры до времени решать крымский вопрос силой, Потемкин в 1779 году организовал переселение из Крыма почти всех христиан – преимущественно армян и греков, которые составляли основную массу ремесленников и торговцев, что сильно подорвало экономику ханства.
В Крым была послана дивизия генерал-поручика Суворова, а офицером, на которого возлагались поручения политического и дипломатического свойства, оказался полковник Кутузов – командир полка в дивизии Суворова. Именно он и возглавлял операцию по переселению христиан из Крыма на земли Новороссии. Он же принял активное участие в организации дворцового переворота в Бахчисарае, когда на смену турецкому ставленнику Давлат-Гирею был посажен угодный Екатерине Шагин-Гирей. Однако в 1782 году толпы религиозных фанатиков свергли Шагин-Гирея, и Потемкин поручил восстановить его на троне Кутузову и генерал-майору де Юальмену, что и было выполнено быстро и почти бескровно. И все же положение русского ставленника оставалось весьма шатким, ибо против него начали мятеж его братья – Батыр и Арслан. Дело дошло до того, что Шагин-Гирей вынужден был бежать на русском корабле в Керчь и в феврале 1783 года объявил, что не желает быть повелителем «такого неспокойного и коварного народа». Отказ Шагин-Гирея от престола явился следствием длительных переговоров хана с Потемкиным. Получив заверение Шагин-Гирея о нежелании занимать крымский трон, Потемкин тут же сообщил об этом Екатерине, и 8 апреля 1783 года она подписала Манифест о присоединении Крымского ханства к России.
В октябре того же года русские войска вошли в Крым и заняли все важные пункты полуострова. В результате сбылось то, о чем Потемкин писал Екатерине в начале этого же года: «Крым положением своим разрывает наши границы. Тут ясно видно, для чего хан нынешний (то есть Шагин-Гирей. – В. Б.) туркам неприятен: для того, что он не допустит их чрез Крым входить к нам, так сказать, в сердце. Положите же теперь, что Крым наш и что нет уже сей бородавки на носу: вот вдруг положение границ прекрасное… Доверенность жителей Новороссийской губернии будет тогда несумнительна, мореплавание по Черному морю свободное».
И вот в апреле 1783 года Потемкин исправил положение дел, присоединив Крым – древнюю Тавриду – к России. А 28 июня того же года принял присягу крымчан на верность России, приурочив ее к юбилею восшествия Екатерины на престол. За это он был возведен в княжеское достоинство с присовокуплением к титулу «Светлости», а через год стал и генерал-фельдмаршалом.
Другим важнейшим внешнеполитическим событием этого же времени было подписание дружественного договора России с грузинским царством Картли-Кахети, состоявшееся 24 июля 1783 года в селе Георгиевское на Ставрополыцине. Этим договором царь Картли-Кахети Ираклий II, происходивший из династии Багратионов, признавал покровительство России, отказывался от самостоятельной внешней политики и обязался служить своими войсками России. За это Екатерина гарантировала Ираклию II целостность и неприкосновенность его владений, автономию во внутренних делах и равенство грузинского дворянства, духовенства и купечества с российскими сословиями.
Новый фаворит императрицы – Александр Ермолов
Потрясенная до глубины души смертью своего любимца, пораженная кощунственной историей, произошедшей с его прахом, Екатерина почти целый год, отрешившись от радостей жизни, пребывала в состоянии холодной апатии и не свойственной ей меланхолии и тоске. Но натура со временем взяла свое, и благодаря стараниям друзей и подруг, а более всего незаменимого и неутомимого Потемкина, ей был представлен блестящий молодой офицер Александр Петрович Ермолов. Как это бывало и прежде, Ермолов оказался не единственным претендентом на сердце императрицы. Прежде, чем он попал в «случай», ему пришлось провести нелегкую борьбу с другими соперниками. Наиболее серьезным его конкурентом оказался князь Павел Михайлович Дашков, сын Екатерины Романовны Дашковой. Ему исполнилось тогда 22 года, он был хорош собой, получил прекрасное образование, окончив Эдинбургский университет в Шотландии со степенью магистра искусств.
Пока Дашков учился в Эдинбурге, ему шли чины по военной службе, и потому, возвратившись в Россию, он стал капитан-поручиком гвардии и в этом чине оказался адъютантом Потемкина. В 1783 году он стал полковником, через два года вернулся в свите Светлейшего в Петербург и был представлен императрице на соискание чина флигель-адъютанта. Говорили, что молодой князь понравился Екатерине, но назначение Дашкова флигель-адъютантом не состоялось из-за его скандальной скоропалительной женитьбы на купеческой дочке, девице Алферьевой, которую княгиня Дашкова не желала видеть до конца своих дней. Князь Дашков во флигель-адъютанты не попал, тогда-то и взошла звезда его ровесника, тоже адъютанта Потемкина, Александра Петровича Ермолова.
Гельбиг сообщает, что Потемкин специально устроил праздник, чтобы познакомить Ермолова с императрицей. Праздник удался на славу – адъютант Светлейшего стал флигель-адъютантом императрицы и вскоре переехал в давно уже пустующие покои фаворитов.
Ермолов оставил по себе хорошую память. Он помогал всем, кому только мог, если был убежден, что перед ним – достойный человек. Императрица могла полагаться на его рекомендации, ибо он был умен, умел правильно оценивать людей и никогда не ходатайствовал за недостойных. Кроме того, он был необычайно правдив и искренен, и это-то и погубило его. Причиной тому был следующий эпизод.
После покорения Крыма хан Сабин-Гирей должен был получать от Потемкина крупные суммы, оговоренные государственным договором, но Светлейший задерживал эти выплаты и несколько лет ничего не платил хану. Тогда Гирей обратился за помощью к Ермолову, тот обо всем рассказал Екатерине, а императрица вскоре же высказала свое неудовольствие Потемкину. Светлейшему не составило труда вычислить изменника, и он поставил вопрос ребром: «Или я, или он». Екатерина, поколебавшись, склонилась, как и прежде, на сторону идола, и в июне 1786 года попросила передать Ермолову, что она разрешает ему уехать на три года за границу.
Александр Петрович немедленно покинул Петергоф, где произошло все это, и с рекомендательными письмами канцлера графа Безбородко уехал в Германию и Италию. Везде, где он появлялся, Ермолов вел себя необычайно скромно, чем поражал и российских резидентов в итальянских и германских государствах, и граждан этих государств. Столь же скромно вел он себя и возвратившись в Россию. Ермолов переехал из Петербурга в Москву, где его ожидал теплый и радушный прием, ибо у бывшего фаворита и в Москве не оказалось врагов или завистников.
За время фавора, продолжавшегося год и четыре месяца, Ермолов получил два поместья, стоившие 400 тысяч рублей, а также 450 тысяч наличными в виде единовременных выплат, пенсии и жалованья. Утратив благосклонность Екатерины, Ермолов уехал в Австрию, где купил неподалеку от Вены богатое и прибыльное поместье Фросдорф, которое превратил затем в одну из самых привлекательных загородных усадеб. Там он и умер 82-х лет в 1836 году.
Фаворит Александр Дмитриев-Мамонов. Путешествие в Тавриду
Преемником Ермолова на стезе фаворитизма стал двадцативосьмилетний капитан гвардии Александр Матвеевич Дмитриев-Мамонов – дальний родственник Потемкина. Благодаря последнему обстоятельству, Дмитриев-Мамонов и был назначен в 1786 году адъютантом Светлейшего, имея скромный чин поручика гвардии. Не желая повторения ситуации, произошедшей с Ермоловым, Потемкин решил сделать флигель-адъютантом Екатерины Мамонова, на которого, как ему казалось, он мог вполне положиться. В августе 1786 года Мамонов был представлен Екатерине и вскоре назначен ею флигель-адъютантом. Современники отмечали, что Дмитриев-Мамонов был единственным из фаворитов, которого нельзя было причислить к разряду красавцев. Он был высок ростом, крепок физически, имел скуластое лицо, чуть раскосые, «калмыковатые» глаза, которые светились умом и лукавством. В отличие от многих прочих, был он хорошо образован, и беседы с ним доставляли императрице немалое удовольствие. Через месяц стал он уже прапорщиком кавалергардов и генерал-майором по армии. Первые почести не вскружили голову новому фавориту – он проявлял сдержанность, такт и сразу же завоевал репутацию умного и осторожного человека. Отмечали и его прекрасное образование – Дмитриев-Мамонов хорошо говорил на немецком и английском языках, а французский знал в совершенстве. Кроме того, Александр Матвеевич заявил себя и как недурной стихотворец и драматург, что особенно импонировало Екатерине. Благодаря всем этим качествам, а также и тому, что Мамонов непрестанно учился, много читал и пытался серьезно вникать в государственные дела, особенно в дела внешнеполитические, он стал вскоре незаменимым советчиком императрицы, и когда в начале
1787 года Екатерина собралась в путешествие на юг – в Крым и Новороссию, – Мамонов в течение всего этого вояжа ни на минуту не оставлял ее.
* * *
Об этом путешествии необходимо рассказать подробнее. Подготовка к нему началась за два с половиной года.
Во всяком случае, уже в октябре 1784 года Потемкин приказал готовиться к приему императрицы – к сбору лошадей на станциях, к строительству путевых дворцов, к подготовке квартир для размещения свиты в разных городах и т. д. Десятки тысяч людей стали ремонтировать дороги, строить гавани и причалы, а многим городам: Кременчугу, Екатеринославу, Херсону, Николаеву – следовало придать блеск больших, давно обжитых городов. На Днепре строилась целая флотилия речных судов, на которых императрица должна была плыть вниз, к Черному морю.
И в губерниях, расположенных ближе к столицам, тоже велись приготовления к встрече Екатерины, но Потемкин затмил всех.
Путешествие началось по санному пути и было прервано на три месяца в Киеве в ожидании, когда на Днепре сойдет лед и можно будет продолжать путь на кораблях. Еще по дороге в Киев, и в каретах, и на почтовых станциях, и в путевых дворцах, выстроенных в губернских городах, и во дворцах местной знати царила непринужденная атмосфера, неотличимая от нравов Эрмитажа и Царского Села. Казалось, что Екатерина и множество придворных отправились в середине зимы для развлечений, легкомысленных светских бесед, забав и веселья. Анекдоты сменялись занимательными рассказами по истории, географии, земледелию, статистике, изящной словесности и философии. На стоянках писали шарады и буримэ, вечерами устраивали любительские спектакли, именуемые тогда «живыми картинами».
Особенно преуспевали в этих затеях французский посланник в Петербурге, поэт и историк граф Луи-Филипп Сегюр д’Огессо и австрийский посланник граф Людовик Кобенцель. Вкупе с Екатериной и хорошо образованным Дмитриевым-Мамоновым, они составляли ядро того утонченного и высокоинтеллектуального общества, которое медленно, с многодневными остановками продвигалось на юго-запад.
И все же невозможно было отрешиться от большой политики, и волей-неволей и Екатерина, и Мамонов, и другие ближайшие его сотрудники должны были обсуждать и Восточный вопрос, и политику Пруссии, и плачевное, взрывоопасное положение Франции, стоявшей на пороге революции. Причем Мамонов очень часто оказывался на высоте положения, с каждым днем завоевывая все больший авторитет у императрицы и у иностранных вояжеров, прочивших фавориту блестящую дипломатическую карьеру.
Переезжая из одной губернии в другую, постоянно сопровождаемые толпами восторженных россиян, бесконечными торжественными въездами, триумфальными арками, фейерверками, иллюминациями, артиллерийскими салютами, военными парадами, звоном колоколов, пышными процессиями духовенства, повсюду встречаемые верноподданническими речами, экзотически разнаряженными в национальные одежды депутациями коренных и малых народов, Екатерина и ее спутники приходили в восторг от всего увиденного и услышанного, воочию убеждаясь в колоссальном прогрессе, проделанном Россией за четверть века ее царствования.
В Киеве, отпраздновав день рождения Екатерины, огромная флотилия из восьмидесяти судов 22 апреля двинулась вниз по Днепру. Вот как описывал это Сегюр: «Впереди шли семь нарядных галер огромной величины… Комнаты, устроенные на палубах, блистали золотом и шелками. Каждый из нас имел комнату и еще нарядный, роскошный кабинет с покойными диванами, с чудесною кроватью под штофною занавесью и с письменным столом красного дерева. На каждой из галер была своя музыка. Множество лодок и шлюпок носились впереди и вокруг этой эскадры, которая, казалось, создана была волшебством.
Мы подвигались медленно, часто останавливались и, пользуясь остановками, садились на легкие суда и катались вдоль берега вокруг зеленеющих островков, где собравшееся население кликами приветствовало императрицу. По берегам появлялись толпы любопытных, которые беспрестанно менялись и стекались со всех сторон, чтобы видеть торжественный поезд и поднести в дар императрице произведения различных местностей. Порою на береговых равнинах маневрировали легкие отряды казаков. Города, деревни, усадьбы, а иногда простые хижины так были изукрашены цветами, расписаны декорациями и триумфальными воротами, что вид их обманывал взор и они представлялись какими-то дивными городами, волшебно созданными замками, великолепными садами. Снег стаял, земля покрылась яркой зеленью, луга запестрели цветами, солнечные лучи оживляли и украшали все предметы. Гармонические звуки музыки с наших галер, различные наряды побережных зрителей разнообразили эту роскошную и живую картину. Когда мы подъезжали к большим городам, то перед нами на определенных местах выравнивались строем превосходные полки, блиставшие красивым оружием и богатым нарядом. Противоположность их щегольского вида с наружностью румянцевских солдат (армия Румянцева располагалась на Украине. – В. Б.) доказывала нам, что мы оставляем области этого знаменитого мужа и вступаем в места, которые судьба подчинила власти Потемкина.
Стихии, весна, природа и искусство, казалось, соединились для торжества этого могучего любимца».
Через Канев, где состоялась встреча Екатерины с польским королем Станиславом Августом Понятовским, с которым она не виделась тридцать лет, Екатерина затем проследовала в село Кайдаки, в коем ожидал ее австрийский император Иосиф II, скрывавшийся под именем графа Фалькенштейна. Он сначала приехал в Херсон, осмотрел там арсенал, казармы, верфи и склады и затем выехал навстречу Екатерине. После дружеского свидания в Кайдаках Иосиф II вместе со всеми доплыл до Херсона, где состоялось нечто вроде конгресса, в котором приняли участие Иосиф II и Екатерина, а также посланники Франции и Англии.
Затем, через Перекоп и Степной Крым путешественники проследовали в столицу Гиреев – Бахчисарай, а оттуда – в Севастополь.
Еще в 1782 году Екатерина писала Потемкину, что нужно воспользоваться первым удобным случаем для захвата Ахтиарской гавани, названной потом русскими Севастопольской бухтой.
В 1784 году военно-морской порт и крепость, созданные при участии Потемкина, Суворова и Ушакова, были названы Севастополем, что в переводе с греческого означало «Величественный город» или «Город Славы».
Когда Екатерина и ее спутники увидели Севастополь и его гавань, они были более всего поражены многочисленными линейными кораблями и фрегатами, стоявшими в бухте и готовыми за двое суток оказаться на рейде Константинополя.
Проехав после посещения Севастополя по другим городам Крыма, Екатерина возвратилась в Петербург. И тут, в первые же недели по возвращении, ей был вручен ультиматум султана с требованием возвратить Турции Крым и признать грузинского царя Ираклия II вассалом султана.
* * *
13 августа 1787 года Турция объявила войну России, а 12 сентября манифест о войне с Турцией подписала Екатерина.
Потемкина не было с нею рядом, он находился на юге, при армии, и Мамонов как мог поддерживал императрицу, но все же – далеко было ему до Светлейшего. В самом начале войны, 1 октября, Суворов разбил под Кинбурном турецкий десант, но на том очевидные успехи русских войск закончились.
В январе 1788 года войну туркам объявила и Австрия, пославшая на помощь Потемкину экспедиционный корпус принца Кобургского. В июне Потемкин и австрийцы осадили Хотин, а в начале июля и Очаков, но военные действия шли довольно вяло.
Воспользовавшись тем, что главные силы русской армии оказались вовлеченными в войну с турками, их северный союзник – шведский король Густав III 21 июня начал военные действия, двинув против 19-тысячной армии графа Мусина-Пушкина 38 тысяч своих солдат и офицеров.
А в это время сибарит Мамонов безмятежно купался в удовольствиях и успехах. После возвращения из путешествия милости посыпались на него, как из рога изобилия: он стал шефом Санкт-Петербургского полка, а с 4 мая 1788 года, будучи генерал-поручиком, пожалован был в генерал-адъютанты.
25 мая того же года Иосиф II, сохранивший о Мамонове за время путешествия наилучшие впечатления, возвел фаворита в графское достоинство Римской империи. Затем Екатерина наградила его орденом Александра Невского, усыпанным бриллиантами, стоимостью в 30 тысяч рублей. Доходы его с поместий, жалованье и содержание составляли не менее 300 тысяч рублей в год. Одни только бриллиантовые аксельбанты генерал-адъютанта Мамонова стоили не менее 50 тысяч рублей.
И в дипломатической карьере фаворита наметился очевидный взлет – Екатерина готовила его к должности вице-канцлера. Однако все разрушил Его Величество Случай. Тридцатилетний фаворит перестал пылать к шестидесятилетней самодержице, променяв ее на юную прелестницу-фрейлину, княжну Дарью Федоровну Щербатову.
Екатерина не сразу узнала о случившемся, хотя ей показались подозрительными частые недомогания ее любимца, когда он неделями не показывался в алькове императрицы.
Наконец, весьма осторожно, но совершенно однозначно обманутой самодержице сообщили о коварном изменнике, поправшем и любовь ее, и служебный долг, ибо пост фаворита уже давно почитался государственной должностью.
Мамонов почувствовал, что Екатерина все знает, и, предвосхищая вызов для объяснения, однажды утром нарядился в красный бархатный кафтан, который особенно был ему к лицу, надел все ордена и бриллианты и явился к Екатерине. По его виду Екатерина поняла, что предстоит объяснение, и, не дожидаясь этого, сама завела разговор о неожиданном для нее охлаждении. Мамонов сначала, как делал это и раньше, сослался на болезнь, а потом заявил, что он недостоин ее, но о любви своей к фрейлине – не сказал.
После того как они расстались, уязвленная Екатерина села к столу и написала Мамонову:
«Пусть совершается воля судьбы. Я могу предложить вам блестящий исход, золотой мостик для почетного отступления. Что вы скажете о женитьбе на дочери графа Брюса? Ей, правда, только 14-й год, но она совсем сформирована, я это знаю. Первейшая партия в империи: богата, родовита, хороша собой. Решайте немедленно. Жду ответа».
Через полчаса она получила ответ Мамонова, написанный им из соседней комнаты:
«Дальше таиться нельзя. Должен признаться во всем. Судите и милуйте. На графине Брюсовой жениться не могу. Простите. Более году люблю без памяти княжну Щербатову. Вот будет полгода, как дал слово жениться. Надеюсь, поймете и выкажете милосердие и сострадание.
Несчастный, но вам преданный до смерти. А.»
Роман Мамонова стоил Александру Матвеевичу утраты положения фаворита, но не более того, ибо после состоявшегося объяснения и признания в любви к Щербатовой Екатерина купила молодым несколько деревень более чем с двумя тысячами крестьян, подарила невесте драгоценности и сама обручила их.
Дарья Федоровна и Александр Матвеевич, держась за руки, встали на колени перед своей благодетельницей и искренне заплакали.
Поднимая их с колен и обнимая обоих, вместе с ними плакала и Екатерина.
Потом императрица разрешила им обвенчаться в дворцовой церкви и сама присутствовала при венчании.
На другой день после молодые уехали в Москву. Однако семейная жизнь его не была счастливой. Объяснялось это вздорным характером Дмитриева-Мамонова, его несдержанностью и вспыльчивостью. Екатерина однажды сказала о нем: «Он не может быть счастлив: разница – ходить с ним в саду и видеться на четверть часа или жить вместе». Жизни вместе со Щербатовой у него не получилось, хотя он и не расставался с нею до ее смерти. Она умерла совсем молодой в 1801 году. Мамонов пережил ее всего на два года, скончавшись тоже весьма рано – сорока пяти лет и оставив пятнадцатилетнего сына и тринадцатилетнюю дочь.
Платон Зубов, его отец, братья и светлейший
Что же касается Екатерины, то и на сей раз оправдалась поговорка, что свято место пусто не бывает, так как политические конкуренты – сторонники и враги Потемкина – тут же стали подыскивать матушке-государыне нового фаворита. Каждая из сторон всеми способами пыталась познакомить Екатерину со своими кандидатами. Среди них были отставной секунд-майор Преображенского полка Казаринов, барон Менгден, будущий знаменитый военачальник и выдающийся храбрец Михаил Андреевич Милорадович – все молодые красавцы, за каждым из которых стояли самые влиятельные придворные – Потемкин, Безбородко, Нарышкин, Воронцовы и Завадовский.
Судьба улыбнулась двадцатидвухлетнему секунд-ротмистру Конной гвардии Платону Александровичу Зубову – ставленнику фельдмаршала князя Н. И. Салтыкова, главного воспитателя внуков Екатерины. Зубов, конечно же, был отменно красив и, кроме того, на тринадцать лет младше сына Екатерины Павла.
Все предыдущие фавориты Екатерины, появившиеся после отбытия Потемкина из Петербурга, оказывались возле нее с благословения и согласия Светлейшего. А вот Платон Александрович – волею судьбы последний ее фаворит – был введен в будуар государыни его недоброжелателями, которые воспользовались тем, что Потемкин находился на Дунае.
О «партии» Зубова хорошо осведомленный в придворных делах поверенный Потемкина в Петербурге, полковник Михаил Гарновский писал: «Николай Иванович Салтыков был и есть Зубовым протектор, следовательно, и полковнику Зубову наставник, Зубов-отец – друг князя Александра Алексеевича Вяземского, а Анна Никитична Нарышкина предводительствует теперь Зубовым и посему играет тут первую и знатную роль. Вот новая перемена со своею лигою, которые, однако же, все до сих пор при воспоминании имени его Светлости неведомо чего трусят и беспрестанно внушают Зубову иметь к его Светлости достодолжное почтение, что и господину Зубову (отцу) твердили».
В тот же вечер, когда Дмитриев-Мамонов получил отставку, к Анне Никитичне Нарышкиной явился Зубов и там встретился, конечно же не случайно, с заехавшей к ней, как будто ненароком, Екатериной. Здесь-то она и сделала окончательный выбор, отправив затем нового фаворита сначала к Роджерсону, а потом к «пробир-фрейлине» Протасовой. Вечером, 20 июня 1789 года, после того как Екатерина получила заверения и Роджерсона, и Протасовой в здоровье и мужских достоинствах претендента, она, будто бы нечаянно и совершенно случайно, встретилась с Зубовым в Царскосельском парке и отвела его в Мавританскую баню, представлявшую собой точную копию бани турецкого султана, где окончательно убедилась в справедливости данного ей заключения.
Придворные из партии Потемкина удивились появлению Зубова в роли фаворита, называя его «мотыльком-поденкой» и «эфемеридой», но вскоре поняли, что ошиблись. В тот момент, когда Мамонов, нанеся прощальный визит Екатерине, спускался вниз по парадной лестнице Зимнего дворца, навстречу ему шел Зубов.
– Что нового? – спросил Зубов, поклонившись.
– Да ничего, кроме того, что вы поднимаетесь, а я опускаюсь, – ответил бывший фаворит.
1 июля Мамонов оставил апартаменты Зимнего дворца и уехал в Москву.
На следующий день ротмистр Платон Александрович Зубов стал полковником гвардии и флигель-адъютантом, а еще через сутки обнаружил в ящике своего письменного стола сто тысяч рублей золотом и двадцать пять тысяч – ассигнациями.
Вечером он был приглашен Екатериной играть с нею в карты и таким образом представлен ею узкому кругу самых близких друзей. Когда игра закончилась, Екатерина, взяв под руку нового флигель-адъютанта, направилась к дверям своей спальни. И уже на следующее утро почти все первые лица империи собрались в приемной Зубова. Здесь были Салтыков и Морков, Нарышкин и Вяземский, старик Мелиссино и Архаров, Самойлов и Безбородко, – князья, графы, генералы. Зубов заставил их ждать более часа и наконец появился с надменной, но ласковой улыбкой.
В приемной Зубова, пока молодой красавчик вымаривал всех сановников за дверью своей спальни, у царедворцев было достаточно времени обменяться друг с другом сведениями о Платоне Александровиче и его родственниках.
Знающие люди, – а в приемной в таковых недостатка не было, – утверждали, что дворяне Зубовы делились на две ветви. Одна из них происходила от татарского – еще ордынских времен – баскака Амрагата, принявшего христианство в XIV веке, вторая – от одного из бояр Ивана III. В семье фаворита считали, что их предком является боярин и что отец Платона Александровича Зубова – десятое колено именно этой ветви. Отец новоявленного счастливчика, Александр Николаевич Зубов, родился 6 августа 1727 года и в 1762 году женился на Елизавете Алексеевне Вороновой, бывшей младше его на пятнадцать лет. В браке родилось четыре сына – Николай, Дмитрий, Платон и Валериан, и три дочери – Ольга, Екатерина и Анна.
До 1789 года, когда произошел «случай» с его сыном Платоном, Зубов-отец был управляющим одним из имений Н. И. Салтыкова, хотя и сам не был бедным, занимая к тому же пост вице-губернатора в одной из провинций. Как только Платон Зубов оказался в фаворе, отца тут же перевели в Петербург обер-прокурором Первого департамента Сената, ведавшего важнейшими вопросами государственного управления. Здесь почти сразу же новый обер-прокурор заявил себя хотя человеком и умным, но злым, недобросовестным и большим охотником до взяток. Но протекция сына делала его недосягаемым для контроля и ответственности.
Когда Зубов-отец появился в Петербурге, здесь уже служили и все его сыновья, находившиеся с юности под покровительством фельдмаршала Николая Салтыкова и все до одного служившие в конной гвардии – Николай был подполковником, находясь под командованием Суворова, Дмитрий – секунд-ротмистром, что соответствовало чину капитана, а самый младший – Валериан – подпоручиком. Да и Платон Александрович был, как и Дмитрий, секунд-ротмистром Конной гвардии и именно в этом чине был представлен Екатерине после того, как оказался командиром отряда охраны в Царском Селе.
Вместе с Зубовым-отцом приехали в Петербург его жена и дочери.
Все Зубовы были представлены императрице, но хотя она каждого из них приняла с радушием и лаской, с особенным расположением и сердечностью был встречен ею самый младший из братьев – семнадцатилетний Валериан, юноша не только красивый, но и обладающий многими иными достоинствами – смелостью, открытостью, веселостью, в котором детская непосредственность соседствовала с живым умом и настойчивым стремлением быть во всем первым и непременно добиваться успеха.
Платон Зубов тут же заметил, сколь отрадное впечатление произвел младший брат на шестидесятилетнюю императрицу, и, опасаясь успеха Валериана, добился его отправки в действующую армию, к Потемкину.
В конце сентября 1789 года восемнадцатилетний подполковник Валериан Зубов уехал к Светлейшему с рекомендательным письмом Екатерины. Валериан и сам хотел ехать к Потемкину и просил об этом императрицу, не зная, что причиной его отправки была ревность брата.
Когда юный подполковник появился в Яссах, в ставке Светлейшего, тот давно уже доподлинно знал обо всем, случившемся в Петербурге. Ситуация ничуть не волновала Потемкина, ибо он, как и многие его сторонники – опытнейшие сановники и царедворцы, – был уверен, что только что зажегшаяся звездочка нового любимца не сможет соперничать по своему свету и блеску с немеркнущим светилом Светлейшего князя Тавриды. И хотя Потемкин перестал быть единственным фаворитом императрицы уже двенадцать лет назад, но никто из последующих наперсников Екатерины не мог сравниться с ним ни по силе влияния на императрицу, ни по реальным плодам деятельности на благо России.
Где были ныне Завадовский, Зорич, Корсаков, Ермолов, Мамонов, пытавшиеся соперничать с «великим циклопом»?
Потому и не ждал никто, как и сам Потемкин, что юноша флигель-адъютант, проведший всего ничего ночей с престарелой императрицей, сможет вытеснить из ее сердца венчаного мужа, которому отдавались царские почести, где бы он ни появился.
Потемкин, получив сообщение, что впервые возле Екатерины появился не его ставленник, а креатура враждебного ему Салтыкова, решил, что и на сей раз все обойдется. Приезд Валериана Зубова не заставил Потемкина изменить свое отношение к произошедшему, и он ничуть не опасался, что брат фаворита, находясь рядом, в его ставке, сможет повредить ему во мнении императрицы, оказываясь вольным или невольным свидетелем отнюдь не безобидных утех, длинной чередой разворачивавшихся в покоях ясского дворца. И хотя вскоре после приезда Валериана Потемкин понял, что влияние Платона Зубова на императрицу растет чрезвычайно быстро, он все же не спешил в Петербург. Во многом виной тому был новый роман с женой его двоюродного брата, 26-летней красавицей Прасковьей Андреевной Потемкиной, урожденной Закревской. Она появилась в военном лагере весной 1789 года и сразу же сразила 50-летнего полководца.
Сохранились письма Потемкина Прасковье Андреевне, написанные на цветных листах почтовой бумаги с золотым обрезом. Вот всего лишь два из них: «Жизнь моя, душа общая со мною! Как мне изъяснить словами мою к тебе любовь, когда меня влечет непонятная к тебе сила… Нет минуты, чтобы ты, моя небесная красота, выходила у меня из мысли; сердце мое чувствует, как ты в нем присутствуешь. Приезжай же, сударушка, поранее, о, мой друг, утеха моя и сокровище безценное ты; ты – дар Божий для меня. Целую от души ручки и ножки твои прекрасные, моя радость! Моя любовь не безумною пылкостью означается, как то буйное пьянство, но исполнена непрерывным нежнейшим чувствованием. Из твоих прелестей неописанных состоит мой екстазис, в котором я вижу тебя живо перед собой».
А вот другое письмо: «Ты смирно обитала в моем сердце, а теперь, наскуча теснотою, кажется, выпрыгнуть хочешь. Я это знаю потому, что во всю ночь билось сердце, нежели ты в нем не качалась, как на качелях, то, конечно, хочешь улететь вон. Да нет! Я – за тобою и, держась крепко, не отстану, а еще к тому прикреплю тебя цепью твердой и ненарушимой моей привязанности…».
Прасковья Андреевна, конечно же, поверила князю. И как было не поверить, получая такие письма, а кроме того, и иные подтверждения в любви, но тут же была обманута.
Весь 1789 год был переполнен амурными утехами и беспрерывными победами князя Таврического над прелестнейшими дамами России, Польши, Молдавии, актрисами из разных европейских стран, приезжавшими в ставку Светлейшего в Яссы очень часто не без определенного умысла.
Потемкин занимал в Яссах самый большой и роскошный дворец князей Канта Кузинов – знатнейшего рода в Молдавии и Валахии. Здесь, трижды в неделю, происходили роскошнейшие балы и празднества.
Весной 1789 года армия Румянцева была передана князю Н. В. Репнину, а затем слита с армией Потемкина. Разумеется, главнокомандующим был назначен Потемкин. Он поставил своей целью овладеть Бендерами и почти все войска двинул к стенам этой крепости. Осада Бендер шла вяло, Потемкин не форсировал военные действия, пока в сентябре Суворов не разбил 90-тысячную турецкую армию при Рымнике, за что получил графский титул «Рымникского». После этого Потемкин взял и Бендеры.
В осаде Бендер рядом с ним был и Валериан Зубов. Точнее было бы сказать «при капитуляции Бендер», так как крепость сдалась, как только русские войска окружили ее, еще не приступив к осадным действиям. Однако, как бы то ни было, крепость пала, и при отсутствии других успехов следовало обратить внимание на этот. Валериан, честно и ревностно служивший и в ясском дворце, и на берегах Днестра, под Бендерами, был послан Потемкиным в Петербург с радостным извещением о победе.
14 ноября 1789 года он примчался в столицу, и Екатерина пожаловала гонца чином полковника и званием флигель-адъютанта. Сверх того было дано ему десять тысяч рублей, золотая табакерка с вензелем и перстень с алмазом.
Всю зиму молодой полковник и флигель-адъютант провел в Петербурге, вызывая новый прилив ревности своего старшего брата. И снова уехал в Яссы, с еще одним рекомендательным письмом императрицы к Главнокомандующему.
29 марта 1790 года Валериан Зубов уехал из Петербурга и в середине апреля попал в ту же самую обстановку, в какой застал Потемкина полгода назад, когда впервые приехал в Яссы.
И дворец был тот же, и люди те же, только предмет страсти Григория Александровича в очередной раз переменился. Теперь это была двадцатитрехлетняя гречанка совершенно сказочной красоты, смотреть на которую собирались толпы народа и в Варшаве, и в Париже. Это была знаменитая София Витт, впоследствии графиня Потоцкая-Щенсны, женщина фантастической биографии. Жена польского генерала Иосифа Витта, София Клявона родилась в Константинополе, где была не то прачкой, не то невольницей. Ее купил польский посол в Турции Боскап Ляскоронский и, привезя в польские владения, перепродал И. Витту, бывшему тогда майором. Уже известный нам Тургенев писал о мадам Витт, что Потемкин «куртизанил с племянницами своими и урожденною гречанкой, бывшею прачкою в Константинополе, потом польской службы генерала Витта женою, потом купленною у Витта в жены себе графом Потоцким и, наконец, видевшею у ног своих обожателями своими: императора Иосифа, короля прусского, наследника Фредерика II (т. е. Фридриха II – Фридриха-Вильгельма III. – В. Б.), Вержена – первого министра во Франции в царствование короля-кузнеца Людовика XVI, шведского короля Густава (Густава III. – В. Б.); будучи в преклонных летах, графиня София Потоцкая была предметом даже императора Александра Павловича».
Потемкин предложил ей в подарок необычайно дорогую и красивую кашемировую шаль, но фанариотка отказалась от подарка, сказав, что такую дорогую шаль она принять не может.
Тогда Потемкин на следующем празднике устроил для двухсот приглашенных дам беспроигрышную лотерею, в которой разыгрывалось две сотни кашемировых шалей, и все, кто принимал в игре участие, получили по одному из выигрышей. Получила свою шаль и мадам Витт, но зато совесть ее была чиста, – она не разорила Светлейшего на дорогой подарок.
После мадам Витт настала очередь не менее очаровательной, но еще более молодой княжны Долгоруковой.
В день ее именин Потемкин, устроив еще один праздник, посадил княжну рядом с собой и велел подать к десерту хрустальные чаши, наполненные бриллиантами. Из этих чаш каждая дама могла зачерпнуть для себя ложку бриллиантов. Когда именинница удивилась такой роскоши, Потемкин ответил: «Ведь я праздную ваши именины, чему же вы удивляетесь?»
А когда вдруг оказалось, что у княжны нет подходящих бальных туфелек, которые обычно она выписывала из Парижа, Потемкин тотчас же послал туда нарочного, и тот, загоняя лошадей, скакал дни и ночи и все-таки доставил башмачки в срок. (А все дело было в том, что туфельки княжны уже вышли из моды, а ей нужны были моднейшие.)
Потемкин, превратив свою жизнь в беспрерывный праздник, все же успевал следить и за ходом военных действий, и за положением дел в Петербурге. Он знал о том, что партия Зубова пытается похоронить его «Греческий проект». Но, прекрасно осведомленный о всех интригах двора, знал и то, что именно теперь, – конечно же, по повелению Екатерины, – возле одиннадцатилетнего Константина появилось особенно много греков. И в ученье стали много времени уделять истории Греции и ее языку. Для бежавших от турок греков был в Петербурге открыт греческий Кадетский корпус, а в печати все сильнее звучала эллинская тема.
По всему было видно, что Екатерина решила восстановить православную империю Палеологов и соединить Второй Рим с Римом Третьим. «Греческий проект» Потемкина, несмотря на его кажущуюся фантастичность и нереальность, превращался в действительность и собирал вокруг себя все большее число православных патриотов не только в России, но и на Балканах, где миллионы единоверных славян уже более трехсот лет жили под турецким гнетом. Да и вокруг Светлейшего оказалось множество людей, которые понимали величие и судьбоносность его «Проекта» и готовы были пожертвовать жизнью ради претворения этого великого замысла в жизнь. И первым из них был Суворов.
В то время, когда Суворов одерживал одну победу за другой, не упуская из вида стратегическую цель войны – сокрушение Порты и освобождение Балкан, Потемкин все более превращался в законченного сластолюбца, чьи прихоти и капризы давно уже не знали предела.
Балы и праздники проходили у Потемкина два-три раза в неделю, а в те вечера, когда их не было, в интимных покоях Светлейшего появлялись новые соискательницы его ласк и бриллиантов.
Утомившись всем этим, пресытившись любовью, пирами, лестью и легкими победами, Потемкин сделался раздражительным сверх всякой меры, пребывал в беспрерывной меланхолии и ни в чем не находил покоя.
А меж тем война продолжалась. В конце августа – сентябре 1790 года молодой Черноморский флот под командованием Ф. Ф. Ушакова разбил неподалеку от острова Тендра большую турецкую эскадру.
В ноябре 1790 года русские войска осадили сильнейшую крепость Измаил, и Потемкин, поколебавшись, 25 ноября все же склонился к штурму. Суворов прибыл под Измаил 1 декабря. В пять часов утра 11 декабря начался штурм. В тот же день Измаил, имевший сорокатысячный гарнизон, 265 орудий, несокрушимые бастионы и первоклассные укрепления, был взят тридцатитысячной армией Суворова.
В штурме Измаила принимал участие и Валериан Зубов. Командуя отрядом, он атаковал турецкую батарею, пробился к Килийским воротам и штыковым ударом опрокинул противника.
И вновь Потемкин послал его в Петербург с извещением о победе, за что Зубов получил чин бригадира и орден Георгия 4-го класса.
Во время его пребывания в Петербурге узнали о серьезной размолвке между Потемкиным и Суворовым, случившейся в конце декабря, когда победитель Измаила приехал в Яссы. Кажется, Потемкин, вопреки обычаю, на сей раз ревновал к чужому успеху, но не дал повода к тому, чтобы это заметили другие. Он приказал выстроить для встречи победителя триумфальные ворота, украсить город и подготовить праздничный фейерверк и артиллерийский салют.
К заставе были высланы нарочные, а по дороге ко дворцу – махальщики, чтобы Светлейший знал о приезде, как только экипаж Суворова появится у въезда в город.
Однако Суворов въехал с другой стороны, и не в экипаже, а в поповской телеге – долгуше, крытой рогожей. Упряжь на лошади была веревочной, и на козлах сидел старик-кучер в овчинном, до пят, тулупе и войлочной молдаванской шляпе.
Потемкина известили, когда Суворов уже въезжал к нему во двор.
Переполошившийся Светлейший побежал встречать гостя. Крепко обняв его, Потемкин спросил:
– Чем же могу я, сердечно чтимый друг мой Александр Васильевич, наградить вас за ваши великие заслуги?
На что Суворов ответил:
– Кроме Бога и государыни, меня никто наградить не может.
Потемкин молча повернулся и пошел в зал.
Там Суворов вручил ему рапорт о взятии Измаила и добавил:
– Мужайтесь, князь. Не придворные наветы – ваш гений. Надобно идти вперед, на Стамбул. И тогда история помянет вечным признанием ваши труды.
Потемкин молчал.
Суворов, не прощаясь, повернулся и пошел во двор.
Больше он с Потемкиным никогда не виделся.
Тысяча и одна ночь князя Таврического и его смерть
Потемкин скоро доехал до Петербурга и был встречен с прежними почестями. Его поселили в Зимнем дворце, а Екатерина подарила Григорию Александровичу фельдмаршалский мундир, украшенный по шитью алмазами и драгоценными камнями стоимостью в 200 тысяч рублей, и еще дворец, ранее уже однажды принадлежавший ему, но проданный им в казну, названный по его титулу «Таврическим», и прилегающий ко дворцу большой парк.
И вот здесь, мешая хандру и меланхолию с деятельным участием в отделке дворца, Потемкин задумал учинить такой праздник, который затмил бы и его собственные самые пышные пиры и приемы.
Подготовка к празднику началась ранней весной. Десятки художников и декораторов работали в залах, готовя нечто дотоле невиданное. Множество молодых кавалеров и дам являлись во дворец на репетиции задуманных князем «живых картин». На площади перед дворцом были построены качели и карусели, рядами стояли лавки, забитые разными вещами – платками, шалями, юбками, кофтами, ботинками и сапогами, штанами и рубахами, шляпами и шапками, которые безвозмездно должны были раздавать простолюдинам, собравшимся на площади задолго до начала праздника.
Здесь же для них были поставлены и столы с напитками и яствами.
9 мая 1791 года три тысячи приглашенных господ и дам явились в Таврический дворец. Все они были одеты в маскарадные костюмы. Сам Светлейший был одет в алый кафтан и епанчу из черных кружев. На его шляпе было так много бриллиантов, что он, не вынеся их тяжести, отдал ее одному из адъютантов, и тот носил ее за Потемкиным весь праздник. На хорах большой залы стояло триста певцов и музыкантов.
Зала освещалась шестьюдесятью огромными люстрами и пятью тысячами разноцветных лампад, сделанных в виде лилий, роз, тюльпанов, гирляндами оплетавших колонны зала.
Анфилады покоев были обиты драгоценными штофными материями и обоями и украшены великолепными полотнами западноевропейских мастеров, мраморными статуями и вазами.
Особенно пышно были украшены комнаты, предназначенные для карточной игры Екатерины и Великой княгини Марии Федоровны. Стены здесь были обиты гобеленами, а на мраморных столах перед зеркалами рядами стояли диковинные вещи из золота, серебра и драгоценных камней.
Из большого зала гости могли пройти в зимний сад, площадь которого была в шесть раз больше императорского. Посетителей встречали цветущие и благоухающие померанцевые деревья, обвитые розами и жасмином, редчайшие экзотические деревья и кустарники, море ярчайших цветов и нежнейшая зелень лужаек, на которых стояли сверкающие стеклянные шары-аквариумы с плавающими внутри разноцветными рыбками. Гости видели и прекрасные мраморные статуи, и беседки, и фонтаны, а в центре сада стоял храм Екатерины, на жертвеннике которого перед ее статуей были выбиты слова: «Матери отечества и моей благодетельнице».
Не видимые глазу курильницы с благовониями издавали непередаваемые ароматы, перемешивающиеся с запахами цветов, а над головами гостей, в ветвях деревьев, неумолчно пели десятки соловьев, канареек, дроздов и иных певчих птиц.
Таврический сад под открытым небом представлял собою как бы продолжение зимнего сада – он был изукрашен столь же искусно, но на прудах стояли лодки и гондолы, а из множества беседок, построенных на искусственно насыпанных холмах, открывались изумительной красоты виды дворца и парка.
Екатерина приехала в семь часов вечера со всею императорскою фамилией, и как только она появилась, ее провели в большую залу, где начался балет, в котором участвовали двадцать четыре пары юных аристократов и аристократок самой очаровательной наружности. В их числе были внуки императрицы Александр и Константин. Потом был еще один спектакль, поставленный в боковой зале и продолжавшийся до темноты, чтоб на празднике поразить гостей световыми эффектами.
Когда и этот спектакль кончился, зажглась вся иллюминация, Екатерину повели по залам дворца, по зимнему саду и парку.
Только во дворце одновременно зажглось 140 тысяч лампад и 20 тысяч свечей, а в саду вспыхнуло великое множество разноцветных гирлянд, фонариков и огней.
Когда во дворце начался бал, в парк были впущены все, кто хотел. Народ веселился по-своему, по соседству с господами, но и он оказался сопричастным этому великому празднику.
Описывать застолье, по роскоши подобное тому, о чем уже было здесь сказано, едва ли имеет смысл. Во всяком случае, достоверно известно, что устройство праздника обошлось Светлейшему в полмиллиона рублей.
Когда Екатерина, вопреки обычаю пробывшая на празднике до утра, первой из всех оставила дворец, сердечно поблагодарив хозяина, Потемкин упал перед нею на колени и заплакал.
…Потом говорили, что Потемкин плакал оттого, что чувствовал приближение смерти.
* * *
После этого грандиозного праздника Потемкин пробыл в Петербурге еще два с лишним месяца.
23 июля, накануне отъезда, он отужинал в компании Зубова и других гостей, которых новый фаворит позвал на проводы Светлейшего. Ужин проходил в Царском Селе. Среди гостей был и банкир Екатерины барон Сутерленд. (Чуть позже читателю станет ясно, почему именно Сутерленда автор выделил среди прочих.)
24 июля 1791 года, простившись с Екатериной в шестом часу утра, Потемкин уехал из Царского Села в Галац, где оставленный им командующий армией, князь Н. В. Репнин, 31 июля подписал предварительные условия мира с Турцией.
Репнин намеренно не стал ждать Потемкина, чтобы оставить под протоколом не его, а свое имя. Потемкин узнал об этом в дороге и расстроился пуще прежнего.
1 августа он прибыл к армии, а через три дня произошло событие, еще более омрачившее Светлейшего. Не успел Потемкин приехать в Галац, как тут же скончался родной брат Великой княгини Марии Федоровны герцог Карл Вюртембергский – один из любимых его генералов.
На похоронах Потемкин был возле гроба и стоял при отпевании в церкви до конца.
По обыкновению, все расступились перед ним, когда отпевание кончилось, и князь первым вышел из церкви. Он был так удручен и задумчив, что, сойдя с паперти, вместо кареты направился к погребальному катафалку. Опомнившись, он тут же в страхе отступил, но твердо уверовал, что это не простая случайность, а предзнаменование.
В тот же вечер он почувствовал озноб и жар и слег в постель, но докторов к себе не допускал, пока ему не стало совсем плохо, и только тогда приказал везти себя в Яссы, где находились лучшие врачи его армии.
Там болезнь то немного отпускала его, то снова усиливалась. 27 сентября, за три дня до своего дня рождения, Потемкин причастился, ожидая скорую смерть, но судьбе было угодно ниспослать больному еще несколько мучительных дней. И даже в эти последние дни он категорически отказывался от каких-либо лекарств и только подолгу молился.
30 сентября ему исполнилось 52 года, а еще через пять дней он велел везти себя в новый город – Николаев, взяв с собою любимую племянницу, графиню Браницкую, и неизменного Попова. В дороге ему стало совсем плохо. В ночь на 6 октября 1791 года больного вынесли из кареты, постелили возле дороги, прямо в степи, ковер и положили под открытым небом с иконой Богородицы в руках.
Он умер так тихо, что, когда конвойный казак положил на глаза покойному медные пятаки, никто из сопровождавших Потемкина не поверил, что он мертв.
Графиня Браницкая, закричав, бросилась ему на грудь и старалась дыханием согреть его похолодевшие губы…
«Банкир Зюдерланд (Сутерленд), обедавший с князем Потемкиным в день отъезда, умер в Петербурге в тот же день, в тот же час, чувствуя такую же тоску, как князь Потемкин чувствовал, умирая среди степи, ехавши из Ясс в Николаев… как все утверждают ему был дан Зубовым медленно умерщвляющий яд», – писал всеведущий Александр Тургенев.
* * *
Смерть Потемкина произвела на Екатерину страшное впечатление. Узнав об этом, императрица писала Гримму: «Мой ученик, мой друг, можно сказать, мой идол, князь Потемкин-Таврический умер в Молдавии… Вы не можете представить, как я огорчена. Это был человек высокого ума, редкого разума и превосходного сердца; цели его всегда были направлены к великому. Он был человеколюбив, очень сведущ и крайне любезен. В голове его непрерывно возникали новые мысли; какой он был мастер острить, как умел сказать словцо кстати. В эту войну он выказал поразительные военные дарования: везде была ему удача; и на суше, и на море. Им никто не управлял, но сам он удивительно умел управлять другими. Одним словом, он был государственный человек: умел дать хороший совет, умел его и выполнить. Его привязанность и усердие ко мне доходили до страсти; он всегда сердился и бранил меня, если, по его мнению, дело было сделано не так, как следовало. С летами, благодаря опытности, он исправился от многих своих недостатков. Когда он приезжал сюда три месяца тому назад, я говорила генералу Зубову, что меня пугает эта перемена, и что в нем незаметно более прежних его недостатков, и вот, к несчастью, мои опасения оказались пророчеством. Но в нем были качества, встречающиеся крайне редко и отличающие его между всеми другими людьми: у него был смелый ум, смелая душа, смелое сердце. Благодаря этому, мы всегда понимали друг друга и не обращали внимания на тех, кто меньше нас смыслил. По моему мнению, Потемкин был великий человек, который не выполнил и половины того, что был в состоянии сделать».
Историк Евгений Карнович заметил не без оснований, что «как бы ни были велики заслуги Потемкина перед Россиею, но все же приходится сказать, что никто из обыкновенных смертных не обошелся ей так дорого, как великолепный князь Тавриды». Только за первые два года – с начала своего фавора до появления Завадского – Потемкин получил от императрицы 9 миллионов рублей и 37 тысяч душ.
Существует несколько версий того, во что обошлись России фавориты Екатерины. Однако, отбрасывая крайности разных исследователей, можно сойтись на том, что по нисходящей эти расходы в среднем выглядели примерно так:
1. Потемкин – 50 миллионов рублей.
2. Все братья Орловы – 17 миллионов.
3. Ланской – 7 260 тысяч.
4. Братья Зубовы – 3 500 тысяч.
5. Зорич – 1 420 тысяч.
6. Завадовский – 1 380 тысяч.
7. Васильчиков – 1 100 тысяч.
8. Корсаков – 920 тысяч.
9. Мамонов – 880 тысяч.
10. Ермолов – 550 тысяч.
Причем здесь не учитывались другие их доходы – с имений, с коммерческой деятельности, их должностные оклады и др. Здесь приведены лишь траты императрицы на десять наиболее дорогих галантов, хотя, как мы знаем, их было гораздо больше.
И хотя заслуги Потемкина не идут ни в какое сравнение с заслугами других фаворитов Екатерины, все же и оценка их императрицей тоже не идет ни в какое сравнение ни с одним из ее «постельных фельдмаршалов».
* * *
Врачи, произведя вскрытие, обнаружили необычайно сильное разлитие желчи, которая обволокла многие органы, успев в некоторых местах даже затвердеть. Они приписали это тому, что князь отказался от лечения, не принимал лекарств и делал все, чтобы погубить себя: ел во время болезни жирную пищу, обливался холодной водой и, вместо того чтобы спокойно лежать в постели, переезжал из одного места в другое, по тряским дорогам, при жаре и сквозняках.
Забальзамировав Потемкина, его похоронили 23 ноября 1791 года в Херсоне, в подпольном склепе церкви Святой Екатерины, не предавая земле, а оставив гроб на пьедестале.
Так он и стоял под богато украшенной драгоценными камнями иконой Спасителя, которой Екатерина II благословила его в 1774 году на Новороссийское генерал-губернаторство, но через два года племянник покойного граф Александр Самойлов, ссылаясь на права наследника, отобрал икону, а после смерти Екатерины по приказу Павла гроб опустили в землю в том же склепе, где он и стоял, а вход в склеп замуровали кирпичами.
По его же приказу снесли и памятник Потемкину, поставленный указом Екатерины, однако же ненадолго, – как только на престоле оказался Александр, памятник вновь был воздвигнут, причем сильнее и громче других ратовал за его восстановление граф Александр Самойлов.
Юность великих князей. Гатчина и Павловск
После смерти Потемкина влияние Зубова при дворе усилилось, как никогда ранее, и он стал, безусловно, первым вельможей Империи.
Этому способствовало прежде всего то, что он начал претендовать на особую роль в семье Екатерины, разделяя ее недоброжелательство к Павлу и его жене и всячески подыгрывая в сугубых ее симпатиях к любимцу Александру.
А как раз в это время Александр из ребенка превращался в юношу, и Екатерина уделяла массу времени и сил для того, чтобы сделать из старшего внука достойного наследника российского престола.
Екатерина сама написала для Александра и Константина несколько книг и подобрала прекрасных учителей и педагогов, способных дать Великим князьям разнообразные научные познания, а также воспитать в них нравственность и чувство гражданской ответственности.
Первую скрипку в этом превосходном ансамбле, несомненно, играл высокоталантливый и широко образованный республиканец и либерал, швейцарский гражданин Фредерик Сезар де Лагарп. Он оказал исключительно сильное влияние на Александра, воспитывая в нем чувства справедливости, вольнолюбия и братской любви к ближним, и сохранил это влияние на протяжении всей своей жизни.
В 1814 году в Париже император Александр I сказал: «Никто более Лагарпа не имел влияния на мой образ мыслей. Не было бы Лагарпа, не было бы Александра». Юный Александр отвечал Лагарпу искренностью и доверием. Вот как оценивал самого себя Александр в письме к Лагарпу, когда исполнилось ему тринадцать лет:
«Вместо того, чтобы себя поощрять и удваивать старания воспользоваться остающимися мне годами учения, я день ото дня становлюсь все более нерадив и с каждым днем все более приближаюсь ко мне подобным, которые безумно считают себя совершенствами потому только, что они принцы. Полный самолюбия и лишенный соревнования, я чрезвычайно нечувствителен ко всему, что не задевает прямо самолюбия. Эгоист, лишь бы мне ни в чем не было недостатка, мне мало дела до других. Тщеславен, мне бы хотелось выказываться и блистать на счет ближнего… Тринадцати лет я такой же ребенок, как в восемь, и чем более я расту, тем более приближаюсь к нулю. Что из меня будет? Ничего…».
А ведь это писал тринадцатилетний мальчик, причем на прекрасном французском языке.
А вот какое письмо сочинил в это же время двенадцатилетний Константин:
«В двенадцать лет я ничего не знаю… Быть грубым, невежливым, дерзким – вот к чему я стремлюсь. Знание мое и прилежание достойны армейского барабанщика. Словом, из меня ничего не выйдет во всю мою жизнь».
Вторым человеком, весьма благотворно влиявшим на Александра и Константина, был их священнослужитель и духовник Андрей Афанасьевич Самборский, выходец из бедного сельского украинского духовенства. А кроме того, Великих князей окружали и другие прекрасно образованные люди: Иван Муравьев-Апостол, преподававший английский язык, его родственник – Михаил Муравьев, занимавшийся этикой, психологией, русской словесностью и отечественной историей. Академики Людвиг Крафт и Петр Симон Паллас преподавали физику, математику, естествознание и географию. Начала военных наук мальчики узнавали от полковника Карла Массона, а отец Андрей Самборский, кроме всего прочего, знакомил их с практикой сельского хозяйства: возле Царского Села, на мызе Белозерка, у него было собственное имение, которое он вел по последнему слову агрономической науки, и, часто гуляя там с детьми, заводил их в избы крестьян, на огороды, пасеки, в сады, на нивы, на скотные дворы, на луга и пашни.
Впоследствии Самборский, вспоминая об этих прогулках, писал Александру I: «Ваше Величество могли весьма ясно познать мою прямую систему религии евангельской и религии сельской, из которых происходят благоденствие и трудолюбие, которые суть твердое основание народного благоденствия».
К пятнадцати годам Александр превратился в крепкого, сильного, стройного и красивого юношу. Он был со всеми ласков, приветлив, очарователен в обращении с девицами и дамами, ровен и дружествен в отношениях с мужчинами. Вместе с тем, в отношениях с людьми была ему свойственна осторожность, скрытность и какая-то двойственность, выработавшаяся в нем из-за вечного антагонизма между Павлом и Екатериной. А ведь жизнь юноши проходила при дворах – и у родителей, и у бабушки.
* * *
А теперь – о цесаревиче Павле, Марии Федоровне и их сыновьях.
Павел и Мария Федоровна имели два собственных двора: у цесаревича это была Гатчина, расположенная в 24 верстах от Царского Села, у Великой княгини – Павловск, находившийся совсем рядом с Царским Селом.
Кроме того, Павел и его жена имели дворец на Каменном острове в Петербурге и отведенные им апартаменты в Зимнем и Царскосельском дворцах. Августейшие дети не были обделены императрицей ни деньгами, ни подобающим их сану почетом.
В Павловске тихо шелестели шелка и бархат нарядов придворных дам и строго чернели сюртуки лейб-медиков Марии Федоровны, которая с 1777 года пребывала в состоянии перманентной беременности: она родила за двадцать один год десять детей – четырех мальчиков и шесть девочек, и в связи с этим акушеры, гинекологи, педиатры, терапевты были в Павловске почти в таком же числе, что и камер-юнкеры и камергеры.
Гатчина же была маленьким военным лагерем. Еще ребенком Павел получил из рук матери звание генерал-адмирала Российского флота, и тогда же в Гатчине был расквартирован морской батальон, а вслед за тем на глади гатчинских прудов забелели паруса небольших кораблей и заплескались весла галер. Начались учебные плаванья и особенно милые сердцу цесаревича «морские» парады. Прошло еще несколько лет, и Павел стал шефом Кирасирского полка – отборной тяжелой кавалерии. Из-за этого в Гатчине появился эскадрон кирасир, а со временем в резиденции цесаревича разместилась целая армия, состоящая из шести батальонов пехоты, егерской роты, четырех полков кавалерии – драгунского, гусарского, казачьего и жандармского, а также из двух рот артиллерии – пешей и конной.
Правда, вся эта игрушечная армия состояла из 2 000 солдат и матросов, 250 унтер-офицеров и 130 обер– и штаб-офицеров, что равнялось полному штату одного полка настоящей армии.
Главным занятием гатчинского войска, одетого в темно-зеленые мундиры прусского образца и живущего по уставам армии Фридриха II, были строевые учения, смотры, разводы и парады. И попадая в Гатчину, сильно напоминавшую Берлин будками, шлагбаумами, кордегардиями и гауптвахтами, Александр и Константин из Великих князей превращались во взводных командиров в разных полках армии своего отца.
(Забегая чуть вперед, скажем, что с 1795 года братья должны были приезжать в Гатчину по четыре раза в неделю к шести утра и находиться там до часа дня, занимаясь экзерцицией, учениями и маневрами. Проходя артиллерийскую практику, Александр оглох на левое ухо, и поправить его глухоту не смогли уже до конца дней.)
Следует признать, что и Александр, и Константин, очень боясь отцовского гнева за нерасторопность или нечеткость в собственных действиях, все же полюбили общий строй Гатчины, ее дух, ее камуфляж. До конца дней они пронесли неувядающую любовь к блеску парадов и показательных маневров, к четким механическим передвижениям многотысячных колонн, которые по единому мановению руки мгновенно перестраиваются в каре, меняют фронт, образуя причудливые квадраты и линии.
Так, меж Царским Селом и Гатчиной, завершилось детство Александра и Константина.
Брачные планы Екатерины в отношении Александра, его свадьба с принцессой Луизой-Августой Баден-Баденской и начало семейной жизни
Когда Александру пошел пятнадцатый год, Екатерина решила, что пора подумать о его женитьбе. Поисками невесты занялся посланник при германских дворах, граф Николай Петрович Румянцев, сын фельдмаршала П. А. Румянцева-Задунайского, будущий министр иностранных дел, основатель известного московского музея и библиотеки, носивших его имя.
Екатерина обратила внимание Румянцева на внучек маркграфа Баденского Карла-Фридриха – четырех дочерей наследного баденского принца Карла-Людвига и его высоконравственной и добродетельной супруги Амалии. Их дочери славились хорошим нравом, красотой и здоровьем.
Румянцеву следовало особенно внимательно присмотреться к двум старшим принцессам – одиннадцатилетней Луизе-Августе и девятилетней Фридерике-Доротее. В случае, если, по мнению Румянцева, девочки окажутся достойными Российского императорского дома, следовало, собрав все необходимые сведения, добиться согласия родителей на поездку сестер в Петербург.
Румянцев сразу же очаровался старшей – Луизой-Августой. Сопровождавший его в поездке в Карлсруэ граф Евграф Комаровский писал о ней: «Я ничего не видывал прелестнее и воздушнее ее талии, ловкости и приятности в обращении».
Юному Александру после прибытия сестер 31 октября 1792 года в Петербург оставалось лишь остановить свой выбор на одной из них. И его избранницей оказалась старшая – Луиза, а младшая, пробыв в Петербурге до августа 1793 года, уехала обратно в Карлсруэ.
Воспитатель Александра А. Я. Протасов записал в своем дневнике: «Александр Павлович обходился с принцессою старшею весьма стыдливо, но приметна была в нем большая тревога, и с того дня, полагаю я, начались первые его к ней чувства». Следует иметь в виду, что Александру еще не было пятнадцати лет, и его смущение было вполне естественным.
В том же дневнике Протасова, в записи от 15 ноября 1793 года, находим мы и описание невесты Александра: «Черты лица ее очень хороши и соразмерны ее летам… Физиономия пресчастливая, она имеет величественную приятность, рост большой, все ее движения и привычки имеют нечто особо привлекательное… В ней виден разум, скромность и пристойность во всем ее поведении, доброта души ее написана в глазах, равно – и честность. Все ее движения показывают великую осторожность и благонравие: она настолько умна, что нашлась со всеми, ибо всех женщин, которые ей представлялись, умела обласкать или, лучше сказать, всех, обоего пола людей, ее видевших, к себе привлекла».
После того как выбор был сделан, события пошли обычным порядком: невесту образовали в православии, крестили по греческому образцу, нарекли Елизаветой Алексеевной, обручили с Александром Павловичем, а затем в конце сентября 1793 года сыграли свадьбу – девятую в доме Романовых, когда брак заключился с представителем одной из немецких династий.
Молодожены окунулись в жизнь, наполненную праздниками и нескончаемыми удовольствиями. У них появился свой двор, свой штат, а вместе с этим начались сплетни, интриги и борьба сразу же образовавшихся при молодом дворе враждебных друг другу партий.
Не обошлось и без скандалов, самым громким из которых стало настойчивое ухаживание за Елизаветой Алексеевной Платона Зубова.
Влюбившись в Елизавету и не встретив ответного чувства, Платон Александрович впал в меланхолию и по целым дням валялся на диване, заставляя играть для себя на флейте. Сладострастные и печальные звуки ввергали его в грусть и томление.
15 ноября 1795 года Александр писал своему другу, графу В. П. Кочубею: «Вот уже год и несколько месяцев граф Зубов влюблен в мою жену. Посудите, в каком затруднительном положении находится моя жена, которая воистину ведет себя, как ангел».
А она и действительно вела себя, как ангел, однажды написав своей матери об Александре: «Счастье моей жизни в его руках, если он перестанет меня любить, то я буду несчастной навсегда. Я перенесу все, все, но только не это».
Однако, если Александр не сразу разобрался в происходившем, то его бабушка мгновенно все оценила и решительно положила конец ухаживаниям Зубова за Елизаветой. Платон быстро пришел в себя, забыл о своих чувствах к пятнадцатилетней великой княгине и снова полюбил шестидесятичетырехлетнюю императрицу.
Свадьба многое переменила в жизни Александра. Он перестал учиться, признавая из учителей лишь Лагарпа, который продолжал сохранять свое влияние на него. Из прежних привязанностей у Александра осталась лишь одна – к плацпарадам, разводам, фрунту.
Протасов писал о первых месяцах после женитьбы своего воспитанника: «Он прилепился к детским мелочам, а паче военным, подражая брату, шалил непрестанно с прислужниками в своем кабинете весьма непристойно. Причина сему – ранняя женитьба и что уверили его высочество, что можно уже располагать самому собою…».
Очарованная своим старшим внуком, не замечая его недостатков, Екатерина твердо решила сделать Александра наследником престола. Причиной тому были не столько достоинства Александра, сколько ее нелюбовь к сыну Павлу.
Еще в 1780 году, после одной из бесед с сыном, Екатерина заметила: «Вижу, в какие руки попадет империя после моей смерти. Из нас сделают провинцию, зависящую от Пруссии. Жаль, если бы моя смерть, подобно смерти императрицы Елизаветы, сопровождалась изменением всей системы русской политики».
С тех пор мысль о лишении Павла права наследования престола не оставляла Екатерину, причем все чаще она стала задумываться над тем, чтобы еще при своей жизни объявить цесаревичем Александра.
14 августа 1792 года Екатерина писала Гримму: «Сперва мы женим Александра, а там со временем и коронуем его».
Активные действия Екатерина начала через три недели после свадьбы. 18 октября 1793 года она привлекла к делу Лагарпа, желая, чтобы он должным образом повлиял на Александра, но так как императрица говорила обиняками, швейцарец сделал вид, что не понял, о чем идет речь. Он не желал быть орудием в руках императрицы и вместе с ней манипулировать судьбами ее сына и внука.
Последствия не заставили себя ждать: в январе 1795 года Лагарп был отстранен от службы и, получив чин полковника, 10 000 рублей на дорогу и пожизненную ежегодную пенсию в 2000 рублей, весной уехал из России.
Перед отъездом он открыл секрет Александру и убеждал его отказаться от трона, во-первых, потому, что это безнравственно, и, во-вторых, потому, что Павел мечтает о короне, а Александр желает одного – избавиться от власти и жить честным человеком.
21 февраля 1796 года Александр подтвердил свое намерение в письме к Лагарпу. Он писал, что не изменит решения отказаться от своего звания, ибо «оно с каждым днем становится для меня все более невыносимым по всему тому, что делается вокруг меня. Непостижимо, что происходит: все грабят, почти не встречаешь честного человека, это ужасно»… И заканчивал он это письмо так: «Я же, хотя и военный, жажду мира и спокойствия и охотно уступлю свое звание за ферму подле вашей или по крайней мере в окрестностях. Жена разделяет мои чувства, и я в восхищении, что она держится моих правил».
Эти же намерения – отказаться от своего сана и уйти из дворца, сменив его на сельскую хижину, девятнадцатилетний Александр поверял не только Лагарпу, но и своим друзьям – Виктору Павловичу Кочубею и князю Адаму Чарторыжскому, с которым особенно сблизился после отъезда Лагарпа.
Встречаясь с князем Адамом, Александр утверждал, что наследование престола – нелепость и несправедливость, ибо верховную власть народ должен вручать самому способному из своих сыновей, а не тому, кого поставил над обществом слепой случай рождения.
Когда же Александр узнал, что Екатерина не оставляет надежд предоставить престол ему, минуя его отца, он заявил, что сумеет уклониться от такой несправедливости, даже если ему и Елизавете Алексеевне придется спасаться в Америке, где он надеялся стать свободным и счастливым.
Как видим, Александр с юности определенно не хотел наследовать престол и на протяжении всей дальнейшей жизни неоднократно предлагал корону то Константину, то Николаю, а Платон Зубов, всячески пытавшийся вредить Павлу во мнении Екатерины, более прочих поддерживал императрицу в намерении венчать на царство Александра в обход Павла.
Такая позиция Зубова объяснялась прежде всего тем, что он опасался прихода к власти Павла, ибо ничего хорошего ему лично это не сулило, и кандидатура Александра для Зубова была намного предпочтительней.
Женитьба великого князя Константина Павловича на принцессе Юлиане Саксен-Кобургской
Женив Александра, любвеобильная бабушка решила осчастливить браком и недоросля Константина, проводившего досуг в нелепейших забавах: то он ловил крысу и, почти удавив ее, забивал полудохлую в ствол небольшой пушки, а потом стрелял в кого угодно; то ловил в окрестностях Царского Села молодых баб или девок и приставал к ним, а если не получал желаемого, кусал или щипал их.
Екатерина решила покончить со всем этим, подобрав ему подходящую жену.
Одну из первых невест подыскал для Константина граф Андрей Кириллович Разумовский, русский посланник в Вене. Незадолго перед тем был он посланником в Неаполе и стал там одним из любовников крайне развратной и жестокой королевы Каролины-Марии. Желая отплатить за старую любовь, Разумовский стал сватать одну из дочерей Каролины за Константина, но этому решительно воспрепятствовала Екатерина. Ее политические симпатии были не на стороне Бурбонов, к дому которых принадлежал король Неаполя, а к родственным ей немецким владетельным домам.
Десять невест одна за другой приезжали в Петербург, но никто не удовлетворил вкусов и запросов Екатерины, хотя Константин двух-трех из них готов был облагодетельствовать. Несостоявшиеся невесты, получив богатые подарки, покидали Северную Пальмиру, пока не появилась одиннадцатая претендентка, на которой Константин и остановил свой выбор. Это была младшая из трех Саксен-Кобургских принцесс, пятнадцатилетняя Юлиана-Генриетта-Ульрика – маленькая брюнетка, находчивая и умная, с чувством собственного достоинства и покладистым характером.
24 октября 1795 года Константин сделал предложение матери невесты, а на следующий день состоялась помолвка. 7 ноября герцогиня и две ее дочери уехали из Петербурга, буквально осыпанные дождем бриллиантов и получившие еще 160 000 рублей.
По отъезде матери и сестер Юлиану передали под надзор остзейской баронессы Шарлотты Карловны Ливен, к интересной личности которой мы еще вернемся, и она стала жить с сестрами Александра и Константина, обучаясь русскому языку и основам православия. 2 февраля принцесса приняла православие и стала называться Анной Федоровной. 3 февраля 1796 года состоялось обручение ее с Константином, а 15 февраля – венчание: в 10-й раз дом Романовых принимал в свою семью еще одну немецкую принцессу. Около 9000 солдат и офицеров выстроились на Дворцовой площади и на прилегающих к ней улицах, услаждая взор жениха и тестя невесты – Павла Петровича.
При венчании над головой жениха венец держал Иван Иванович Шувалов, а над невестой – Платон Зубов.
Молодым был отведен Мраморный дворец, вокруг которого две недели продолжалось народное гулянье.
В штат нового молодого двора вошло шестнадцать придворных во главе с гофмаршалом князем Борисом Голицыным, появились новые люди, новые партии и новые интриги…
Смерть Екатерины Великой
Утром 6 ноября, без четверти десять, от третьего апоплексического удара умерла Екатерина Великая.
…А в ночь на 5 ноября, когда императрица была еще жива, Павлу Петровичу, спавшему в Гатчине, приснился чудной сон: ему казалось, что некая неведомая сила подымает его и возносит к небу, заставляя парить над облаками. Это повторялось несколько раз, и, когда Павел в очередной раз проснулся, как бы вернувшись на землю, он увидел, что и Мария Федоровна тоже не спит. Павел спросил жену, почему она бодрствует, и Мария Федорова ответила, что всю ночь ее не оставляет сильная тревога.
За обедом он рассказал о своем сне ближайшим придворным, а вскоре в Гатчину один за другим примчались несколько курьеров из Петербурга с одной и той же вестью – государыня при смерти.
Первым прискакал Николай Зубов, посланный к Павлу Платоном. Фаворит очень боялся грядущего царствования и решил еще до кончины своей повелительницы навести мосты между Петербургом и Гатчиной, рассчитывая на милость нового императора и забвение былого неудовольствия.
Павел, увидев Николая Зубова, решил, что тот прибыл, чтобы арестовать его, но, узнав об истинной причине появления его в Гатчине, оказался близким к обмороку.
Не медля ни минуты, Павел помчался в Петербург. За ним ехал длинный хвост возков, карет и открытых экипажей.
В девятом часу вечера 5 ноября Павел и Мария Федоровна прибыли в Зимний дворец, перед которым стояли тысячи петербуржцев.
Александр и Константин встретили отца в гатчинских мундирах и вместе с ним и матерью прошли в опочивальню Екатерины. Они застали больную в беспамятстве и из беседы с врачами поняли, что часы императрицы сочтены.
Отдав первые распоряжения, Павел направился в кабинет все еще живой Екатерины и сам стал разбирать и запечатывать все находившиеся там бумаги, особенно усердно отыскивая те, которые касались престолонаследия.
Так, между опустевшим кабинетом императрицы и опочивальней, заполненной отчаявшимися врачами, провел Павел эту последнюю ночь в жизни своей матери.
И сам Павел, и Мария Федоровна, и их старшие дети за всю ночь не сомкнули глаз. Не спали и сотни придворных, дворцовых служителей, офицеров и генералов армии и гвардии, на глазах у которых нервный, возбужденный Павел то входил, то выходил из комнаты, где лежала умирающая Екатерина. Наконец послышался ужасный стон, разнесшийся по всему дворцу, – Екатерина умерла. Тотчас же вышел доктор Роджерсон и сказал:
– Все кончено!
Павел Первый. Начало «Великих перемен»
7 ноября с утра две сотни полицейских начали срывать с голов круглые шляпы, а фраки рвать в клочья. Одновременно все парадные двери стали перекрашивать в черно-белую шахматную клетку.
«В продолжение восьми часов царствования вступившего на всероссийский самодержавный трон весь устроенный в государстве порядок правления, судопроизводства, – одним словом, все пружины государственной машины были вывернуты, столкнуты из своих мест, все опрокинуто вверх дном и все оставлено и оставалось в сем исковерканном положении четыре года», – вспоминал А. М. Тургенев, сопровождавший Павла в его поездке по Петербургу.
Город присмирел. Страх усилился еще более после того, как 10 ноября в город церемониальным маршем, под визг флейт и грохот барабанов, гусиным прусским шагом вошли гатчинские войска. Они скорее напоминали иностранный оккупационный корпус, чем часть российских вооруженных сил. Гатчинцы немедленно были рассредоточены по гвардейским полкам, чтобы стать экзерцицмейстерами, сиречь профессорами шагистики и фрунта, а также глазами и ушами нового государя.
В несколько дней Петербург, Москва, а затем и губернские города России неузнаваемо преобразились. Всюду появились черно-желтые полосатые будки, шлагбаумы, пуританская строгость в партикулярной одежде; запрещалось носить фраки, круглые шляпы и якобинские сапоги с отворотами. Для всех офицеров стало обязательным ношение мундира по всей форме во всякое время суток, при всех обстоятельствах. Любой из партикулярных граждан – будь то мужчина, женщина или ребенок – при встрече с императором обязаны были стать во фрунт, а затем снять шляпу и кланяться. Равным образом это относилось и к тем, кто ехал в возках или каретах, – они обязаны были, выйдя из экипажа, поклониться императору. Нерасторопность и невнимательность наказывалась арестом и препровождением на гауптвахту.
Семья нового императора
Императрица Мария Федоровна оказалась чрезвычайно плодовитой и выполнила две королевские нормы, а таковой в европейских августейших домах той поры считалось рождение пятерых детей. В семье Павла еще при жизни Екатерины появились на свет трое мальчиков и шесть девочек, а еще через год и два месяца Мария Федоровна родила последнего сына – Михаила.
Хронологически Мария Федоровна укрепляла династию в такие сроки: 12 декабря 1777 года родился Александр, 27 апреля 1779 года – Константин, 29 июля 1783 года на свет появилась старшая дочь – Александра, затем последовательно еще пять девочек: 13 декабря 1784 года – Елена, 4 февраля 1786 года – Мария, 10 мая 1788 года – Екатерина, 11 июля 1792 года – Ольга и 7 января 1795 года – Анна. После них родились мальчики: Николай – 25 июля 1796 года – и Михаил – 28 января 1798 года.
Из всех детей только Ольга скончалась на третьем году жизни, остальные достигли брачного возраста. Александра, вышедшая замуж за австрийского эрцгерцога Иосифа, умерла в семнадцать лет, а королева Нидерландов, жена Вильгельма II – Анна – скончалась в семьдесят. Все дети Марии Федоровны и Павла сочетались браком с отпрысками германских владетельных домов.
О некоторых браках мы уже знаем, перечислим остальные. В 1799 году Елена Павловна была выдана за герцога Мекленбург-Шверинского Фридриха-Людвига, а Александра Павловна вышла замуж за австрийского эрцгерцога Иосифа из императорской династии Габсбургов.
Мария Павловна в 1804 году стала женой Великого герцога Саксен-Веймарского Карла-Фридриха; с королевской семьей Вюртемберга породнились в разное время Екатерина Павловна и Михаил Павлович. Впоследствии их вюртембергские родственники стали играть важную роль при дворе Александра I и Николая I. Добавим, что Екатерина Павловна в результате своего второго брака стала королевой Вюртемберга – будучи вдовой принца Гольштейн-Ольденбургского Георга-Петера, она в 1816 году вышла замуж за короля Фридриха-Вильгельма. Все это доводится до сведения читателя потому, что в дальнейшем невозможно будет разобраться в семейных перипетиях дома Романовых, если не знать генеалогической основы их взаимоотношений с другими правившими в Европе династиями. Достаточно сказать, что впоследствии герцоги Ольденбургские были приравнены к Романовым и с 1845 года носили титул «Императорских Высочеств». Упомянем, что Великий князь Николай Павлович (будущий император Николай I) был женат на дочери прусского короля Фридриха-Вильгельма III Фридерике-Луизе-Шарлотте-Вильгельмине – в православном крещении Александре Федоровне.
Дальше мы еще не раз встретимся с детьми Павла, его зятьями и невестками – действующими лицами этой книги.
Шарлотта Карловна Ливен
Нельзя писать о семье Павла и Марии Федоровны, а тем более о воспитании их детей, не рассказав о замечательной женщине, которая часто заменяла детям их родителей. Речь пойдет о несправедливо забытой Шарлотте Карловне Ливен, единственной в русской истории женщине, заслужившей своими собственными трудами графский и княжеский титулы. Она-то и возглавляла на протяжении чуть ли не полувека воспитание Великих князей и княжон в доме Павла, а затем и Николая I.
В описываемое время и мальчики, и девочки до семи лет находились под присмотром женщин, которыми и руководила Шарлотта Карловна. Затем мальчики, становясь отроками, переходили в мужские руки и пребывали в «чину учимых» до пятнадцати лет, после чего считались уже юношами, которых готовили к военной и дворцовой карьере и грядущей женитьбе.
Девочки же поступали к Шарлотте Карловне с младенчества, и она выпускала их из своих рук, только отправляя под венец. А потом она же воспитывала их детей, бессменно служа на этом поприще до самой своей смерти и превратившись в доброго ангела дома Романовых.
Шарлотта Карловна в девичестве носила фамилию и титул баронессы Гаугребен, а выйдя замуж за барона Ливена, сохраняла титул и в замужестве. Она относилась к числу небогатых остзейских дворянок и появилась при дворе не из-за богатства и связей, а потому что была прекрасной матерью, отличалась безукоризненной нравственностью, глубоким умом, врожденной добротой, прямодушием и обостренным чувством собственного достоинства. Оказавшись при дворе, баронесса вскоре стала любимицей Екатерины, и та доверила ей воспитание своих внуков и внучек.
Успехи девочек были столь впечатляющи, а старание их старшей воспитательницы столь очевидно, что Шарлотта Карловна в 1794 году была пожалована в статс-дамы, а Павел, по восшествии на престол, наградил ее орденом Екатерины І-го класса, подарил ей 1500 душ крепостных и возвел в графское достоинство.
Таким образом, Шарлотта Карловна была одной из немногих близких к покойной императрице придворных, сохранивших свое положение и при Павле. Кроме нее, Павел оставил при дворе Платона Зубова, Остермана, Безбородко, немедленно отказав от двора всем своим недругам и заменив их испытанными друзьями из своего гатчинского окружения.
Алексей Андреевич Аракчеев
Павел осознанно противопоставил новых сановников вельможам екатерининского времени, особо выделив одного из своих гатчинских любимцев – Алексея Андреевича Аракчеева. В день коронации Павел пожаловал ему титул барона с девизом «Без лести предан». Так как Аракчеев займет важное место в истории России на протяжении трех десятилетий, имеет смысл познакомиться с ним поближе. В год вступления Павла на престол ему было двадцать семь лет. Он происходил из бедной дворянской семьи. Его отцом был отставной поручик гвардии, владевший двумя десятками душ в Бежецком уезде Тверской губернии. Грамоте молодого Аракчеева за 24 пуда зерна в год учил сельский дьячок. Мальчик был смышлен, упорен, педантичен, строг к себе и, обучившись чтению, письму и четырем правилам арифметики, серьезно занялся самообразованием и в тринадцать лет успешно сдал экзамены в Петербургский артиллерийский и инженерный кадетский корпус.
Еще более развив силу воли, серьезность и трудолюбие, Аракчеев уже в пятнадцать лет стал помогать преподавателям корпуса в обучении отстающих кадетов.
По окончании корпуса Аракчеев был оставлен преподавателем математики и артиллерии, а потом рекомендован в артиллерийскую роту в Гатчину и уже через месяц за служебное рвение, дисциплинированность, аккуратность и отличное знание дела стал обедать за одним столом с Павлом. Вскоре он стал и гатчинским военным губернатором, превратив войско цесаревича в безукоризненно отлаженный механизм.
В июне 1796 года по особому ходатайству Павла Екатерина произвела Аракчеева в полковники.
Став императором, Павел дал Аракчееву титул барона с девизом «Без лести предан», чин генерал-майора и пост Военного губернатора Санкт-Петербурга. Однако за бесчинства, доводившие офицеров гарнизона до самоубийства, Павел в 1798 и в 1799 годах дважды отправлял своего любимца в отставку. Первая отставка оказалась роковой для Павла, потому что после нее на пост Военного губернатора Санкт-Петербурга был назначен курляндский генерал-губернатор, генерал от кавалерии Петр Алексеевич фон дер Пален, сыгравший впоследствии главную роль в свержении императора.
Петр Алексеевич фон дер Пален
Остзейский барон фон дер Пален с пятнадцати лет служил в Конногвардейском полку, участвовал в двух русско-турецких войнах и во множестве боев проявил незаурядное мужество. Его смелость и невозмутимость, умение сохранять совершеннейшее спокойствие в критических ситуациях стали общепризнанными, а самого его считали одним из храбрейших генералов русской армии.
При его назначении на пост Военного губернатора Петербурга немалую роль сыграл расклад дворцовых сил, тот своеобразный пасьянс интриг и протекций, без которого не обходилось ни одно из новых назначений на высокую должность. Первую скрипку, как утверждали, играла при этом Шарлотта Карловна Ливен, с давних пор опекавшая свою добрую знакомую и дальнюю родственницу баронессу Юлиану Шёппинг, жену фон дер Палена.
Юлиана появилась при дворе в ранге статс-дамы в свите жены Александра Елизаветы Алексеевны. В то время барон фон дер Пален уже был ее мужем, и, таким образом, несокрушимый дамский альянс Шарлотты Карловны и Елизаветы Алексеевны проложил дорогу курляндскому губернатору в Петербург.
Всезнающий А. М. Тургенев, отлично разбиравшийся в матримониальных хитросплетениях высшего света, писал, что баронесса Шёппинг была второй женой Палена. Что же касается его первой жены, то Тургенев сообщал следующее: «Урожденная Энгельгард, племянница князя Потемкина и наложница его, была выдана замуж за полусгнившего графа Павла Скавронского, с которым, якобы, прижила двух дочерей. На самом же деле – так, во всяком случае, считали почти все современники – девочки эти были дочерьми Потемкина. Старшая из них по повелению Павла, выдана была за князя Петра Ивановича Багратиона по возвращении его из Итальянского похода с Суворовым, а младшая – за графа Палена, с которым вскоре разошлась». То, что Пален разошелся с фактической дочерью Потемкина, не могло не импонировать Павлу, ненавидевшему Светлейшего даже после его смерти. Вторая же жена Палена – Юлиана Шёппинг – была креатурой Шарлотты Ливен.
Императорский произвол
Между тем общее положение дел в России становилось крайне напряженным. Живший в то время выдающийся русский литератор и историк Н. М. Карамзин писал, что «награда утратила свою прелесть, наказание – сопряженный с ним стыд», ибо достойные люди изгонялись из службы, а ничтожества столь же внезапно возвышались. Несправедливой раздачей чинов и наград, немотивированными разжалованиями и изгнаниями Павел озлобил против себя гвардию, генералитет и сановничество.
Павел покусился на права дворянского сословия в целом, торжественно дарованные в 1762 году его отцом в манифесте «О вольности дворянской» и подтвержденные в 1785 году Екатериной II «Грамотой на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства».
Павел презрел права, вольности и привилегии тех, кто должен был составлять его опору и силу. Он запретил губернские дворянские собрания, отменил право избрания дворянских заседателей в уездные и губернские собрания и тем нанес оскорбление своим чиновникам и офицерам, уже полтора десятилетия почитавшим себя вольными людьми, свободными от самодержавного произвола.
Павел унижал Сенат, никогда не бывал в нем, а его Общее собрание называл «овчим собранием», чем восстановил против себя и многих сенаторов, гордившихся тем, что были они членами Сената – Высокого и Правительствующего.
Не меньшим тираном и сумасбродом выглядел император и среди самых близких и родных ему людей. Александр и Константин боялись лишний раз попасться ему на глаза, а увидев отца, бледнели и трепетали. Даже тихая, добрая и ласковая невестка его, Елизавета Алексеевна, возненавидела тестя и мечтала о его свержении.
4 августа 1797 года она писала своей матери: «Я, как и многие, ручаюсь головой, что часть войск имеет что-то на уме или что они, по крайней мере, надеялись получить возможность, собравшись, что-либо устроить. О! Если бы кто-нибудь стоял во главе их! О, мама, в самом деле, он тиран!»
А за полтора месяца перед тем она же писала матери: «Правда, мама, этот человек мне противен, даже когда о нем только говорят… Представьте себе, мама, он велел однажды бить офицера, наблюдающего за припасами на императорской кухне, потому что вареная говядина за обедом была нехороша. Он приказал бить его у себя на глазах, и еще выбрал палку потолще… Вот образчик всяких мелких историй, происходящих ежедневно. Впрочем, ему безразлично, любят ли его, лишь бы его боялись. Он это сам сказал».
Таким образом, Шарлотта Ливен, единомышленная с нею Елизавета Алексеевна – жена наследника Российского престола, недавняя Луиза Баден-Баденская, сознательно стремились к тому, чтобы «кто-нибудь стоял во главе войск», готовых свергнуть тирана.
Но и император тоже не дремал.
Опасаясь революции, бунта, очередного дворцового переворота, Павел велел выстроить дворец-крепость, где он мог бы чувствовать себя в безопасности, и по недолгом размышлении поручил проект талантливому архитектору Василию Ивановичу Баженову, а строительство – итальянскому зодчему Винченце Бренна, назвав свою будущую резиденцию «Михайловским замком».
Семейные дела цесаревича
А теперь вернемся к семейным перипетиям Великого князя Александра Павловича и его молодой жены.
18 мая 1799 года Елизавета Алексеевна родила первую дочь – Марию. Однако девочка прожила всего год и два месяца и скончалась от воспаления мозга.
Историк Г. И. Чулков писал об отношениях Елизаветы Алексеевны и Александра в ту пору: «Но была одна красавица, которая осталась равнодушной к чарам Александра. Это была его собственная жена, прелестная Елизавета Алексеевна. Правда, будучи невестой, и она пленилась юным Великим князем, но ее романтическая мечта быстро сменилась чувством хотя и нежным, но вовсе не страстным и, главное, лишенным того любовного преклонения, без которого нет счастливого брака. Александр чувствовал это. Сердце его было уязвлено навсегда. Он чувствовал, что какой-нибудь Платон Зубов, ухаживания которого, конечно, оскорбляли юную принцессу, все-таки в ее глазах был более мужчина, чем Александр, ее собственный семнадцатилетний муж, склонный к отроческим забавам и не сознающий своей ответственности, как глава дома…»
Однако не имевшие никаких последствий ухаживания Платона Зубова остались в прежнем царствовании, а в новом рядом с Елизаветой Алексеевной возник более опасный соперник, совершенно неожиданный для Александра, – Адам Чарторыжский.
«Когда Александр заметил, что его друг Адам Чарторижский тоже влюблен в Елизавету, – писал Чулков, – он понял, что, сохранит или не сохранит свою супружескую верность его голубоглазая подруга, все равно этот изящный и страстный поляк в ее глазах будет рыцарем. Чарторижскому было тогда двадцать четыре года. У него было романтическое прошлое. Он был образован, писал стихи, успел пожить в Европе. Все это внушало юной Великой княгине не только любопытство… Рассказывали, что, когда у Елизаветы родилась девочка и ее показали Павлу, последний сказал статс-даме Ливен: „Сударыня, возможно ли, чтобы у мужа блондина и жены блондинки родился черненький младенец?“ На что статс-дама ответила весьма находчиво: „Государь! Бог всемогущ!“
Следует заметить, что Адам Чарторижский был брюнетом, а Александр и Елизавета, как вся их немецкая родня, – блондинами.
Как бы то ни было, но официальный историограф и биограф императоров Павла I, Александра I и Николая I профессор Н. К. Шильдер, прекрасно знавший множество материалов, но не имевший возможности называть вещи своими именами, писал, что после того как родилась великая княжна Мария Александровна, отношения императрицы Марии Федоровны и Великой княгини Елизаветы Алексеевны еще более обострились, а письма на имя Великой княгини велено было перлюстрировать. Легко было недоброжелателям Елизаветы Алексеевны, пользуясь этими обстоятельствами, возбудить в уме Павла подозрение против невестки и поселить путем клеветы раздор в семье.
12 августа 1799 года граф Ростопчин в дневнике словесных приказаний пишет: «Гофмейстера, князя Чарторижского послать министром к королю Сардинскому». 17 августа Ростопчин продолжает: «Отправить немедленно к его месту тайного советника Чарторижского».
23 августа 1799 года Чарторижский выехал из Петербурга в Италию отыскивать короля Сардинии, которого французы изгнали с континента. Чарторижский не мог уехать, не простившись с Александром. «Великий князь, – вспоминал Чарторижский, – выразил мне свое огорчение по поводу моего
отъезда. Он ближе узнал уже действительную жизнь, и она начала производить на него свое действие. Великий князь не мог совершенно противиться окружающим его примерам и так же искал развлечения в ухаживаниях за дамами, пользовавшимися наибольшим успехом в данную минуту».
Детство и юность великих княжон Александры Павловны и Елены Павловны до их замужества в октябре 1799 года
После рождения двоих сыновей – Александра и Константина, в семье Павла и Марии Федоровны появились на свет с интервалом в пятнадцать с половиной месяцев две дочери, Александра и Елена.
Великая княжна Александра Павловна родилась 29 июля 1783 года.
Через полмесяца после ее рождения Екатерина II писала барону Гримму: «Моя записная книжка на днях умножилась барышней, которую в честь ее старшего брата назвали Александрой. По правде сказать, – добавляла бабушка, – я несравненно больше люблю мальчиков, нежели девочек…»
Екатерина II, опасаясь, что Сашенька, находясь при матери, женщине нравственной и доброй, но сентиментальной и наивной, попадет под влияние типичной мелкой немецкой принцессы и с самого начала будет лишена того масштаба, какой необходим Великой княжне мировой державы, забрала девочку к себе, чтобы воспитать ее должным образом.
Для этого императрица вызвала в Санкт-Петербург из-под Риги графиню Шарлотту Карловну Ливен – овдовевшую генеральшу, образцовую мать шестерых детей, женщину умную, властную, откровенную, обладающую прекрасными педагогическими способностями. Графиня при встрече с императрицей проявила все эти качества и, несмотря на очень жесткую критику нравов, царивших при дворе, и, в частности, любовь Екатерины к роскоши, лести и фаворитизму, все же была оставлена воспитательницей Александры Павловны.
Ливен сразу же покорила и Марию Федоровну, убедившуюся в том, что она может быть спокойна за свою дочь, как и за других дочерей, если они появятся на свет.
Сорок лет графиня была старшей воспитательницей в семье Романовых и вырастила всех дочерей Павла, оказывая сильное влияние и на его сыновей, внучек и внуков.
Когда Сашеньке исполнилось полтора года, возле нее появилась сестра, названная, по настоянию императрицы-бабушки, Еленой. Вскоре стало ясно, что Екатерина II, как всегда, оказалась права – Великая княжна Елена Павловна была необыкновенно хороша, настоящая Елена Прекрасная.
Переписка Екатерины II с Гриммом позволяет восстановить некоторые моменты из жизни Александры, а затем и Елены.
«До шести лет, – пишет Екатерина Гримму в сентябре 1790 года, – она (Александра. – В. Б.) ничем не отличалась особенным, но года полтора тому назад вдруг сделала удивительные успехи: похорошела, выросла и приняла такую осанку, что кажется старше своих лет. Говорит на четырех языках, хорошо пишет и рисует, играет на клавесине, поет, танцует, учится без труда и выказывает большую кротость характера. Меня она любит более всех на свете…»
А в 1794 году, когда Александре пошел одиннадцатый год, начались переговоры о ее браке. Инициатором их был шведский граф Стенбок, приехавший осенью в Санкт-Петербург на свадьбу Александра с принцессой Баденской Луизой.
В это время регентом Швеции был двоюродный брат Екатерины II – герцог Карл Зюдерманландский. Он доводился дядей пятнадцатилетнему шведскому королю Густаву IV и был убежденным врагом России, ориентируясь на союз с революционной Франции.
В свою очередь, Екатерина II была убежденной противницей Швеции и всячески поддерживала шведских сторонников союза с Россией, которых было немало в этой стране. Один из них, барон Армфельт, организовал заговор против Карла Зюдерманландского, но заговор был раскрыт, а его глава, в конце концов, оказался в России.
В такой обстановке брачные переговоры вести дальше было невозможно. И все же они возобновились, ибо этого требовали высшие политические цели – нужно было улучшить отношения между двумя соседними государствами.
Екатерина II писала Гримму в апреле 1795 года об Александре Павловне: «Я могу смело сказать, что трудно найти равную ей по красоте, талантам и любезности, не говоря уже о приданом, которое для небогатой Швеции само по себе составляет предмет немаловажный. Кроме того, брак этот мог бы упрочить мир на долгие годы».
А что же представлял из себя потенциальный жених, Густав-Адольф IV? Все, знавшие его, говорили о короле, что он самовлюблен, чванлив и высокомерен. Он любил поклонение, восхищение своею персоной, совершенно не терпел даже малейшего противоречия.
Он родился 1 ноября 1778 года и таким образом был старше своей невесты на пять лет. Однако в Санкт-Петербурге о Густаве-Адольфе говорили лишь хорошее, и Александра Павловна – чистая тринадцатилетняя девочка, – охотно всему верила, а после того, как получила портрет жениха, искренне влюбилась в своего суженого и очень хотела ему понравиться.
А задача, которую ставила перед собою ее бабушка, была более практична: Екатерина II хотела во что бы то ни стало сделать Александру королевой Швеции.
Густав-Адольф IV был принят в столице России с необычайным почетом. Первые вельможи изо дня в день давали в его честь балы и приемы. В Зимнем дворце ночи напролет гремели оркестры и полыхали многосвечные люстры.
На 10 сентября по просьбе Густава, незадолго перед тем сделавшего предложение Александре Павловне, Екатерина назначила официальную помолвку.
Весь двор, сановники и генералы первых четырех классов, иностранные резиденты и семья императрицы собрались в Тронном зале, ожидая начала церемонии.
К ним вышла Екатерина в короне и мантии и села на трон, поставив рядом трепещущую и взволнованную невесту.
Время шло, но жених оставался в глубине дворцовых апартаментов и в зале не появлялся. Посланным к нему вельможам он заявил, что Александра Павловна должна перейти в протестантство, а иначе он отказывается от сватовства и свадьбы.
При этом известии Екатерина потеряла сознание и упала с трона – с нею приключился первый апоплексический удар, последствия которого вскоре свели ее в могилу.
Заболела и несчастная опозоренная невеста, впав в полуобморочное состояние.
Однако молодость и здоровье Александры взяли свое, она совершенно поправилась, повзрослела и по-прежнему была одной из лучших невест коронованной Европы, не знавшей отбоя от поклонников.
Не менее привлекательной росла и сестра Александры – Елена Павловна, о которой Екатерина II писала Гримму: «У нее необыкновенно правильные черты лица, она стройна, легка, ловка и грациозна от природы. Характер у нее очень живой и шаловливый, сердце доброе. Братья и сестры любят ее за веселый нрав».
Как и все дети августейшего семейства, Елена получила наилучшее, но из-за юного возраста не до конца доведенное образование под присмотром императрицы-бабушки и прекрасной воспитательницы – баронессы Ливен. И Великая княжна превратилась в одну из самых завидных невест в Европе.
Соответственно, такою же была и ее цена на рынке сиятельных невест, который издавна хорошо знал, сколько может стоить та или иная претендентка на тот или иной престол.
Свадьбы Елены и Александры и их предыстория
К совершеннолетию Елены Павловны для России возникла насущная необходимость повторить дипломатический маневр, какой совершил Петр I, выдав в апреле 1716 года свою племянницу-царевну Екатерину Ивановну за Мекленбургского герцога Карла-Леопольда. Петр I сделал это из-за того, что Мекленбургское герцогство лежало на берегу Балтийского моря, рядом со шведской Померанией, чье географическое положение было весьма удобным для ведения войны против шведов. Кроме того, Мекленбургский герцог Карл-Леопольд не ладил со своими дворянами и был заинтересован в опоре на такого сильного союзника, каким был русский царь.
В конце XVIII века императору Павлу еще раз пришлось вспомнить о Мекленбургском герцогстве, ибо вновь возникла необходимость привязать его к колеснице российской внешней политики. И он посчитал, что должно использовать «династический резерв», посватав Елену Павловну за Мекленбург-Шверинского герцога Фридриха-Людвига.
Было и еще одно обстоятельство, которое Павел имел в виду, отдавая предпочтение мекленбургской династии перед другими владетельными немецкими домами: герцоги, носящие титулы Мекленбург-Шверинских, или Мекленбург-Стрелицких, традиционно считались «русскими». И это не случайно. Представители Мекленбургской династии гордились тем, что сохраняют славянские корни, и считали себя единственным в Германии знатным родом, происходящим из старославянского княжеского дома племени бодричей.
Бодричи, или ободричи, или ободриты, были одним из крупнейших племен полабских славян, населявших земли между Эльбой (Лабой) и Одером (Одрой) – с запада на восток, а с юга на север – от Рудных гор до Балтийского моря.
Историческая область Мекленбург располагалась на северо-востоке Германии, на побережье Балтийского моря. Ее название производят от славянского имени основанного бодричами города Микилинбор. Князьями на этих землях были потомки князя бодричей Никлота, принявшие христианство. В 1348 году глава династии получил от императора Карла IV титул герцога и стал единственным немецким герцогом славянского происхождения.
Вернемся, однако, в конец XVIII века.
Переговоры о предстоящем сватовстве Мекленбург-Шверинского герцога Фридриха-Леопольда Павел поручил вести опытному старому дипломату, своему давнему доверенному Максиму Алопеусу. (Его настоящая фамилия была «Керимяки», что в переводе с финского означает «лисица». Один из его родственников, став пастором, латинизировал фамилию и стал Алопеусом, что по-латыни также означало «лисица».) Максим Алопеус полностью соответствовал своему прозвищу. В 1783 году он по протекции цесаревича Павла был назначен российским министром-резидентом при дворе епископа Любекского, но его влияние на Австрию, Пруссию и многие другие немецкие государства было исключительно сильным.
30 ноября 1796 года, через три недели после вступления Павла на престол, Алопеус стал членом Коллегии Иностранных дел, и император поручил ему сговорить Елене Павловне жениха из герцогской семьи Мекленбург-Шверина. Алопеус блестяще выполнил поручение Павла и тотчас же получил согласие наследника престола, принца Фридриха-Карла.
Жених, вместе со своим младшим братом Карлом, прибыл в Санкт-Петербург 17 февраля 1799 года. Братьям отвели покои в Мраморном дворце и незамедлительно привезли к семейному императорскому столу в Зимний дворец.
А уже на следующий день в столице начались непрекращающиеся балы и праздники в честь двух августейших братьев.
Молодые понравились друг другу, и было решено провести обручение сразу после Пасхи.
Обручение состоялось 5 мая в Павловске. Во время этой церемонии был дан 51 артиллерийский залп. Затем последовал роскошный обед, вслед за которым отшумел не менее великолепный бал. А вечером в Павловске прошел большой концерт, во время которого снова гремели пушки. На сей раз залпов было 31.
Теперь следовало провести последние приготовления к свадьбе, а параллельно начать и сборы в дорогу. Елене Павловне стали подбирать будущий придворный штат и определили, что священник Данковский, находившийся тогда в Берлине, переедет оттуда в Росток и будет состоять и духовником Елены Павловны, и пресвитером русской церкви в Мекленбург-Шверине.
Одновременно шла подготовка и к свадьбе Александры Павловны – фигуры, не менее значительной, чем ее сестра Елена.
Австрийская империя, так же как и Мекленбург, рассматривалась Павлом как потенциальный союзник России, даже более важный в силу своего могущества и политического авторитета в Европе. Поэтому для Александры Павловны женихом был избран внук императора Австрии Франца I, венгерский палатин, эрцгерцог Иосиф Габсбург.
Род Габсбургов на протяжении пяти веков передавал по наследству императорскую корону Священной Римской империи. В середине XVI столетия династия Габсбургов разделилась на две ветви – испанскую и австрийскую, причем глава австрийской ветви носил титул императора.
В 1792 году австрийский трон занял Франц I, представитель Габсбургско-Лотарингского дома, последний император Священной Римской империи. Эрцгерцог Иосиф был одним из его сыновей – с 1435 года «эрцгерцогами» назывались принцы австрийского дома.
Империя Габсбургов в Восточной Европе состояла в конце XVIII века из множества территорий: Австрии, Венгрии, Богемии (Чехии), Моравии (Словакии), Галиции, Трансильвании, Баната, Славонии, Тироля, Далмации, которые, подчиняясь Австрии, пытались сохранять в разной степени подобие независимости или хотя бы своеобразия.
Эрцгерцог Иосиф, жених Александры Павловны, занимал один из главнейших постов в землях Габсбургов: он был палатином Венгрии, второй после Австрии земли, столицей которой был Будапешт.
Обе свадьбы готовились одновременно и были назначены на начало октября 1799 года. Поскольку герцог Мекленбургский приехал в Петербург раньше Иосифа Габсбурга, было решено, что сначала состоится венчание Фридриха-Людвига с Еленой, а по окончании свадебных торжеств сразу начнется церемония бракосочетания Иосифа с Александрой Павловной.
12 октября 1799 года с блеском была отпразднована свадьба Елены Павловны, а 19 октября – Великой княжны Александры Павловны и эрцгерцога Иосифа. В этот день произошло их венчание. Так же, как и в день венчания Елены Павловны с Фридрихом-Людвигом, был дан 51 артиллерийский залп, пиршество сменилось балом, бал – концертом, а затем до полуночи над Павловском и Санкт-Петербургом полыхал фейерверк.
21 ноября – через месяц после венчания – из Санкт-Петербурга в Вену уехали Александра и Иосиф. Прощаясь со старшей дочерью, Павел повторял, что никогда больше ее не увидит.
А еще через месяц, под новый 1800 год, отправилась в Мекленбург и Елена Павловна.
Жизнь Александры Павловны в Австрии и Венгрии
Уже на свадьбе Александры и Иосифа стало очевидно, что молодожены влюблены друг в друга и их отношения отличаются необычайной сердечностью и теплотой.
Было заметно, что они хотят как можно скорее уехать из холодного Санкт-Петербурга в теплую, солнечную Австрию, и только любовь Александры Павловны к отцу и матери, к родной земле делала этот отъезд печальным, а для родителей даже горьким и скорбным.
Этот брак, заключенный в дипломатических интересах Австрии и России, предусматривающий несомненную выгоду в кровном родстве двух императорских династий, оказался редким исключением среди браков такого рода: молодые горячо любили друг друга, и все их супружество, к сожалению весьма непродолжительное, убедительно подтвердило это.
По традиции, русская Великая княжна после венчания сохранила православное вероисповедание, и спустя три недели после свадьбы молодожены отправились в Вену, где находилась резиденция императора Австрии Франца I. Из писем российского посланника, находившегося в Вене при дворе императора, из писем духовника Александры Павловны – отца Самборского, бывшего ее законоучителем в детские годы в Царском Селе и Санкт-Петербурге, Мария Федоровна знала, что происходит в Австрии и Венгрии с ее любимицей.
Вскоре после приезда в Вену Александра была представлена Францу и его жене. Франц в это время был женат второй раз – на неаполитанской принцессе Терезии, отличавшейся злобным характером, завистливостью и жестокостью. Император, впервые увидев невестку, был поражен ее абсолютным сходством со своей первой женой Елизаветой-Вильгельминой, принцессой Вюртембергской, приходившейся родной сестрой ее матери – Марии Федоровне. Как часто случается, Александра Павловна как две капли воды была похожа на свою покойную тетку, и этого было довольно, чтобы у Терезии возникла сугубая ревность к невестке, вскоре перешедшая в неистребимую ненависть. Вскоре Александра Павловна забеременела и по приказанию Терезии была передана в руки грубого и невежественного врача, распоряжения которого только ухудшали ее положение. Делалось это и потому, что если бы у Иосифа и Александры Павловны родился сын, то мог бы возникнуть вопрос об отделении Венгрии от Австрийской империи.
Хорошо осведомленный о делах в Венгрии, Август Коцебу писал, что в стране возникло целое движение сторонников отделения Венгрии от Австрийской империи под властью Александры Павловны или ее сына, разумеется, если таковой родится. Коцебу писал, что среди сторонников независимой Венгрии раздавались карточки, по которым единомышленники узнавали друг друга. На этих карточках в середине была изображена колыбель ожидаемого принца, над которой парил Гений Отечества – дух-покровитель Венгрии, а возле колыбели рос куст роз, окруженный терновником, символизирующий прекрасную палатину и преследующие ее на каждом шагу страдания. Две великолепные распустившиеся розы обозначали Александру Павловну и ожидаемого наследника.
Разумеется, тайна эта была вскоре раскрыта, и за палатиной было установлено строгое и тщательное наблюдение. Александру Павловну подвергли столь мелочной регламентации и опеке, что сделали ее жизнь невыносимой. Во время беременности ее кормили самой непригодной для этого пищей, так что ее духовник, отец Самборский, должен был ходить на базар и приносить оттуда то, что было нужно беременной, пряча свои покупки под широкой рясой.
Мария-Терезия, кроме того, настоятельно требовала, чтобы палатина обязательно приехала рожать ребенка в Вену. Александра Павловна, опасаясь и за себя, и за будущего ребенка, при помощи Павла настояла на том, чтобы роды состоялись в Офене. К сожалению, и это ей не помогло. Современники знали, что в отношении венского двора к палатине императрица Терезия играла все ту же зловещую роль. Она завидовала необычайной популярности невестки, любви, которой ее окружали, – особенно православные славяне, жившие в Будапеште и его окрестностях. Кроме того, Терезия была очень странной женщиной. Она любила все страшное и чудовищное и наполняла свои дворцы и сады безобразными статуями, химерами, изображениями казней и пыток. Она почти всегда молчала, глядела исподлобья и светским увеселениям предпочитала общество слуг и простолюдинов, устраивая для них пиры и спектакли, в которых сама играла первые роли.
23 февраля 1801 года Александра Павловна родила девочку, которая прожила всего лишь несколько часов, а на десятый день – 4 марта – от молочной горячки умерла и ее семнадцатилетняя мать.
Когда все это произошло, император Павел был еще жив – он был убит ровно через неделю после кончины своей старшей дочери – 11 марта 1801 года.
Жизнь Елены Павловны в Мекленбурге
Также, как Александра и Иосиф, Елена Павловна и Фридрих-Людвиг были искренне влюблены друг в друга.
Молодых в Штеттине встретили радушно и торжественно: в их честь отец Фридриха-Людвига – герцог Фридрих-Франц устроил большой праздник. Но каким жалким показался он Елене Павловне! Русская герцогиня поразила всех собравшихся необыкновенными бриллиантами, подобных которым не видел никогда ни один из гостей.
Однако в дальнейшем Елена Павловна никогда этих украшений не показывала и носила всегда очень скромные платья.
Она всегда была ровна, приветлива и проста в обращении со слугами, и те не переставали удивляться всякому отсутствию холодности, а тем более чопорности в поведении их новой герцогини. Елена могла обнять и поцеловать простую служанку, могла поплакать вместе с нею, безыскусно и искренне сочувствуя ей. По утрам она гуляла в парке в маленьком городке Людвигелуст, где у нее и Фридриха-Людвига был небольшой загородный дворец, более напоминавший виллу.
А днем юная герцогиня читала и писала, трудясь над историей и культурой Мекленбурга и Германии: ей было всего 16 лет, к тому же она была в положении, но несмотря на тяжело протекающую беременность, продолжала собственное образование.
Она свободно владела четырьмя языками, и практически все книги из библиотеки герцога были ей доступны.
В середине сентября 1800 года в Санкт-Петербург пришло сообщение, что Елена Павловна родила мальчика, которого назвали Павлом-Фридрихом – в честь двух его дедов – русского императора Павла и Мекленбургского герцога Фридриха.
Казалось бы, все идет хорошо, но после родов молодая женщина стала чувствовать себя все хуже и хуже.
В 1803 году она родила второго ребенка, девочку, которую назвали Марией. Однако жить вместе матери и дочери не довелось: 24 сентября 1803 года Елена Павловна скончалась.
Впоследствии ее сын Павел-Фридрих женился на дочери короля Пруссии Фридриха-Вильгельма III принцессе Александрине, а незадолго перед тем, в 1817 году, на другой дочери Фридриха-Вильгельма III – Шарлотте-Каролине Прусской – женился дядя Павла-Фридриха – будущий царь Николай I.
Мария вышла замуж за герцога Саксен-Альтенбургского Георга.
Заговор и смерть Павла I
Пален не был единственным организатором заговора против императора Павла. Параллельно с ним трудился на этой ниве вице-канцлер Российской империи, генерал-майор и камергер, граф Никита Петрович Панин. Он хотел передать трон Александру, но оставить Павла в живых, сохранив для него Павловск и маленькое войско для парадов. Панин сообщил об этом Александру, указав и на то, что свобода и жизнь его самого и всей царской семьи находятся под угрозой.
Затем Панин вовлек в заговор братьев Зубовых, которые входили и в число заговорщиков, собиравшихся у Палена.
Пален и Платон Зубов собрали в Санкт-Петербурге множество опальных офицеров и генералов, изгнанных Павлом из гвардии и армии и составивших костяк заговора. Немаловажную роль играла и мощная финансовая поддержка английского посланника лорда Уитворда, недовольного явно профранцузской и антианглийской политикой Павла.
К заговорщикам вскоре примкнул и еще один Зубов – Николай, соратник Суворова, ставший еще в 1734 году зятем великого полководца – мужем его дочери Натальи, которую Александр Васильевич звал «Суворочкой». Присутствие среди заговорщиков Николая Зубова придавало его участникам еще большую уверенность и силу.
Меж тем одно из второстепенных, казалось бы, обстоятельств, совершенно не относящихся к заговору, но сыгравших в развязке его решающую роль, произошло за несколько лет до роковой ночи.
А история эта была такой.
Дело в том, что частые роды подорвали здоровье Марии Федоровны. В 1796 году она родила уже девятого ребенка, необычайно крупного мальчика, которого назвали Николаем. Екатерина II писала барону Гримму об этом событии: «Мамаша (Мария Федоровна. – В. Б.) родила огромнейшего мальчика. Голос у него – бас, и кричит он удивительно; длиною он аршин без двух вершков (62 см. – В. Б), а руки немного поменьше моих. В жизнь мою в первый раз вижу такого рыцаря».
Однако в середине 1797 года Мария Федоровна сообщила Павлу, ставшему в то время уже императором, что «снова тяжела». Лейб-медик императрицы, берлинский профессор-акушер Мекель сказал Павлу, что роды будут очень трудными и он не ручается за жизнь Марии Федоровны. Доктор почтительнейше попросил государя ни в коем случае не ставить более под удар жизнь своей августейшей супруги. Павел испугался и дал себе клятву, что больше никогда не окажется в постели со своею женой. Он тут же приказал наглухо забить гвоздями дверь, соединявшую его спальню со спальней Марии Федоровны, совершив, сам того не подозревая, роковой шаг: из-за этого при покушении на него он не смог перебежать в опочивальню жены, которая соединялась с целым лабиринтом переходов и коридоров Михайловского замка.
А заговор между тем вступал в заключительную стадию. Общее положение дел хорошо выразил один из заграничных заговорщиков, опальный русский посол в Лондоне граф С. Р. Воронцов.
В письме из Лондона от 5 февраля 1801 года, написанном симпатическими чернилами, он уподоблял Россию тонущему в бурю кораблю, капитан которого сошел с ума. Воронцов писал: «Я уверен, что корабль потонет, но Вы говорите, что есть надежда быть спасенными, потому что помощник капитана – молодой человек, рассудительный и кроткий, к которому экипаж питает доверие. Я заклинаю Вас вернуться на палубу и внушить молодому человеку и матросам, что они должны спасти корабль, который частью, равно и груз, принадлежит молодому человеку, что их тридцать против одного и что смешно бояться быть убитому этим безумцем-капитаном, когда через несколько времени все, и он сам, будем потоплены этим сумасшедшим».
Определенную роль в обострении создавшейся ситуации сыграл тот факт, что в начале 1801 года Павел вызвал в Петербург тринадцатилетнего племянника жены принца Евгения Вюртембергского. Этот мальчик еще в 1798 году получил от Павла звание генерал-майора и стал шефом драгунского полка. Воспитателем при нем был генерал барон Дибич, в прошлом адъютант Фридриха Великого. 7 февраля принц Евгений был представлен Павлу и так ему понравился, что император поделился с Дибичем своим намерением усыновить Евгения, прибавив, что он владыка в своем доме и государстве и потому возведет принца на такую высокую ступень, которая повергнет всех в изумление.
Это обстоятельство не ускользнуло от внимания Александра и его сторонников и стало еще одним козырем в руках заговорщиков, так как было ясно, о какой «высокой ступени» для усыновленного принца говорил император. Разумеется, что на этой «высокой ступени» двоим стоять было невозможно, и Александр понимал, чем это все может кончиться лично для него.
Как известно, в ночь на 11 марта 1801 года заговорщики ворвались в спальню Павла и убили его.
В это время Александр, находившийся в том же Михайловском замке, только в другом его крыле, лежал на постели, не раздеваясь.
Около часа ночи к нему вошел Николай Зубов, всклокоченный, красный от волнения, в помятом мундире, и хрипло произнес:
– Все исполнено.
– Что исполнено? – спросил Александр и, поняв, что его отец убит, безутешно зарыдал.
В этот момент возле него появился спокойный, подтянутый Пален и, чуть поморщившись, холодно сказал:
– Ступайте царствовать, государь.
Александр Первый – неизбывный грех и первые попытки его искупления
…Первые минуты и часы царствования Александра оказались самыми тяжелыми в его жизни. Пален провел его по темным коридорам Михайловского замка, заполненным пьяными, сильно возбужденными, громко говорящими офицерами. Некоторые из них держали в руках горящие факелы, и кровавый отсвет огня показался трепещущему, близкому к обмороку Александру зловещим.
Когда они вошли в спальню Павла, Александр увидел обезображенное ударами сапог лицо мертвого отца. Это зрелище потрясло его, но еще более – коварство и безжалостность, с какою все это было проделано. Ведь он надеялся, что отца только арестуют, а его убили, причем – жестоко, нисколько не думая о сыновних чувствах Александра, в глубине души все же любившего отца.
Еще раз вглядевшись в синее, распухшее лицо покойного, Александр вскрикнул и, потеряв сознание, упал на спину, во весь рост, сильно стукнувшись головой об пол.
…Когда слух об убийстве Павла дошел до Марии Федоровны, она выбежала из своих покоев, «не владея собой от гнева и отчаяния», и явилась перед заговорщиками. Ее крики разносились по всем коридорам. Заметив гренадер, она несколько раз повторила им: «Итак, нет больше императора, он пал жертвой изменников. Теперь я – ваша императрица, я одна ваша законная государыня, защищайте меня, идите за мной!» Один из участников заговора, генерал Беннигсен, и Пален с трудом, силой, увели Марию Федоровну в ее комнаты, но она снова пыталась выбежать в коридор, решившись на то, чтобы захватить власть и отомстить за убийство мужа. Но императрица Мария ни наружностью, ни характером не была способна возбудить в окружающих энтузиазм или безотчетную преданность. Ее многократные призывы к солдатам не произвели никакого впечатления. Может быть, этому способствовал и немецкий акцент, сохранившийся у нее в русской речи. Часовые скрестили оружие, и императрица отошла от двери.
Чарторижский писал: «Я никогда ничего не слышал о первом свидании матери и сына после совершенного преступления. Что говорили они друг другу? Какие могли они дать объяснения по поводу того, что произошло? Похоже, они поняли и оправдали друг друга, но в эти первые страшные минуты император Александр, уничтоженный угрызениями совести и отчаянием, казалось, был не в состоянии произнести ни одного слова или о чем бы то ни было думать. С другой стороны, императрица, его мать, была в исступлении от горя и злобы, лишивших ее всякого чувства меры и способности рассуждать.
Из членов императорской фамилии, среди ужасного беспорядка и смятения, царивших в эту ночь во дворце, только одна молодая императрица, по словам всех, сохранила присутствие духа. Император Александр часто говорил об этом. Она не оставляла его всю ночь и отходила от него лишь на минуту, чтобы успокоить свекровь, удержать ее в ее комнатах, уговорить ее прекратить свои вспышки, которые могли стать опасными, когда заговорщики, опьяненные успехом и знавшие, как они должны опасаться ее мести, являлись хозяевами во дворце. Одним словом, в эту ночь только императрица Елизавета сохранила самообладание и проявила моральную силу, которую все признали. Она явилась тогда посредницей между мужем, свекровью и заговорщиками и старалась примирить одних и утешить других».
После всего увиденного Александр был близок к помешательству. Он плакал, ломал руки, обвинял заговорщиков в обмане и предательстве. Себя же он считал жертвой кровавого плутовства, низкого коварства, обернувшегося смертью любимого отца, которого он хотел всего лишь взять под опеку, поселив в Михайловском замке и предоставив ему для прогулок расположенный по соседству Летний сад. Но его обманули. Отец был мертв. Содеянного поправить было нельзя, и рационализм в конце концов взял верх над эмоциями.
Во втором часу ночи Александр вышел к преображенцам и семеновцам, все еще стоявшим в карауле, и после короткой встречи сел в сани и уехал в Зимний дворец.
12 марта был издан манифест, извещавший подданных, что Павел скончался нынешней ночью от апоплексического удара, и от имени нового государя обещавший «управлять страной по законам и по сердцу… Екатерины Великой».
Утром 12 марта в Зимнем дворце, а также во всех церквах, полках, присутственных местах, куда успел дойти манифест, состоялись церемонии присяги новому императору. Люди ликовали, но сам Александр был мрачен, говоря при случае, что царскую власть принимает, как тяжкое бремя, и будет нести, как крест, ибо такую судьбу уготовило ему провидение самим фактом его рождения.
На четвертый день царствования Александр объявил амнистию для 536 человек. Лишенные дворянства и чинов были возведены в прежнее достоинство, всем им, в том числе и скрывавшимся в эмиграции, было разрешено жить где угодно, причем устранялся и существовавший ранее политический надзор. В первые же недели были возвращены на службу либо вознаграждены пенсиями более 12 тысяч офицеров, генералов и чиновников, а 2 апреля была упразднена и Тайная экспедиция.
Произошли перемены и в высших эшелонах власти. Д. П. Трощинский – один из статс-секретарей Екатерины II – был назначен «состоять при особе его величества у исправления дел, по особой доверенности государя на него возложенных». В должность статс-секретаря при нем был определен статский советник Михаил Михайлович Сперанский, вскоре начавший играть важную роль в истории страны.
Весь март и апрель были ознаменованы множеством новых законоположений, либерализовавших жизнь России, отменявших указы Павла и восстанавливающих привилегии, некогда дарованные Екатериной II.
23 марта в Петропавловском соборе было погребено тело Павла I, несколько дней перед тем выставленное для прощания с ним на таком высоком помосте, что нельзя было разглядеть лица покойного. К тому же придворные врачи и косметологи так поработали над обезображенным ударами лицом покойного и наложили такой густой грим, что Павел, если бы даже и был виден проходившим мимо него, все равно едва ли был бы ими узнан.
Новый курс молодого императора. Решительный поворот во внешней политике
Случилось так, что в момент дворцового переворота из близких Александру людей рядом с ним был только Павел Александрович Строганов, присутствовавший, кстати, вечером 11 марта на последнем ужине Павла в Михайловском замке. В. П. Кочубей был в Дрездене, Адам Чарторижский – в Неаполе, Н. Н. Новосильцев – в Англии. Узнав о событиях в Петербурге, все они поспешили к Александру и вскоре были на месте. Они ехали к Александру, влекомые не только искренним сочувствием, но и ясно осознанной необходимостью помочь ему, ибо он находился в обстановке, весьма нелегкой.
Вот что писал Адам Чарторижский, приехавший в Петербург летом 1801 года: «В момент моего приезда Петербург был похож на море, еще волновавшееся после сильной бури и едва начавшее медленно затихать… Среди смятений и волнений, царивших в первые дни после катастрофы, Пален намеревался захватить освободившиеся бразды правления…
Уже поговаривали, что Пален стремится занять пост министра двора. Подавленный скорбью, полный отчаянья, замкнувшийся со всею своей семьей во внутренних покоях дворца, император Александр оказался во власти заговорщиков. Он считал себя вынужденным щадить их и подчинять свою волю их желаниям».
Однажды Александр пожаловался на свое тяжелое положение генерал-прокурору Сената генералу Балашову – человеку прямому, честному, бесхитростному и справедливому. Балашов пришел в недоумение и с солдатской прямотой сказал: «Когда мухи жужжат вокруг моего носа, я их прогоняю».
Александр тут же подписал указ, предписывающий Палену покинуть Петербург в 24 часа. Пален повиновался и уехал в свои остзейские поместья.
В августе, после шестилетнего отсутствия, приехал из Швейцарии и Лагарп. Русские друзья Александра по приезде образовали тесный кружок единомышленников – «Негласный Комитет», занимавшийся реформой управления империей, но так и не доведший дело до конца.
Изменилась не только внутренняя, но и внешняя политика. 5 июля 1801 года Александр приказал разослать главам российских дипломатических миссий при важнейших европейских дворах инструкцию, в которой говорилось: «Я не вмешиваюсь во внутренние несогласия, волнующие другие государства; мне нет нужды, какую бы форму правления ни установили у себя народы, пусть только руководствуются в отношении к моей империи тем же духом терпимости, каким руководствуюсь и я, и мы останемся в самых дружественных отношениях». Руководствуясь провозглашенным принципом, Александр отказался от титула Великого магистра Мальтийского ордена, который носил Павел, оставшись его протектором, что позволило уже в начале июня подписать в Петербурге Конвенцию о дружбе между Россией и Англией. Еще раньше, 10 мая, были восстановлены дипломатические отношения с Австрией, и в Вене вновь стал послом А. К. Разумовский, а 26 сентября в Париже состоялось подписание мира с Францией.
Проделав за короткое время большую работу в области внутренней и внешней политики, Александр одновременно подготовился и к акту коронации.
…15 сентября, в воскресенье, в Успенском соборе, митрополит Платон, четыре года назад короновавший Павла, возложил императорскую корону на голову Александра.
Однако почти все, кто сопровождал нового императора в его поездке в Москву, единодушно отмечали, что ни разу не видели его радостным, а тем более смеющимся. Он был постоянно задумчив, почти всегда печален и улыбаться заставлял себя чаще всего из-за обстоятельств дворцового этикета.
Мысли об убитом отце не оставляли Александра ни на минуту, ибо в Москве, где он был с ним совсем недавно, все напоминало ему о Павле. И уж буквально каждый момент коронационных торжеств, каждый шаг по Кремлю, точно по тому же маршруту, по какому четыре года назад шел он вместе с покойным отцом, вызывали в памяти предыдущую коронацию. Раскаяние Александра и благочестивые добрые намерения выразились и в том, что именно в эти дни был издан указ о пересмотре старых уголовных дел и отмене пытки.
Цесаревич Константин – насильник и убийца
Теперь следует рассказать об одном внутрисемейном деле императорской фамилии, получившем в то время довольно громкий общественный резонанс. Тем более что дело это напрямую повлияло на развод Константина с женой – урожденной немецкой принцессой.
А. М. Тургенев писал: «Связавшись с непотребною княжною Четвертинской (имеется в виду княжна Жанетта Антоновна. – В. Б.), Константин вознамерился прогнать от себя законную супругу свою, Великую княгиню Анну Федоровну, урожденную принцессу Саксен-Кобургскую. Великая княгиня была беременна, а Константин, предавшись пьянству и разврату, невероятно и невозможно выразить, какие причинял ей оскорбления! Великая княгиня не только не жаловалась, но терпела все с кротостию. Даже единственный друг ее, императрица Елизавета, не все ведала, что Великая княгиня претерпевала. Глупая вдовствующая императрица Мария не терпела Великой княгини по какой-то наследственной вражде дома Вюртембергского с домом Кобургским». Далее Тургенев сообщает, что близкий друг и собутыльник Константина штаб-ротмистр Кавалергардского полка Иван Лонгинович Линев согласился за долги оклеветать жену Константина, «сознавшись» в любовной связи с ней, чего на самом деле не было.
«Глупая вдовствующая императрица Мария раскричалась, не хотела видеть Великую княгиню. На третий день гнуснейшей клеветы развратнейшего чудовища Константина прекрасная, кроткая, любезная Великая княгиня Анна Федоровна навсегда оставила Россию! Презреннейший Линев, получив отставку, поехал в чужие края, чтобы показать, что Анна Федоровна, будучи страстно влюблена в него, требовала, чтобы он находился при ней… В России все были уверены, что Линев – любовник Анны Федоровны, но ничего нет несправедливее в мире этой клеветы».
Дело кончилось тем, что Великая княгиня Анна Федоровна уехала к своим родителям и только через девятнадцать лет, в 1820 году, дала развод Константину, но об этом будет рассказано ниже.
После отъезда жены Константин пустился «во вся тяжкая», не брезгуя даже откровенной сексуальной уголовщиной.
А. М. Тургенев записал и то, что тщательно скрывалось от посторонних ушей и глаз, назвав этот фрагмент своих воспоминаний «Эпизод с госпожою Арауж». Развратнейший и вечно пьяный Константин набрал себе в адъютанты развратнейших, бессовестнейших, бесчестнейших людей – Н. А. Чичерина, Олсуфьева, Нефедьева, А. С. Шульгина, К. Ф. Баура и Янковича-Демареева. Им на глаза попала молодая, красивая вдова банкира Араужа, мать двоих малолетних дочерей, женщина скромная и богобоязненная. Адъютант Константина Баур знал госпожу Арауж с детства и на правах близкого знакомого часто бывал в доме ее родителей. О красавице-вдове узнал Константин и стал домогаться близости с нею, но Арауж решительно отказала Великому князю. Тогда Константин поклялся, что добьется своего во что бы то ни стало.
Константин послал в дом Арауж карету и велел слуге сказать, что ее просит заехать в Зимний дворец живущий там друг ее Баур, к тому же заболевший. Арауж поверила и поехала во дворец. Однако ее привели не к Бауру, а к Константину, окруженному толпой пьяных офицеров. Баура среди них не было.
«Благопристойность, – пишет А. М. Тургенев, – не дозволяет пересказать, что изверги, начиная с Великого князя, с ней делали! До того даже, что, когда Арауж от насилия, ей сделанного двадцатью или более людей, лишилась жизни, изверги, а именно Шульгин и Чичерин, еще продолжали действие! Бездыханное тело Арауж, с переломанными суставами в руках и ногах, было привезено в дом ее матери и брошено в прихожей комнате».
Только из-за того, что Арауж, как и ее покойный муж, были прусскими подданными, по требованию прусского посланника было начато следствие.
Комиссия во главе с Д. А. Гурьевым, констатировав смерть Арауж, объяснила это эпилептическим припадком, во время которого она и поломала себе руки и ноги. Такое заключение обошлось Константину в двадцать тысяч рублей.
К сказанному следует добавить, что в это время Константин, по словам А. М. Тургенева, болел плохо залеченным сифилисом, но это не останавливало светских дам искать близости с ним.
Камергер П. Н. Нарышкин угодливо предлагал Константину и собственную жену, и ее родную сестру, ожидая, когда Великий князь выпустит из спальни одну из них и тотчас же призовет другую.
В отличие от Александра, Константин, тоже участвовавший в заговоре, угрызений совести из-за смерти отца не испытывал и от душевных переживаний был совершенно избавлен. Правда, после смерти госпожи Арауж безобразные оргии и кутежи несколько приутихли, но в основе своей Константин оставался прежним – убежденным в безнаказанности разнузданным развратником, кутилой и хамом.
Император Александр и прусская королева Луиза
Важнейшими из внутренних дел в то время были отношения с Грузией и смена руководства в Коллегии Иностранных дел. Было совершено подписание Манифеста о присоединении Грузии к России и состоялось назначение на пост канцлера Василия Павловича Кочубея, пришедшего на место уволенного Н. И. Панина.
Так еще один руководитель заговора ушел в политическое небытие, уступив место новому человеку из числа членов «Негласного Комитета».
Тридцатитрехлетний Кочубей был решительным сторонником нейтральной, независимой России, которая, по его мнению, не должна была связывать себя никакими военными союзами. В записке, поданной Александру, Кочубей писал: «Россия достаточно велика и могущественна пространством, населением и положением, она безопасна со всех сторон, лишь бы сама оставляла других в покое. Она слишком часто и без малейшего повода вмешивалась в дела, прямо до нее не касавшиеся. Никакое событие не могло произойти в Европе без того, чтобы она не предъявила притязания на участие в нем. Она вела войны бесполезные и дорого ей стоившие. Благодаря счастливому своему положению, император может пребывать в дружбе с целым миром и заняться исключительно внутренними преобразованиями, не опасаясь, чтобы кто-либо дерзнул потревожить его среди этих благородных и спасительных трудов.
Внутри самой себя предстоит России совершить громадные завоевания, установив порядок, бережливость, справедливость во всех концах обширной империи, содействуя процветанию земледелия, торговли и промышленности. Какое дело многочисленному населению России до дел Европы и до войн, из нее проистекающих? Она не извлекла из них ни малейшей пользы».
Однако концепция Кочубея не просуществовала и года: 20 мая 1802 года Александр отправился в свою первую заграничную поездку – в Пруссию. Эта поездка стала причиной того, что между русским императором и прусской королевской четой установилась прочная и нежная дружба, которая впоследствии явилась одним из побудительных мотивов вступления России в войну с Наполеоном.
«Во время пребывания в Мемеле, – пишет Адам Чарторижский, бывший в свите царя и царицы, – королеву всегда сопровождала ее любимая сестра, принцесса Сальмская, теперешняя герцогиня Кумберландская, о которой скандальная хроника могла бы порассказать многое. Присутствие принцессы уменьшало строгость этикета, оживляло разговор и придавало более интимный характер их встречам: принцесса была прекрасной поверенной тайных помыслов своей сестры; она была бы готова и на более существенную помощь сестре в этих делах, если бы в этом встретилась надобность. После одного из свиданий с Прусским Двором, император, в то время сильно увлекавшийся кем-то другим, рассказывал, что серьезно встревожен расположением комнат, смежных с его опочивальней, и что на ночь он запирает дверь на два замка, из боязни, чтобы его не застали врасплох и не подвергли слишком опасному искушению, которого он желал избежать. Он даже высказал это обеим принцессам, причем был более откровенен, нежели учтив и любезен».
Александр приехал в Мемель 10 июня и уехал 16-го, но всего за одну неделю он буквально свел с ума синеокую двадцатишестилетнюю красавицу-королеву, в свою очередь пленившую царя восторженностью души и вспышками веселого кокетства, сочетавшимися с глубокой заинтересованностью сложными проблемами жизни и редкостной начитанностью. Несмотря на молодость (царь был на год моложе Луизы), Александр пустил в ход все: пламенную мечтательность, которая выходила у него такой естественной, хотя никогда не была искренней, желание послужить идеалам человечности, пылкое стремление к славе, намерения стать на защиту угнетенной Европы, готовность каждый момент спешить на помощь последним из последних, забыв о своем высоком сане, повинуясь только чувству гуманности. Это была тонкая игра со стороны «прельстителя». Она достигла цели.
Один из эпизодов, произошедший на глазах Луизы, раскрывает то, как Александр доказывал свою гуманность и стремление спешить на помощь. «Был кончен один из танцев, – писала Луиза в своем „Дневнике“, – император отдыхал еще рядом со мной, мы разговаривали. Вдруг все устремились к окнам, спрашивали: „В чем дело?“ Говорят: „Кто-то утонул“. Как ветер, Александр бросился вниз, чтобы помочь. Это был маленький мальчик, которого уже успели вытащить из воды. Я вижу в окно, как император возвращается с мальчиком восьми или девяти лет на руках. Войдя, он сам дает ему чая, который тот пьет с удовольствием. И приходит ко мне, будто ничего не случилось. Я говорю ему о том, как он добр, я растрогана. „Всякий сделал бы это на моем месте“, – отвечал он».
На другой день после отъезда Александра, Луиза, воспользовавшись отъездом в Петербург курьера, отправила вслед ему письмо: «Я тщетно буду стараться изобразить вам горе, в которое поверг меня ваш отъезд. Он был ужасен. Только надежда увидеть ваше императорское величество через два года несколько утешила меня». А через месяц Луиза получила письмо от своего брата, принца Георга, в котором он восхищался красотой Альп. Луиза отвечала ему письмом от 13 июля 1802 года: «Я не видела никаких Альп, но я видела людей или, лучше сказать, человека в полном смысле этого слова, который воспитан альпийским жителем (по-видимому, имелся в виду Лагарп. – В.Б.) и знакомство с которым дороже мне, чем все Альпы мира. Ибо Альпы не могут ничего делать, а он действует, распространяет вокруг себя счастье и благословение каждым своим решением. Каждый его взгляд создает кругом счастливых людей, осчастливленных его небесной добротой. Что я говорю об императоре, об единственном Александре, ты, конечно, понял с первых же слов».
Что же касается Александра, то его видимое увлечение королевой Пруссии многие считали «платоническим кокетничаньем» и «политическим флиртом», ибо во взаимоотношениях с женщинами Александра более увлекало тщеславие, нежели удовлетворение страсти.
Хотя следует признать, что удовлетворение страсти порой принимало у рано избалованного женскими ласками прекрасного и женственного принца извращенные формы. Писатель-эмигрант Лев Дмитриевич Любимов, анализируя отношения Александра с его сестрой Екатериной Павловной, заметил: «Всех женщин любил Александр Павлович и, похоже, тою же любовью, что и прочих, сестру свою, блистательную Великую княгиню Екатерину Павловну».
И вместе с тем Александр далеко не всегда добивался физической близости с женщинами, которые нравились ему. «В числе тех женщин, с которыми проводил он целые вечера, к которым его тянуло, – имеются вовсе некрасивые, вовсе немолодые, на чью добродетель он посягать был отнюдь не намерен. В том-то и дело, что он любил всех женщин, паче всего любил женское общество – и, так как расточил свой пыл, по-видимому, преждевременно, в бесчисленных похождениях, – очень часто сознание, что победа зависит от его доброй воли, вполне удовлетворяло его, почему и заходить слишком далеко казалось ему излишним».
И потому не следует преувеличивать воздействие на Александра прусской королевы, хотя симпатия к ней и сыграла свою роль в сближении двух дворов – Петербургского и Берлинского. И все же Чарторижский, четыре года спустя, писал Александру: «Интимная дружба, которая связала Ваше императорское величество с королем после нескольких дней знакомства, привела к тому, что Вы перестали рассматривать Пруссию как политическое государство, но видели в ней дорогую Вам особу, по отношению к которой признавали необходимым руководствоваться особыми обязательствами». Но до войны дело пока не дошло, Александр все еще оставался верен идее превращения России в правовое либеральное государство в духе тех идей, которые внушил ему Лагарп, хотя практика государственного управления часто показывала утопичность такого подхода к внутренним российским делам.
Поздней осенью 1803 года в Петербург из своего имения Грузино вернулся по вызову Александра Аракчеев, а 3 декабря того же года «Негласный Комитет» собрался на свое последнее заседание.
В этих двух событиях современники увидели знамение того, что недолгая эпоха либерализма закончилась, не протянув и трех лет.
Поворот к войне с Наполеоном
2 августа 1802 года Наполеон Бонапарт был объявлен пожизненным консулом Франции, а 6 мая 1804 года бывший генерал Республики принял титул императора французов, тем самым дав понять, что ничья воля, кроме его собственной, не является для него законом. Человек, объединивший в себе способности великого полководца и практически неограниченную власть императора, становился реальной угрозой для всей монархической Европы, и она приняла брошенный ей вызов.
В это же время внешняя политика России становится откровенно антифранцузской. Недолго занимавший пост канцлера А. Р. Воронцов 16 января 1804 года уступил его А. Чарторижскому, который, возглавив российское внешнеполитическое ведомство, начал действовать прежде всего в интересах своей родины – Польши. Составной частью плана Чарторижского стало создание новой антифранцузской коалиции.
Предшествующая ей 2-я антифранцузская коалиция распалась в марте 1802 года, когда из борьбы с Наполеоном вышла Англия – единственная держава, все еще воевавшая с Францией. Однако мирный договор, подписанный в Амьене братом Наполеона Жозефом Бонапартом 27 марта 1802 года, просуществовал чуть больше года. 22 мая 1803 года Англия начала новую войну с Францией, и перед монархической Европой встала задача о создании новой, 3-й антифранцузской коалиции.
В нее вошли союзные Англии Австрия, Россия и Швеция. Однако создавалась коалиция не за один день, и на протяжении 1803 и 1804 годов Россия еще жила в мире, только готовясь к предстоящей борьбе.
И все же, каждое событие, происходившее в Санкт-Петербурге, если оно имело хоть какое-то отношение к европейской внешней политике России, следовало рассматривать в свете предстоящей борьбы с Францией.
Свадьба великой княжны Марии Павловны с великим герцогом Саксен-Веймарским Карлом-Фридрихом
Именно так рассматривалась и готовившаяся в 1804 году свадьба восемнадцатилетней сестры Александра I Великой княжны Марии Павловны и Великого герцога Саксен-Веймарского Карла-Фридриха, в котором Россия видела надежного союзника в борьбе с Наполеоном.
Саксен-Веймарское Великое герцогство было одним из семи курфюршеств Германии, главы которых – князья-курфюрсты – имели право избирать Императора Священной Римской империи. Отец жениха – Саксонский курфюрст Фридрих-Август III – занимал трон Саксонского герцогства и не только считался, но и был на самом деле одним из самых могущественных потентатов Германии и к тому же одним из самых знатных, в силу своего происхождения из дома Романовых.
Свадьба Марии Павловны и Великого герцога Карла-Фридриха была отпразднована в лучших традициях королевской Европы и состоялась за два года до начала очень важных событий в истории Великих герцогов Саксонии. Уже в 1806 году отец Карла-Фридриха – Фридрих-Август III – перешел на сторону Наполеона, как только австрийские войска были разгромлены под Иеной, и вслед за тем вступил в Рейнский Союз, созданный французами. За переход Саксонии на сторону Франции Наполеон объявил герцогство Саксонию королевством, а Фридрих-Август стал не только королем Саксонии, но и получил еще титул герцога Варшавского, ибо ему Наполеон передал отобранные у Пруссии польские земли, на которых по решению, принятому летом 1807 года в Тильзите, было образовано Варшавское герцогство.
Забегая вперед, скажем, что король Фридрих-Август III оставался верным союзником Наполеона, пока в 1813 году не попал в плен к союзникам во время «битвы народов» под Лейпцигом. В 1815 году решением Венского конгресса более половины территорий Саксонии было передано Пруссии.
Вернемся, однако, в 1804 год.
Вскоре после свадьбы молодые приехали в город Веймар, где Марии Павловне предстоит прожить долгую жизнь.
Мария Павловна еще в детстве поражала членов семьи и многих знавших ее придворных необычайной для девочки любознательностью, увлеченностью наукой и искусством, стремлением к общению с людьми науки и «изящных художеств».
С первых минут своего появления в Веймаре, уже во время торжественного въезда в город, Мария Павловна очаровала всех своей красотой, молодостью, сиянием глаз, излучавших ум и доброту.
А уже через несколько дней одна из образованнейших женщин Германии, Луиза Геххаузен, писала: «Боги послали нам ангела. Эта принцесса – ангел ума, доброты и любезности; к тому же я еще никогда не видела в Веймаре такого созвучия во всех сердцах и у всех на устах, какое появилось с тех пор, как она стала предметом всеобщих разговоров».
А через много лет после приезда Марии Павловны в Веймар старик Гете писал своему другу Варнхагену фон Энзе: «Она сумела бы возвыситься над любым сословием и, даже принадлежа к высшему, вызывает особое восхищение».
Свекровь Марии Павловны, Саксен-Веймарская герцогиня Анна Амалия, известная во всей Европе как пылкая служительница муз и ярая сторонница французских просветителей, в день приезда в Веймар своей невестки не без опасения ожидала встречи с ней, стоя «со смирением и терпением на последней ступеньке герцогского дворца Ее Императорское Высочество». Однако невестка в считанные минуты совершенно очаровала свою свекровь, и Анна Амалия, в скором времени уже не могла жить без нее, почитая за счастье быть вместе с нею чуть ли не каждый вечер.
Уже в ноябре 1804 года Мария Павловна познакомилась с Гете и дружила с ним до конца его дней. С 1805 года Мария Павловна посещает лекции Гете, которые он читает у себя дома.
Свидетели общения Марии Павловны с Гете единодушно утверждали, что между ними сложились сердечные и по-человечески теплые отношения. Почти все, кто посещал загородный дворец Веймарских герцогов Бельведер, где жили Мария Павловна и Карл-Фридрих, вскоре оказывались и в доме Гете. Таким образом, Бельведер и дом великого поэта и мыслителя стали двумя культурными центрами Веймара, дополнявшими друг друга.
Когда Мария Павловна приехала в Веймар, Гете было 55 лет. Здесь он жил уже около тридцати лет по приглашению герцога Карла-Августа. Здесь он стал великим мыслителем, выдающимся писателем, создателем театра и автором многих пьес, тут же он с успехом занимался живописью и естествознанием.
Мария Павловна, испытывавшая влечение к науке, искусствоведению, творчеству во многих его ипостасях, стала ревностной поклонницей Гете, при случае помогая великому человеку в решении многих стоявших перед ним задач.
Конечно же, Гете понимал, что юную герцогиню более всего привлекают архитектура, живопись и искусствоведение, но он знал также, что ее интересы намного шире, и, разумеется, такой энциклопедист, как Гете, не мог не рассказывать и о множестве сюжетов из истории естественной.
Мария Павловна слушала его лекции по астрономии, где он говорил и о Галилее, и о Ньютоне, раскрыл перед нею проблемы оптики и цельное, многократное учение о цвете, а уж самых разнообразных сведений о поэтах, драматургах, прозаиках, художниках, скульпторах и их произведениях было сообщено юной герцогине так много, что, прослушай Мария Павловна несколько разных университетских курсов, она едва ли получила бы столь прекрасное образование.
Мария Павловна прожила в Веймаре более полувека – до 1859 года, похоронив многих друзей Гете, которые были его товарищами и единомышленниками на протяжении долгих лет. Она хорошо знала И. Г. Гердера, Ф. Шиллера, с которым, будучи заядлой театралкой, не раз обсуждала пьесы, шедшие в театре Веймара.
За Марией Павловной прочно закрепилась репутация гостеприимной хозяйки, и в Веймар стали ездить многие русские, путешествующие по Германии и близким к ней странам. Со временем поток их стал настолько велик, что пришлось построить для них специальную гостиницу – «Русский отель». Мария Павловна пригласила в Веймар венгерского пианиста Ференца Листа. Странствующий до этого тридцатисемилетний музыкант впервые в жизни обрел здесь собственный дом, под крышей которого прожил тринадцать лет.
Мария Павловна относилась к Листу так же, как к Гете, избавляя его ото всего, что могло помешать творчеству великого музыканта. Лист, оставив поездки пианиста-виртуоза, занялся творчеством, создав в 1848—1861 годах свои самые значительные произведения: две симфонии, два фортепьянных концерта, тринадцать симфонических поэм и множество сонат и этюдов. Благополучная жизнь в Веймаре закончилась для Листа в 1859 году вместе со смертью Марии Павловны – его настоящего друга и горячей поклонницы.
После ее смерти вокруг Листа начались козни и интриги, и он, оставив в 1861 году Веймар, уехал в Рим.
В 1865 году Лист принял сан аббата и еще двадцать лет служил музыке, продолжая писать церковные – органные и хоровые – сочинения. Лист поддерживал дружеские и творческие отношения с русскими композиторами А. П. Бородиным, П. И. Чайковским, А. К. Глазуновым.
Сюда не раз приезжали Александр Иванович Тургенев – мемуарист, уже неоднократно фигурировавший в этой книге, В. А. Жуковский, княгиня Зинаида Волконская.
Мария Павловна переписывалась со многими русскими литераторами, государственными деятелями и учеными: Дмитрием Хвостовым, Анной Буниной, Николаем Гнедичем, баснописцем Александром Измайловым, Иваном Лажечниковым, Сергеем Ширинским-Шихматовым, Михаилом Сперанским, Александром Тишковым, а также и со многими членами императорской семьи.
Она же познакомила в 1805 году Александра I с Гете и модным тогда салонным писателем Кристофом Виландом, когда русский император в связи с подготовкой к военным действиям против Наполеона оказался в Веймаре.
* * *
К осени 1805 года в 3-ю антинаполеоновскую коалицию вошли Россия, Австрия, Швеция и Англия, а 9 сентября впервые после Петра Великого русский император выехал к армии, стоявшей на границах с Австрией. По дороге Александр заехал в имение Чарторижского Пулавы, где, каждодневно очаровывая польское общество, говорил о восстановлении независимости Польши и о своей неизменной любви к этой стране. Отсюда он поехал в Берлин, на переговоры о присоединении к коалиции Пруссии.
Но переговоры эти ни к чему не привели – Фридрих-Вильгельм тайно подписал конвенцию о вступлении в коалицию с союзниками, но договорился, что пока в военных действиях против Наполеона участвовать не будет.
С тем, несолоно хлебавши, и выехал царь из Берлина на юг, к городу Оломоуц (по-немецки Ольмюц), где находилась ставка австрийского императора – его союзника Франца.
Дорога в Оломоуц лежала через Саксонию, и Александр решил завернуть в Веймар, к своей сестре Марии Павловне.
Здесь-то она и познакомила Александра с Гете и Виландом. Беседуя с ними, Александр сказал, что чувствует себя необычайно счастливым, увидев собственными глазами, как счастлива его сестра в окружении столь замечательных умов. В свою очередь, и Александр произвел на собеседников весьма благоприятное и сильное впечатление – Виланд даже сказал Марии Павловне: «Я хотел бы стать его Гомером».
Пробыв в Веймаре всего одни сутки, российский император уехал на свидание с императором Австрии Францем – в Ольмюц. После этого Александр прибыл в объединенную союзную русско-австрийскую армию, стоявшую под командованием М. И. Кутузова на северном берегу Дуная.
…А потом был Аустерлиц, и бегство русской и австрийской армий, и поражение, какого не было со дня разгрома под Нарвой.
В этом сражении Александр увидел войну с другой стороны – рядом с ним убило двух лошадей, а его самого разорвавшееся в двух шагах ядро осыпало землей.
При отступлении, больше напоминавшем бегство, конвой и офицеры свиты потеряли Александра, и он остался с лейб-медиком Виллие, двумя казаками, конюшим и берейтором Ене. Император мчался, не разбирая дороги, как вдруг его конь остановился перед неширокой канавой, которую никак не мог перепрыгнуть. Александр был плохим наездником, и скакавший рядом Ене несколько раз перепрыгивал на коне канаву туда и обратно, показывая, как это надо делать, но Александр никак не решался пришпорить коня. А когда он все же преодолел препятствие, то нервы вконец изменили ему и Александр сошел с седла, сел под деревом и расплакался. Спутники императора в смущении стояли рядом, пока к ним не подошел майор Толь и не стал утешать Александра. Император поднялся с земли, отер слезы и обнял майора.
Через два дня, 22 ноября, император Франц сумел заключить перемирие, распространявшееся и на русских, которое Александр подписал чуть позже, и 27 ноября, оставив армию, он уехал в Россию.
А еще через две недели, 8 декабря, печальный, обескураженный неудачей, павший духом двадцативосьмилетний Александр тихо, почти незаметно въехал на заснеженные улицы Петербурга и в тот же вечер впервые открыто навестил свою любимую фаворитку Марию Антоновну Нарышкину.
Некоторые сюжеты, связанные с темой этой книги
Мария Антоновна, в девичестве княжна Святополк-Четвертинская, была безоговорочно признана первой красавицей России. Ее муж, обер-гофмейстер двора Дмитрий Львович Нарышкин, в петербургском свете носил прозвище «Великий мастер масонской ложи Рогоносцев», все прекрасно зная, он безропотно делил свое супружеское ложе с августейшим соперником. Злоязыкие придворные презрительно осуждали обер-гофмейстера, но не было ни одного мужчины, который осудил бы Александра, ибо Нарышкина была божественно хороша. «Разинув рот, стоял я в театре перед ложей и преглупым образом дивился красоте ее, до того совершенной, что она казалась неестественной, невозможной», – писал один из ее современников. А великий полководец, шестидесятилетний Кутузов, покоривший немало сердец светских прелестниц, говоря о Нарышкиной, заметил как-то в письме одной из своих дочерей: «Если я боготворю женщин, то потому только, что она (т. е. Нарышкина) – сего пола».
Очаровательная Мария Антоновна происходила из семьи польского князя Антония-Станислава Четвертинского, убитого варшавскими повстанцами в 1794 году за приверженность к России, и баронессы Кампенгауз. У Марии Антоновны были брат Борис и сестра Жанетта, о которой коротко упоминалось в связи с отъездом великой княгини Анны Федоровны, так как именно княгиня Жанетта Антоновна Святополк-Четвертинская была одной из причин разрыва Анны Федоровны с Константином.
Жанетта Антоновна была тоже красива, но не столь прекрасна и пленительна, как ее сестра, и привлекала больше живостью характера и легкостью нрава.
Константин даже намеревался жениться на Жанетте Четвертинской, как вдруг переменил намерение, увлекшись, и очень серьезно, продавщицей из модного французского магазина Жозефиной Фридрихс.
После возвращения Адама Чарторижского из Италии его прежние отношения с Елизаветой Алексеевной не возобновились, но и к мужу она чувств своих не переменила, оставаясь по-прежнему апатичной.
Историк Г. И. Чулков писал: «Сердечная рана, которую почувствовал Александр, заметив холодность своей жены, не исцелялась. По-видимому, молодой муж старался утешиться ухаживаниями за хорошенькими дамами, и это еще усилило взаимное охлаждение. В конце концов молодые супруги дали друг другу свободу. Однако Елизавета была не совсем равнодушна к поведению своего мужа. В 1804 году в одном из писем к матери Елизавета Алексеевна горько жаловалась на соперницу – Марию Антоновну Нарышкину, которая на балу сообщила императрице о своей беременности. „Какую надо иметь голову, чтобы объявить мне об этом! Ведь она прекрасно знает, что я понимаю, каким образом она забеременела. Я не знаю, что от этого произойдет и чем все это кончится!“
Связь с Четвертинской-Нарышкиной продолжалась у Александра четырнадцать лет. Утверждают, что результатом многолетней связи было трое детей, которые все носили эту фамилию (Мария, София и Эммануил). Нарышкина, однако, обманывала и мужа, и Александра то с князем Гагариным, высланным за это за границу, то с генерал-адъютантом графом Адамом Ожаровским, а потом и с множеством других ветреников и волокит. Однажды на даче Нарышкиных в Петергофе внезапно приехавший Александр вошел в спальню Марии Антоновны и, открыв дверь, увидел, как кто-то нырнул в платяной шкаф. Это был Ожаровский. Александр открыл шкаф и сказал своему любимцу: «Ты похитил у меня самое дорогое. Тем не менее, с тобой я и дальше буду обращаться, как с другом. Твой стыд будет моей местью». Александр так и поступил.
А теперь расскажем о Жозефине Фридрихс, единственной пассии Константина, принесшей ему сына, которого он признал своим.
…Историю Жозефины и Константина описал сын адъютанта цесаревича К. П. Колзаков, узнавший ее от своего отца.
…После того как Наполеон стал императором и объявил амнистию эмигрантам, многие из них возвратились на родину. Тогда-то в одной из тихих улочек Парижа появилась мадам Террей, владелица модного магазина, проведшая годы эмиграции в Германии, где была гувернанткой в богатой дворянской семье. Среди ее работниц была очень миловидная четырнадцатилетняя девочка по имени Жозефина.
Однажды в магазин пришел богатый англичанин и совершенно очаровался девочкой. Кончилось тем, что он попросил родителей Жозефины разрешить их дочери поехать с ним в Англию. Он обещал отдать девочку в один из лучших пансионов, а по достижении ею совершеннолетия жениться на ней.
Родители, получив в подтверждение серьезности намерений будущего мужа Жозефины большие деньги, доверили ему дочь и разрешили ей поехать в Англию.
А вскоре дела госпожи Террей пошли плохо, и она, продав магазин, уехала в Петербург, где, по слухам, к эмигрантам-французам относились как нельзя лучше. Так и случилось: госпожа Террей открыла в Петербурге модный магазин и вновь стала процветать.
В конце 1805 года, прогуливаясь по Невскому проспекту, она встретила красивую молодую даму, которая, вскрикнув, бросилась ей на шею. Это оказалась Жозефина. Мадам Террей тотчас же пригласила ее к себе домой и узнала ее историю. Отказалось, что как только Жозефина окончила пансион, ее благодетель внезапно умер, не успев оставить ей завещания, и родственники покойного забрали все имущество и деньги себе.
Жозефина, предоставленная сама себе, сначала хотела вернуться к родителям, но тут ей сделал предложение приехавший в Лондон русский полковник и флигель-адъютант императора Александра барон Фридрихс. После свадьбы полковник уехал в Россию, пообещав немедленно по приезде в Петербург выслать ей деньги на дорогу. Но прошло два месяца, а ни денег, ни писем от мужа не было. И тогда Жозефина продала все драгоценности и, сев на корабль, приплыла в Петербург.
Здесь она узнала, что никакого барона, полковника и флигель-адъютанта Фридрихса нет, а есть носящий такую же фамилию фельдъегерь, который был недавно в Лондоне. Она отыскала штаб фельдъегерского корпуса, там ей назвали адрес Фридрихса, и, когда она пришла, то оказалось, что это – простая солдатская казарма, а все имущество ее мужа – солдатская койка. К тому же Фридрихса в казарме не оказалось: он был в отъезде по службе, на сей раз на Кавказе.
Не успела Жозефина обосноваться у гостеприимной госпожи Террей, как объявился муж и умолил ее переехать к нему. Однако Фридрихс оказался грубым и невежественным человеком, и Жозефина, пожив с ним в бедной и тесной квартирке, снятой по случаю, все же решилась на окончательный разрыв.
Это произошло после того, как на одном из маскарадов она познакомилась с высоким незнакомцем, оказавшимся Константином Павловичем. Жозефина нашла в нем любовника и друга и в 1808 году родила сына – Павла Константиновича Александрова. Его крестным отцом был Александр I. В 1812 году он был возведен в дворянство и тогда же, четырехлетним, записан юнкером в лейб-гвардии Конный полк, а через несколько дней произведен в корнеты. Получив хорошее домашнее образование, Александров в 1823 году начал действительную военную службу в чине поручика. В 1837 году он был уже полковником, в 1846 – генерал-майором свиты императора Николая I – своего родного дяди.
Умер он в 1857 году генерал-лейтенантом и генерал-адъютантом, оставив дочь – Александру Павловну, в замужестве княгиню Львову.
Вторая война с наполеоном: от Пултуска до Тильзита. Тильзитский мир
Вернемся в конец 1805 года, когда смятенный духом, несчастный император Александр спешил забыться в объятиях Марии Антоновны Нарышкиной.
Однако укрыться от жизненных бурь он не мог и здесь, потому что далеко не все подчинялось ему. А он был болезненно самолюбив, убежден, что он первый государь в Европе и позор Аустерлица должен быть смыт во что бы то ни стало.
Близкий ко двору Л. Н. Энгельгардт, как и многие другие, отмечал, что после поражения под Аустерлицем Александр резко переменился. «Аустерлицкая баталия, – писал Энгельгардт, – сделала великое влияние над характером Александра, и ее можно назвать эпохою в его правлении. До того он был кроток, доверчив, ласков, а тогда сделался подозрителен, строг до безмерности, неприступен и не терпел уже, чтобы кто говорил ему правду; к одному графу Аракчееву имел полную доверенность, который по жестокому своему свойству приводил государя на гнев и тем отвлек от него людей, истинно любящих его и Россию».
После Аустерлица наступила новая полоса и во внешней политике: 17 июля 1806 года министром иностранных дел стал вместо Чарторижского барон А. Я. Будберг, а его товарищем (т. е. заместителем) граф А. Н. Салтыков. Им предстояло склонить Пруссию к участию в антифранцузской коалиции, и в этом деле российским дипломатам более всех помог сам Наполеон: 24 сентября 1806 года он объявил войну Пруссии, и королю
Фридриху-Вильгельму III не оставалось ничего иного, как кинуться за помощью к Александру, весьма расположенному помочь Пруссии и тем самым смыть позор аустерлицкого поражения. Наполеон же, не ожидавший вступления России в войну, перешел через границу Саксонии и двинулся с двухсоттысячной армией навстречу пруссакам. Это произошло 8 октября 1806 года. Несмотря на то что Пруссия оказалась сразу же охвачена патриотическим порывом, а королева Луиза тотчас же стала национальной героиней, вставшей во главе борьбы с Наполеоном, французы, вторгшиеся в союзную пруссакам Саксонию, изо дня в день стали наносить им одно поражение за другим.
Прусская армия стала отступать к Веймару, и Мария Павловна уже на третий день войны уехала из города, не желая встречаться с Наполеоном, который обязательно был бы в городе, если бы взял его, – а в этом Мария Павловна не сомневалась.
После отъезда из Веймара она целый год странствовала по Германии, пока не вернулась обратно осенью следующего года, когда обстановка в корне переменилась и ее брат – император Александр – стал союзником Наполеона, подписав в Тильзите союзный договор о мире и сотрудничестве.
13 октября 1806 года Наполеон въехал в соседнюю с Веймаром Иену и увидел, что отступающая к Веймару прусская колонна князя Гогенлоэ остановилась.
На рассвете 14 октября французы напали на пруссаков и союзных им саксонцев, смяли их и погнали к Веймару. Там, на улицах города прусско-саксонские войска были совершенно опрокинуты, смяты и разгромлены.
Жалкие остатки беглецов, вырвавшиеся из Веймара по северной дороге, надеялись на встречу с главными силами прусской армии, которой командовал герцог Карл Брауншвейгский. Но вскоре они встретились с бегущими им навстречу остатками прусской армии и узнали, что армия короля тоже разгромлена, герцог убит, а король бежит неизвестно куда; что случилось это неподалеку отсюда, у деревни Ауэрштедт, что командовал французами маршал Даву и что прусской армии больше нет. Наполеон пошел прямо на Берлин, подбирая артиллерию, обозы с оружием, боеприпасами и провиантом, без боя занимая крепости и захватывая десятки тысяч пленных.
27 октября, через девятнадцать дней после начала войны, Наполеон вошел в Берлин. Здесь он получал одно за другим сообщения о капитуляции сильнейших восточных крепостей Пруссии, не сделавших ни одного выстрела при подходе французских войск.
Король и королева Пруссии бежали к русской границе, в маленький, захолустный восточно-прусский городишко Мемель, надеясь на покровительство могущественного соседа – русского императора, который не намерен был уступать своему грозному сопернику. И тому было несколько причин: французские войска приближались к русским границам, а кроме того, к Наполеону приезжали одна за другой польские делегации, просившие о восстановлении самостоятельной Польши.
Александр понимал: речь идет не только о том, что он лишится титула Польского короля, но и о том, что коль скоро возникнет этот вопрос, то все польские земли, вошедшие в состав Российской империи в ходе трех переделов Речи Посполитой, окажутся в составе воскресшего королевства: а это – почти вся Украина, Западная Белоруссия, вся Литва и часть Восточной Пруссии.
Во избежание этой угрозы уже в октябре было решено двинуть из России около ста тысяч солдат и офицеров с главной массой артиллерии, несколько казачьих полков и продолжать передислокацию войск, готовя в поход и гвардию.
Наполеон решил опередить Россию, и уже в ноябре французы вступили в Польшу. 28 ноября 1806 года кавалерия маршала Мюрата вошла в Варшаву. Оставившие ее пруссаки, отступая, сожгли за собою мост через Вислу. 160-тысячная русская армия во главе с фельдмаршалом М. Ф. Каменским развернулась перед Пултуском, Остроленкой и рекой Вислой, прикрывая французам путь на Восток. 26 декабря произошло сражение под Пултуском, где передовой корпус маршала Ланна был остановлен.
С нового, 1807 года командующим армией был назначен генерал Л. Л. Беннигсен – один из видных заговорщиков 11 марта, человек амбициозный и склонный к авантюризму. Он сломил сопротивление недругов в собственной армии и взял все войска под свое единоличное командование.
Развернувшаяся на просторах Восточной Пруссии война проходила в непогоду, когда оттепели сменялись жестокими морозами, а затем вновь разливалось море грязи. Наполеон решил отрезать армию Беннигсена от России и, потеснив ее к деревне Прейсиш-Эйлау, 7 февраля дал здесь кровопролитнейшее сражение, которое продолжалось и на следующий день и закончилось тем, что обе армии понесли огромные потери – до одной трети с каждой стороны.
И русские, и французы считали себя победителями, но летом ситуация переменилась в пользу Наполеона, одержавшего бесспорную, убедительную победу неподалеку от Прейсиш-Эйлау – на реке Алле, в сражении при деревне Фридлянд. Там сошлись главные силы противников. Французы прижали русских к реке, артиллерийским огнем разрушили мосты и огнем уничтожили дрогнувшие и бежавшие русские войска. Более 25 тысяч русских было убито, ранено, утонуло и было взято в плен.
Маршал Сульт 15 июня вошел в столицу Восточной Пруссии – Кенигсберг, куда накануне англичане доставили морем горы продовольствия и боеприпасов. И все это попало в руки французов. А главные силы французов 19 июля подошли к городу Тильзиту на Немане, по другому берегу которого проходила русская граница.
Александр накануне, узнав о катастрофе под Фридляндом, выехал из Тильзита в ставку Беннигсена и застал всех находившихся там в тревоге и отчаянии.
Знаменитому впоследствии поэту-партизану Денису Давыдову ставка показалась «рынком политических и военных спекулянтов, обанкротившихся в своих надеждах, планах и замыслах».
В ставке императора возникло две партии – «мира» и «войны», стоявших, соответственно, за подписание мира и, напротив, за продолжение войны.
Александр колебался, не зная, чью сторону принять.
Барон Г. А. Розенкампф, хорошо осведомленный в делах двора, вспоминал впоследствии: «Неблагоприятный исход сражения при Фридлянде произвел очень сильное впечатление на государя. Так как его армия была слишком слаба, то он решился еще раз умилостивить грозу, и последовавшее за тем свидание в Тильзите разом изменило всю его политику… Император за день перед тем, как решиться на полную перемену своей политики, сидел несколько часов один, запершись в комнате, то терзаемый мыслью отступить в пределы своего государства для продолжения войны, то мыслью заключить сейчас же мирные условия с Наполеоном».
Наконец Александр решился принять план «мирной» партии, и 13 июня два императора встретились в плавучем павильоне, установленном на плоту посередине Немана, неподалеку от Тильзита. Смысл ритуала встречи состоял в том, что ни один из императоров не был ни хозяином, ни гостем, ибо встречались они на середине порубежной реки между двумя империями – Восточной и Западной.
После первой встречи оба императора решили беседовать друг с другом без свидетелей во время катания верхом, пеших прогулок по берегам Немана, свиданий один на один то у Александра, то у Наполеона. Они обменивались сувенирами и клятвами во взаимном уважении, в вечной верности и совершеннейшей искренности, а в это время их дипломаты готовили договор, кардинально изменявший систему международных отношений.
Во время свидания Александра и Наполеона в Тильзит приехала прусская королева Луиза. Она ехала туда, как на Голгофу, так как намерена была смягчить условия мира, который больнее, чем по какой-либо другой стране, бил по Пруссии. Луиза знала, что едва ли добьется этого, и оттого страдала еще сильнее, предчувствуя свое поражение. Она несколько раз оказывалась за одним столом с Наполеоном и Александром и видела, что ее чары бессильны, а надежда на твердую руку ее кумира и его помощь несчастной Пруссии умирает столь же быстро, как и ее былые чувства к Александру. «Она видела, – писал видный французский историк Альбер Сорель, – за этим столом пыток, в этом салоне унижения, друга, который вызывал такое преклонение и который теперь был неузнаваем, такого Александра, о каком она не подозревала: полную противоположность прежнего, карикатуру на него, с игривой улыбкой на довольном лице кукольного архангела».
Луиза уже не видела в глазах Александра вдохновения, которое горело в них летом 1802 года в Мемеле, и не могла более сравнивать его с Альпами. Чувство, расцветшее пять лет назад на почве сердечной симпатии, погибло под холодными ветрами политики, еще раз доказав, что любовь и политика не имеют ничего общего. Так оно и случилось, когда договор между Францией и Россией был подписан.
Суть договора свелась к тому, что территориальные изменения были произведены прежде всего за счет Пруссии, потерявшей около половины своих земель и населения. Другие статьи касались положения в Средиземноморье, в Молдавии, вокруг Турции и даже во французских колониях, захваченных англичанами.
25 июня был подписан русско-французский договор о мире и дружбе, а через три дня франко-прусский мирный договор, сразу же окрещенный «карательным трактатом», по которому Пруссия с головой выдавалась Наполеону с молчаливого согласия Александра.
…Когда Александр вернулся в Петербург, он обнаружил оппозицию своей новой политике значительно большую, чем мог ожидать. Против были вдовствующая императрица Мария Федоровна, любимая сестра Александра Екатерина Павловна, большинство духовенства, дворянства и купечества. Если Аустерлиц, Эйлау и Фридлянд считали скорее несчастьями, чем поражениями, то к Тильзиту отнеслись как к национальному позору и неслыханному бесчестью. В высшем обществе вспыхнула волна ненависти ко всему французскому: французские оперы шли при пустых залах, послов Наполеона – сначала генерала Савари, а затем сменившего его генерала графа Коленкура – не принимали почти ни в одном аристократическом доме Петербурга.
Предчувствие смертельной схватки с Наполеоном охватило все русское общество. Адъютант П. И. Багратиона Денис Давыдов, писал об этом времени: «1812 год стоял среди нас, русских, как поднятый окровавленный штык».
Но Александр продолжал начатое дело и сменил тех министров, которые недостаточно энергично проводили новую политику. Министром иностранных дел стал сын фельдмаршала Румянцева, граф Николай Петрович Румянцев, откровенный сторонник профранцузской ориентации, министром внутренних дел был назначен Михаил Михайлович Сперанский, а в январе 1808 года появился и новый военный министр – А. А. Аракчеев.
А меж тем назревали новые войны, на сей раз с недавними союзниками – Англией и Швецией, ибо такими были требования Тильзитского договора, подписанного Россией…
Обручение и свадьба великой княжны Екатерины Павловны с герцогом Ольденбургским Георгом-Петром
Выполняя условия Тильзитского договора, Россия 7 ноября 1807 года объявила войну Англии, а в феврале 1808 года русские войска вторглись в Финляндию, принадлежащую Швеции.
2 сентября 1808 года Александр уехал на свидание с Наполеоном в Эрфурт, где была подписана секретная Конвенция о переходе Молдавии и Валахии от Турции к России, за что Россия принимала на себя обязательства участвовать вместе с Францией в войне против Австрии.
Таким образом, было совершенно ясно, каким путем пойдет Россия, и ее внешняя политика казалась абсолютно однозначной и долговременной.
Следовало сделать столь же определенной и долговременной и внутреннюю политику, расставив политические акценты там, где они расставлены еще не были.
Как бы успокаивая общество, как бы обращая его внимание на самые приятные стороны жизни, 1809 год начался в Санкт-Петербурге продолжительными и пышными праздниками и балами не только в Зимнем дворце, но и во многих дворцах титулованной знати в честь прусской королевской четы – Фридриха III и королевы Луизы.
Три недели шли эти празднества, и совершенно органично, хотя и несколько неожиданно, вплелось в эти торжества еще одно радостное событие: в доме Романовых состоялось обручение Великой княжны Екатерины Павловны с герцогом Петром Ольденбургским.
Обручение Екатерины Павловны завершало одну из историй в доме Романовых, о которой мало кто знал в то время, когда она происходила, да и впоследствии не многие оказались осведомленными в личной жизни этой незаурядной женщины, которую при дворе не без скрытой аналогии называли «Екатериной III».
Любимая сестра Александра – четвертая дочь Павла Екатерина Павловна – была умна, красива и грациозна, имела живой и энергичный характер и редкое обаяние. Кроме того, она была безмерно честолюбива и всегда стремилась играть первую роль. В перспективе видела она себя российской императрицей и соответственно этому поступала. По словам австрийского посла при петербургском дворе Сен-Жюльена, Екатерина Павловна готовилась к тому, чтобы последовать примеру своей тезки-бабушки и когда-нибудь занять российский трон.
Первый раз такая возможность предоставилась ей, когда Павел задумал сделать своим наследником Евгения Вюртембергского, женив его на Екатерине Павловне. И жениху, и невесте было, тогда по 13 лет, но Евгений отказался от сватовства, так как невеста показалась ему мрачной, скрытной и чопорной.
Чуть позже возникла идея выдать Екатерину Павловну за овдовевшего австрийского императора Франца, который был старше ее на двадцать лет и к тому же обладал весьма скверным характером, был очень некрасив и крайне неряшлив и неопрятен, что, впрочем, не останавливало потенциальную невесту. Однако, как оказалось, вопрос решали без хозяина – Франц и не собирался родниться с Александром, и сватовства с его стороны не последовало.
Однако и этот пассаж не обескуражил честолюбивую Екатерину Павловну. Она увлеклась человеком еще более пожилым, который был старше ее на двадцать три года и к тому же не был разведен со своей женой, бросившей его и уехавшей за границу. Этого человека звали Петром Ивановичем Багратионом. Он был генералом, князем и внуком грузинского царя, что делало брак вполне допустимым.
Жена Петра Ивановича – урожденная графиня Екатерина Павловна Скавронская, женщина красивая, богатая и легкомысленная, по отцу была в родстве с императрицей Екатериной I, а по матери – с князем Потемкиным-Таврическим. По-видимому, она унаследовала многие качества и своей разгульной прабабки, и не менее распущенного деда. Княгиня Багратион недолго прожила со своим вечно занятым службой и походами мужем и, соскучившись по иной жизни, более ей импонировавшей, уехала в Вену, где и пришлась ко двору и в прямом, и в переносном смысле. Не только русский посол Андрей Кириллович Разумовский не чаял в ней души, но еще более увлекся ею великий женолюб и сладострастник канцлер Австрийской империи, князь Клеменс Меттерних, которому со временем княгиня Багратион подарила дочь. Оставшийся в России Петр Иванович, хотя и не был еще разведен, но уже почитался завидным женихом.
И, возможно, царственный альянс Великой княгини с выдающимся полководцем, любимцем армии, и состоялся бы, если бы не дворцовая интрига. Статс-секретарь М. М. Сперанский, в то время пользовавшийся у государя большим влиянием, как-то намекнул императору, что наметившийся союз небезопасен для него, ибо «Екатерина III», оперевшись на авторитет прославленного генерала, вполне сможет повторить 11 марта 1801 года.
Для впечатлительного Александра этого оказалось достаточно – Багратион был отправлен на театр военных действий в Финляндию, а несостоявшаяся невеста, поняв, что и эта ее брачная комбинация не удалась, увлеклась новым кандидатом – князем Долгоруковым. И в данном случае речь шла о замужестве, но против Долгорукова выступила жена Александра, и очередной альянс снова распался.
Наконец, 1 января 1809 года Екатерину Павловну сосватали с принцем Георгом Ольденбургским, генерал-майором русской службы, младшим сыном не очень крупного владетельного немецкого князя. Георг был некрасив, во всем посредственен, но зато скромен, услужлив, уступчив и тем самым весьма удобен для властной и честолюбивой Великой княжны. В дальнейшем принц Ольденбургский показал себя подлинным российским патриотом, отдавшим жизнь за победу в войне с Наполеоном.
Принца Ольденбургского, ставшего членом императорской фамилии, тут же сделали генерал-губернатором трех губерний – Тверской, Новгородской и Ярославской, образовав из них наместничество с центром в Твери, после чего Екатерина Павловна превратила свой дворец в этом городе в один из лучших литературно-художественных салонов России, в котором непременно оказывались многие выдающиеся деятели русской культуры, проезжавшие через Тверь в Петербург и Москву. Считал своим приятным долгом заезжать к своей любимой сестре и Александр, сохранивший к Екатерине Павловне самые добрые и, как утверждали, совсем не братские чувства и после ее замужества.
* * *
Теперь же коснемся еще одного основательно забытого сюжета, который в семье Романовых никогда не разглашался и всегда считался тайной за семью печатями, но коль скоро сегодня мы можем вспомнить и о нем, то и расскажем в подробностях, которые нам известны.
Любовь и смерть кавалергарда Алексея Охотникова
За два года до рождения внебрачного сына у Константина у его старшего брата родилась дочь. И хотя рождена она была в законном браке, радости от ее появления на свет августейший отец не испытал.
С рождением второй дочери Елизаветы Алексеевны связывали загадочную, как мы теперь сказали бы детективную историю, героем, а точнее жертвой которой стал близкий императрице человек – ротмистр Алексей Яковлевич Охотников.
Охотников был кавалергардом, и потому его биография помещена в «Сборнике биографий кавалергардов 1801—1826», составленном С. А. Панчулидзевым и вышедшем в свет в Санкт-Петербурге в 1906 году.
С. А. Панчулидзев пишет, что за два года до своей смерти 24-летний штаб-ротмистр кавалергардского полка Алексей Яковлевич Охотников влюбился в Елизавету Алексеевну, зная, что Александр оставил ее из-за своей любви к Нарышкиной. И хотя он знал, что императрица совершенно неприступна из-за того, что она, вопреки всему, любит мужа, Охотников не терял надежды, и вскоре Елизавета Алексеевна откликнулась на его чувство. Об их близости узнал Константин Павлович, и вечером 4 октября 1806 года нанятый им убийца ударил Охотникова кинжалом в бок, когда штаб-ротмистр выходил из театра. Раненого Охотникова привезли домой без чувств. Придя в себя, он прежде всего попросил все случившееся сохранить в тайне, объясняя свою рану дуэлью. Домашние знали, что за дуэли полагается строгое наказание, и поэтому молчали. К нему немедленно приехал личный хирург Елизаветы Алексеевны, перевязал рану и, опасаясь роковых последствий, остался ночевать в соседней комнате. Ночью врач встал, подошел к постели Охотникова и увидел, что она пуста. Врач кинулся в гостиную и нашел Охотникова лежавшим без чувств на диване, а на столе обнаружил только что оконченное письмо к Елизавете Алексеевне, в котором раненый, успокаивая находившуюся на последнем месяце беременности императрицу, умолял не верить городским слухам и заверял, что все в порядке. Доктор уложил Охотникова в постель и обещал передать письмо в руки Елизаветы Алексеевны.
Несмотря на уход и заботы, рана не заживала, и через три недели Алексей Яковлевич почувствовал, что умирает. Через доктора безутешно скорбевшая императрица, предупредила своего возлюбленного о том, что придет к нему, и послала в дом к умирающему свою родную сестру, принцессу Амалию Баденскую, которая жила тогда в Петербурге и стала посредницей между императрицей и Охотниковым. Амалия приехала к Охотникову и сообщила, что Елизавета Алексеевна будет у него в девять часов вечера. Охотникова одели в мундир, убрали комнату, где он лежал, цветами, но значительные перемены в лице, болезненная худоба и сильный жар все же бросились в глаза приехавшей Елизавете Алексеевне. Она с трудом сдерживала рыдания и старалась быть спокойной и даже веселой. Когда она, прощаясь, поцеловала больного в губы, Охотников сказал:
– Я умираю счастливым, но дайте мне что-нибудь, что я унесу с собою.
Елизавета Алексеевна отстригла локон, положила его в золотой медальон и сняла с пальца кольцо. Утром Охотников причастился, исповедался и, попросив положить с ним в гроб кольцо и медальон, тихо умер.
Узнав о смерти своего возлюбленного, Елизавета Алексеевна и сама едва не умерла. Ничто не могло ее остановить – ни гнев Александра, ни боязнь скандала, ни то, что она была на последних днях беременности. Она бежала из дворца и, приехав в дом Охотникова, долго стояла у его гроба на коленях, рыдая и молясь.
Охотников умер 30 октября, а 3 ноября, на четвертый день после его смерти и почти сразу после похорон, Елизавета Алексеевна родила дочь, названную Елизаветой. С первого же дня мать безумно полюбила девочку, называя ее «котеночком». Это слово – «котеночек» – она писала по-русски в письмах к матери, написанных по-французски. Свекровь императрицы Мария Федоровна говорила об этом ребенке одному близкому ей человеку: «Я никогда не могла понять отношения моего сына к этому ребенку, отсутствия в нем нежности к нему и к его матери. Только после смерти девочки поверил он мне эту тайну, что его жена, признавшись ему в своей беременности, хотела уйти, уехать. Мой сын поступил с ней с величайшим великодушием».
Елизавета Алексеевна оказалась не только несчастной любовницей и покинутой женой, но и совершенно злосчастной матерью. Ее Лизонька прожила, как и дочь Чарторижского Мария, совсем немного и умерла через полтора года, 30 апреля 1808 года. Девочку похоронили на одном с ее отцом кладбище – в Александро-Невской лавре, и, когда осиротевшая мать приезжала к ней на могилу, она навещала и могилу Охотникова, над которой через полгода после его похорон был поставлен дорогой большой памятник: на скале возле сломанного молнией дуба стояла коленопреклоненная женщина, держащая в руках погребальную урну…
Небогатые родственники Охотникова не могли поставить такой памятник. Это сделала безутешная Елизавета Алексеевна.
Отечественная война 1812 года и некоторые аспекты, связанные с нею
Весной 1809 года войска Барклая-де-Толли разгромили Швецию, и после ее капитуляции Финляндия вошла в состав Российской империи.
30 апреля французские войска вошли в Вену после страшного разгрома армии Франца под Ваграмом. Россия за формальное сотрудничество с Наполеоном присоединила к себе часть Галиции с Тернополем и землями вокруг него.
Успешно завершив дипломатическое наступление подписанием договоров со Швецией и Австрией, Александр в конце ноября уехал в Россию и по дороге из Петербурга в Москву навестил в Твери Екатерину Павловну и ее мужа. Отсюда вместе с сестрой и шурином Александр выехал в Москву и 6 декабря был уже восторженно встречен москвичами.
Вернувшись в Петербург, он назначил председателем Департамента военных дел Аракчеева, а Военным министром – Барклая-де-Толли.
Многие современники считали Барклая-де-Толли немцем, на самом же деле по происхождению он был шотландцем, чьи предки попали в Прибалтику в XVII веке, здесь онемечились, но после присоединения Риги Петром I к России перешли на русскую службу, и уже дед Барклая-де-Толли был губернатором Риги, а его отец – Готтард Барклай – офицером русской армии. Сам военный министр был пламенным русским патриотом, о чем свидетельствует вся его жизнь.
Александр тотчас же начал интенсивную подготовку к предстоящей войне с Наполеоном. Первым делом было решено реконструировать старые и построить новые инженерные сооружения на западных рубежах страны. Александр внимательно следил, как строилась Динабургская крепость в устье Двины, возле Риги, как создавалось предмостное укрепление на реке Березине против города Борисова, как укреплялись Бобруйск и Киев. Особенно интересовал Александра укрепленный лагерь на реке Дрисса, создаваемый по инициативе его военного советника, прусского генерала Карла Фуля. Хотя на его строительство ушли огромные средства, лагерь был настолько бездарно спланирован, что занявшие его без боя в 1812 году французы «называли лагерь образцом невежества в науке укрепления мест, – писал А. П. Ермолов, ставший к 1812 году генералом. – Мне не случалось слышать возражений против того», – добавлял он.
Одновременно во всех западных губерниях России создавались арсеналы и склады для армии, увеличивалась численность войск. В результате трех рекрутских наборов численность регулярных войск достигла полумиллиона человек, а количество артиллерийских орудий – 1600.
Из-за брака Наполеона с австрийской принцессой Марией-Луизой Австрия стала союзницей Франции, и хотя Пруссия тоже вынуждена была стать сателлитом Наполеона, в России понимали, что и для Австрии, и для Пруссии все это – вынужденные роли, и потому в Санкт-Петербурге отнеслись к этому совершенно спокойно и с должным пониманием: Александр даже известил Фридриха-Вильгельма III, что по-прежнему считает его своим союзником и после победы над Наполеоном вознаградит Пруссию ее плодами.
Весной 1812 года в Санкт-Петербург непрерывной чередой шли сообщения о передислокации наполеоновских войск, состоявших не только из французских корпусов, но еще и из армий «двунадесяти языков» – от Испании до Польши, и что более чем полумиллионная «Великая армия» по множеству дорог приближается к западным русским границам.
Царь передал французскому послу в России Ж. – А. Лористону, что вынужден выехать к армии, чтобы воспрепятствовать своим генералам предпринять какие-нибудь нечаянные действия, которые могли бы вызвать вооруженный конфликт между двумя странами.
9 апреля 1812 года царь выехал из столицы и на пятые сутки прибыл в Вильно, где размещался штаб самой большой русской армии – Первой, насчитывающей 127 тысяч солдат и офицеров, находившихся под командованием Барклая-де-Толли.
Далее – на юг – стояли: в Волковыске – 2-я армия Багратиона, 39 тысяч человек; на Волыни – 3-я армия Тормасова, 48 тысяч; на Дунае – 4-я армия Кутузова, которая могла не приниматься в расчет, так как имела целью противостоять туркам, мирные переговоры с которыми шли уже давно, но еще не были завершены.
Меж тем 9 июня Наполеон доехал до русской границы и остановился в маленьком литовском городке Вилкавшикис.
К этому времени большая или, как ее называли во Франции, «Великая армия», насчитывавшая более 600 тысяч человек при 1372 орудиях, развернулась вдоль западной границы России от Восточной Пруссии до Волыни, имея на главном направлении – в районе Литвы – трехкратный перевес сил.
В ночь на 12 июня Великая армия начала переправу через Неман около города Ковно (ныне Каунас).
* * *
В ночь на 15 июня Барклай получил приказ Александра отвести 1-ю армию к Свенцуянам, где находились император, гвардейский корпус, которым командовал Константин, и его Главная квартира, а 2-й армии Багратиона приказано было идти к Вилейке.
18 июня 1-я армия выступила из Свен-цуян и, выполняя приказ Александра, двинулась к Дрисскому лагерю, куда должна была прийти и 2-я армия Багратиона.
29 июня Александр собрал Военный совет, постановивший немедленно оставить неудачно построенный Дрисский лагерь, так как он мог превратиться в ловушку для армии, и отходить к Полоцку, куда должен был подойти со 2-й армией и Багратион.
2 июля 1-я армия вышла из лагеря и 6 июля остановилась в Полоцке. Отсюда, препоручив армию Барклаю, царь уехал в Санкт-Петербург.
11 июля он прибыл в Москву, убедился в единодушной поддержке дворян и купцов. Московские купцы пожертвовали более двух миллионов рублей, а дворяне решили сдать в армию каждого десятого крепостного.
Во время пребывания в Москве Александр получил мирный договор о завершении войны с Англией. Еще по дороге в Москву, когда 9 июля он остановился в Смоленске, ему был вручен и мирный договор с Турцией, подписанный в Бухаресте Кутузовым и уже ратифицированный султаном.
В ночь на 19 июля Александр выехал в Петербург и после суточной остановки в Твери у Екатерины Павловны и ее мужа Георга Ольденбургского 22 июля прибыл в столицу.
Он поселился во дворце на Каменном острове и ежедневно по многу часов занимался делами армии, по-прежнему отдавал распоряжения и Главной квартире, и части свиты, оставшейся при действующей армии. Придворные были свидетелями того многозначительного факта, что военные, находившиеся в свите императора, постоянно носили шпоры, что означало: они все еще вместе со своим монархом находятся в походе.
Между тем события на театре военных действий разворачивались следующим образом: после отъезда Александра 1-я и 2-я армии 22 июля соединились в Смоленске, но не смогли удержать город и после упорного боя, продолжавшегося с 4 по 6 августа, оставили его и отошли на восток. Смоленск был оставлен по приказу Барклая, но целесообразность этого приказа не разделялась командующим Гвардейским корпусом Константином, командующим 2-й армией П. И. Багратионом, да и самим Александром.
Отступление из-под Смоленска окончательно испортило взаимоотношения Барклая и Багратиона: с этого момента и до Бородинского сражения князь Петр Иванович считал тактику Барклая гибельной для России, а его самого – главным виновником всего происходящего.
В письмах к царю, к Аракчееву, ко всем сановникам и военачальникам Багратион требовал поставить над армиями другого полководца, который пользовался бы всеобщим доверием и наконец прекратил бы отступление.
5 августа Александр поручил решить вопрос о главнокомандующем специально созданному для этого Чрезвычайному комитету. В него вошли шесть человек, самых близких к царю: фельдмаршал Н. И. Салтыков – председатель Государственного Совета и председатель Комитета Министров; А. А. Аракчеев, генерал-лейтенант С. К. Вязьмитинов, генерал-адъютант А. Д. Балашов, князь П. В. Лопухин и граф В. П. Кочубей. Были обсуждены пять кандидатур – Беннигсена, Багратиона, Тормасова, Палена и наконец Кутузова, которого члены комитета единодушно признали наиболее достойным этого назначения.
Чрезвычайный комитет немедленно представил свою рекомендацию императору. Однако Александр принял окончательное решение лишь через три дня – 8 августа. В этот день Кутузов был принят императором и получил рескрипт о назначении главнокомандующим.
11 августа, в воскресенье, Кутузов выехал из Петербурга к армии. Толпы народа стояли на пути его следования, провожая полководца цветами и сердечными пожеланиями успеха. 17 августа, в третьем часу дня он приехал в Царево-Займище, куда уже пришли обе армии. Увидев солдат, Кутузов тут же похвалил их: «Ну как с этакими молодцами не побить француза?» – и тотчас получил ответ: «Едет Кутузов бить французов!»
Кутузов застал войска готовящимися к сражению – вовсю шло строительство укреплений, подходили резервы, полки занимали боевые позиции.
Главнокомандующий немедленно созвал Военный совет, который единогласно высказался за генеральное сражение. Кутузов тоже проголосовал за это, но как только заседание кончилось, тут же отдал приказ генерал-квартирмейстеру Карлу Толю – талантливейшему немцу-полковнику, а затем и генералу, автору многих прекрасных стратегических решений в этой войне, готовить армию к отходу, а офицерам квартирмейстерской части подыскивать новые позиции. Сделай то же самое Барклай, армия была бы близка к вооруженному мятежу. Но Кутузов был любимцем солдат, соратником и другом Суворова, настоящим русским генералом, и кому же, как не ему, можно было безоговорочно верить?!
И ему верили, хотя он все ближе подходил к Москве, пока наконец не остановился в ста сорока верстах от Первопрестольной, на огромном поле возле села Бородино.
Об этом сражении написаны сотни книг и тысячи статей, и мы не станем повторять то, что давно известно.
26 августа в половине шестого утра началось Бородинское сражение, продолжавшееся весь день. Около ста тысяч убитых осталось лежать на поле брани, но ни одна из сторон не достигла тех целей, к которым стремилась.
«Из всех моих сражений, – писал впоследствии Наполеон, – самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми».
С наступлением темноты Кутузов отдал распоряжение предоставить ему списки потерь и приказал готовиться к продолжению сражения на следующий день.
В донесении Александру, написанном в ночь на 27 августа прямо на позиции при Бородине, когда еще не было известно о понесенных потерях, Кутузов сообщал: «Войска Вашего императорского величества сражались с неимоверною храбростью. Батареи переходили из рук в руки, и кончилось тем, что неприятель нигде не выиграл ни на шаг земли с превосходными своими силами».
Написав это, Кутузов получил сообщение, в котором указывалось, что его потери превосходят сорок тысяч человек.
Такой итог первого дня заставил Кутузова изменить решение о продолжении сражения, и он отдал приказ об отходе армии с занимаемых позиций.
Курьер с донесением о сражении при Бородине еще не отправился в Петербург, и Кутузов приписал, что из-за больших потерь он отступает за Можайск.
Победный тон реляции заставил Александра подумать, что речь идет о смене позиции для продолжения генерального сражения, в победном исходе которого, как он понял, не сомневается даже осторожный Кутузов, и тотчас же велел служить благодарственные молебны во всех церквах, объявляя о победе, одержанной над Наполеоном.
Кутузов был произведен в фельдмаршалы и ему было пожаловано сто тысяч рублей. Его жена Екатерина Ильинична стала статс-дамой. Героя Бородина Барклая-де-Толли, чей правый фланг нерушимо стоял весь день, царь наградил орденом Георгия 2-й степени. П. И. Багратион, смертельно раненный, был награжден пятьюдесятью тысячами рублей, а всем солдатам и унтер-офицерам, оставшимся в живых, было выдано по пяти рублей.
Последующая неделя прошла для Александра и всех жителей Петербурга в томительном ожидании известий из армии. День шел за днем, а никаких сообщений о ходе военных действий не было.
Только 7 сентября, через десять дней после отступления русских войск от Бородина, когда уже Москва не только была сдана Наполеону, но и почти сгорела дотла, а армия Кутузова уже уходила по Старой Калужской дороге к Тарутину, сообщение об этом пришло в Петербург. И это было написано не Кутузовым, а московским Главнокомандующим Ростопчиным, уехавшим из Москвы в Ярославль. Оттуда-то и послал он свое сообщение Александру о сдаче и сожжении Москвы.
Это известие произвело на императора сильнейшее впечатление – он поседел за одну ночь, но остался тверд в намерении бороться с Наполеоном до победы, чего бы она ни стоила. А 8 сентября наконец пришло донесение и от Кутузова.
Прочитав его, Александр сказал доставившему депешу полковнику Мишо: «Возвратитесь в армию, скажите нашим храбрецам, скажите моим верноподданным везде, где вы проезжать будете, что если у меня не останется ни одного солдата, то я созову мое дорогое дворянство и добрых крестьян, что я буду предводительствовать ими и пожертвую всеми средствами моей Империи. Россия предоставляет мне более способов, чем неприятели думают. Но ежели назначено судьбою и промыслом Божиим династии моей более не царствовать на престоле моих предков, тогда, истощив все средства, которые в моей власти, я отращу себе бороду и лучше соглашусь питаться картофелем с последним из моих крестьян, нежели подпишу стыд моего отечества и дорогих моих подданных, коих пожертвования умею ценить. Наполеон или я, я или он, но вместе мы не можем царствовать; я его узнал, он более не обманет меня!»
Вскоре царь узнал имена героев Бородина и понял, что их были тысячи и принадлежали они ко многим народам России.
Александр узнал о сонме русских героев: Раевском, Коновницыне, Ермолове, Немировском, о братьях Тучковых и множестве иных.
Но ему говорили о Барклае, под которым в день Бородина пало четыре лошади, было убито и искалечено пять немцев-адъютантов, бывших возле него, прострелены плащ и треуголка, а он, ни на секунду не теряя самообладания, рубился в самом пекле сражения.
После того как раненного Багратиона увезли с поля боя, центр сражения переместился к Курганской высоте, на которой стояла батарея Раевского. Когда французы в два часа дня начали ее штурм, поддержанные огнем трехсот орудий, они столкнулись с колышущейся, ощетинившейся штыками живой стеной, непробиваемой и несокрушимой. Здесь стояли пехотные полки А. И. Остермана-Толстого, кавалеристы из 2-го корпуса Ф. К. Корфа и 3-го корпуса Крейца и четыре лейб-гвардейских полка. 24-я дивизия старика Лихачева пала на высоте вся, до последнего человека.
Град посыпавшихся на героев Бородина звезд, крестов, бриллиантов и золота был столь обилен, что мог быть сравним только с градом ядер и пуль, просыпавшимся над полем сражения.
Назову здесь лишь наиболее прославленных генералов и офицеров-немцев, кроме уже названных выше.
Это – Л. Л. Беннигсен, К. К. Сиверс, Г. А. Эмануэль, А. И. и К. И. Бистромы, К. Ф. Левенштерн, принц Евгений Вюртембергский, Х. И. Лодор, Э. И. Рейнгольз, И. Ф. Удом, Е. Ф. Корн, К. Ф. Багговут, многие другие, здесь не названные, а сколько еще было их в других корпусах и армиях, не участвовавших в Бородинском бою, но стоявших на всем пространстве противостояния от Петербурга до Австрии.
* * *
Далеко не все сановники и даже люди из ближайшего окружения царя были настроены так решительно, как Александр. Главными из тех, кто робел и даже паниковал в эти дни, не веря в возможность России победить Наполеона, были Великий князь Константин Павлович, старый доброхот Наполеона канцлер Н. П. Румянцев и известный своей робостью генерал от артиллерии Аракчеев, ни разу в жизни не побывавший в огне сражений. А сторонниками и горячими поборниками борьбы до победы были мать царя, его жена и любимая сестра Екатерина Павловна.
Лично для Александра сдача и сожжение Первопрестольной были трагедией и заставили глубоко задуматься над тем, о чем раньше он размышлял лишь время от времени. «Пожар Москвы, – говорил впоследствии Александр, – осветил мою душу». Именно в эти дни он почти впервые стал искать смысл жизни, обратившись прежде всего к Библии.
Человеком, которому Александр доверился в этом новом для него состоянии, был один из товарищей его молодости, князь Александр Николаевич Голицын – обер-прокурор Синода, которого его государственная должность превратила из легкомысленного и блестящего светского щеголя в истинно верующего человека. И когда Александр признался ему в своих горестях, Голицын посоветовал царю обратиться к Библии.
Александр стал систематически, с карандашом в руках читать Библию и очень скоро превратился в глубоко и искренне верующего.
Между тем уход армии из Москвы и сожжение Первопрестольной, а также дальнейшее отступление вызвали всеобщий ропот и открытое возмущение императором, его двором и военачальниками.
15 сентября 1812 года, в день очередной годовщины коронации Александра, атмосфера в Петербурге накалилась настолько, что высшие полицейские чины не исключали возможности покушения на царя, которого считали главным виновником всех бед.
Впервые в жизни Александр не поехал в собор на молебен верхом, а отправился вместе с матерью и женой в карете.
Когда царская карета подъехала к Казанскому собору, его самого и свиту встретила хмурая и озлобленная толпа.
Графиня Эделинг, бывшая в это время в свите жены Александра, писала: «Никогда в жизни не забуду тех минут, когда мы вступали в церковь, следуя посреди толпы, ни единым возгласом не заявлявшей своего присутствия. Можно было слышать наши шаги, а я убеждена, что достаточно было малейшей искры, чтобы все кругом воспламенилось. Я взглянула на государя, поняла, что происходит в его душе, и мне показалось, что колена подо мною подгибаются».
Недовольство дворянства и других сословий распространялось и на Кутузова, которого обвиняли в лени и трусости.
А Кутузов в это время совершил блестящий военный маневр. Оставив горящую Москву, он тайно увел всю армию на юго-восток, за 80 верст от Первопрестольной, к селу Тарутино и стал там лагерем, объединив остатки 1-й и 2-й армий в одну – Главную – армию. За счет подошедших резервов численность войск возросла с 80 до 120 тысяч. Подошло много казачьих полков. Было подвезено оружие, боеприпасы, тысячи тонн продовольствия. Создавались сильные и многочисленные партизанские отряды.
6 октября Кутузов нанес внезапный удар по 26-тысячному отряду маршала Мюрата, стоявшему в шести километрах от Тарутина, силами Беннигсена, Остермана-Толстого, Багговута и Орлова-Денисова. Наносили удар и партизаны Дорохова и немца Александра Фигнера. В результате сражения Мюрат отступил к Москве, что было воспринято как значительный успех русских войск.
Только после победы в Тарутинском сражении, произошедшем 6 октября, и к Александру, и к Кутузову стало возвращаться былое расположение общества.
15 октября с известием о победе под Тарутином в Петербург во второй раз прибыл полковник Мишо.
Передав рапорт Кутузова, Мишо добавил на словах, что в армии ждут приезда Александра и хотят, чтобы он сам принял командование.
Александр ответил, что, хотя он, как и все люди, честолюбив, хорошо понимает, в сколь тяжелом положении находится неприятель, и уверен в несомненном успехе его армии, он все же не станет Главнокомандующим, потому что по сравнению с Наполеоном он малоопытен и может совершить дорого стоящие ошибки. «И я готов, – сказал Александр, – пожертвовать личной славой для блага армии. Пусть пожинают лавры те, которые более меня достойны их».
В день поражения французской армии под Тарутином ее главные силы начали уходить из Москвы, желая пробиться на Новую Калужскую дорогу. Однако 12 октября они были остановлены под Малоярославцем. По остроумному замечанию бывшего французского посла в России генерала графа Сегюра, «здесь, под Малоярославцем, остановилось завоевание вселенной, исчезли плоды двадцатилетних побед и началось разрушение всего, что думал создать Наполеон».
16 октября Наполеон, не решаясь вступать в новое сражение, вышел на Смоленскую дорогу, которая до самого Днепра проходила по пустынным, разоренным войной местностям.
Кутузов двинулся ему вслед, а армия Чичагова (4-я, ушедшая с Дуная) пошла наперерез, направляясь к Минску.
В этот же день, 16 октября, кончилась теплая погода, термометр показывал – 4, на лужах появился лед и резкий, холодный северо-восточный ветер принес первое дыхание надвигающейся долгой и морозной зимы.
Сражения под Вязьмой 22 октября и под Красным, длившееся три дня – с 3 по 6 ноября, – не привели к окончательному разгрому Великой армии, благодаря ряду ошибок русского командования и стратегическому гению Наполеона.
По той же причине 14 – 16 ноября остаткам Великой армии удалось перейти Березину и ускользнуть от окончательного поражения.
8 ноября кавалерией В. В. Орлова-Денисова был взят Вильно. Из ста тысяч русских войск, вышедших из Тарутина, до Вильно дошло сорок две тысячи.
От Великой же армии осталось не более двадцати тысяч почти безоружных пехотинцев.
* * *
7 декабря Александр выехал из Петербурга в Вильно.
11 декабря он прибыл в Вильно, а 12 декабря, в свой день рождения, торжественно наградил Кутузова орденом Георгия 1-го класса – первого и единственного из русских военачальников в войне 1812 года. (Потом, в 1813—1814 годах, в Заграничном походе, после взятия Парижа такую же награду получат Барклай и Беннигсен.) В этот же день Александр сказал собравшимся во дворце генералам: «Вы спасли не одну Россию, вы спасли Европу». Присутствовавшие при этом хорошо поняли, о чем идет речь – их ждал впереди Освободительный поход.
Ближайшие же дни вполне подтвердили такую догадку – армия начала готовиться к переходу через Неман.
И тогда же был оглашен царский манифест об амнистии всем полякам, служившим в войсках Наполеона или оказывавшим его армии или администрации какие-либо услуги.
В день Рождества, 25 декабря, главные силы русской армии вышли из Вильно и двинулись к Мерече-на-Немане.
1 января 1813 года, отслужив молебен, Александр и Кутузов вместе с армией перешли Неман.
Герцог Ольденбургский и Екатерина Павловна в России
Одной из причин, по которой Екатерина Павловна была выдана замуж за герцога Ольденбургского, было то, что вдовствующая императрица Мария Федоровна – женщина властная и упрямая – ни за что не хотела отпускать свою самую любимую дочь из России.
К тому же ей весьма импонировал будущий зять – он был скромен, послушен, серьезен и весьма к ней почтителен. Немаловажным было и то, что происходил он от младшей ветви Гольштейн-Готторпского дома, а герцогство Ольденбург с 1773 года – еще со времен Екатерины II – находилось под покровительством Российской империи. С тех пор герцоги Ольденбургские именовались «Их Императорскими Высочествами» и были уравнены и в династических правах с домом Романовых, ибо Российский Императорский дом именовался «Домом Романовых и Гольштейн-Готторпов».
Как уже говорилось, после свадьбы герцог был назначен генерал-губернатором трех губерний: Тверской, Новгородской и Ярославской, в ранге наместника. Кроме того, принц Георг-Петр был назначен и Главноуправляющим путями сообщения. Ко всем своим обязанностям герцог относился очень серьезно.
Молодые жили в мире и согласии.
18 августа 1810 года у них родился сын, названный Фридрихом-Павлом-Александром. Чтобы не возвращаться к этому новому персонажу, заметим, что мальчику не суждено было жить долго: он не дожил до двадцати лет и умер в Ольденбурге 4 ноября 1829 года, пережив все же и отца, и мать на много лет.
В Твери Екатерина Павловна не скучала: она превратила свой дом в изысканный салон науки и искусства, где бывали многие известные литераторы, музыканты, врачи и путешественники.
В начале февраля 1811 года в Тверь приехал Карамзин и там написал свою знаменитую «Записку о древней и новой России». Инициатором ее создания была Екатерина Павловна. В конце февраля 1811 года Карамзин закончил «Записку» и отдал ее Великой княгине для передачи императору Александру.
В марте в Тверь приехал царь, познакомился там с Карамзиным и вступил с ним в дискуссию о самодержавии. Мнения разошлись, и в дальнейшем Карамзин писал: «Я не имел счастья быть согласен с некоторыми его мыслями».
«Записка» тоже не понравилась Александру, но все же он по-прежнему благоволил к честному труженику на ниве отечественной истории.
А «Историю Государства Российского» – главный труд своей жизни, – читал Карамзин Великой княгине много раз, потратив на чтение несколько недель.
До самой своей смерти, последовавшей в 1819 году в Вюртемберге, Екатерина Павловна переписывалась с Карамзиным, став не только его восторженной почитательницей, но и настоящим другом.
Сама же Екатерина Павловна увлеченно занималась трудным делом домоводства во всех его тонкостях и сложностях, наведя во дворце образцовый порядок. Досуги свои чаще всего она отдавала живописи, став, как и ее мать, прекрасной художницей. Почти всегда сопровождала Екатерина Павловна своего мужа, когда он уезжал в Москву, Петербург или вверенные ему губернии – Новгородскую и Ярославскую. И была она в этих поездках не праздной путешественницей, а хорошим его помощником.
В сентябре 1811 года в Тверь приехал свекор Екатерины Павловны, герцог Петр-Фридрих-Людвиг, лишенный Наполеоном его владений. Александр I воспринял этот факт как желание Наполеона оскорбить его, так как включение Ольденбурга под юрисдикцию Франции не могло быть ничем иным, как прямым оскорблением российского императора.
Когда 12 июня 1812 года французская армия перешла Неман и началась война, Екатерина Павловна сразу же проявила себя выдающейся личностью, о которой, к сожалению, до сих пор хранят молчание историки.
Она стала первым организатором народного ополчения, указав императору Александру, что успех в борьбе с Наполеоном придет только в том случае, когда все сословия России будут едины в этой борьбе. Следуя этой мысли, она потребовала, чтобы каждая губерния вооружила, обмундировала и снабдила всем необходимым полк ополченцев численностью в тысячу человек.
Дворян Екатерина Павловна предлагала свести в отдельный корпус, которым руководил бы какой-нибудь выдающийся военачальник.
Уже 5 июля из лагеря при Полоцке вышли императорское воззвание и манифест, которые призывали москвичей, а вслед за ними и жителей всей России, идти в народное ополчение.
Когда же 15 июля Александр I приехал в Москву, то дворянство обязалось выставить 80 тысяч ратников, а купечество – дать безвозмездно два с половиной миллиона рублей.
Находясь в Твери, Екатерина Павловна не боялась того, что французы почти рядом с нею. «Нельзя предвидеть, где остановится поток. Но что бы ни случилось – не мириться: вот мое исповедание», – писала она 6 сентября 1812 года, когда Москва уже была сожжена, но в Твери еще не знали об этом.
Георг в это время находился в Ярославле, и вскоре туда же переехала и Екатерина Павловна.
Там было создано ополчение, состоявшее из шести полков – пяти пехотных, которыми командовал генерал-майор Яков Дедюлин, и одного конного (командир – граф Мамонов). Сама же Екатерина Павловна сформировала из тысячи собственных крестьян егерский батальон, командиром которого был флигель-адъютант, полковник князь Оболенский.
(Забегая вперед, скажем, что батальон вписал в историю войны славную страницу: он дошел до Франции, отличившись в битвах при Кенигштедте (еще в Германии) и в «битве народов» под Лейпцигом. В марте 1814 года он вошел в Париж, а в декабре 1814 года вернулся в Россию и был расформирован. В его рядах осталось менее половины ополченцев – 417 человек.)
Весной 1812 года принц Георг Ольденбургский выехал вместе с императором в армию и вместе с ним уехал и с театра военных действий. Георг не рвался в бой и без сожаления покинул армию. Возвратившись в Тверь, он занялся формированием народного ополчения и организацией лазаретов. Особенно нравились ему хлопоты по снабжению и обеспечению всем необходимым раненых, что отнимало у Георга массу времени и сил. В один из визитов в госпиталь принц заразился тифом и 15 декабря 1812 года умер.
Смерть Георга Екатерина Павловна переживала очень долго и весьма болезненно. Она перевезла его тело в Петербург и сама осталась там же, долго не приходя в себя.
Наконец, уже весной 1813 года, она почувствовала себя в состоянии подумать о собственном здоровье и обратилась к врачам. Ей порекомендовали поехать на воды в Европу. И Екатерина Павловна, взяв с собою трехлетнего сына, отправилась на юго-запад, намереваясь посетить за границей своих родственников.
Однако об этой части ее биографии, следуя хронологии событий, будет рассказано ниже.
Освободительный заграничный поход 1813 года
Новый, 1813 год начался с того, что вместе с русскими против Наполеона выступила и двадцатитысячная прусская армия, ставшая союзницей России с 18 декабря 1812 года, когда прусский генерал Йорк фон Вартбург подписал в Таурогене соглашение о совместных действиях. 18 января подписали перемирие австрийцы.
Остановившись в конце января в Плоцке, Александр превратил свою Главную квартиру в центр политического руководства, где решались все важнейшие вопросы военной стратегии и международных отношений.
Отсюда он посылал непрерывные импульсы, направленные против Наполеона, сколачивая союзы и коалиции, возбуждая народы Европы на борьбу с узурпатором, координируя действия своих, а затем и союзных армий.
Между тем общее наступление русских войск продолжалось почти безостановочно. В начале февраля они уже перешли Одер, и Главная квартира вынуждена была перебраться в немецкий город Калиш, поближе к действующим армиям. 16 февраля в Калише был подписан союзный русско-прусский договор, который положил начало новой, шестой, антинаполеоновской коалиции, последней в истории борьбы с Наполеоном.
Фридрих-Вильгельм с согласия Александра назначил главнокомандующим всеми прусскими войсками Кутузова.
26 марта Главная армия вышла из Калиша. В первом же саксонском городе – Миличе – Кутузов был встречен с необычайным воодушевлением. «Виват великому старику! Виват дедушке Кутузову!» – кричали восторженные толпы немецких патриотов.
На долю Александра тоже досталось немало восторгов: когда Главная армия 3 апреля форсировала Одер, то у моста немцы поднесли Александру лавровый венок. Однако Александр велел переслать венок Кутузову, добавив, что лавры принадлежат ему.
А между тем Кутузов чувствовал себя все хуже и 6 апреля остановился в Бунцлау, не имея возможности следовать за армией. Александр первые три дня оставался рядом с больным, но потом вынужден был покинуть Кутузова и вместе с Фридрихом-Вильгельмом отправился дальше, в Дрезден.
Следует обратить особое внимание на то, что между прусским королем и Кутузовым сложились совершенно необычные отношения: Фридрих-Вильгельм не просто почитал фельдмаршала, он буквально боготворил его.
Король стал интенсивно изучать русский язык и вскоре уже неплохо говорил по-русски с генералами и офицерами штаба. Он на каждом шагу подчеркивал свое глубочайшее уважение к «дедушке Кутузову» и вел себя с ним, как любящий сын по отношению к родному отцу.
В середине апреля 1813 года, Александр и Фридрих-Вильгельм сердечно распрощались с больным и, глубоко опечаленные, отправились к армии.
Оба монарха оставили Кутузову своих лейб-медиков – Виллие и Гуфеланда, почитавшегося лучшим врачом Европы. Но их усилия оказались тщетными – 16 апреля в 9 часов 35 минут вечера Кутузов умер.
Александр велел выдать жене Кутузова 200 тысяч рублей и сохранить за нею пожизненно в виде пенсии полный фельдмаршальский оклад. Дочерям Кутузова было выдано 250 тысяч. В письме к жене Кутузова Александр писал: «Болезненная не для одних вас, но и для всего Отечества потеря, не вы одна проливаете о нем слезы: с вами плачу я и плачет вся Россия».
Тем временем театр военных действий претерпел серьезные изменения. 16 апреля – в день смерти Кутузова – Наполеон выехал из Веймара и двинулся к Лейпцигу. Туда же направились и Александр с Фридрихом-Вильгельмом.
20 апреля войска Наполеона и русско-прусская армия, которой командовал новый главнокомандующий А. Х. Витгенштейн, сошлись под Лютценом в упорном сражении, продолжавшемся весь день. В этом бою Александр часто оказывался на линии огня, сказав одному из адъютантов: «В этом сражении для меня нет пуль».
И все же союзники сражение проиграли. Вечером русские и пруссаки начали отступление. Александр и Фридрих-Вильгельм, проведшие весь день рядом, стали пробираться через обозы и раненых при свете фонаря, который нес перед ними один из флигель-адъютантов.
Ночевали они в деревне Гроич, где Александр убеждал прусского короля отойти за Эльбу.
Расстроенный поражением, Фридрих-Вильгельм ответил Александру: «Это мне знакомо. Если только мы начнем отступать, то не остановимся на Эльбе, но перейдем также за Вислу. Действуя таким образом, я вижу себя снова в Мемеле».
Утром 21 апреля Александр послал штабс-капитана свиты по квартирмейстерской части А. И. Михайловского-Данилевского к главнокомандующему Витгенштейну узнать, какие распоряжения он отдает.
Михайловский-Данилевский долго искал Витгенштейна и наконец узнал от него, что тот никаких распоряжений не отдавал, ожидая их от императора.
Александр понял, что ошибся, назначив Витгенштейна главнокомандующим, и постепенно стал все более брать его функции на себя.
8 мая силы союзников построились в боевой порядок у Бауцена.
Прежде чем они пришли туда, к ним на соединение подошла 3-я армия, которой с середины февраля 1813 года командовал М. Б. Барклай-де-Толли.
Вместе с армией Барклая силы союзников насчитывали 93 тысячи человек – 65 тысяч русских и 28 тысяч пруссаков при 610 орудиях. Наполеон привел под Бауцен около 150 тысяч солдат и офицеров при 300 орудиях.
Два дня – 8 и 9 мая – под Бауценом кипело кровопролитное и ожесточенное сражение. Наконец на вторые сутки, 9 мая, в пятом часу дня русские и пруссаки начали отступление. «Государь ехал медленно, стараясь утешать короля прусского», – писал Михайловский-Данилевский.
Следствием проигранного под Бауценом сражения было смещение Витгенштейна с поста главнокомандующего и назначение на его место Барклая-де-Толли.
А 23 мая Наполеон неожиданно предложил заключить перемирие, продолжавшееся до 29 июля. За это время численность русской армии выросла до 350 тысяч солдат и офицеров. Главная квартира во время перемирия находилась в маленьком, уютном городке Рейхенбахе, а император со свитой разместился в окрестностях, в замке Петерсвальде. Здесь-то и происходили важнейшие события лета 1813 года – подписание англо-прусского и англо-русского секретных соглашений, по которым Британия предоставляла союзникам 2 миллиона фунтов стерлингов на содержание 240 тысяч солдат и офицеров.
15 июня к англичанам, русским и пруссакам примкнули и австрийцы. В конце июля армии союзников двинулись вперед к Дрездену и достигли его 14 августа.
Для прикрытия правого фланга союзники оставили на юго-востоке от Дрездена, у города Пирн корпус А. И. Остермана-Толстого, на долю которого выпала редкая военная удача – послужить главной причиной выдающейся победы.
В этот день Александр и два союзных монарха стояли на высотах Рекница, наблюдая за движением своих и вражеских войск, но не решаясь на какие-нибудь кардинальные действия.
Наконец было решено провести на виду у Наполеона «большую демонстрацию», развернув на город атаку пяти колонн фронтом в пятнадцать верст.
Колонны не успели еще развернуться, как союзные монархи переменили решение. Но было уже поздно – войска шли к Дрездену, а французы начали контрнаступление.
Всю вторую половину дня – с 6 часов пополудни – продолжалось сражение, закончившееся тем, что французы сумели отбросить союзников на исходные позиции.
До глубокой ночи Александр был на позиции, а затем уехал на ночлег в замок Нетниц. Сквозь сон он слышал, что за окном началась гроза, перешедшая затем в бурю. А между тем сотни тысяч людей стояли в грязи под ливнем и ураганным ветром, дожидаясь восхода солнца.
Положение усугублялось еще и тем, что у союзников почти не было продовольствия и они третьи сутки держались на сухарях и воде.
15 августа в шестом часу утра Александр выехал на позиции и поспел к самому началу артиллерийской канонады.
Дождь и ветер не утихали. Французы начали атаку на левый фланг, где стояли австрийцы, а затем нанесли удар по центру и почти одновременно – по правому флангу союзников. Ядра падали у самых ног коня Александра, но он не отодвигался ни на шаг, словно испытывая судьбу.
Союзные армии, засыпанные градом вражеских ядер, в конце второго дня дрогнули, потеряв убитыми и ранеными 30 тысяч человек.
K ночи, в темноте и слякоти, голодная и изнуренная непогодой армия союзников начала отступление, войска – на треть босые – шли по колено в грязи.
Вымокший под дождем и облепленный грязью Наполеон в это время въезжал в украшенный иллюминацией Дрезден.
Переночевав в Дрездене, Наполеон дал своим войскам для отдыха одну ночь, и, едва успев обсушиться и согреться, утром 16 августа они начали преследование отступающей армии союзников. Французский генерал Вандамм, занимавший Пирнское плато и ближе всех стоявший к путям отступления союзников, получил приказ Наполеона атаковать отряд Евгения Вюртембергского.
В этот же день Остерман-Толстой узнал из перехваченной переписки, что корпус Вандамма идет наперерез союзникам. Остерман принял решение отступить к Кульму и Теплицу и здесь дать бой французам.
Тогда же 14 тысяч солдат и офицеров Остермана-Толстого весь день сдерживали натиск превосходящих сил противника. На следующий день к Кульму подошли полки русской гвардии, которыми командовал Ермолов. Гвардейцы заняли позицию южнее Кульма и не сходили с нее до подхода главных сил. А тем временем русские и пруссаки зашли в тыл корпусу Вандамма, и ему не оставалось ничего иного, как увести гвардию с позиций.
Утром 18 августа подошли главные силы союзников, в авангарде которых были полки Барклая-де-Толли.
Оказавшись в окружении, Вандам не сдавался. Лишь к середине третьего дня сражения он понял, что обречен, и сдался лично Александру, наблюдавшему за окончанием битвы, где было пленено 12 тысяч солдат и офицеров, взято 84 орудия и весь обоз.
Описывая ход сражения при Кульме, Михайловский-Данилевский писал: «Между тем пленные проходили целыми колоннами мимо императора, имея офицеров во взводах, а впереди полковников и майоров. Наконец показался издали и французский главнокомандующий Вандамм. Завидя государя, он сошел с лошади и поцеловал ее. Его величество сначала принял его с важностью, но когда Вандамм сделал масонский знак, император сказал ему: „Я облегчу сколько можно вашу участь…“.
В то время, когда Вандамм протянул свою шпагу Александру, пришло известие о победах при Кацбахе и Гросс-Беерне, одержанных союзными полководцами Блюхером и Бернадотом. Резонанс от этих трех побед был настолько велик, что австрийцы переменили ранее принятое решение отступать в Австрию и выходить из коалиции. Александр же, впервые увидевший разгром и пленение неприятельского корпуса, считал «Кульмские Фермопилы» одним из счастливейших дней своей жизни и всегда любил вспоминать об этом событии.
Следующее сражение, в котором участвовал Александр, оказалось самым крупным в истории войн. Оно произошло под Лейпцигом и длилось с 4 по 7 октября. В нем приняло участие с обеих сторон более полумиллиона человек при двух тысячах орудий.
4 октября рано утром Александр приехал на поле предстоящего сражения и еще до его начала вынужден был вступить в полемику с главнокомандующим союзными армиями, австрийцем князем Шварценбергом, который предлагал поставить русские полки в очень невыгодную позицию между реками Плейсом и Эльстером. Александр решительно возразил против этого намерения Шварценберга и сказал, что князь может ставить туда австрийцев, но ни одного русского там не будет.
Ближайшее будущее показало его правоту – австрийцы вскоре же были опрокинуты, а их командир – генерал Мерфельд – попал в плен.
К трем часам дня союзники были сбиты с занятых ими позиций, но Александр, находившийся при армии, взял инициативу на себя и приказал ввести в бой резервную артиллерию, гвардию и гренадер.
Это решение, которое многие военные историки считали звездным часом Александра-военачальника, изменило ход сражения: атаки противника захлебнулись в огне 112 русских орудий.
Французы прекратили атаки и вступили в полуторачасовую артиллерийскую дуэль. Расстояние между батареями было не более версты, и в течение полутора часов над полем у деревни Вахау гремела канонада, превосходившая по своей мощи даже сражение при Бородине.
5 октября Наполеон отправил к союзникам взятого накануне в плен австрийского генерала Мерфельда с предложением перемирия, но Александр наотрез отказался вести какие-либо переговоры.
Прождав весь день 5 октября ответа и так его и не дождавшись, Наполеон в ночь на 6 октября отступил еще ближе к Лейпцигу и встал в семи верстах от города, ожидая продолжения сражения с превосходящими силами противника.
Александр появился на позициях рано утром 6 октября, когда войска еще стояли на биваках. Вместе с центральными колоннами он весь день находился в зоне огня, под гранатами и ядрами, координируя действия всех союзных армий, которые наступали на Лейпциг с трех сторон – с юга, с востока и с севера.
Формально главнокомандующим был Шварценберг, но все, находившиеся в ставке и на так называемом «Монаршем холме», где стояли два союзных императора и прусский король, единодушно считают, что 6 октября руководителем «Битвы народов» был Александр.
Было решено наутро идти со всех сторон к Лейпцигу и взять город.
С рассветом Александр объехал русские полки и, обращаясь к солдатам, сказал: «Ребята! Вы вчера дрались, как храбрые воины, как непобедимые герои; будьте же сегодня великодушны к побежденным нами неприятелям и к несчастным жителям города. Ваш государь этого желает, и если вы преданы мне, в чем я уверен, то вы исполните мое приказание».
В 7 часов утра 7 октября армии союзников со всех сторон устремились к Лейпцигу. Первыми на улицы города ворвались русские полки 26-й дивизии И. Ф. Паскевича из армии Беннигсена. Следом за ними вошли еще две русские дивизии, после чего с востока в город вошла Северная армия Бернадота. Оттуда же вступила в Лейпциг и Силезская армия Блюхера.
Опасаясь окружения, Наполеон вышел из города со стотысячной армией. Он потерял до 60 тысяч убитыми и ранеными и 20 тысяч – пленными, а также 325 орудий.
Потери союзников составили около 50 тысяч человек.
* * *
Через две недели, 21 октября 1813 года, французская армия перешла Рейн и оставила пределы Германии. Только на севере страны в нескольких крепостях все еще оставались французские гарнизоны.
24 октября Александр въехал во Франкфурт-на-Майне – старый вольный имперский город, где короновались императоры Священной Римской империи и долгие годы заседал Имперский сейм.
Главная квартира союзников здесь и остановилась, и более чем на месяц к Франкфурту были обращены взоры всех европейских дворов, и десятки коронованных особ стали его завсегдатаями, ища покровительства и союза у Александра более, чем у Франца или Фридриха-Вильгельма.
Между тем в стане союзников начались опасные разногласия: все они, кроме Александра, склонялись к тому, чтобы заключить с Наполеоном мир, если он уйдет во Францию и выведет свои войска из всех покоренных им стран.
Наконец, 19 ноября на Военном совете союзников было решено начинать зимний поход и вторгаться во Францию.
29 ноября Главная квартира выступила из Франкфурта.
В начале декабря Александр остановился в Карлсруэ и несколько дней отдыхал там, находясь в обществе своей тещи – маркграфини Баденской, в чьи владения привела его война.
Разумеется, здесь говорилось не только о войне, но и о том, как живет Елизавета Алексеевна, дочь маркграфини. Александр отвечал на вопросы тещи, многое она знала из писем дочери, тем более что переписка их была регулярной.
В связи с этим стоит вернуться к одной из героинь этой книги, с которой мы расстались еще до начала войны, в горькие для нее дни, когда Елизавета Алексеевна похоронила почти одновременно и своего любимого – кавалергарда Алексея Охотникова, и ненаглядного «котеночка» – полуторагодовалую Лизоньку.
Жизнь императрицы Елизаветы Алексеевны
Следует сказать, что крутая характером, своенравная и властная императрица-мать Мария Федоровна откровенно недолюбливала Елизавету Алексеевну, во многом оправдывая своего старшего сына, а ее считая причиной многих несчастий в их доме. Невестка старалась сглаживать острые углы в отношениях со свекровью, не доводить дела до открытой неприязни, и это ей часто удавалось, потому что свекровь ее была женщина не только умная, но и многоопытная, знавшая, что худой мир – лучше доброй ссоры, а также много раз убеждавшаяся на практике, что время переменчиво, и Бог знает, как повернется жизнь не то что через несколько лет, но и через несколько дней.
Так они и жили в состоянии, напоминавшем вооруженный нейтралитет, который в любой момент готов был перейти в нейтралитет доброжелательный, а то и в союзнические отношения. Все же не следует забывать, что Мария Федоровна была матерью десятерых детей и к началу войны уже половину из них повенчала.
К тому же Мария Федоровна была женщиной, имевшей далеко не ординарного мужа, каким был Павел Петрович, и она не могла тайно, в душе, не сочувствовать своей горемычной старшей невестке.
Несчастливая личная жизнь, смерть дочерей и любимого человека серьезно подорвали здоровье Елизаветы Алексеевны, и врачи настояли на том, чтобы она поехала лечиться на воды.
8 июля 1810 года императрица выехала из Петербурга в сопровождении самых близких ей людей: камер-фрейлины Анны Протасовой, фрейлины Екатерины Разумовской, гофмейстера князя Александра Голицына и доктора Штофрегена.
Произведя остановки в Риге и Митаве, Елизавета Алексеевна 15 июля прибыла в местечко Плён, где для нее был нанят простой, уютный дом, в котором она спокойно и умиротворенно прожила чуть больше месяца, навсегда сохранив самые восторженные воспоминания об этом отдыхе.
Вторую половину 1810 года провела она, пребывая в печали из-за вечного романа мужа с Нарышкиной, постоянно ощущая вокруг себя холодность двора и скрытую неприязнь поклонников и поклонниц мужа.
1811 год оказался ничем не примечательным для Елизаветы Алексеевны и протекал точно так же, как и предыдущий. Часто предоставленная сама себе, императрица предпочитала чтению светских французских романов занятия географией, ботаникой, экономикой России, открывая для себя огромную, неизведанную страну, населенную десятками очень разных и очень интересных народов, собравшихся вокруг народа великоросского, который поражал ее своей силой и живучестью.
Русской патриоткой Елизавета Алексеевна стала не случайно. Граф Федор Головкин писал о ней: «Она образованна и продолжает учиться с удивительной легкостью. Она лучше всех русских женщин знает язык, религию, историю и обычаи России».
4 марта 1811 года Елизавета писала матери: «Два часа провела в любимом занятии русским языком. Это, действительно, сентиментальное изучение, ибо, конечно, наша литература еще в младенческом развитии, но когда проникнешь во все богатства языка, то видишь, что можно бы из него сделать, а всегда приятно открыть сокровища, требующие лишь рук, которые сумели бы их разработать. К тому же звуки русского языка, подобно музыке, приятны моему слуху».
Начавшаяся война оказалась очень верным средством, способным определить истинные жизненные ценности. Война стала тем событием, которое многое, дотоле обыденное, перевернуло вверх дном. Война заставила задуматься над тем, о чем раньше не задумывались, по-иному оценить то, что раньше ценностями не воспринималось, переосмыслить отношение ко многому.
Война сблизила Елизавету Алексеевну с теми, кого она избегала прежде. Ее единомышленниками и такими же российскими патриотками, как и она сама, оказались Екатерина Павловна и принцесса Антония Вюртембергская, жена будущего героя 1812 года, генерала, принца Евгения Вюртембергского, до замужества принцесса Кобургская, ставшая если не конфиденткой, то уж во всяком случае приятельницей Елизаветы Алексеевны.
Теперь самым значительным казались не дворцовые интриги, не личные обиды из-за козней соперниц, а то, что происходило на земле России.
После падения Москвы, как и в 1807 году, незадолго до подписания Тильзитского трактата, вновь воскресла «партия мира», в которой оказались Мария Федоровна, Великий князь Константин, Аракчеев, Румянцев и многие другие миролюбцы.
Им противостояли сам Александр, Елизавета Алексеевна, Екатерина Павловна, Кочубей, Барклай, Семен Воронцов и, конечно же, отступающая, но не побежденная армия во главе с Кутузовым, которая была для Елизаветы Алексеевны воплощением русского народа, его квинтэссенцией.
26 августа 1812 года Елизавета Алексеевна писала матери: «Я уверена, что вы в Германии плохо осведомлены о том, что происходит у нас. Может быть, вас уверили, что мы бежали в Сибирь, тогда как мы не выезжали из Петербурга.
Мы приготовились ко всему; поистине, только не к переговорам о мире. Чем дальше будет продвигаться Наполеон, тем менее должен он надеяться на возможность мира.
Это единодушное желание Государя и всего народа во всех слоях, и, благодарение Богу, – по этому поводу царит полное согласие. Вот на это-то Наполеон и не рассчитывал; в этом он ошибся, как и во многом другом. Каждый шаг в этой гигантской России приближает его к бездне. Посмотрим, как проведет он в ней зиму».
В этом предвидении Елизавета Алексеевна опередила многих выдающихся русских стратегов и мыслителей, что делает ей великую честь. В самом конце 1812 года под покровительством Елизаветы Алексеевны было учреждено «Патриотическое женское общество», которое явилось одним из наиболее действенных благотворительных обществ для семей солдат и унтер-офицеров, находившихся в действующей армии.
Каждая женщина, вошедшая в состав учредителей «Общества», вносила двести рублей, а почетные ее члены – свыше двухсот – без всякого ограничения. С конца 1812 года и до середины 1823-го было собрано более двухсот тысяч рублей, которые пошли на помощь 2384 семьям, понесшим ущерб в результате войны 1812—1815 годов. Кроме того, 1117 семей ополченцев получили более тридцати тысяч рублей.
Как только русские войска перешли через Неман, императрица все чаще стала задумываться о поездке к Александру. Когда же война перешла в пределы ее родной Германии, мысль об этом стала неотступно преследовать ее, и осенью 1813 года начались приготовления к поездке в действующую армию. Однако сборы эти продолжались довольно долго, и только в конце
1813 года, когда русские и союзные австрийские и прусские войска подошли к Рейну, решено было отправляться в путь.
Итак, когда Елизавета Алексеевна была готова отправиться в путь, Александр был в гостях у ее матери – маркграфини Амалии Баденской.
Поход во Францию. Первое взятие Парижа. окончание войны
Погостив у тещи до конца декабря 1813 года, Александр переехал в недалекий от Карлсруэ Фрейбург и здесь накануне нового, 1814 года отдал приказ о переходе Рейна и вторжении во Францию. Вот он, этот приказ: «Воины! Мужество и храбрость ваши привели вас от Оки на Рейн. Они ведут нас далее: мы переходим за оный, вступаем в пределы той земли, с которою ведем кровопролитную жестокую войну. Мы уже спасли, прославили Отечество свое, возвратили Европе свободу ее и независимость. Остается увенчать подвиг сей желаемым миром. Да водворится на всем шаре земном спокойствие и тишина! Да будет каждое царство под единой собственного правительства своего властью и законами благополучно! Да процветают в каждой земле, ко всеобщему благоденствию народов, вера, язык, науки, художества и торговля! Сие есть намерение наше, а не продолжение брани и разорения. Неприятели, вступая в средину царства нашего, принесли нам много зла, но и потерпели за оное страшную казнь. Гнев божий поразил их. Не уподобимся им: человеколюбивому Богу не может быть угодно бесчеловечие и зверство. Забудем дела их, понесем к ним не месть и злобу, но дружелюбие и простертую для примирения руку».
1 января 1814 года, ровно через год после перехода через Неман, русские войска форсировали Рейн и вторглись во Францию. Александр стоял у моста под дождем и мокрым снегом, под холодным и резким ветром, вспоминая прошедший год, начавшийся для него в Литве и закончившийся на границе Франции…
Главная армия союзников медленно шла по южным департаментам Франции, построившись в восемь колонн и развернувшись по фронту на 350 верст.
Хотя погода была по-прежнему скверная, Александр большую часть времени ехал не в карете, а верхом. Приучив себя не бояться простуды и хорошо закалившись с детства, он ехал без шинели, в одном мундире, чаще всего парадном, и очевидцы утверждали, что казалось, будто не на войне происходит все это, а едет русский император на какой-то веселый праздник.
Останавливаясь на ночлег, Александр принимал представителей местных властей и, как правило, очаровывал своим совершенно свободным французским языком, которым он владел лучше корсиканца Наполеона, ласковым обращением и обещаниями своего покровительства.
Однако столь идеалистические и мирные картины представлялись лишь тем, кто не знал положения дел в Главной квартире. А суть их состояла в том, что три монарха и Шварценберг находились в постоянных распрях и никак не могли договориться о согласованных действиях против Наполеона. Так как они двигались вместе с Главной квартирой, то и останавливались в одном и том же месте. Нередко случалось, что Александру среди ночи доставляли срочные и важные донесения, и он вставал с постели, быстро одевался и выходил на дождь и снег, чтобы посоветоваться с Францем, Фридрихом-Вильгельмом или Шварценбергом. Он, не чинясь, входил в занятые ими дома и, сев на край постели, ждал, пока кто-либо из них прочтет донесение и выскажет свое мнение.
10 января Главная квартира остановилась в Лангре – городе, лежащем в водоразделе рек Сены и Соны, на юго-востоке Парижского бассейна. Здесь впервые Париж из далекого стратегического пункта стал превращаться в близкую ощутимую реалию, находившуюся в шести переходах.
Сюда, в Лангр, по приглашению Александра приехал Лагарп, и их встреча после долгой разлуки была необычайно теплой.
Здесь же союзники вновь стали обсуждать вопрос: следует ли воевать дальше или же вновь выставить перед Наполеоном требование возвратиться в границы 1792 года?
Споры в Лангре продолжались около недели, а по их завершении, в ночь с 16 на 17 января, Александр получил извещение, что Наполеон начал наступление на Силезскую армию Блюхера.
17 января армия Блюхера, выдержав тяжелый бой, отступила. Сражение происходило под Бриенном, где Наполеон с десяти до пятнадцати лет учился в военном училище. В этом бою и Блюхер, и Наполеон едва не попали в плен, но и для того, и для другого все обошлось благополучно.
Февраль и первая половина марта прошли во взаимных столкновениях, но к середине марта союзники овладели инициативой.
13 марта союзники начали наступление на Париж. В этот же день их кавалерия при деревне Фер-Шампенуаз нанесла стремительный удар по корпусам Мармона и Мортье, шедшим на соединение с главными силами Наполеона. 23 тысячи французских пехотинцев при 82 орудиях были атакованы 16 тысячами кавалеристов, которыми командовал Барклай-де-Толли. Французы, выдвинув вперед артиллерию, встали в огромное, ощетинившееся штыками каре. Предложение сдаться они отвергли и были смяты и изрублены русскими кирасирами, драгунами и уланами.
Одновременно с этим севернее Фер-Шампенуаза 2-й русский кавалерийский корпус под командованием генерал-лейтенанта барона Ф. К. Корфа атаковал пехотные дивизии генералов Пакто и Аме и тоже разбил их. Александр лично руководил этим боем. Как и солдаты Мармона и Мортье, дивизии Аме и Пакто тоже встали в каре и отказались сдаваться.
Русская кавалерия начала беспощадную рубку пехоты. Александр, видя это и желая прекратить кровопролитие, отдал приказ остановить бой, но в пылу борьбы офицеры не могли остановить своих подчиненных. Тогда Александр, подвергая себя смертельной опасности, сам въехал в погибающее французское каре, окруженный лейб-казачьим полком.
Наконец резня прекратилась.
Остатки французских войск из-под Фер-Шампенуаза отошли к Парижу. По их следам армии союзников двинулись на столицу Франции.
Вечером 17 марта Александр и его свита остановились на ночлег в замке Бонди, в семи верстах от Парижа. 100 тысяч союзных войск (из них 63 тысячи русских) встали у стен города.
В полдень 18 марта 1814 года союзные войска ворвались в приготовившийся к сопротивлению Париж. Наполеон шел на помощь своей столице, но он был еще далеко и войск у него было гораздо меньше, чем у его противников.
19 марта в 10 часов утра Александр выехал из Бондийского замка в Париж. Через версту он встретил прусского короля и Шварценберга, пропустил вперед русскую и прусскую гвардейскую кавалерию и во главе свиты более чем в тысячу офицеров и генералов многих национальностей, одетых в парадные мундиры, при всех орденах, двинулся к столице Франции. Следом пошли русский гренадерский корпус, дивизия гвардейской пехоты, три дивизии кирасир с артиллерией и дивизия австрийских гренадер.
Чудесная погода усиливала торжественность этого великолепного шествия.
Оборотившись к ехавшему рядом с ним Ермолову, Александр сказал:
– Ну, что, Алексей Петрович, теперь скажут в Петербурге? Ведь, право, было время, когда у нас, величая Наполеона, меня считали за простачка.
Ермолов ответил:
– Не знаю, государь. Могу сказать только, что слова, которые я удостоился слышать от вашего величества, никогда еще не были сказаны монархом своему подданному.
Город встретил Александра криками тысячных толп: «Виват, Александр! Виват, русские!», сделав въезд победителей в Париж подлинным триумфом, не уступавшим по торжественности таким же въездам Наполеона после одержанных побед.
Затем Александр в течение четырех часов принимал парад союзных войск, после чего пешком отправился в дом Талейрана на совещание, где присутствовали: Фридрих-Вильгельм, Шварценберг, Нессельроде, Талейран, герцог Дальберг, князь Лихтенштейн и генерал Поццо ди Борго. Целью совещания было наметить переход к новой власти, так как Александр был решительно настроен заставить Наполеона отречься от престола.
Александр открыл совещание краткой речью, в которой заявил, что его главной целью является установление прочного мира. Что касается будущего устройства Франции, то союзники готовы на любой из вариантов: на регентство жены Наполеона императрицы Марии-Луизы при сохранении трона за трехлетним сыном ее и Наполеона Жозефом Бонапартом; на передачу власти Бернадоту; на восстановление республики и на возвращение Бурбонов, словом, на любое правительство, угодное Франции.
Все присутствующие высказались за Бурбонов. Выступивший последним Талейран закончил свою речь словами:
– Возможны лишь две комбинации: Наполеон или Людовик XVIII. Республика невозможна. Регентство или Бернадот – интрига. Одни лишь Бурбоны – принцип.
Завершая заседание, Александр сказал:
– Нам, чужеземцам, не подобает провозглашать низложение Наполеона, еще менее того можем мы призывать Бурбонов на престол Франции. Кто возьмет на себя инициативу в этих двух великих актах?
И Талейран указал на Сенат, который должен был назначить Временное правительство.
20 марта Сенат, под руководством Талейрана, учредил Временное правительство, а на следующий день объявил Наполеона и всех членов его семьи лишенными права занимать французский престол.
21 марта Александр снова принял Коленкура и заявил ему, что Наполеон должен отречься от престола.
На вопрос Коленкура, какое владение будет оставлено Наполеону, Александр однозначно ответил:
– Остров Эльба. 5 марта Наполеон подписал безусловное отречение от престола и послал этот акт Александру. Коленкур передал документ об отречении, после чего был оставлен Александром для свидания с глазу на глаз. Неожиданно для Коленкура Александр стал говорить о Наполеоне с теплотой и участием, а о Бурбонах и их приверженцах с нескрываемой досадой и раздражением.
Тем не менее, в тот же день Сенат Франции призвал на трон брата казненного Людовика XVI – Станислава Ксаверия, графа Прованского, вскоре вступившего на престол под именем Людовика XVIII.
(Следует иметь в виду, что после казни Людовика XVI находившиеся за границей французские роялисты провозгласили королем Франции сына казненного – восьмилетнего принца Луи-Шарля, дав ему имя Людовика XVII.
Когда мать и отца Луи-Шарля – Марию-Антуанетту и Людовика XVI – казнили, мальчику было семь лет, и его, выпустив из тюрьмы, отдали на воспитание сапожнику-якобинцу.
Луи-Шарль умер в 1795 году, когда ему было десять лет.
Таким образом его дядя Станислав Ксаверий стал королем под именем Людовика XVIII.)
30 марта условия отречения были подтверждены союзниками, и 8 апреля Наполеон в сопровождении союзных комиссаров выехал из Фонтенбло.
3 мая он прибыл на остров Эльба.
Через четыре дня после отправки Наполеона из Фонтенбло Людовик XVIII отбыл из Дувра в Кале.
Перед тем как покинуть Англию, он сказал принцу-регенту, что возвращению на трон Франции он более всего обязан Англии. Тем самым Людовик недвусмысленно дал понять о своей будущей внешнеполитической ориентации. Он подтвердил это и при первой встрече в Компьенском замке, куда Александр приехал для личной встречи с королем.
Людовик вел себя надменно и принял Александра, сидя в кресле, предложив своему гостю обычный стул, чем очень обидел его.
21 апреля Людовик XVIII въехал в Париж и поселился в Тюильри.
После этого его отношения с Александром еще более ухудшились. Король не упускал случая, чтобы показать, что в Париже первая персона – несомненно, он, и однажды на званом обеде у себя во дворце грубо отчитал лакея за то, что блюдо сначала было подано Александру, а потом ему.
На что Александр после обеда сказал:
– Мы, северные варвары, у себя дома более вежливы. – И добавил: – Можно подумать, что он возвратил мне утраченный престол.
* * *
Александр не хотел покидать Париж и уводить войска в Россию, прежде чем Сенат Франции примет основной закон государства, в котором четко и определенно будут даны гарантии гражданских свобод, а притязаниям возвратившихся эмигрантов-роялистов будут положены решительные препоны.
Только получив текст этой Конституции, известной под именем «Хартии», Александр 22 мая вместе с Фридрихом-Вильгельмом выехал из Парижа в Англию.
Его сопровождали победоносные начальники – Барклай и Платов, генерал-адъютанты и дипломаты.
26 мая Александр и Фридрих-Вильгельм высадились в Дувре. Оказанная Александру встреча была такой же восторженной, как и в других европейских странах: сдержанные англичане на сей раз уподобились своим собратьям с континента – они выпрягли лошадей из подготовленных союзным монархам экипажей и сами впряглись в оглобли, чтобы привезти Александра и Фридриха-Вильгельма в Дувр.
27 мая августейшие путешественники направились в Лондон. Для резиденции Александру был отведен один из лучших королевских дворцов – Сент-Джеймский.
2 июня в Оксфорде состоялось торжественное заседание Оксфордского университета, на котором Александр первым из русских был удостоен почетного диплома доктора прав.
Когда Александру подносили диплом, он, несколько смутившись, сказал ректору:
– Как мне принять диплом? Ведь я не держал диспута.
– Государь! Вы выдержали такой диспут против угнетателя прав народов, какого не выдерживал ни один доктор прав на всем свете.
И все же поездка в Лондон не могла удовлетворить Александра своими конечными результатами. Он не смог наладить отношений с лидерами партии тори, восприняв точку зрения своей сестры Екатерины Павловны, жившей в то время в Лондоне. Оказавшись в одном с нею городе, Александр в первые же дни навестил ее и под ее влиянием занял ту же позицию по отношению к тори, какую занимала и его умная и властная сестра, вновь взявшая Александра под свое влияние.
Александр и Екатерина Павловна расстались в 1812 году и виделись из-за войны лишь урывками.
* * *
Как ни печалилась Екатерина Павловна о смерти Георга, но жизненные заботы все же заставили ее подумать и о судьбе малолетнего сына, и о собственном здоровье, и о том, что следует ей предпринять дальше. Зимой 1813 года она обратилась к врачам, и те посоветовали ей поехать «на воды». Скорая на подъем, она решила сначала поехать к Александру, а потом уже избрать маршрут в зависимости от того, как сложатся военные обстоятельства и где она будет полезнее для Александра.
Она выехала в начале марта, взяв с собою и трехлетнего сына, и, следуя через губернии, по которым прошла война, повсюду видела страшные следы пожаров и разрухи.
В середине апреля она доехала до Праги, где находился ее августейший брат, и была встречена с не меньшими почестями, чем Александр. Затем их пути разошлись: Александр ушел с армией, а Екатерина Павловна поехала на воды в Карлсбад.
Здесь пробыла она до осени и затем отправилась в Вену, а оттуда – в Веймар, к сестре Марии Павловне, с которой не виделась девять лет со дня ее свадьбы с герцогом Саксен-Веймарским.
В декабре была она в Шафхаузене, в Швейцарии, но еще на правом берегу Рейна, где находился Александр, и оттуда поехала дальше.
Александр любил сестру, но отнесся к ее отъезду с некоторым облегчением, потому что видел, что Екатерина Павловна снова нашла прекрасный выход своему темпераменту интриганки, с головой окунувшись в знакомую ей с детства придворную атмосферу недомолвок, намеков, происков, подсиживаний и прочих козней, в чем была она всегда очень сильна.
Не только военные, но и министры и дипломаты разных государств попадали в ее орбиту, что не просто настораживало, но иногда и пугало Александра.
Как только появилась возможность отправиться на Север, Екатерина Павловна тотчас же ею воспользовалась и через всю Германию двинулась в Ольденбург. По пути туда она посетила Штутгарт и Франкфурт, Кассель и Геттинген, Ганновер и Бремен, как всегда, отдавая должное музеям и университетам, библиотекам и театрам этих городов, но и по мере сил проводя политическую линию России, прежде всего направленную на ее усиление, во всяком случае, так, как она это понимала. Как бы то ни было, но она пересекла всю Германию с юга на север. Погостив у отца и матери покойного мужа, 1 марта 1814 года она отправилась в Голландию, где посетила Роттердам, домик Петра I в Саардаме, Гаагу, Лейден и множество маленьких городков. Екатерина Павловна осталась в восторге от аккуратности и чистоты в Голландии, от великого трудолюбия ее граждан и упорства, с которым они превращают свою страну в цветущий сад.
Завязав дружеские отношения с домом принца Оранского, 20 марта она из Роттердама ушла на корабле в Англию, где и узнала о падении Парижа.
В детстве Екатерина Павловна прекрасно выучила английский язык благодаря своей бонне миссис Друст. В Англии Друст всюду сопровождала свою бывшую воспитанницу, и это очень помогло Великой княгине.
И в Лондоне Екатерина Павловна установила столь же тесные отношения с королевским двором, как и перед тем в Голландии, а жена принца-регента Шарлотта Уэльская стала лучшей ее подругой.
Однако Екатерина Павловна всегда чувствовала себя русской принцессой и полагала, что может вести себя, как царственная особа, не ограниченная ничем. Но она забывала, что находится не в России и ее политические симпатии и антипатии воспринимаются в стране парламентской демократии как нечто несуразное. А Екатерина Павловна, считая английскую монархию единственной политической силой в стране, мирилась с партией вигов, но совершенно не переносила вторую аристократическую партию – тори – и настолько враждебно и высокомерно обращалась с ее лидерами, что русский посол в Лондоне светлейший князь Ливен (сын Шарлотты Карловны) должен был вмешаться и сделать Великой княгине серьезные представления.
Вскоре в Лондон прибыли император Александр, прусский король Фридрих-Вильгельм III, многие владетельные князья Германии. Там же Екатерина Павловна познакомилась со своим будущим мужем – наследным принцем Вюртембергским. Они пробыли в Англии три месяца и вместе отправились из Дувра в Кале.
В июне 1814 года в Кельне она встретилась с Александром, а после этого, совершив путешествие по Рейну, в сентябре приехала на конгресс в Вену. Вместе с ней в Вену приехала и ее сестра Мария.
* * *
14 июня Александр отправился из Англии на континент – в Кале, а затем – в бельгийский порт Остенде, расположенный на берегу Северного моря в Западной Фландрии. Побывав в соединенном с Остенде коротким каналом старинном городе Брюгге, Александр уехал в Голландию.
17 июня Александр прибыл в Антверпен и оттуда отправился на голландскую границу, где уже стояли триумфальные ворота с надписью «Александру Благословенному. Он избавил человечество, Нам возвратил Отечество». Слова «Нам возвратил Отечество» – не были пышной фразой. Дело в том, что русские войска, входящие в состав Северной армии, в 1813 году приняли активное участие в освобождении Голландии от владычества Наполеона. Решающую роль сыграла победа союзников в «битве народов» под Лейпцигом, которая привела к взрыву национально-освободительного движения в стране. В результате осенью 1813 года в Голландию вернулся сын изгнанного короля Вильгельма V Оранского – Вильгельм, в декабре провозглашенный королем.
Вильгельм VI встретил Александра в Роттердаме и поехал с ним вместе по всей стране, показывая гостю Амстердам и Роттердам, Брук и Саардам.
Особенно тепло встречали Александра в Саардаме, где в 1697 году жил Петр Великий. Когда Александр вошел в домик Петра, то внезапно замолчал, пораженный бедностью и простотой его убранства, а затем тихо проговорил:
– Посмотрите, как немного нужно для человека!
(Впоследствии, когда Александру все чаще и чаще стала приходить мысль оставить трон и уйти в частную жизнь простого человека, он вспоминал Саардам и бедную тесную избушку плотника, и это еще более укрепляло его в неотвязном намерении отказаться от жребия венценосца, уготованного ему судьбой.)
Вечером саардамцы устроили праздничную морскую прогулку и сопровождали короля Вильгельма и Александра на более чем двухстах кораблях и яхтах.
Затем через Амстердам, где Александр осмотрел знаменитую картинную галерею «Рейксмюсеум», кабинет редкостей, монетный двор, ботанический сад и несколько старинных церквей, он через Утрехт и Зейст уехал в Германию.
Проезжая через Германию в Петербург, он встретился в Кельне с Аракчеевым, находившемся на лечении неподалеку оттуда, затем ненадолго заехал к своей теще в Брухзал и оттуда отправился в Россию.
12 июля 1814 года в одиннадцатом часу вечера он, после полуторагодовалого отсутствия, приехал в Павловск.
И вновь окружающие заметили в Александре перемену – он полюбил одиночество, чтение и раздумья наедине с собой, забыв о балах и праздниках. Многие объясняли эту перемену тем, что, путешествуя по Европе, Александр часто беседовал с философами и религиозными деятелями разных направлений. Он встречался с «Богемскими братьями», исповедовавшими идею спасения души через нравственное самосовершенствование и поиски Бога каждым человеком. Во дворце герцога Баденского Александра познакомили с одним из авторитетнейших писателей-мистиков Иоганном-Генрихом Юнг-Штиллингом, другом Гете и Шиллера, который был убежден, что в Александре воплотился Христос, избравший его для борьбы с французской революцией. В Лондоне Александр встречался со знаменитыми квакерами-филантропами Алленом и Греллэ, утверждавшими, что царство Христа – есть царство справедливости и всеобщего мира. Находясь под сильным впечатлением от всего этого, он возвращался на родину далеко не таким человеком, каким уезжал в Вильно.
Мистические настроения, нахлынувшие на него в 1812 году и не оставлявшие его все последующее время, отныне навсегда стали неотъемлемой чертой, а во многих случаях и доминантой в его характере и поведении, что сильно повлияло на его жизнь и на его судьбу.
Жизнь Елизаветы Алексеевны в 1814—1815 годах
Мы расстались с Елизаветой Алексеевной в самом конце 1813 года, когда, создав «Патриотическое женское общество» для помощи семьям солдат и унтер-офицеров действующей армии, императрица решила поехать вслед за армией, которая к этому времени уже вышла на Рейн.
19 декабря 1813 года Елизавета Алексеевна, взяв с собою верную свою сестру Амалию и небольшую свиту из девяти человек, не считая слуг, выехала из Петербурга.
Проехав через Нарву и Дерпт, 24 декабря Елизавета Алексеевна прибыла в Ригу.
Там горожане при въезде в город отпрягли от экипажа императрицы лошадей и, впрягшись в него, катили до самого замка, между шпалерами выстроенных на улицах войск, под звон колоколов и грохот пушек. Вечером был дан торжественный ужин, а на следующий день она посетила театр, после чего последовала на бал, данный рижским муниципалитетом в ее честь. Дальше, за границей России, на всем пути по Германии и другим регионам освобожденной от французов Европы, ее будут ждать пушечная пальба, звон колоколов, толпы восторженных горожан, балы, театры, торжественные обеды и патриотические речи, наполненные восхвалениями в честь Александра и в ее честь.
На границе Пруссии увидела она триумфальные ворота, украшенные вензелем «А» и «Е», большую толпу встречающих и двух военных губернаторов Кенигсберга – российского – графа Сиверса, и немецкого – генерала Застрома.
Здесь же стоял женский хор, исполнивший на немецком языке русский гимн, отчего Елизавета Алексеевна расплакалась. Увидев это, расплакались и некоторые встречавшие ее прусские граждане.
12 января императрица прибыла в Кенигсберг и прожила в нем до 16-го. Здесь к прежнему ритуалу встреч добавилось многоголосое пение детей и женщин, оркестры, импровизированный барабанный бой и вереницы нарядных молодых женщин, бросающих зеленые ветки и множество цветов под ноги коней, впряженных в ее экипаж.
Проехав Франкфурт-на-Одере, 22 января 1814 года кавалькада императрицы прибыла в столицу Прусского королевства – Берлин. И здесь все повторилось снова, только масштабы были еще более значительными.
А 28 января Елизавета Алексеевна была уже в Лейпциге, но не задержалась там и проехала в Веймар, столицу Саксонского герцогства, где жила сестра Александра I – Мария Павловна. Очень скучавшая по России Мария Павловна была рада и Елизавете Алексеевне, и всей ее свите, и возможности подолгу говорить по-русски.
Выехав из Веймара, вереница придворных карет вскоре приблизилась к Эрфурту, со стороны которого стали слышны частые ружейные и пушечные выстрелы. Кареты остановились: оказалось, что в Эрфурте, осажденном русскими войсками, французский гарнизон еще не сдался и война продолжается. Елизавета Алексеевна приказала ехать в объезд, но тут появился французский парламентер и от имени коменданта Эрфурта дал слово, что на протяжении двенадцати часов в городе не будет сделано ни одного выстрела, если Ее Величество пожелает ехать через Эрфурт. Однако Елизавета Алексеевна все же решила ехать кружным путем, не доверившись парламентеру.
Здесь она увидела следы недавних боев – разрушенные дома, исковерканные телеги, побитые дороги, которые вели ее к переднему краю войны, бывшему уже не за горами. Дальше шли австрийские владения, проехав которые, Елизавета Алексеевна прибыла во Франкфурт-на-Майне, где ее встретили родные – герцоги Баденский и Дармштадтский со свитами.
Понятно, что из Франкфурта императрица поехала в недалекий отсюда Дармштадт, где жила ее родная сестра принцесса Вильгельмина Баденская с мужем Людвигом Дармштадтским.
Оттуда русские кареты вскоре тронулись в соседний Неккергеминд, где уже начинались владения Великого герцога Баденского, а затем Елизавета Алексеевна остановилась на несколько дней в знаменитом Гейдельберге, а потом поехала в небольшую деревню Рорбах, где жила Амалия Фредерика, маркграфиня Баденская – мать Елизаветы Алексеевны и Амалии – сестры ее, носящей одно имя со своей матерью. Тяготы войны коснулись и маркграфини Баденской. В деревне был единственный более-менее приличный дом – тот, в котором жила маркграфиня, но и он был столь невелик, что в нем остановились лишь две ее дочери, две их фрейлины да две служанки; все же остальные члены свиты и слуги поселились в жалких крестьянских домах, чрезвычайно бедных и неуютных. И тем не менее, сестры прожили здесь семнадцать дней, после чего и мать и дочери оставили Рорбах и отправились в недалекую отсюда столицу Бадена – Карлсруэ, где прожили в отчем доме неделю. Отсюда поехали они обратно – в город Брукзаль, где должна была состояться их встреча с Александром I.
Елизавета Алексеевна, ее сестра Амалия и их мать поселились в единственном дворце Брукзаля, где уже жила жена шведского короля Бернадота со своим сыном.
Однако время шло, а Александр все не приезжал, ибо его войска шли на Париж и ему было не до семейных дел.
В середине марта появились здесь его младшие братья – Великие князья Николай и Михаил с генералом Коновницыным, наставлявшим братьев в военном деле, и генерал посоветовал сестрам ждать здесь скорых известий, так как, судя по всему, войне вот-вот наступит конец.
Прошло две недели, и в Брукзаль примчался фельдъегерь с известием о взятии Парижа.
Ликовал весь город, но Елизавета Алексеевна, радуясь, вместе с тем и печалилась: для нее фельдъегерь привез лишь коротенькое письмо, в котором не было приглашения в Париж. (Только значительно позднее узнала она, как много разных неотложных дел было в эти дни у ее победоносного мужа и сколь несовместимы были эти воистину великие дела с ее маленькими женскими претензиями.) Но все же она ждала приглашения и, напрасно прождав до 20 апреля, решила поехать с матерью в Рорбах.
Пока они жили в Брукзале, к их свите присоединились адмирал Шишков и граф Витгенштейн, которые отправились вместе с ними в Рорбах. К ним присоединилась и шведская королева с сыном. Всю весну Елизавета Алексеевна ездила по своему родному Бадену, узнавая знакомые места, радуясь им и сожалея, что многие из них изранены минувшей войной.
21 июня Елизавета Алексеевна получила известие, что Александр возвращается из Англии и просит ждать его в Брукзале. Туда же на встречу с императором должны были приехать его младшие братья Николай и Михаил.
Через неделю после того, как все собрались в Брукзале, там состоялся смотр возвращающейся в Россию из Франции русской конницы под начальством Милорадовича. Смотр принимал только что вернувшийся из Англии новоиспеченный фельдмаршал Барклай-де-Толли, почтительно пригласивший все августейшее семейство присутствовать на нем. Проходя мимо императрицы, кавалеристы кричали «Ура!». И Елизавета Алексеевна вновь плакала от умиления и гордости, видя их искореженные пулями и саблями каски и кирасы, следы ран, рубцы и шрамы на мужественных лицах.
Не дожидаясь приезда Александра в Брукзаль, Елизавета Алексеевна поехала навстречу мужу и остановила его в Рорбахе.
Они недолго прожили в бедной баденской деревушке и 8 июля приехали в Брукзаль.
Однако и здесь Александр пробыл очень недолго и, оставив Елизавету Алексеевну в ее родных местах, уехал дальше на Восток, стремясь по возможности скорее попасть в Петербург.
А Елизавета Алексеевна отправилась в Баден, куда уже прибыли король Баварии Максимилиан со всею своею семьей и зятем Евгением Богарне, пасынком Наполеона, бывшим вице-королем Италии, а также шведская королева с сыном, герцог Дармштадтский со всем своим домом и все семейство хозяев Карлсруэ – герцогов Баденских.
В отличие от других таких собраний, съезд августейших особ в Бадене отличался необычайной демократичностью – все они, без исключения, просто одевались, гуляли по городу, как обыкновенные горожане, посещали трактиры, бильярдные и игорные дома. О таком положении дел тут же пронюхали бродячие певцы, музыканты и артисты – акробаты, дрессировщики и комедианты, и город наполнился несметным количеством этих служителей муз.
Через два месяца Елизавета Алексеевна поехала в Карлсруэ, а оттуда отправилась в Баварию, куда пригласил ее король Максимилиан.
5 сентября 1814 года она приехала в баварскую столицу Мюнхен, пребывание в которой было весьма непродолжительным из-за сборов на скоро открывающийся международный конгресс в столице Австрии – Вене, на котором следовало законодательно закрепить итоги минувшей войны союзной коалиции с Наполеоном.
Серьезность встречи в Вене была совершенно несомненной. И все же в истории он остался под названием «Танцующего конгресса».
«Танцующий конгресс»: любовь и политика. «Сто дней». Второе взятие Парижа
В Петербурге Александр пробыл всего полтора месяца и 2 сентября отправился на конгресс в Вену.
По дороге он заехал в Пулавы и в доме Чарторижских вновь подтвердил решение восстановить независимую Польшу. Взяв с собою князя Адама, он поехал в Австрию и через неделю въехал в Вену вместе с Фридрихом-Вильгельмом III. 15 сентября в Вену прибыла со своими фрейлинами Елизавета Алексеевна, цесаревич Константин и Великие княгини Мария и Екатерина.
Александру был отведен один из самых роскошных дворцов императора – Хофбург.
Два императора, дюжина королей и больше сотни титулованных особ собрались на этот «Танцующий конгресс», продолжавшийся необычайно долго – до июня 1815 года.
Елизавета Алексеевна въехала в столицу Австрии 15 сентября. При въезде в город ее встретил муж и сел в одну с нею карету. Их сопровождали австрийский император Франц и императрица.
Кроме императора Александра, императрицы Елизаветы Алексеевны, в Вену приехали: Великий князь Константин и сестры царя – Мария, Екатерина и Анна.
Мария была на конгрессе со своим мужем, герцогом Саксен-Веймарским, Екатерина Павловна носила титул своего покойного мужа Георга-Петра, называясь герцогиней Ольденбургской, а младшая дочь Павла – Анна, была двадцатилетней Великой княжной – одной из самых завидных невест на конгрессе. Хотя и ее сестра, вдовствующая герцогиня Ольденбургская, тоже считалась невестой, да и была старше Анны всего на семь лет.
Один бал сменял другой, над Веной чуть не каждый вечер полыхали фейерверки, нескончаемой чередой шли парады и смотры.
И все же бал, данный императором Францем 22 сентября для коронованных особ, отличался особой роскошью и масштабами: в трех огромных танцевальных залах Придворного редута собралось более десяти тысяч гостей.
Перед началом торжеств вошли все присутствующие на конгрессе монархи со своими семьями. Открывал это блистательное шествие Александр, ведя рядом с собою императрицу Австрии, а вслед за ним шел император Франц с Елизаветой Алексеевной.
Праздник продолжался до утра.
В последующие дни начались маневры всех родов войск, конные скачки и состязания, различные игры и маскарады. Строились полуигрушечные крепости, которые затем осаждались и взрывались – как будто мало было двух десятилетий беспрерывных войн.
И на все это шли миллионы гульденов, крон, марок, рублей, нанося не меньший ущерб, чем минувшая война.
Гости императора Франца переезжали из одного загородного дворца в другой: из Пратера в Бельведер, из Придворного редута – в Аугартен, из Шеннбруна в Лаксенбург, удивляясь богатству и изысканности каждого из них, неповторимости их убранства, оригинальности облика.
Елизавета Алексеевна тоже объехала все эти дворцы, но, кроме них, она побывала и в доме инвалидов, подарив его обитателям тысячу рублей золотом, осмотрела и Монетный двор, и все музеи Вены, и картинные галереи.
А 16 декабря Елизавета Алексеевна была на концерте великого Людвига ван Бетховена и дала ему две тысячи рублей золотом – больше, чем кто-либо из коронованных особ, сидевших вместе с ней в зале.
В Вену, кроме Елизаветы Алексеевны, приехала и Нарышкина с мужем. Александр знал, что Конгресс будет долгим, и побоялся оставить ветреную прелестницу в Петербурге, потому что в это время у неотразимой Марии Антоновны объявилось несметное множество поклонников, что еще в Петербурге стало крайне раздражать и даже мучить Александра. И чтобы избавить себя от этого, он решил отвечать ей тем же, а так как Александр ни в чем не терпел соперничества, то число его любовниц было не меньшим. Особенно ярко проявилось это в Вене, на Конгрессе, где царь продолжал вести себя так же.
Одной из первых жертв Александра-любовника стала ослепительная красавица графиня Юлия Зичи. Но прошло несколько дней, и он променял Зичи на княгиню Багратион – вдову Петра Ивановича, погибшего за два года перед тем. Эта победа над «русской Андромедой», как звали княгиню в Вене, была тем более приятна Александру, что он покорил любовницу самого Меттерниха, с которым у него были давние нелады. А княгиня Багратион радовалась тому, что русский император предпочел ее всем прочим дамам, потому что тем самым уязвила свою счастливую соперницу герцогиню Саган, преуспевшую в борьбе с нею за любвеобильного австрийского канцлера. Ободренная успехом у Меттерниха, Саган забралась в карету к царю, но он – так, во всяком случае, рассказывал потом Александр – не воспользовался благоприятной ситуацией, якобы из-за того, что герцогиня показалась ему слишком глупой. Здесь уместно будет усомниться в правдивости слов Александра, потому что в бесконечном перечне его увлечений и побед далеко не все женщины были кладезями премудрости, а еще более это сообщение вызывает сомнение и потому, что распространительницей его была княгиня Багратион, о чувствах которой к мадам Саган мы уже осведомлены.
Эти успехи Александра у дам высшего света кружат головы многим хорошеньким венкам – и мелким дворянкам, и мещанкам, и даже откровенным смазливым потаскушкам, до которых царь тоже оказался большим охотником. Между увлечением княгиней Багратион и мимолетными встречами со случайными кокотками Александр соблазняет и еще одну великосветскую красавицу – графиню Эстергази. После нее настает звездный час герцогини Саган, что позволяет венским острословам утверждать, что баварский король – пьет за всех, вюртембергский король – ест за всех, а русский царь – любит за всех. Добавляли, что русский царь и танцует если не за всех, то, конечно, больше всех и едва ли не лучше всех.
Агенты венской полиции, ответственные за безопасность Александра, повсюду незаметно сопровождавшие его и неотступно следившие за всеми его похождениями, причисляли к сонму погубленных им красавиц еще и венгерскую графиню Сеченьи, и графиню Софию Зичи, и княгиню Ауэрсперг, и многих иных.
А кроме того, Александр звал в Вену своих прежних любовниц из разных стран Европы.
* * *
Что же известно нам о том, как проходили в Вене дни старинных любовников – князя Адама Чарторижского и императрицы Елизаветы Алексеевны? Правда, их роман закончился полтора десятка лет назад, и по меркам того времени оба они были уже немолоды: Елизавете Алексеевне было 35 лет, а князю Адаму на десять лет больше.
К сожалению, автор располагает лишь отрывками из «Дневника» князя Адама. Эти отрывки были опубликованы в русском журнале «Голос минувшего» в 1916 году польским профессором Шимоном Аскенази. Они весьма фрагментарны и далеко не полны.
И все же – обратимся к ним.
«Здесь я вижу ее, сильно изменившуюся, но для меня всегда ту же со стороны ее и моих чувств. Они утратили свой пыл, но в них сохранилось достаточно силы, чтобы не видеть ее было великой мукой». «Всем она нравится. В некоторых отношениях похорошела. Я несчастлив и печален, каким давно не был».
«3 декабря. Попадаю к Нарышкину. Вторая встреча. Признаны новые обязанности. Она всегда истинный ангел». «Моя тетка (княгиня Елизавета Любомирская, урожденная Чарторижская. – В.Б.) сплетничает; мой отец сказал ей о ней. Наука, что мало можно кому доверить настоящую и важную тайну. Третья встреча при посредстве Нарышкина. Визит императора к моей тетке. Ее визит и письмо. Жар, и сны, и угрызения, укоряющие в виновности. Стан и лицо изменились, однако все та же очаровательность, а душа ангельская».
«18 января 1815 года. К ней пишу…»
«До 28 января. Письмо отдано и сейчас, на следующий день, вижусь. Разнообразность моих чувств. Она всегда первый и единственный предмет. Обмен кольцами. Ее доброта, ее чувства иного рода. Она не хочет остаться в Германии, она приносит себя в жертву… Мои сплины (хандра); я испорчен доброжелательностью и любовью; душа не может подняться до ее превосходства».
«Я желаю ей счастья и завидую ему; страстно люблю, а все-таки я все посвятил бы, а святость чувства недостаточно сохраняю. Долгая неуверенность, противоречивость, и неустанные обиды, и двадцатилетнее ожидание, и ее, уже в течение стольких лет скрытое чувство разрушили правильный порядок сердца. Несчастия одной неверности (Чарторижский здесь, по-видимому, имеет в виду трагический роман Елизаветы Алексеевны, состоявшийся в 1806 году, через семь лет после того, как они расстались, и героем которого был А. Я. Охотников. – В. Б.) потрясли некоторые самые деликатные принципы. Но это не оправдывает меня, так как я от сердца простил, и она не прощения, но любви, уважения и обожания достойна».
«16 февраля. Великая печаль угнетает меня и (я испытываю) отвращение к свету. Она, быть может, недовольна».
«До 3 марта. Боязнь за перемену в ней потрясает меня сильнее всего своею жалостью, печаль так сильна, что я чувствую себя больным. Пишу к ней; мой разговор с императором… Поднимаю материю о ней».
«8 марта. Ее отъезд. В канун отъезда, утром, прощаюсь. Сила этого союза достойна внимания, между тем как время, и отдаление, и неизбежность должны были стереть чувство и потушить его одними препятствиями, оно собственной силой все преодолевает. Ничто уже не говорит в его пользу, ни желание счастья и наслаждения, ни рассудительность, ни какая бы то ни было надежда, ничто мирское и человеческое; однако оно сильнее стольких различных побуждений. Я говорю и пишу о необходимости брака (Чарторижскому в это время было 45 лет, но он все еще был холост. – В. Б.). Она радуется известию о появлении Наполеона, в надежде, что на более долгое время останется в Германии. Перемена во мне – чувства искренние, глубокие, которые захватывают всю душу и проникают насквозь, принадлежали и принадлежат только ей».
Такого рода откровения, ни для кого из посторонних не предназначенные, убедительно свидетельствуют о глубине и продолжительности чувств, что позволяет говорить не о какой-то мимолетной любовной интрижке, а о серьезной и прочной душевной привязанности, которую и Чарторижский, и Елизавета Алексеевна сохраняли и в дальнейшем.
* * *
И все же главным делом всех танцующих была политика. Уже к концу 1814 года главные европейские державы, кроме Пруссии, тайно образовали союз против России. Побудительным толчком к этому послужила проблема Саксонии.
Александр считал саксонского короля Фридриха-Августа III, перешедшего в 1806 году на сторону Наполеона, изменником и в разговоре с Талейраном заявил, что его место не на Саксонском троне, а в России, подобно тому, как это было с последним польским королем.
Еще больший накал приняли из-за этого вопроса отношения Александра с князем Меттернихом.
Александр, хорошо воспитанный и деликатный, до такой степени не терпел Меттерниха, что в разговорах с ним, которые он вынужден был вести, как с министром иностранных дел Австрии, часто позволял себе такой тон, какого никогда не допускал по отношению к лакеям.
Меттерних отвечал ему откровенной неприязнью и однажды сказал прусскому канцлеру князю Гарденбергу, что Александр на переговорах более заботится о Польше для себя, чем о Саксонии для прусского короля.
Гарденберг тут же передал слышанное Александру, и тот, считая себя лично оскорбленным, вызвал Меттерниха на дуэль.
Беспрецедентной дуэли не суждено было состояться: Меттерних объяснил случившееся недоразумением, произошедшим из-за глухоты Гарденберга, который его неправильно понял. И все же дело дошло до того, что князь Шварценберг составил план военных действий против России и Пруссии, наметив начало войны на март 1815 года.
Со всеми возможными предосторожностями копии договора были отправлены королям Англии и Франции. Сам факт подписания содержался в наистрожайшем секрете, и Александр ничего не знал о существовании договора.
Неизвестно, как бы пошли дела дальше, но в ночь с 22 на 23 февраля 1815 года Меттерних получил от австрийского генерального консула в Вене экстренное сообщение, что Наполеон отплыл с Эльбы.
Меттерних, вскрывший депешу только утром, тут же поспешил к императору Францу, который приказал ему немедленно известить о случившемся и Александра, и Фридриха-Вильгельма, добавив, что австрийская армия должна быть готова к выступлению.
К Александру Меттерних отправился первым и немедленно был им принят, хотя перед тем оба не только не здоровались друг с другом, но и при встречах делали вид, что не замечают один другого.
Но теперь все было забыто, и дотоле непримиримые враги помирились. Более того, Александр обнял Меттерниха и попросил вернуть ему прежнюю дружбу. Так в очередной раз в Александре государь и политик одержал верх над человеком и частным лицом.
Александр полностью поддержал решение императора Франца, и после этого Меттерних отправился к прусскому королю.
Между тем Наполеон форсированным маршем шел к Парижу, и все высланные Людовиком XVIII войска, полк за полком, переходили на его сторону.
8 марта, не сделав ни одного выстрела, Наполеон вошел в Париж.
Его движение было столь стремительным, а переход армии на его сторону столь неожиданным, что Людовик и весь его двор в панике бежали, когда Наполеон подошел к воротам Парижа.
В Тюильрийском дворце, в кабинете короля, Наполеон обнаружил прямо на письменном столе брошенный в спешке секретный договор от 22 декабря 1814 года. Наполеон приказал привести к нему секретаря русской миссии в Париже Будягина и, вручив ему договор, отправил его в Вену к Александру, надеясь тем самым расстроить коалицию против Франции. 27 марта Будягин передал этот документ царю. На следующее утро Александр пригласил к себе барона Штейна, дал прочитать ему договор, а затем сказал, что пригласил к себе и Меттерниха и хотел бы, чтобы Штейн был свидетелем их свидания.
Как только Меттерних вошел в кабинет, Александр протянул ему договор и спросил:
– Известен ли вам этот документ? Меттерних молчал. Тогда Александр, не давая ему говорить, оправдываться и лгать, сказал:
– Меттерних, пока мы оба живы, об этом предмете никогда не должно быть разговора между нами. Нам предстоят теперь другие дела. Наполеон возвратился, и поэтому наш союз должен быть крепче, нежели когда-либо.
Сказав это, Александр бросил договор в горевший камин.
Когда весть о случившемся распространилась среди дипломатов, многие министры, подписавшие договор, принесли Александру свои извинения либо попытались объясниться, и всем им он говорил одно и то же:
– Забудем старое, нас ждут серьезные испытания.
Союзники приняли совместную декларацию, объявлявшую Наполеона узурпатором, стоящим вне закона, а целью союзников провозглашалось: «Лишить Наполеона возможности возмущать спокойствие Европы».
Россия, Англия, Австрия и Пруссия обязались выставить против Наполеона по 150 тысяч солдат и офицеров. Кроме того, все прочие союзные государства выставляли еще 200 тысяч, и таким образом, в рядах объединенных сил союзников должно было оказаться 800 тысяч солдат и офицеров.
Англия выделила субсидию в восемь с половиной миллионов фунтов стерлингов, направив пять миллионов России, Австрии и Пруссии, а три с половиной – тридцати германским государствам, выставившим свои воинские контингенты.
Русские войска, общей численность в 225 тысяч человек, двинулись из России в начале апреля. Главнокомандующим всеми этими силами был назначен Барклай-де-Толли, бывший до того командующим 1-й армией. Эта армия, дислоцировавшаяся в Белоруссии и частью в Литве и на Украине, имела в своих рядах 167 тысяч солдат и офицеров. Она вышла в поход в полном составе и являлась главной силой русских войск. Кроме 1-й армии, шли 7-й пехотный корпус из 2-й армии Беннигсена, корпуса Витгенштейна и принца Евгения Вюртембергского, а также гвардейский корпус под командованием Милорадовича.
Все эти силы выступили из разных регионов России в разное время, и потому маршруты их движения были самостоятельными и не совпадающими с другими.
Главные силы союзников – немцев и англичан – собирались в Бельгии. Туда немедленно отправились из Вены английский фельдмаршал Артур Веллингтон – он принимал участие в Венском конгрессе, и из Берлина – фельдмаршал Блюхер. У первого было под началом 100 тысяч войск, у второго – 120 тысяч.
13 мая Александр, не дождавшись окончания Венского конгресса, выехал к армии и через Мюнхен и Штутгарт проследовал к Гейльбронну, где остановилась его Главная квартира.
К середине июня в Бельгии собралось 72 тысячи английских и голландских войск при 243 орудиях под командованием фельдмаршала Артура Веллингтона. Ему противостояла 70-тысячная армия французов при 150 орудиях под командованием Наполеона.
Сражение произошло 18 июня, в 20 верстах южнее Брюсселя, при деревне Ватерлоо. В первую половину дня битва шла с переменным успехом, но после полудня подоспела прусская армия во главе с фельдмаршалом Блюхером.
Объединенные силы союзников наголову разгромили французскую армию, а Наполеона взяли в плен. Наполеоновская армия окончательно пала.
18 июня Александру сообщили, что в Париже сформировано Временное правительство, а 21 июня в 9 часов утра армия Блюхера сразу через четверо ворот вошла в Париж.
Оставив свои главные силы, находившиеся в 220 верстах от Парижа, Александр помчался в столицу Франции.
Вместе с ним отправились император Франц и король Фридрих-Вильгельм со своими свитами.
Свита Александра разместилась в девяти экипажах.
Вечером 28 июня Александр въехал в Париж. Путь в 220 верст был пройден менее чем за двое суток, и появление русского императора, оказавшегося в столице Франции намного раньше его войск, было полной неожиданностью для парижан.
Александр, проехав через ворота Сен-Мартен, остановился в Елисейском дворце. Через полчаса к нему прибыл король Франции, сам недавно вернувшийся в Париж.
На следующий день приехали Великие князья – Константин, Николай и Михаил, а следом за ними – генералы и офицеры подошедших к Парижу 2-й кирасирской и 3-й гренадерской дивизий. Вторично оказавшийся в столице Франции русский император по-прежнему поражал жителей города тем, что отправлялся на пешие прогулки без чьего-либо сопровождения, а на прогулки верхом в сопровождении одного берейтора.
Продолжение политических и семейных дел
Победа союзников была полной. Наполеона сослали пожизненно на маленький английский остров Святой Елены, затерянный в глубинах Атлантики, а Россия, Австрия и Пруссия заключили союз, получивший название «Священного».
Текст договора был написан самим Александром и состоял из трех пунктов:
1) пребывать соединенными неразрывными узами братской дружбы, оказывать друг другу помощь и содействие для охраны веры, правды и мира;
2) почитать себя единым христианским семейством;
3) пригласить все державы к признанию этих правил и к вступлению в Священный союз.
Основой своей политической деятельности три монарха провозгласили Евангелие. Однако первые же практические шаги союзников показали, что они весьма далеки от евангельских принципов.
По второму Парижскому мирному договору, подписанному 8 ноября 1815 года, на Францию налагалась контрибуция в 700 миллионов франков, на ее территории на пять лет оставлялась 150-тысячная оккупационная армия (из них только 27 тысяч русских), а все сокровища искусства, награбленные французами во время революционных и наполеоновских войн и оставленные во Франции по первому Парижскому договору, теперь возвращались их прежним владельцам.
Не дождавшись подписания Парижского мира, Александр 13 сентября выехал из Парижа в Петербург, проследовав, как обычно, кружным путем. Побывав в Брюсселе, он повернул на юг и, проехав всю Францию, оказался в Швейцарии. Там он посетил города Базель, Цюрих и Костанц и, по свидетельству сопровождавшего его флигель-адъютанта А. И. Михайловского-Данилевского, побывал в швейцарских деревнях. «Александр дорогою в Цюрих из Базели много шел пешком, любовался богатством земли и неоднократно заходил в крестьянские дома. Дай Бог, подумал я, чтобы вид изобилия, порядка и опрятности, которые он в них, без сомнения, находил, на него подействовали, в чем я и не сомневаюсь, зная, сколь он расположен к улучшению состояния его подданных; но душа его, конечно, страдала, когда он сравнивал состояние вольных швейцарских поселян с нашими крестьянами», – писал А. И. Михайловский-Данилевский.
Из Швейцарии Александр повернул в Германию и через Ульм и Нюрнберг проехал в замок Шварценберга – Ворлин, а затем через Прагу направился в Берлин. На подступах к городу его встретил Фридрих-Вильгельм и торжественно вступил вместе с Александром в свою столицу.
Эта встреча была необычайно сердечной, ибо старые друзья отныне становились ближайшими родственниками – Фридрих-Вильгельм решил выдать свою семнадцатилетнюю дочь Шарлотту (полное ее имя – Каролина-Луиза-Шарлотта-Вильгельмина) за Великого князя Николая Павловича.
Однако из-за молодости жениха и невесты дело пока что ограничивалось знакомством, а все прочее было решено отложить до совершеннолетия Николая.
Забегая вперед, скажем, что с начала 1816 года невеста стала заниматься изучением православного катехизиса и русского языка, для чего в Берлин был послан протоиерей Музовский.
Александр, уехав из Берлина, 31 октября прибыл в Варшаву. Через полмесяца он подписал текст польской конституции, провозглашавшей унию с Россией, при которой королем Польши мог быть только российский император.
Командующим армией в Польше оставался Константин Павлович. Конституция была принята сеймом Польши, и 18 ноября император выехал из Варшавы. В ночь на 2 ноября 1815 года царь прибыл в Петербург.
Он уехал из столицы, когда его ждал Венский конгресс, вопреки многим, перекроил в свою пользу карту Европы, после «Ста дней» окончательно сокрушил Наполеона, во второй раз взял Париж и вернулся домой абсолютным триумфатором – признанным главой «Священного союза».
* * *
Как складывалась в этот период жизнь Елизаветы Алексеевны? В конце февраля 1815 года императрица уехала в Мюнхен, а Александр остался в Вене.
Здесь, в Мюнхене, она услышала о бегстве Наполеона с Эльбы.
Придворные всячески поносили и коварного Буонапарте, и гнусного предателя Нея, которому доверился прекраснодушный Людовик XVIII, согревший змея у своего доброго сердца. И не было тех похвал, которые не расточали бы они в адрес другого маршала – Мортье, герцога Тревизского, который не только не выполнил приказ Наполеона арестовать короля и всю его семью, но и сделал все возможное для спасения Людовика и его бегства из Парижа.
10 апреля в Мюнхен приехал из Вены король Баварии Максимилиан, человек необычайно простой и добрый. Его дворец всегда был открыт для всех баварцев, которые любили прогуливаться по многочисленным его залам, заполненным картинами и различными дорогими редкостями, или по саду, где Максимилиан шутил с ними, играл с детьми и охотно принимал приглашения на именины и свадьбы.
Это весьма импонировало Елизавете Алексеевне, которая и сама иногда принимала участие в таких забавах.
6 мая баварский двор переехал из Мюнхена в загородный дворец Нимфенбург, ожидая скорого прибытия туда двух императоров – русского и австрийского, которые находились тогда в Гейльброне, на своих Главных квартирах.
После двухдневных празднеств в Нимфенбурге и Франц, и Александр снова уехали в свои Главные квартиры, а Елизавета Алексеевна осталась ненадолго в Баварии, а затем отправилась в Брукзаль на день рождения своей матери. (Через несколько дней туда пришло сообщение об окончательной победе союзников над Наполеоном при Ватерлоо.)
…Все лето Елизавета Алексеевна провела в родном своем Бадене, письма от Александра были очень редки, а единственным знаком внимания к ней была присланная в конце августа походная церковь с полусотней певчих, музыкантов и гренадер.
Теперь Елизавета Алексеевна стала часто навещать церковь, понимая, что ее муж не просто так сделал ей этот подарок.
Дни шли размеренно и довольно однообразно; лишь в конце сентября императрицу навестили Великие князья Николай и Михаил, направлявшиеся из Парижа в Берлин, где старшего – Николая Павловича – ждала прусская принцесса Каролина-Шарлотта, предназначенная ему в невесты. Жених спешил в Берлин и потому, не задерживаясь в Бадене, через два дня тронулся в путь.
А потом опять потекли однообразные, скучные будни. Так миновала часть осени, и только 20 октября пришло повеление императора ехать в Россию. (Сам он в это время уже приближался к русской границе.)
Елизавета Алексеевна выехала со всей своей свитой через четыре дня, но по дороге прихворнула и вынуждена была остановиться на неделю в Эйзенахе. 4 ноября она прибыла в дворцовый пригород Берлина – Потсдам, где встречали ее прусский король Фридрих-Вильгельм III с дочерью – принцессой Шарлоттой, нареченной невестой великого князя Николая Павловича, который давно уже уехал из Берлина в Петербург.
И вот наконец 29 ноября, после почти двухлетнего отсутствия, Елизавета Алексеевна вернулась в Санкт-Петербург. Александр был уже там, и Елизавета Алексеевна ожидала встречи с ним, не зная, разумеется, какою она будет.
…Встреча произошла так, как задумал ее Александр: это было сдержанно-радостное свидание двух старых друзей, давно не видевшихся друг с другом. Александр ни в чем не каялся, но намекал на то, что стал иным и дорога покаяния для него не закрыта.
Он расстался с женой, сказав фразу, которую она запомнила навсегда, но сколько над нею ни думала, не могла постичь ее глубинного смысла. Не могла понять, прощает ли он ее или сам завуалированно просит прощения?
– Подумайте над тем, о чем я скажу вам, Государыня, – произнес Александр. – Это очень важно, уверяю вас. И, пожалуйста, не просто запомните, но оставьте в сердце своем. Запомните, друг мой: «Выше закона может быть только любовь, выше права – только милость, выше справедливости – прощение».
О чьей любви говорил он, к чьей милости взывал, какого прощения просил, а может быть, предлагал?
Очередные браки Романовых с представителями королевских домов Нидерландов, Вюртемберга и Пруссии
В 1815 году, через три года после смерти мужа, герцога Ольденбургского, любимая сестра императора Екатерина Павловна во второй раз вышла замуж.
Из Вены, куда она приезжала на конгресс, Екатерина Павловна отправилась в Германию и при посещении Франкфурта встретила принца Вюртембергского Фридриха-Вильгельма, который сделал ей предложение. Первой известила она о своем согласии стать королевой Вюртемберга сестру Марию Павловну, а затем поехала к ней, в Веймар.
Оттуда, через Берлин, путь ее лежал в Россию.
В Берлине она еще раз встретилась с Александром и рассказала ему о предложении наследного принца Вюртемберга и о своем согласии. Александр одобрил ее решение, и 28 декабря 1815 года в Петербурге состоялось обручение, а 12 января 1816 года – сыграли свадьбу. Менее чем через месяц – 9 февраля того же года, произошло еще одно бракосочетание – Великая княжна Анна Павловна отдала свою руку наследнику нидерландского престола принцу Вильгельму, которому суждено было стать королем только через 24 года.
Анне Павловне, самой младшей дочери Павла, к моменту свадьбы исполнился 21 год.
Как и все ее сестры, она была хороша собой, прекрасно образованна и воспитана, как подобает принцессе. Когда ей еще не исполнилось пятнадцати лет, в 1809 году ее руки для самого Наполеона просил французский посол в России генерал Коленкур, но Александр, не желая иметь родственных отношений с Бонапартом, отказал, ссылаясь на молодость невесты. Анна Павловна была вместе с другими членами семьи Романовых на конгрессе в Вене и там справедливо считалась одной из самых лучших невест Европы.
Ей была предоставлена возможность выбрать себе жениха по вкусу. Из всех потенциальных кандидатов, присутствовавших на конгрессе, Анна Павловна остановила свой выбор на молодом, красивом и элегантном генерале, который мог соперничать с любым участником конгресса и по своей родословной.
Кем же был ее избранник?
Принц Фридрих-Георг-Людвиг – жених Анны Павловны – был сыном первого короля Нидерландов, Великого герцога Люксембургского и принца Оранского-Нассауского Вильгельма I. Династия эта с первой половины XVI века стояла во главе Голландии, занимая должность штатгальтеров страны, а по происхождению представляла собой немецкую династию, связанную с домами Нассау – Нассау-Дилленбург и Нассау-Зиген. Сам принц родился в 1792 году и был тремя годами старше своей невесты. Он учился в Берлинской военной школе, затем – в Оксфордском университете и девятнадцати лет – в 1811 году – стал подполковником испанской армии, сражавшейся против Наполеона. В 1815 году, командуя нидерландскими войсками, он отличился в битве при Ватерлоо и таким образом был для своего возраста человеком вполне зрелым и повидавшим жизнь во всем ее многообразии.
Анна Павловна и Фридрих-Георг не просто приглянулись и даже понравились друг другу – между ними, по единодушному мнению многих свидетелей-современников, возникла подлинная, горячая и искренняя любовь, что не так-то часто встречается при заключении династических браков, в основе которых чаще всего лежат политические соображения.
А тут было иначе. Наверное, потому и со свадьбой тянуть не стали: и Мария Федоровна, и Александр, и Елизавета Алексеевна быстро договорились о том, что свадьба будет проходить в Санкт-Петербурге, в доме невесты, а затем молодые поедут в Нидерланды.
Так же быстро был решен и вопрос о приданом.
Вскоре после свадьбы молодые отправились в Голландию. Следует сказать, забегая вперед, что жизнь Анны Павловны и ее мужа оказалась более чем непростой. Фридрих-Георг оставался наследником престола почти четверть века – до 1839 года. Он часто не соглашался со своим отцом – королем Нидерландов Вильгельмом I Оранским, но никогда не помышлял о заговорах против него, а всегда честно исполнял свой долг.
Приехав на новую родину, Анна Павловна упорно начала заниматься ее языком и историей и вскоре же добилась немалых успехов.
Сферой своей общественной деятельности она избрала учебно-воспитательные заведения, обратив особое внимание на начальные школы, где учились, преимущественно, дети из простонародья. Но и к ним она проявила дифференцированный интерес, взяв под свою опеку самых бедных мальчиков и девочек, нуждающихся в детских приютах.
Со временем она основала во всех землях Нидерландов – а это были Голландия, Бельгия, Люксембург и Фландрия – около полусотни таких детских домов. Кроме того, Анна Павловна основала на собственные деньги госпиталь и инвалидный дом, что очень подняло ее престиж во мнении граждан страны.
В 1830 году во многих странах Европы вспыхнули революции. Отец Фридриха-Георга – король Нидерландов Вильгельм I Оранский – послал сына в Антверпен и Брюссель для подавления этих выступлений. Фридрих-Георг, оказавшись в Бельгии, отказался от подавления восстания, признав права бельгийцев на самостоятельность, но его отец вторгся с голландской армией в Бельгию, и сын вынужден был бежать в Англию, которая вместе с Россией, Францией, Австрией и Пруссией признала независимость Бельгии. Наконец, в 1840 году под давлением народа Вильгельм I передал трон сыну, сорокасемилетнему Фридриху-Георгу, который стал королем Нидерландов под именем Вильгельма II. Он умер в 1849 году, оставив Анну Павловну с двумя сыновьями:
Александром-Павлом, который родился вскоре после свадьбы, в 1817 году, и стал Нидерландским королем в 1849-м, после смерти своего отца, под именем Вильгельма III, и младшим – Генрихом, родившимся в 1820 году.
Анна Павловна прожила дольше всех своих сестер и братьев и умерла в 1865 году семидесяти лет от роду.
Последние годы жизни Александра и Елизаветы Алексеевны
Александр был рад женитьбе Николая и Александры Федоровны. Он был бездетен, Константин не хотел царствовать, последним реальным претендентом на российский престол оставался Николай, у которого, судя по всему, должны были быть наследники.
К тому же сам Александр решительно не желал оставаться на троне, вернувшись к идеалам своей юности, когда под влиянием Лагарпа и Елизаветы Алексеевны он хотел жить обычным человеком.
24 мая 1821 года царю вручили список офицеров-заговорщиков, создавших тайные общества и стремящихся к революции, – впоследствии они составили ядро «декабристов» – но Александр прочитал эти списки и бросил их в огонь, сказав: «…Я разделял и поощрял эти иллюзии и заблуждения. И не мне их карать».
В августе 1823 года он сам написал манифест о назначении наследником престола, помимо Константина Павловича, третьего сына императора Павла – Великого князя Николая Павловича. Однако этот манифест не публиковался, не предавался огласке, а хранился в глубочайшей тайне. И сам его текст в одном-единственном экземпляре был спрятан в ризнице московского Успенского собора в Кремле.
25 августа 1823 года Александр сам привез манифест в Москву и передал его московскому митрополиту Филарету в запечатанном конверте, на лицевой стороне которого Александр собственноручно написал: «Хранить в Успенском соборе с государственными актами до востребования моего, а в случае моей кончины открыть Московскому епархиальному архиерею и Московскому генерал-губернатору в Успенском соборе, прежде всякого другого действия».
29 августа Филарет при трех свидетелях положил манифест в ризницу Успенского собора, взяв с них клятву о полном сохранении этой важной государственной тайны.
Три копии с манифеста снял министр духовных дел и народного просвещения князь А. Н. Голицын, запечатал их в три конверта и отправил в Петербург по трем адресам – в Государственный Совет, Сенат и Синод. На всех трех конвертах Александр написал своей рукой: «В случае моей кончины раскрыть прежде всякого другого действия».
В начале 1824 года Александр заболел горячкой, а когда пошел на поправку, один из его приближенных, князь Васильчиков, сказал царю, что весь город принимает в нем участие. «Те, которые меня любят?» – спросил император. «Все», – отвечал Васильчиков. «По крайней мере мне приятно верить этому, – сказал Александр, – но, в сущности, я не был бы недоволен сбросить с себя бремя короны, страшно тяготящей меня».
Кроме навязчивой идеи о тяжком бремени короны, императора преследовали и личные несчастья. 23 июня 1824 года скончалась его любимая внебрачная дочь Софья Нарышкина, незадолго перед тем помолвленная с графом Шуваловым. Она умерла от чахотки в тот день, когда Александр должен был присутствовать на учениях гвардейской артиллерии. Когда ему сообщили о смерти дочери, «император, не сказав на это ни слова, возвел глаза свои вверх и залился самыми горючими слезами, так что вся сорочка на груди его была ими смочена», – писал присутствовавший при этом его лейб-медик доктор Д. К. Тарасов.
Смерть дочери он воспринял как наказание Господне за тяжкие свои грехи, и страшнейший из них – отцеубийство. Он считал, что Бог не дал ему продолжить его род за убийство отца, и ничто не могло избавить Александра от этих мыслей и переживаний.
Это была одна из последних встреч Александра с Марией Антоновной. Вскоре после смерти дочери Нарышкина навсегда рассталась с Александром, а затем, после его смерти, уехала за границу, где и скончалась в маленьком городке Тегернзее, под Мюнхеном, в 1854 году, в возрасте 75 лет.
* * *
Когда 7 ноября 1824 года в Санкт-Петербурге произошло страшное наводнение, послужившее позднее А. С. Пушкину сюжетом для поэмы «Медный всадник», Александр посчитал его Божьей карой за его грехи и очень страдал, видя народные бедствия.
Весной 1825 года в Санкт-Петербург приехал его старый друг и теперь уже близкий родственник, король Нидерландов Вильгельм I Оранский. Александр рад был гостю, но как раз в это время тяжело заболела Елизавета Алексеевна. Отношение к ней императора в последнее время сильно переменилось, и он искренне соболезновал жене.
Испытывая к Оранскому дружеские и родственные чувства, Александр признался, что давно уже хочет «оставить престол» и уйти в частную жизнь.
Гость стал всячески его отговаривать, но Александр остался тверд.
После того как знатный гость покинул Петербург, Александр отправился в очередное путешествие – на сей раз в Варшаву, но, вопреки обыкновению, через два месяца возвратился в Петербург для того, чтобы совершить еще одно путешествие – в Таганрог, где, по мнению врачей, болезнь Елизаветы Алексеевны должна была пройти.
Александр уже почти готов был тронуться в путь, когда Аракчеев привез к нему унтер-офицера 3-го Украинского полка Шервуда, доложившего Аракчееву о существовании «Южного общества». Теперь уже о заговоре знал Аракчеев, и Александр не мог делать вид, что ничего не знает. Он приказал Аракчееву проследить за тем, чтобы Шервуду было оказано всяческое содействие к раскрытию заговора.
После этого, 1 сентября 1825 года, Александр отправился в Таганрог. А Елизавета Алексеевна должна была выехать двумя днями позже.
Заметим, что перед любым отъездом из Петербурга Александр всегда служил молебен в Казанском соборе. Однако перед последней в его жизни поездкой порядок этот был нарушен. И вот почему. 30 августа 1825 года в Александро-Невской лавре служили литургию в честь перенесения мощей Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. Отстояв литургию, Александр попросил митрополита отслужить послезавтра, 1 сентября, в 4 часа утра и молебен в связи с его отъездом из Петербурга. Однако хотел, чтобы эта его просьба осталась в тайне.
Накануне Александр прислал множество свечей, ладана и масла, а митрополит приказал приготовить для себя облачение малинового бархата по золотой основе, сказав, что хотя посещение храма столь высокой особой и требует светло-торжественного облачения, но в этом случае он считает неподобающим одеться в светлые ризы, ибо после молебна предстоит разлука с государем.
Около четырех часов утра 1 сентября митрополит, архимандриты и лаврская братия вышли к воротам, чтобы встретить царя. Было темно и очень тихо. В четверть пятого к воротам подкатила легкая коляска, запряженная тройкой, и из коляски вышел Александр, приехавший в лавру только с одним кучером.
Он был одет в вицмундир, а сверху накинут серый плащ, на голове его была фуражка. На государе не было даже шпаги.
Он извинился за опоздание, приложился к кресту, приказал затворить за собой ворота и пошел в собор.
Перед ракой Александра Невского царь остановился и начал слушать чин благословения в путешествие.
Когда началось чтение Евангелия, Александр встал на колени и попросил митрополита положить Евангелие ему на голову. Так и стоял он с книгой на голове, пока митрополит не кончил чтение. При этом присутствующие монахи пели тропарь: «Спаси, Господи, люди твоя».
Когда известный русский историк М. И. Богданович коснулся этого сюжета в последнем томе шеститомной «Истории царствования императора Александра I и России в его время», изданной в Петербурге в 1869—1871 годах, то утверждал, что в Александро-Невской лавре утром 1 сентября служили по просьбе Александра не молебен о благополучном путешествии, а панихиду по покойнику.
Так как при этом в соборе были только православные монахи и священники, то они не могли спутать молебен с панихидой, а кроме них, никто не мог сообщить М. И. Богдановичу такую подробность.
В пользу версии о панихиде говорит и то, что, уезжая из Петербурга, Александр никогда не служил молебна без свиты и сопровождавших его лиц, а в Александро-Невской лавре не было даже царского кучера.
После того как служба кончилась, Александру дали поцеловать крест, окропили святой водой и благословили иконой. Александр попросил одного из диаконов положить эту икону в его коляску.
Выйдя с царем из собора, митрополит спросил царя, не хочет ли тот пожаловать к нему в келью.
– Очень хорошо, – ответил Александр, – только ненадолго. Я уже и так полчаса по маршруту промешкал.
В гостиной, оставшись один на один с митрополитом, царь согласился принять одного из схимников, а потом прошел в его келью.
…Мрачная картина предстала перед Александром. Пол и стены кельи до половины были обиты черным сукном. Слева, у стены, стояло высокое распятие с Богоматерью и евангелистом Иоанном по бокам. У другой стены стояла длинная черная деревянная скамья. Тусклая лампада, висевшая в углу под иконами, скудно освещала келью.
– И это все имущество схимника? – спросил царь у митрополита. – Где же он спит?
– Он спит на полу, – ответил митрополит.
– Нет, – возразил схимник, – у меня есть постель, идем, государь, я покажу ее тебе.
И с этими словами шагнул за перегородку, которую Александр в полумраке не заметил. За перегородкой увидел царь стол, на котором стоял черный гроб, а в нем лежали схима, свечи и все, что надлежало иметь при погребении.
– Смотри, государь, – сказал монах, – вот постель моя, и не моя только, но всех нас. В нее все мы, государь, ляжем и будем спать долго!
Несколько минут простоял Александр в глубокой задумчивости, а потом вышел из кельи и, сев в коляску, сказал сопровождающим его:
– Помолитесь обо мне и о жене моей…
Выехав за город, Александр привстал в коляске и долго смотрел на исчезающий город…
* * *
В Таганрог он приехал 14 сентября, а еще через неделю встретил и Елизавету Алексеевну. Императрица, в Петербурге почти не покидавшая постели, вышла из кареты неожиданно бодро и сама пошла в дом, который занял и приготовил к ее встрече Александр.
Пробыв возле выздоравливающей жены три недели, Александр решил поехать в недалекую отсюда землю Войска Донского и в Крым.
30 октября Виллие заметил у царя первые признаки недомогания, а в начале ноября царь заболел.
5 ноября он вернулся в Таганрог и слег в постель.
10 ноября в записках Виллие, которые он начал вести со дня возвращения в Таганрог, появилась многозначительная запись: «Начиная с 8-го числа, я замечаю, что-то такое другое его занимает больше, чем выздоровление, и беспокоит его мысли». А на следующий день больной категорически отказался принимать лекарства и делать промывание желудка. Виллие записал, что Александр даже пришел в бешенство, услышав о лечении. И Виллие вынужден был записать 1 ноября: «Сегодня ночью я выписал лекарства для завтрашнего утра, если мы сможем посредством хитрости убедить его принимать их. Это жестоко. Нет человеческой власти, которая могла бы сделать этого человека благоразумным. Я – несчастный». А 13-го стало и совсем плохо – царь впал в сонливость, что было дурным знаком, дыхание его стало прерывистым, сопровождающимся спазмами, но от лекарств он по-прежнему отказывался.
14 ноября в 8 часов вечера он попытался встать с постели, но потерял сознание и упал. Все это произошло при Елизавете Алексеевне, и доктора, не находя иного выхода, решились на крайнее средство – психологически воздействовать на Александра, предложив ему совершить причастие, что заставило бы больного поверить, что дела его плохи и ему грозит смерть.
Пока готовили к причастию местного священника Алексея Федотова, Виллие попробовал обмануть больного, примешав лекарство в питье, но Александр отказался и от питья, сказав Виллие: «Уходите». Виллие заплакал, а Александр, увидев это, сказал: «Подойдите, мой дорогой друг. Я надеюсь, что вы не сердитесь на меня за это. У меня – мои причины».
Об этих таинственных «причинах» спорят до сих пор, потому что все записи, начиная с 11 ноября, были уничтожены по приказу Николая Павловича. Это записи и Елизаветы Алексеевны, и дежурных генералов, и лейб-медиков, чьи протоколы были переписаны заново.
А через три дня Александр умер. Это случилось 19 ноября 1825 года в 10 часов 50 минут утра.
По странному стечению обстоятельств возле умирающего была только одна Елизавета Алексеевна – ни врачей, ни адъютантов не было.
Почти сразу же было произведено вскрытие на предмет установления причины смерти. И девять присутствовавших при этом врачей – от «Дмитриевского вотчинного гошпиталя младшего лекаря Яковлева» до «баронета Якова Виллие, тайного советника» – согласились с тем, что смерть наступила вследствие «жестокой горячки с приливом крови в мозговые сосуды и последующим затем отделением и накоплением сукровичной влаги в полостях мозга».
Когда же один из биографов Александра, князь В. В. Барятинский, попросил четырех лучших врачей России начала XX века дать свое заключение о причинах смерти на основании «Акта о вскрытии», то все они, независимо друг от друга, признали, что данные «Акта о вскрытии» создают впечатление, что речь идет не об Александре, а о другом покойном, ибо никаких данных о том, что покойный страдал именно тем, чем болел Александр, из документа не проистекает.
Кроме того, не все в порядке оказалось и с соблюдением формы «Акта о вскрытии»: доктор Тарасов его не подписывал, о чем впоследствии сообщил в своих «Воспоминаниях».
Тарасов считал, что представленный ему труп телом Александра не был.
Сорок дней пролежал покойник в гробу, оставаясь в Таганроге.
В соборе, где стоял гроб, ежедневно совершалась архиерейская служба, а по утрам и вечерам служились панихиды.
В одном из писем князя Волконского секретарю матери Александра Вилламову сообщалось, что «от здешнего сырого воздуха лицо все почернело, и даже черты покойного совсем изменились… почему и думаю, что в Санкт-Петербурге вскрывать гроб не нужно, и в таком случае должно будет совсем отпеть…»
С мнением Волконского согласились, и было велено гроб закрыть и более не открывать.
Лишь 29 декабря 1825 года, на сороковой день после кончины Александра, через две недели после восстания на Сенатской площади (автор намеренно не писал об этом, полагая, что читатели достаточно подробно знают о восстании декабристов 14 декабря 1825 года), когда уже вовсю работала следственная комиссия, гроб с телом Александра повезли в Петербург.
И лишь 13 марта 1826 года, через два с половиной месяца после кончины, тело Александра было погребено в Петропавловском соборе.
…Когда весть о смерти Александра I распространилась в Европе, к Николаю были отправлены: от Пруссии – принц Вильгельм, сын Фридриха-Вильгельма III, наследный принц Мекленбург-Шверинский, маркграф Леопольд Баденский, эрцгерцог Фердинанд Австрийский, прославившийся в кампании 1805 года, что свидетельствовало о большом внимании, которое уделялось в немецких землях к дому Романовых.
Все эти потентаты присутствовали при предании гроба земле в Петропавловском соборе…
Но еще до его погребения в России распространялся упорный слух, что захоронен не император, а совсем другой человек, а Александр ушел из Таганрога неизвестно куда…
* * *
Проболев в Таганроге после смерти Александра еще пять с половиной месяцев, Елизавета Алексеевна в конце апреля решила ехать в Петербург. Оттуда, навстречу ей, выехала мать Александра – Мария Федоровна. Она доехала до Калуги и остановилась там, ожидая больную невестку.
А Елизавете Алексеевне в дороге становилось все хуже и хуже.
4 мая 1826 года в Белеве, в девяноста верстах от Калуги, она умерла, пережив своего мужа менее чем на полгода…
Однако официальная версия о смерти Елизаветы Алексеевны в Белеве 4 мая 1826 года тоже была подвергнута сильному сомнению.
Утверждали, что и Елизавета Алексеевна не умерла в Белеве, как о том сообщали официально, а история, приключившаяся с нею в Белеве, описывалась следующим образом.
После смерти Александра Елизавета Алексеевна написала Марии Федоровне: «Пока он останется здесь – и я останусь, а когда он отправится, отправлюсь и я, если это найдут возможным. Я последую за ним, пока буду в состоянии следовать. Я еще не знаю, что будет со мною дальше, дорогая матушка, сохраните Ваше доброе отношение ко мне».
31 декабря 1825 года, все еще находясь в Таганроге, Елизавета Алексеевна писала матери: «Все земные узы порваны между нами! Те, которые образуются в вечности, будут уже другие, конечно, еще более приятные, но пока я еще ношу эту грустную бренную оболочку, больно говорить себе самой, что он уже не будет более причастен моей жизни здесь, на земле. Друзья с детства, мы шли вместе в течение тридцати двух лет. Мы вместе пережили все эпохи жизни.
Как бы то ни было, так было угодно Богу. Пусть Он соблаговолит позволить, чтобы я не утратила плодов этого скорбного креста – он был ниспослан мне без цели. Когда я думаю о своей судьбе, во всем ходе ее я узнаю руку Божию».
Во второй половине апреля 1826 года Елизавета Алексеевна выехала из Таганрога в Петербург и 3 мая остановилась на ночлег в городе Белеве.
Одну из местных помещиц уведомили, что Елизавета Алексеевна остановится в ее доме. Дом был приготовлен для встречи августейшей гостьи, которая пожаловала в десять часов вечера, при входе в хорошо освещенный зал закрыла глаза руками, сказав, что здесь чересчур много света, и попросила убавить его. Немедленно загасили почти все свечи, оставив лишь две. Затем гостья сказала: «Я страшно утомлена, мне нужен покой» и удалилась в приготовленные для нее комнаты; хозяйка же ушла на другую половину дома и прилегла на диван.
В двенадцать часов ночи к ней в комнату вошел придворный и сказал, что императрица скончалась.
Потрясенная хозяйка поспешила к покойной и увидела, что перед нею лежит совершенно другая женщина: государыня была блондинкой, покойная же – ярко выраженной брюнеткой…
На другой день тело увезли.
Местный священник, протоиерей Покровский, рассказывал, что около полуночи призвали первого попавшегося священника, – им оказался один из учителей Белевского духовного училища – и он исповедал и причастил какую-то плотно закутанную особу. А на рассвете в Калугу, к царице-матери Марии Федоровне, которая ехала навстречу невестке, помчались гонцы с известием о кончине Елизаветы Алексеевны.
Гроб с телом усопшей по приказу Николая I запаяли и больше не вскрывали, так и опустив его в могилу, выкопанную рядом с могилой Александра I в Петропавловском соборе.
Вскоре после того как гроб с телом покойной увезли, к протоиерею Донецкому, служившему в Белеве, пришла странница и попросилась переночевать. Было видно, что она не простого рода – ее речь и манеры выдавали в ней особу из высшего общества. За чаем странница обнаружила высокую образованность и прекрасное знание придворной жизни. На вопросы хозяев дома, кто она такая, странница отвечала: «Кто я такая, я сказать не могу, а что я странствую, на это Божия воля».
И сразу же в Белеве стали говорить, что эта странница – императрица Елизавета Алексеевна, которая ушла из города неизвестно куда.
И все же странница нашлась в Сырковском монастыре Новгородской епархии. В 1837 году в Тихвине появилась странница-молчальница, показывавшая бумажку, на которой было написано ее имя: «Вера Александровна». Странницу приютила помещица Харламова, и у нее та прожила три года, подолгу беззвучно молясь перед иконой Тихвинской Божьей Матери. Молчальница совершала паломничества по ближним монастырям и ухаживала за тяжело больными бедняками. Вскоре о Вере Александровне стали говорить, как о святой, но полиция отправила ее в дом для умалишенных, оттуда вызволила ее возобновительница старинного Юрьевского монастыря – дочь Алексея Орлова-Чесменского, графиня Анна Алексеевна, и поместила молчальницу в Сырковский монастырь.
В 1848 году к ней заезжал император Николай I, пробыв у нее в келье довольно долго, много с нею разговаривал, а в ответ она исписала несколько листов бумаги.
Прощаясь, Николай поцеловал у молчальницы руку и сжег на огне лампады исписанные ею листы.
Молчальница скончалась 6 мая 1861 года, прожив в монастыре 20 лет.
Автор полагает, что эта история появилась на свет после того, как получила распространение другая история – о старце Федоре Кузьмиче, в которой главным действующим лицом был покойный император Александр, официально похороненный в Петропавловской крепости 13 марта 1826 года.
Нераскрытая тайна Александра I
В русской истории, очень богатой нераскрытыми тайнами, есть одна из самых загадочных, о которой никак нельзя умолчать, когда речь заходит о смерти Александра I.
Это – многочисленные слухи и рассказы о том, что он не умер, а остался жив и через несколько лет появился в Пермской губернии под именем старца Федора Кузьмича.
Этот сюжет всегда связывался с тем, что Александр не умер в Таганроге, а выздоровел, приказал положить в гроб вместо себя другого человека, а сам отправился в неизвестные края, явившись потом в Пермской губернии под видом бродяги, не помнящего родства.
Однако прежде чем перейти к пересказу того, что называли «Легендой о старце Феодоре Кузьмиче», или проще – «Федоре Кузьмиче», необходимо еще раз обратиться к эпизодам, уже нам знакомым, а также осветить обстоятельства болезни и смерти императора с той стороны, с какой освещают их сторонники точки зрения, что император Александр I и бродяга Федор Кузьмич – один и тот же человек.
Первое, на что обращают они внимание, это стойкое, проходящее через всю жизнь Александра желание отказаться от престола.
Сторонники правдивости версии идентичности Александра и Федора Кузьмича выстраивают в один ряд его признания Лагарпу, когда еще совсем молодым заявлял он о желании жить рядом с ним в Швейцарии; затем вспоминают о письме девятнадцатилетнего Александра к другу юности В. П. Кочубею, в котором он 10 мая 1796 года писал: «Я знаю, что не рожден для того высокого сана, который ношу теперь, и еще менее для предназначенного мне в будущем, от которого я дал себе клятву отказаться тем или другим способом… Я обсудил этот предмет со всех сторон. Мой план состоит в том, чтобы по отречении от этого трудного поприща (я не могу еще положительно назначить срок сего отречения) поселиться с женой на берегах Рейна, где буду жить спокойно частным человеком, полагая мое счастье в обществе друзей и изучении природы».
Кроме того, в одном ряду с письмом к Кочубею вспоминают и высказанное им как-то в молодости пожелание уехать от двора, хотя бы и в Америку.
Затем выстраивают целую цепь случаев, когда речь шла уже об отказе от наследования трона, когда августейшая бабка Екатерина хотела возвести внука на престол, минуя собственного сына – Павла Петровича.
Вспоминают и о том, что Александр посвятил отца в это намерение Екатерины, доказав тем самым искренность своего отказа. Приводят эпизод в Саардаме, произошедший в 1814 году; его высказывание о невозможности править страной, если на это нет сил, произнесенное в Киеве 8 сентября 1817 года; намерение передать трон брату Николаю, высказанное после маневров в Красном Селе летом 1819 года; разговор с Константином Павловичем в Варшаве осенью того же года, когда Александр заявил, что твердо «намерен абдикировать»; и признание в том же самом Вильгельму Оранскому весной 1825 года.
Таким образом, вырисовывается довольно длинный ряд неоднократных и убедительных свидетельств разных лиц о намерении Александра еще при жизни оставить престол.
Одно из подтверждений такого намерения, выходящее за рамки 1825 года, не было приведено в этой книге.
Речь идет о дневниковой записи жены Николая I – императрицы Александры Федоровны. 15 августа 1826 года, когда Александра Федоровна и Николай находились в Москве по случаю их коронации и восшествия на престол, новопомазанная императрица записала в тот самый высокоторжественный день: «Наверно при виде народа я буду думать и о том, как покойный император, говоря нам однажды о своем отречении, сказал: „Как я буду радоваться, когда увижу вас проезжающими мимо меня, и я, потерянный в толпе, буду кричать вам Ура!“
Последний эпизод подтверждает то, что у Александра было намерение, уйдя от власти при жизни, затем спрятаться среди пятидесяти миллионов своих прежних подданных и со стороны наблюдать за ходом событий.
Сторонники правдивости версии об идентичности Александра и Федора Кузьмича подвергают сомнению официальную версию о смерти императора в Таганроге, выдвигая идею, что вместо Александра в гроб был положен другой человек. Они придерживаются трех вариантов: 1) Это был фельдъегерь Масков, умерший накануне, 19-го, после чего и был положен в постель выздоровевшего Александра и выдан за якобы умершего императора. 2) Это был забитый шпицрутенами солдат, похожий на Александра (такой точки зрения придерживался Л. Н. Толстой в незавершенной повести «Посмертные записки старца Федора Кузьмича»). 3) За усопшего царя был выдан скончавшийся от болезни солдат из Таганрогского гарнизона.
Самым надежным источником сторонники этой точки зрения считают тотчас же распространившиеся слухи, в которых фигурировали все эти версии, и воспоминания и рассказы доктора Тарасова, поведение и позиция которого давали немало оснований для подтверждения того, что Александр не умер 19 ноября 1825 года, а оставался жить дальше.
В отличие от первого лейб-медика Василия Яковлевича Виллие – опытного врача и не менее опытного царедворца, Дмитрий Клементьевич Тарасов вторым достоинством не обладал. Он был сыном бедного священника, и только случай сделал его царским лейб-хирургом.
Тарасов находился у постели Александра пять последних суток – с 14 по 19 ноября 1825 года.
В своих воспоминаниях Тарасов резко расходится со всеми другими очевидцами смерти Александра, утверждая, что еще за час до кончины он был в сознании, спокойным и умиротворенным.
Когда же врачи, вскрывавшие тело Александра, подписали об этом свидетельствующий акт, то Тарасов его не подписал, а подпись его была подделана.
Дальше – больше: когда князь Волконский попросил Тарасова бальзамировать тело, он отказался, мотивируя свое несогласие тем, что всегда испытывал к государю «сыновнее чувство и благоговение».
Затем Тарасов сопровождал гроб Александра из Таганрога в Петербург, после чего остался служить придворным врачом.
А дальше мы расскажем о том, что произошло после официальных похорон императора.
В бытность Тарасова в Царском Селе к нему иногда приезжал его племянник – воспитанник Петербургского Императорского училища правоведения, ставший затем профессором Московского университета. Профессор Иван Трофимович Тарасов оставил воспоминания о том, что его дядя, касаясь Александра I, всегда говорил: «Это был святой человек» или: «Это был человек святой жизни».
Доктор Тарасов охотно рассказывал об Александре, но никогда ни слова не произнес о его кончине, а как только распространилась весть о старце Федоре Кузьмиче, то он и здесь всячески избегал каких бы то ни было разговоров.
И. Т. Тарасов утверждал, что его дядя, несмотря на глубокую религиозность, никогда не служил панихиды по Александру. И лишь в 1864 году, когда до Петербурга дошла весть о смерти Федора Кузьмича, доктор Тарасов стал служить панихиды, однако делал это тайно.
Его племянник узнал об этом не от дяди, а от его кучера. Кроме того, он узнал, что эти панихиды доктор Тарасов служил где угодно – в Исаакиевском соборе, в Казанском соборе, в приходских церквах, но никогда – в Петропавловском соборе, где находилась официальная могила Александра.
Однажды мать профессора И. Т. Тарасова сказала в присутствии тогда уже пожилого Дмитрия Клементьевича:
– Отчего же император Александр Павлович не мог принять образа Феодора Кузьмича? Всяко бывает, судьбы Божии неисповедимы.
Доктор Тарасов страшно взволновался, как будто эти слова задели его за больное.
И еще на одно обстоятельство, касающееся доктора Д. К. Тарасова, обращают внимание сторонники этой версии: он был необычайно богат, имел и большой капитал, и собственные дома, которых не смог бы нажить самой блестящей медицинской практикой.
То, что вы прочли сейчас о докторе Тарасове, есть лишь один из многих аргументов в пользу того, что Александр не умер в Таганроге 19 ноября 1825 года, но если перечислять их все, то нужно было бы написать еще одну книгу, не меньшую по объему, чем эта.
Десятки квалифицированных историков вот уже полтора века пытаются ответить на вопрос: умер Александр в Таганроге в 1825 году или же 20 января 1864 года в Томске совсем под другим именем.
Я не стану убеждать вас, кто прав в этом полуторавековом споре, – те ли, кто считает, что Александр умер в Таганроге 19 ноября 1825 года, или их оппоненты, убежденные в том, что император, отказавшись от короны, ушел в мир под чужим именем и прожил потом еще почти сорок лет, умерев 20 января 1864 года.
Постараюсь беспристрастно изложить то, что известно о старце Федоре Кузьмиче, а вам предоставляю право выбора, – принять любую из двух точек зрения, хотя сам я все же склоняюсь к тому, что император Александр и Федор Кузьмич – один и тот же человек.
Житие старца Федора Кузьмича
Ранней осенью 1836 года к одной из кузниц, расположенных на окраине города Красноуфимска Пермской губернии, подъехал высокий старик-крестьянин с длинной окладистой бородой. Кузнец обратил внимание, что лошадь под стариком была хорошей породы, а его внешность и манера речи крестьянскими отнюдь не были. Кузнец начал расспрашивать старика, где купил он такую лошадь, откуда едет, но старик отвечал неохотно и неопределенно, и кузнец задержал его и отвел в Красноуфимск, в полицию. Старик при этом ни малейшего сопротивления не оказал.
На допросе назвался он крестьянином Федором Кузьмичом и объявил, что он – бродяга, не помнящий родства.
Его посадили в тюрьму, затем высекли плетьми и сослали в Сибирь. 26 марта 1837 года Федор Кузьмич был доставлен 643-й партией каторжан в село Зерцалы и определен в работу на каторжный Краснореченский винокуренный завод.
Здесь отличался он от всех прочих незлобивостью, смирением, хорошей грамотностью и слыл за человека праведной жизни и великого ума.
В 1842 году казак соседней с селом Краснореченским Белоярской станицы С. Н. Сидоров уговорил старца переселиться к нему во двор и для того построил Федору Кузьмичу избушку-келью.
Старец согласился и некоторое время спокойно жил в Белоярской.
Здесь случилось так, что в гостях у Сидорова оказался казак Березин, долго служивший в Петербурге, и он опознал в Федоре Кузьмиче императора Александра I. Вслед за тем опознал его и отец Иоанн Александровский, служивший ранее в Петербурге полковым священником. Он сказал, что много раз видел императора Александра и ошибиться не мог.
После этих встреч старец ушел в Зерцалы, а оттуда в енисейскую тайгу на золотые прииски и проработал там простым рабочим несколько лет.
Потом – с 1849 года – жил старец у богатого и набожного краснореченского крестьянина И. Г. Латышева, который построил для Федора Кузьмича возле своей пасеки маленькую избушку.
В ней были топчан с деревянным брусом вместо подушки, маленький столик и три скамейки. В переднем углу висели иконы Христа, Богородицы и маленький образок Александра Невского.
Уместно будет заметить и еще одну любопытную подробность: особенно торжественным для себя днем Федор Кузьмич почитал день святого Александра Невского и отмечал его так, как если бы это был день его именин.
В одной с ним каторжной партии пришли две крепостные крестьянки – Мария и Марфа. Они жили раньше около Печерского монастыря во Псковской губернии и за какие-то провинности были сосланы их помещиком в Сибирь.
Федор Кузьмич подружился с ними и в большие праздники приходил после обедни к ним в избушку. В день Александра Невского Мария и Марфа пекли для него пироги и угощали другими яствами.
Старец в этот день бывал весел, ел то, от чего обыкновенно воздерживался, и часто вспоминал, как раньше проходил праздник Александра Невского в Петербурге. Он рассказывал, как из Казанского собора в Александро-Невскую лавру шел крестный ход, как палили пушки, как весь вечер до полуночи была иллюминация, на балконах вывешивали ковры, а во дворцах и гвардейских полках гремели празднества.
Во время жизни Федора Кузьмича в Краснореченске однажды посетил его иркутский епископ Афанасий и на удивление многих долго говорил с ним по-французски, когда же уходил, то выразил Федору Кузьмичу знаки особого уважения.
Потом епископ рассказывал, что старец сообщил ему о благословении на подвиг к такой жизни московского митрополита Филарета.
В это же время еще один человек признал в Федоре Кузьмиче императора Александра. На сей раз это был один из дворцовых петербургских истопников. Он был сослан в соседнюю деревню, заболел и попросил, чтобы его привели к старцу, излечивавшему многих недужных. Его товарищ по ссылке, тоже бывший придворный истопник, привел больного к старцу. Когда больной услышал знакомый голос императора, то упал без чувств. И хотя старец попросил не говорить о том, что он узнал его, молва об этом вскоре широко разнеслась по окрестностям.
Десятки людей потянулись за исцелением к Федору Кузьмичу со всех сторон. И он снова ушел на другое место, поселившись возле деревни Коробейниково.
Но и здесь его не оставляли в покое. Многие простые люди, приходившие к нему за советом и исцелением, не раз замечали возле избушки старца знатных господ, дам и офицеров.
Однажды приехал к нему томский золотопромышленник С. Ф. Хромов с дочерью и, пока ждал у избы, увидел, как оттуда вышли гусарский офицер и дама – оба молодые и красивые, а с ними – и старец. Когда Федор Кузьмич прощался с ними, офицер наклонился и поцеловал ему руку, чего старец не позволял никому.
Вернувшись к избе, старец с сияющими глазами сказал:
– Деды-то меня каким знали! Отцы-то меня каким знали! Дети каким знали! А внуки и правнуки вот каким видят!
Он прожил возле деревни Коробейниково с 1851 по 1854 год и опять уехал в Краснореченское. Теперь Латышев построил ему еще одну избушку, в стороне от дороги, на самой горе, у обрыва.
В это время познакомился старец с бедной крестьянской девушкой из Краснореченска – Александрой. Когда ей сравнялось двадцать лет, она захотела пойти на богомолье, и Федор Кузьмич, отправляя ее в путь, составил подробный план путешествия, ибо знал все монастыри и святыни России.
Конечной целью паломничества была Почаевская лавра, где в это время находилась графиня Остен-Сакен. Оказавшись в Почаеве, крестьянка и графиня познакомились, и Остен-Сакен пригласила девушку в недалекий от лавры Кременчуг, где она жила с мужем, Д. Е. Остен-Сакеном.
В это время в Кременчуг приехал император Николай I и остановился в доме Остен-Сакена. Царь с интересом расспрашивал смышленую сибирячку о делах у нее на родине, спрашивал, сколько поп за свадьбу берет, и как себя девушки ведут, и что люди едят, и о многом прочем.
Сашенька так понравилась Николаю, что он даже оставил ей записку, сказав, что если окажется в Петербурге, то пусть приходит к нему в гости.
В 1852 году она возвратилась к себе в Краснореченское и обо всем, с ней случившемся, рассказала Федору Кузьмичу.
Между прочим, она сказала, что в доме Остен-Сакена видела портрет императора Александра I и удивилась их сходству, заметив, что на портрете Александр так же держал руку за поясом, как и Федор Кузьмич.
При этих словах старец изменился в лице и вышел в другую комнатку, повернувшись к девушке спиной, но она все равно заметила, что он беззвучно заплакал и рукавом рубахи стал вытирать слезы.
В 1858 году С. Ф. Хромов уговорил Федора Кузьмича переехать к нему в Томск.
Перед отъездом старец перенес из своей избушки в часовню села Зерцалы икону Печерской Божьей Матери и Евангелие. В день отъезда – 31 октября 1858 года – он пригласил нескольких жителей села в часовню и, отслужив молебен, поставил нарисованный на бумаге разноцветный вензель, основой которого была буква «А» с короной над нею, а вместо палочки в букве был изображен летящий голубь.
Старец вложил бумагу с вензелем в икону, сказав при этом:
– Под этой литерой хранится тайна – вся моя жизнь. Узнаете, кто был.
В доме Хромова Федор Кузьмич прожил шесть лет. Там произошло множество интересных случаев, о которых нельзя не упомянуть.
Чиновница Бердяева захотела снять квартиру в семейном доме и зашла к С. Ф. Хромову. Там она неожиданно столкнулась с Федором Кузьмичом и, увидев его, упала в обморок. Придя в себя, она объяснила произошедшее тем, что в старце признала Александра I, которого довелось ей видеть.
В доме С. Ф. Хромова часто бывал советник губернского суда Л. И. Савостин. Он привозил туда своего приятеля И. В. Зайкова.
Когда великий князь Николай Михайлович, внук Николая I, задумал писать двухтомный труд об Александре I, включив туда сюжет и о старце Федоре Кузьмиче, он прислал в Томск своего доверенного Н. А. Лашкова. И хотя в этом труде —
«Император Александр I. Опыт исторического исследования». Тт. 1 – 2. СПб., 1912 – автор отверг идентичность Федора Кузьмича Александру I, он все же добросовестно отнесся к сбору материала и к его проверке.
Лашков в Томске встретился с Зайковым и узнал от него, что «старец был глуховат на одно ухо, потому говорил, немного наклонившись. (Вспомним, что и Александр был с юности глуховат на одно ухо, получив травму при учебных артиллерийских стрельбах. – В. Б.) При нас во время разговора он или ходил по келье, заложив пальцы правой руки за пояс, или стоял прямо, повернувшись спиной к окошку… Во время разговоров обсуждались всевозможные вопросы: государственные, политические и общественные. Говорили иногда и на иностранных языках и разбирали такие вопросы и реформы, как всеобщая воинская повинность, освобождение крестьян, война 1812 года, причем старец обнаруживал такое знание этих событий, что сразу было видно, что он был одним из главных действующих лиц».
Известный томский краевед И. Г. Чистяков, близко знавший Федора Кузьмича, писал, что тот хорошо владел иностранными языками, хорошо знал современные политические события и высшее общество. Чистяков писал: «Рассказывая крестьянам или своим посетителям о военных походах, особенно о событиях 1812 года, он как бы перерождался: глаза его начинали гореть ярким блеском, и он весь оживал… Например, рассказывал он о том, что, когда Александр I в 1814 году въезжал в Париж, под ноги его лошадей постилали шелковые платки и материи, а дамы бросали на дорогу цветы и букеты; что Александру это было очень приятно; во время этого въезда граф Меттерних ехал справа от Александра и имел под собой на седле подушку».
Имеется и немало других свидетельств, подобных приведенным.
В конце 1863 года силы стали покидать старца, которому, по его словам, шел уже 87-й год. (Вспомним, что Александр родился в 1777 году – и здесь возраст и того, и другого совпадает.)
19 января 1864 года С. Ф. Хромов зашел в избушку к Федору Кузьмичу и, помолившись, сказал, встав перед больным на колени:
– Благослови меня, батюшка, спросить тебя об одном важном деле.
– Говори, Бог тебя благословит.
– Есть молва, что ты, батюшка, не кто иной, как Александр Благословенный. Правда ли это?
– Чудны дела твои, Господи. Нет тайны, которая бы не открылась, – ответил Федор Кузьмич и замолк.
На следующий день старец сказал Хромову:
– Панок, хотя ты знаешь, кто я, но, когда я умру, не величь меня, схорони просто.
Федор Кузьмич скончался в своей избушке, находившейся возле дома С. Ф. Хромова, в 8 часов 45 минут вечера 20 января 1864 года. Его похоронили на кладбище томского Алексеевского мужского монастыря.
На кресте была выбита надпись: «Здесь погребено тело Великого Благословенного старца Федора Кузьмича, скончавшегося 20 января 1864 года».
По-видимому, усмотрев намек на Александра I в словах: «Великого Благословенного», томский губернатор Мерцалов велел два этих слова замазать белой краской…
Свидетели жизни старца в Сибири добавляют, что Федор Кузьмич был необыкновенно чистоплотен, ежедневно менял чулки и имел всегда очень тонкие носовые платки. Иногда замечали, что, оставаясь один и не подозревая, что за ним следят или же наблюдают, он ходил четким военным шагом, отбивая такт и отмахивая рукой…
Все это я представляю на суд читателей и надеюсь, что, возможно, когда-нибудь мы узнаем еще и кое-что иное об Александре I и старце Федоре Кузьмиче…
Обращает на себя внимание и еще одна деталь: появление Веры в Сырковском монастыре совпадает по времени с первым упоминанием о Федоре Кузьмиче.
Бросается в глаза, что с сентября 1825 до мая 1826 года все события вокруг Александра I и Елизаветы Алексеевны происходили при минимальном количестве участников и вдали от двора.
И то, что Александра привезли к месту погребения через четыре месяца, – тоже не
случайно. По-видимому, не случайно и то, что гроб с телом императрицы был накрепко запаян.
* * *
А теперь снова вернемся на четыре десятилетия назад, в конец 1825 года, когда закончилось двухнедельное междуцарствие, вновь прочно установился покачнувшийся было государственный престол и одиннадцатый российский император начал готовиться к очередной коронации и восхождению на прародительский московский трон.
Николай Первый. Начало царствования
Как и повелось в этом сложном повествовании, охватывающем более двух веков и выводящем на историческую сцену сотни персонажей, нам надлежит еще раз вернуться к событиям конца 1825 года, когда известие о смерти Александра I пришло в Санкт-Петербург.
Это произошло 27 ноября 1825 года. В тот же день был созван Государственный Совет, который согласился с тем, что престол должен перейти к Константину. Николай, первым из присутствовавших, принес присягу Константину, а на следующий день был издан указ о повсеместной присяге новому императору. Однако Константин решительно отказался от престола, заявив, что императором он признает Николая и присягает ему на верность. Пока курьеры носились между Варшавой и Петербургом, отношение к происходящему было неоднозначным – Москва 30 ноября присягнула Константину, а в Петербурге дело отложили до 14 декабря. По-разному восприняли вопрос о престолонаследии и в провинции.
12 декабря к Николаю явился гвардейский поручик Я. И. Ростовцев и предупредил о готовящемся вооруженном выступлении в столице, не называя, правда, имен заговорщиков, сказав, что дал им честное слово. Николай не настаивал.
Николай немедленно познакомил с этим Санкт-Петербургского военного губернатора Милорадовича, начальника штаба Гвардейского корпуса Бенкендорфа и князя А. Н. Голицына, одного из трех доверенных Александра, посвященного в тайну пакета, хранящегося в алтаре Успенского собора.
Как только совещание закончилось, из Варшавы прибыл курьер, привезший письмо от Константина с окончательным отказом от трона.
На следующий день, 13 декабря, был составлен манифест, помеченный, впрочем, 12 декабря, о вступлении на престол Николая I. В манифесте приводились и основания для такого решения – воля Александра, высказанная и зафиксированная им в октябре 1823 года в известном письме, оставленном в Успенском соборе. Кроме того, сообщалось и о ряде писем Константина, где наследником престола признавался Николай, а цесаревичем его старший сын Александр, которому было 7 лет.
Дальнейшее хорошо известно: воспользовавшись создавшейся ситуацией, офицеры и генералы – заговорщики вывели свои войска на Сенатскую площадь и попытались свергнуть династию, поменяв государственное устройство. Так как этот мятеж произошел 14 декабря 1825 года, его участников стали называть «декабристами».
Николай командовал войсками, оставшимися ему верными, подавил вооруженный мятеж, более ста декабристов были сосланы в Сибирь, сотни отправлены на Кавказ, где шла война с непокорными горцами, пятеро руководителей движения были по приговору суда повешены.
На престол взошел тридцатилетний гвардейский генерал, высокий и красивый, получивший прекрасное домашнее образование по курсу Военно-инженерной академии и университета.
К концу царствования Александра I Николай был членом Государственного Совета, генерал-инспектором армии по инженерной части и командиром гвардейской дивизии. Занимая эти посты, Николай о многом был неплохо осведомлен.
Ощущение готовящегося мятежа, а по меньшей мере какой-то неясной, но тревожной опасности, не оставляло Николая ни на час. Оставаясь старшим представителем императорской фамилии, когда Александр I уезжал за границу, он находил подтверждение своим опасениям и в других проявлениях того, что его угнетало. Все это происходило в условиях добровольного самоустранения старшего брата Константина от петербургских дел и уединения со своей второй женой в Варшаве.
И хотя смерть Александра I была для Николая, как и для всех других, большой неожиданностью, открывавшаяся перед ним перспектива получения трона неожиданностью не оказалась.
Кроме того, следует иметь в виду, что лавина государственных дел, внезапно обрушившаяся на него после смерти Александра, не застала Николая врасплох. Он был трудолюбив, педантичен и упорен и считал работу над канцелярскими бумагами одной из важнейших своих задач. Николай внимательно следил за течением внешнеполитических дел, не оставлял без внимания и дела внутренние, многие часы проводил на смотрах и в казармах.
22 августа 1826 года в Москве, в Успенском соборе Кремля состоялась коронация Николая и Александры Федоровны. На коронации Австрию представлял двоюродный брат русской императрицы, принц Гессен-Гамбургский, Пруссию – ее родной брат – принц Карл Прусский.
Красноречивым было и награждение титулами, чинами и орденами приближенных Николаю сановников. Командующие 1-й и 2-й армиями, графы Остен-Сакен и Витгенштейн, стали фельдмаршалами. Воспитательница царских дочерей, графиня Ливен, была возведена в княжеское достоинство с титулом «Светлости».
В момент вступления Николая I на престол императорская семья была весьма многочисленной. Старшей была мать Николая, вдовствующая императрица Мария Федоровна, овдовевшая в сорок лет и ко дню коронации своего третьего сына достигшая 66 лет. К этому времени из десяти ее детей уже скончались старший сын Александр и четыре дочери: Александра, Елена, Екатерина и Ольга. У второго сына – Константина – законных детей не было, а у самого младшего сына – Михаила, женившегося в декабре 1823 года на Вюртембергской принцессе Фридерике-Шарлотте-Марии, принявшей в православии имя Елены Павловны, было две дочери – Мария и Елизавета; старшей в это время шел второй год, а младшей было всего три месяца.
Супруга Великого князя Михаила была племянницей короля Вюртемберга, дочерью его не очень удачного брата, – принца Павла-Карла, постоянно конфликтующего с королем, к тому же любителя погулять, предпочитавшего прожигать жизнь в Париже скучным, как ему казалось, делам в Вюртемберге.
Он и жил в Париже, поместив двух своих дочерей в пансион известной писательницы мадам Кампан, которая возглавляла Институт для дочерей офицеров, кавалеров ордена Почетного легиона, находящийся под патронатом Наполеона. В этом серьезном учебно-воспитательном заведении принцесса Фредерика познакомилась с великим естествоиспытателем Жоржем Кювье, родившимся во владениях Вюртемберга и учившимся в Штутгарте. Профессор Кювье был очарован живым умом и любознательностью Фредерики и дал ей большие знания в естественных науках. После выхода из института-пансиона Фредерика много лет переписывалась с Кювье, сохранив на всю жизнь интерес к науке. Из Парижа Фредерика вернулась в Штутгарт, и когда ей не было еще пятнадцати лет, Александр I письменно попросил у отца принцессы ее руки для своего брата. Сделано это было по инициативе Марии Федоровны, которая до венчания с Павлом I была Вюртембергской принцессой.
Свадебные торжества закончились к новому, 1824 году, и Великая княгиня Елена Павловна, нареченная этим именем 5 декабря 1823 года, прежде всего стала укреплять свои позиции возле Марии Федоровны, по чьей инициативе она оказалась в Санкт-Петербурге. В этом она вскоре преуспела, и вдовствующая императрица буквально души не чаяла в новой невестке. К сожалению, Мария Федоровна через четыре года скончалась.
Елена Павловна добилась удивительных успехов в русском языке и уже через год после свадьбы свободно читала «Историю государства Российского».
Михаил Павлович родился 28 января 1798 года и, таким образом, был старше Елены Павловны почти на семь лет. В день рождения он был назначен генерал-фельдцейхмейстером – командующим артиллерией русской армии, но до совершеннолетия занимал эту должность формально, имея до 1819 года кураторов.
С юных лет он привык к муштре, шагистике и мундиромании и почитал все это сутью военной службы всю жизнь.
В 1814 году вместе с братом Николаем он был отправлен в Заграничный поход и наблюдал армейскую службу под опекой генерала Н. Н. Коновницына, сопровождавшего августейших братьев за границей. В 1815 году 17-летним генерал-майором уже командовал Конно-артиллерийской бригадой, шедшей в Париж.
В 1817—1819 годах Михаил Павлович совершил большое путешествие по России и Западной Европе, которым традиционно завершалось домашнее образование молодых Великих князей.
Руководил этим путешествием талантливый генерал-лейтенант И. Ф. Паскевич, который навсегда остался для Михаила Павловича образцом военного человека. Наблюдательный Паскевич отмечал в своем дневнике, что Михаила Павловича в путешествии «занимали только выправки и красота фронта». Возвратившись в Санкт-Петербург, Михаил Павлович занял должность генерал-фельдцейхмейстера номинально и стал командиром 1-й бригады 1-й гвардейской пехотной дивизии. По его докладу царю в 1820 году созданы Артиллерийское училище и Санкт-Петербургская артиллерийская учебная бригада. Чуть позже, также по его инициативе, учреждены батарейные и дивизионные артиллерийские школы, а в 1821 году создана Артиллерийская техническая школа.
В это же время проходили приготовления к свадьбе Михаила Павловича и его знакомство со своей невестой.
Приехав в Санкт-Петербург, принцесса Фредерика увидела перед собой служаку и блюстителя строжайшей дисциплины, понимаемых крайне узко, мелко и формально, и – с другой стороны – человека доброго, ироничного и хорошо образованного. Его суровость, утверждают многие современники, была напускной, всегда хмурый взгляд – неискренним, но его боялись и считали неумолимым служакой.
Когда началось междуцарствие, Михаил Павлович сновал между Варшавой, где был Константин, и Санкт-Петербургом, где находился Николай. Он возил письма от одного брата к другому с отказами от престола и текстами присяги. Когда все оказалось на своих местах, наступило 14 декабря, и Михаил Павлович командовал частью верных Николаю войск и гвардейской артиллерией, которая сыграла важную роль в разгроме мятежа.
Затем он был членом следственной комиссии по делу декабристов, а после этого стал членом Государственного Совета.
В дни коронации Николая манифестом от 22 августа 1826 года в случае внезапной смерти императора он был назначен до совершеннолетия сына Николая – Александра – наследником престола и правителем государства.
8 ноября 1826 года Михаил Павлович в день своего тезоименитства был назначен командующим гвардейским корпусом. Он давно мечтал об этом и, вступив в командование, сразу же закусил удила – стал разносить всех подряд, оскорблять офицеров и тиранить их мелочными придирками. Понадобилось вмешательство Бенкендорфа, графа Кочубея, генерала Васильчикова, независимо друг от друга доложивших Николаю о положении дел, понадобился, наконец, выговор, сделанный самим царем, чтобы Михаил чуть поостыл и стал помягче и поделикатнее. Следует заметить, что поначалу все это пошло Михаилу на пользу и он вроде бы переменился в лучшую сторону, но потом вновь взялся за прежнее.
«Великий князь Михаил Павлович, – писал голландский полковник Гагерн, – внешне непривлекателен; в нем есть что-то мрачное и суровое, но, в сущности, его можно назвать „благодетельным нелюдимом“. О нем рассказывают случаи, где он проявлял прекрасные черты великодушия. Он начальник гвардейского корпуса и всей артиллерии, но имеет мало влияния, и в действительности император сам командует гвардией. Михаил иногда бывает очень остроумен. В делах, как говорят, он также мало имеет влияния, да и здоровье его страдает».
Импульсивный и порывистый, он мог сгоряча упечь на гауптвахту, понизить в звании, сослать из гвардии в дальний армейский гарнизон, но мог и облагодетельствовать, помочь деньгами, заступиться перед царем, если знал попавшего в опалу офицера с хорошей стороны. И Михаил Павлович, несмотря на свои недостатки, все же пользовался в гвардии авторитетом.
Ко дню вступления Николая Павловича на престол, в 1826 году, у Михаила и Елены Павловны было две маленьких дочери – Мария и Елизавета, которым суждено было умереть в самом цветущем возрасте: Мария умерла в 21 год, Елизавета – в 19. Еще двое детей – дочь Анна и сын Александр, родившиеся позже, умерли в младенчестве, и только единственная дочь – Екатерина – прожила довольно долгую жизнь, став в 1851 году герцогиней Мекленбург-Стрелицкой. Но несмотря на эти удары судьбы, Елена Павловна не опускала рук и находила в себе силы читать и музицировать, рисовать и рукодельничать, а ее литературный салон был одним из лучших в Петербурге, и ее справедливо считали одной из образованнейших женщин в Европе. Круг общения Елены Павловны выходил за границы «большого света». Ее поклонниками были А. С. Пушкин, И. С. Тургенев, композитор и пианист А. Г. Рубинштейн.
В этой книге еще не раз будет рассказываться об этой замечательной женщине, сыгравшей выдающуюся роль в истории России.
* * *
Из всех детей императора Павла наиболее благополучным в отношении продолжения рода оказался его третий сын – Николай, имевший ко дню вступления на престол восьмилетнего сына Александра – будущего императора Александра II, семилетнюю дочь Марию, четырехлетнюю дочь Ольгу и годовалую дочь Александру. В дальнейшем у Николая и Александры Федоровны родилось еще три сына – Константин, Николай и Михаил, и, таким образом, августейшие родители со временем станут отцом и матерью семерых детей.
Каждому члену императорской фамилии найдется место в нашем повествовании – кому больше, кому меньше, – однако ж по законам жанра, да и по справедливости, следует начать с самого Николая Павловича.
Писатель С. Н. Сергеев-Ценский в романе «Севастопольская страда» оставил нам такой портрет Николая: «Великолепный фронтовик (здесь в смысле – „фрунтовик, строевик“. – В. Б.), огромного, свыше чем двухметрового роста, длинноногий и длиннорукий, с весьма объемистой грудной клеткой, с крупным волевым подбородком, римским носом и большими, навыкат, глазами, казавшимися то голубыми, то стальными, то оловянными, император Николай I перенял от своего отца маниакальную любовь к военному строю, к ярким раззолоченным мундирам, к белым пышным султанам на сверкающих, начищенных толченым кирпичом медных киверах; к сложным экзерцициям на марсовом поле; к торжественным, как оперные постановки, смотрам и парадам; к многодневным маневрам… Будь он поэтом, то только и воспевал бы смотры, парады, маневры, но он ничего не понимал в поэзии; он смешивал ее с вольнодумством…»
Сохранилось много свидетельств, что Николай очень любил музыку и пение, но совершенно не терпел стихов и не любил поэзию. Император Александр, наставляя его, говорил:
– Не забывай, что среди нации поэзия исполняет почти такую же роль, как музыка во главе полка: она – источник возвышенных мыслей; она согревает сердца, говорит душе о самых грустных условиях материальной жизни. Любовь к изящной словесности – одно из величайших благодеяний для России: материальный мир нашей страны действует так неблагоприятно на характер, что непременно нужно предохранять его от этого влияния волшебными прелестями воображения.
Создавая образ Отца Отечества, более всего заботящегося о своей стране и своем народе, Николай на людях демонстрировал великий аскетизм и непритязательность, которые в конце концов стали характерными чертами его образа жизни. Спал он на простой железной кровати с тощим тюфяком и покрывался старой шинелью. Демонстрируя свою приверженность русским обычаям, он не любил никакую другую кухню, кроме русской, а из всех ее блюд более всего любил щи и гречневую кашу. Он вставал в 5 часов утра и сразу же садился за работу. К 9 часам он успевал прочитать и решить множество дел, выслушать доклады министров и сановников или же побывать в полках, в разных казенных заведениях, снять на кухне пробу блюд, отстоять церковную службу и непременно успеть к утреннему разводу.
Работая каждый день по 12 – 14 часов, он наводнил империю тысячами указов и распоряжений, приказов и циркуляров, стараясь регламентировать все стороны ее жизни.
Одной из неотъемлемых черт характера Николая была мания величия, но не собственной его личности, а его империи, что ярче всего выражалось в приверженности Николая к помпезности, торжественности и грандиозности. Это привело к господству в архитектуре Петербурга так называемого «позднего классицизма», так как ни одно общественное здание, ни одна церковь, не говоря уже о казармах, арсеналах, гауптвахтах и административных зданиях, не строились без утверждения проекта лично Николаем, – и не только в Петербурге, но и во всей империи – от Вислы до Тихого океана.
Следствием необычайной любви Николая к торжественности и помпезности была почти патологическая страсть императора к различным аксессуарам воинской формы – каскам, киверам, фуражкам, выпушкам, аксельбантам, поясам, лентам, эполетам, значкам, султанам и многому иному. Его гардероб был заполнен десятками генеральских мундиров всех родов войск его собственной армии, а также и иностранными, ибо во многих из них он был шефом различных полков и коронованных особ из этих стран встречал в мундире их армии.
Так, например, 3 августа 1839 года голландский полковник Гагерн утром видел Николая в русском мундире, ибо он принимал парад Кадетского корпуса, в полдень – в мундире австрийского генерала, так как он наносил визит приехавшему в Петербург австрийскому эрцгерцогу Карлу, а час спустя на Николае был прусский мундир, потому что 3 августа был день рождения короля прусского. Но бывали дни, когда Николай переодевался и по шести раз. Более всего шел ему лейб-казачий мундир, и Николай носил его чаще и с большим удовольствием, чем какой-либо иной.
Идеалом государственного деятеля для Николая – так, во всяком случае, он постоянно утверждал – был Петр Великий. Вольно или невольно, император повседневно поддерживал и в себе самом, и в окружающих убеждение в этом и старался – сначала только подражая, а с годами уже и неосознанно, совершенно «войдя в образ», как говорят актеры, во всем походить на Петра.
Николай знал, разумеется, что Петр был прост в обращении с солдатами и мужиками, с «малыми сими», и в этом также шел по его стопам.
Еще более утверждал он себя в роли отца-командира, справедливого и беспристрастного, готового исправить чужую ошибку, поддержать незаслуженно обиженного, когда доводилось ему оказываться среди солдат, унтер-офицеров, обер-офицеров.
Он запретил давать детям крепостных любое образование, кроме начального. Вместе с тем Николай понимал, что без инженеров, врачей, ученых Россия обречена на отсталость, и пытался совместить несовместимое – развивать образование, не знакомя студентов и учащихся с передовыми достижениями научной мысли на Западе. Таким паллиативом, который воспринимался Николаем как надежная панацея от всех бед, стала милая его сердцу теория «официальной народности», автором которой был один из его близких сотрудников С. С. Уваров.
Еще одной чертой характера Николая было лицемерие, скрывавшееся под личиной солдатской прямоты и простодушия. Так, например, когда ему представляли решения Сената о предании преступников смерти, он неизменно отвечал, что в России, слава Богу, смертной казни нет и предлагал дать осужденным 10 – 12 тысяч шпицрутенов, проведя их сквозь строй в тысячу солдат 10 – 12 раз, хотя прекрасно знал, что больше четырех тысяч ударов не выдерживает никто.
Николай был жесток, деспотичен, упрям, но вместе с тем ему нельзя было отказать в неуклонном исполнении своего долга перед Россией – так, как он это понимал. В выполнении своей миссии он часто не щадил себя, проявляя волю, напористость, личную храбрость, презрение к опасностям.
А в своем доме, у себя в семье он был отменным семьянином, строгим, но вместе с тем и ласковым отцом, заботливым мужем, ловко и умело скрывавшим свои амурные похождения от Александры Федоровны, которая, тем не менее, о многом знала, об еще большем догадывалась, но переносила измены мужа стоически, молча страдая, что подрывало ее физическое и нравственное состояние.
События декабря 1825 года сильно потрясли Александру Федоровну. Между тем жизнь и молодость взяли свое, и после коронации в начале 1827 года двадцатидевятилетняя императрица совершенно отошла от треволнений, случившихся более года назад, много танцевала, не пропуская ни одного праздника, и только новая беременность заставила ее несколько умерить свой пыл. 9 сентября 1827 года у нее родился второй сын – Константин, названный в честь его дяди. Николай тут же сообщил об этом брату в Варшаву и просил его быть крестным отцом. Новый Великий князь был тотчас же зачислен и в польскую армию.
Константин был пятым ребенком Александры Федоровны, через четыре года, 27 июля 1831 года, у нее родился еще один сын – Николай, а 13 октября 1832 года – последний, седьмой, ребенок, Михаил.
Видевший Александру Федоровну в 1839 году маркиз де Кюстин оставил следующее описание своих впечатлений о ней, тогда сорокалетней женщине:
«Императрица обладает изящной фигурой и, несмотря на ее чрезмерную худобу, исполнена неописуемой грации. Ее манера держать себя далеко не высокомерна, а скорее обнаруживает в гордой душе привычку к покорности. При торжественном выходе в церковь императрица была сильно взволнована и казалась мне почти умирающей. Нервные конвульсии безобразили черты ее лица, заставляя даже иногда трясти головой. Ее глубоко впавшие голубые и кроткие глаза выдавали сильные страдания, переносимые с ангельским спокойствием; ее взгляд, полный нежного чувства, производил тем большее впечатление, что она менее всего об этом заботилась. Императрица преждевременно одряхлела, и, увидев ее, никто не может определить ее возраста. Она так слаба, что кажется лишенной жизненных сил. Жизнь ее гаснет с каждым днем; императрица не принадлежит больше земле: это лишь тень человека. Она никогда не могла оправиться от волнений, испытанных ею в день вступления на престол. Супружеский долг поглотил остаток ее жизни: она дала слишком многих идолов России, слишком много детей императору. „Исчерпать себя всю в новых великих князьях – какая горькая участь!“ – говорила одна знатная полька, не считая нужным восторгаться на словах тем, что она ненавидела в душе.
Все видят состояние императрицы, но никто не говорит о нем. Государь ее любит; лихорадка ли у нее, лежит ли она, прикованная к постели болезнью, – он сам ухаживает за ней, проводит ночи у ее постели, приготовляет, как сиделка, ей питье. Но едва она слегка оправится, как он снова убивает ее волнениями, празднествами, путешествиями. И лишь когда вновь появляется опасность для жизни, он отказывается от своих намерений».
Де Кюстин писал, что, несмотря на слабость здоровья жены, Николай почти не делал разницы между собой и ею.
«Трудовой день императрицы начинается с раннего утра смотрами и парадами. Затем начинаются приемы. Императрица уединяется на четверть часа, после чего отправляется на двухчасовую прогулку в экипаже. Даже перед поездкой верхом она принимает ванну. По возвращении – опять приемы. Затем она посещает несколько состоящих в ее ведении учреждений или кого-либо из своих приближенных. После этого сопровождает императора в один из лагерей, откуда спешит на бал. Так проходит день за днем, подтачивая ее силы».
И вместе с тем Николай, несомненно, любил жену, прежде всего как мать своих детей, а кроме того, почитал в ней императрицу России.
Зная за собой немало грешков и грехов, о чем речь пойдет впереди, Николай по отношению к Александре Федоровне неизменно демонстрировал не только подчеркнутую заботливость, но и намеренно не жалел никаких расходов, особенно если речь шла о ее заграничных вояжах. Этим преследовал он и политическую цель, когда роскошь и богатство императрицы должны были ассоциироваться в Европе с могуществом и неограниченными возможностями его империи. После смерти Николая эту традицию продолжил его сын – Александр II. Так, например, когда Александра Федоровна решила провести часть зимы 1857 года в Ницце, то для ее недолгого пребывания был куплен большой и роскошный дом на берегу моря, а для того, чтобы слава о богатстве и щедрости русских царей разнеслась по Европе, августейшая вдова устраивала роскошные бесплатные обеды для сотен, а иногда и нескольких тысяч человек. Причем каждый, кто приходил на обед, – а им мог быть любой, – имел право унести с собой и один столовый прибор, куда входил и серебряный стаканчик с вырезанным на нем вензелем императрицы.
Из-за того, что больной не нравилась местная вода, ей привозили невскую воду в особых бочонках, которые везли в ящиках, наполненных льдом. Жители Ниццы, полагая, что царская вода обладает какими-то особыми целебными качествами, всеми способами пытались купить у курьеров хотя бы рюмку ее и в конце концов преуспели в этом: ловкие курьеры стали прихватывать с собой один-другой лишний бочонок и продавать воду на вес золота.
Далее, по ходу повествования, мы еще не раз встретимся с Александрой Федоровной, а пока ограничимся сказанным, чтобы иметь о ней общее представление.
* * *
Выше вскользь было упомянуто о кончине вдовствующей императрицы-матери Марии Федоровны, но следовало бы поподробнее остановиться на последних годах ее жизни.
Женщина необычайно энергичная, скрупулезная и весьма деятельная, императрица-мать создала целую общероссийскую сеть различных заведений, в которых обучались либо содержались дети, больные и старики. Можно сказать, что все начальные школы, приюты и больницы России находились под ее неусыпным наблюдением. Она поражала всех, знающих ее в конце ее жизни, необыкновенной трудоспособностью – в том числе в саду и огороде, прекрасной памятью и жизнелюбием.
В конце жизни Мария Федоровна для своих 67 лет была свежа и красива, и ей нельзя было дать более 50. Она никогда ничем не болела, и ее неожиданная болезнь застала всех, в том числе и ее врача, доктора Рюля, врасплох. Спустя несколько дней в довершение всего ее разбил паралич. А в ночь на 24 октября Мария Федоровна умерла, успев отдать распоряжение сжечь ее дневники – множество толстых тетрадей, которые она вела с 70-х годов прошлого века. Николай велел сжечь их, хорошо сознавая, что это – большая потеря для истории. Узнав о смерти матери, в Петербург из Варшавы примчался Константин, и, таким образом, все родные, кто мог, собрались у гроба Марии Федоровны. 13 ноября ее похоронили с необычайной пышностью.
По смерти Марии Федоровны все учреждения, кои она опекала, перешли к ее невестке-императрице и были переданы новому – Четвертому отделению собственной Ее Величества канцелярии, во главе которого был поставлен секретарь Марии Федоровны тайный советник Г. И. Вилламов, а все эти заведения было велено впредь именовать «учреждения императрицы Марии». Со временем в их делах первую роль стала играть императрица Александра Федоровна.
Какое же наследство досталось Александре Федоровне?
Это были: Воспитательное общество благородных девиц, воспитанницы которого находились в Смольном монастыре, Воспитательные дома в Санкт-Петербурге и Москве, в каждом из которых содержалось до 500 мальчиков и девочек из простонародья – остальные отдавались на воспитание обеспеченным, благонадежным крестьянам.
Под ее опекой находилось Сиротское училище в Петербурге и Сиротское училище ордена Святой Екатерины в Москве, Павловский институт и Акушерский институт – учебно-медицинские заведения в Москве, Повивальное училище в Петербурге, Гатчинский воспитательный дом, Харьковский и Симбирский женские институты, Училище для солдатских детей (мальчиков) в Петербурге, Училище для дочерей чинов Черноморского флота в Одессе.
Мария Федоровна завещала на цели женского образования и воспитания 4 миллиона рублей.
Все эти заведения входили в Ведомство учреждений императрицы Марии. Ведомство росло и развивалось на протяжении почти ста лет и было ликвидировано после Февральской революции 1917 года.
* * *
У Николая I и Александры Федоровны было семеро детей, их первенец – Александр – стал выдающимся государем России – «царем-освободителем», покончившим с позорным крепостным правом.
В восемь лет Александр перешел из рук бонны-англичанки в ласковые, но твердые руки капитана Мердера. Пока Мердер обучал восьмилетнего мальчика премудростям воинской службы, Василий Андреевич Жуковский готовил обширный план всестороннего воспитания и образования будущего императора. Для составления такого плана и для подготовки самого себя к роли Главного воспитателя Жуковскому дано было несколько лет и значительные средства.
Поэта приблизили ко двору еще в 1815 году. В декабре следующего года Александр I назначил ему пожизненную ежегодную пенсию в 4000 рублей серебром, «принимая во внимание его труды и дарования», а с 1817 года Жуковский стал преподавать русский язык жене Николая Павловича, великой княгине Александре Федоровне, с которой его связывала искренняя дружба и столь же искренняя симпатия. Будущая императрица по достоинству оценила доброту и талант Жуковского, а также блестящую образованность и нежную душу, прошедшую через множество страданий.
Жуковский был незаконным сыном тульского помещика Ивана Афанасьевича Бунина и пленной турчанки Сальхи, отданной его отцу на воспитание одним из друзей, майором К. Муфелем. Сальху крестили, назвав ее Елизаветой Демьяновной Турчаниновой, и сделали нянькой при младших детях Бунина, а потом – домоправительницей. Когда будущий поэт родился, у его отца уже было одиннадцать законных детей, и мальчика-бастарда по желанию Бунина усыновил бедный дворянин-нахлебник, живший в его доме из милости – Андрей Григорьевич Жуковский. Это сделало мальчика дворянином и позволило шести лет от роду поступить на военную службу в Астраханский гусарский полк, откуда он в том же году в чине подпрапорщика вышел в отставку. Его усыновлению сопутствовали трагические обстоятельства – в семье Буниных за один год умерло шестеро детей, и его признание членом семьи воспринималось как плата судьбе и Богу добром за зло. Получив прекрасное образование, Жуковский становится лучшим в России поэтом-переводчиком Байрона, Гете, Шиллера, Ла Мотта-Фуке и других великих бардов Европы, стяжав почти одновременно и собственными стихами славу талантливого лирика и романтика.
Начав служить при дворе, он сопровождал Александру Федоровну в ее поездках за границу. Что же касается будущего императора Александра II, то следует сказать, что Жуковский оказал сильнейшее благотворное воздействие на своего воспитанника, развивая и поощряя серьезное и ответственное отношение к его будущему призванию, трудолюбие, доброту и гуманизм. Эти качества Александр сохранил на всю жизнь.
Цесаревичу не было еще десяти лет, когда отец-император стал исподволь готовить его к предстоящему жребию.
Накануне дня рождения – 16 апреля 1827 года – Николай подарил сыну портрет Петра Великого и пожелал ему во всем быть подобным первому российскому императору. После этого отец стал регулярно беседовать с Александром о его обязанностях, о долге перед страной и народом, а 6 апреля 1832 года, перед Пасхой, сказал ему: «Ты уже больше не дитя, ты должен готовиться заместить меня, ибо мы не знаем, что может случиться с нами. Старайся приобретать силу характера и твердость». И в тот же самый год, 24 июня, в канун дня рождения Николая, когда сын поздравил его с «наканунием», отец сказал цесаревичу: «Готовься быть моей подпорой в старости».
11 марта 1833 года, после традиционной ежегодной панихиды по Павлу I, Николай и Александр пошли вдвоем пешком по Английской набережной. Тут состоялся у них доверительный разговор, и Николай рассказал, как бабушка его – а Александра прабабушка – заставила Петра III отказаться от престола, как убили его в Ропше, а потом и о том, как убили сына Петра III и Екатерины II – Павла. Можно представить, какое впечатление произвели рассказы о мрачных семейных делах на нервного, впечатлительного юношу, почувствовавшего, по-видимому, рядом с собой шум крыльев смерти и холодное ее дыхание. И откуда было знать ему, что цепочка эта, начавшаяся убийством его прадеда и деда, окует одним из звеньев и его отца, которому суждено будет стать самоубийцей, и его самого, когда бомбой разорвут его в клочья террористы-народовольцы?
Год спустя, 17 апреля 1834 года, когда Александру исполнилось 16 лет, он был объявлен совершеннолетним и вступил в действительную службу, принеся присягу в качестве наследника престола. В этот же день он стал атаманом всех казачьих войск и генерал-адъютантом. Казалось бы, этот парадный набор должностей был скорее праздничным подарком, чем серьезным государственным актом. Ан нет. Генерал-адъютантство давало навыки в дворцовой и военной службе, а должность атамана всех казачьих войск знакомила его буквально со всей Россией, ибо было тех войск двенадцать и стояли они от Кубани и Буга до Амура.
И тогда же, 17 апреля 1834 года, финский минералог Н. Норденшельд впервые увидел на Урале неизвестный ранее драгоценный камень и назвал его в честь цесаревича «Александрит». При солнечном свете он имел изумрудно-зеленый цвет, но вечером, при свете костра, Норденшельд вдруг увидел, что камень стал кроваво-красным…
(Впоследствии знавшие этот эпизод современники угадывали в нем глубокий провиденциальный смысл: зеленая пора юности, расцветающая при свете дня, завершилась кровавым отблеском покушения перед закатом жизни.)
Главные события первых пятнадцати лет царствования Николая
Вступив после миропомазания и коронации на императорский трон и еще более уверовав в свою полубожественную сущность, Николай решительно взялся за чистку авгиевых конюшен империи с целью ее укрепления как фундамента самодержавия. Первое место в государственном аппарате занимала армия, выросшая к середине царствования Николая I до миллиона солдат и офицеров. На ее содержание уходило 40 % всех средств империи.
В 1826 году было учреждено Третье отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии, занимавшееся политическим розыском во всех слоях общества. В состав Третьего отделения входила и политическая полиция – жандармерия. Возглавляли Третье отделение самые близкие к Николаю I генералы, его старые, верные друзья и единомышленники. С 1826 по 1844 год Главноуправляющим был граф Александр Христофорович Бенкендорф, бывший с 1839 года и шефом Корпуса жандармов.
Идеологической основой в науке, литературе и искусстве с первой половины 30-х годов стала теория официальной народности, сформулированная министром Народного Просвещения Сергеем Сергеевичем Уваровым в 1834 году и вошедшая в историю как пресловутая уваровская триада: «Православие, самодержавие, народность».
Основным внутриполитическим вопросом оставался вопрос крестьянский, ибо половина крестьян императора находилась в оковах крепостного права, справедливо уподобляемого передовыми людьми первой половины XIX столетия откровенному рабству, когда крепостной крестьянин мог быть продан кому угодно без семьи, избит по приказу барина и по его же распоряжению в молодости отдан на 25 лет в солдаты, а в непризывном возрасте – сдан на поселение в Сибирь. Николай I понимал, что «крепостное право есть зло, для всех ощутительное», но считал его отмену пока еще преждевременной, однако подготавливать ее все же начал, создав девять секретных комитетов, разрабатывавших проекты, предположения и иные законы, смягчавшие крепостное право.
В 1827 году Николай I издал указ, запрещавший продавать крестьян без земли или землю без крестьян. Запрещалось продавать крестьян на заводы. В 1828 году был издан также указ, запрещавший помещикам ссылать крепостных в Сибирь по собственному усмотрению.
Следует иметь в виду, что 40 % помещиков были «однодворцами», владевшими не более чем двадцатью душами мужского пола. Такие помещики сами жили в крестьянских избах, работали на земле вместе со своими крепостными, не имевшими собственных наделов и числившимися дворовыми крестьянами. И лишь 3,5 % помещиков имели 4,6 миллиона крепостных, т. е. 46 % от их общего числа.
В 1833 году указом от 25 января запрещалось продавать крестьян «с раздроблением семейств», расплачиваться крестьянами за долги, переводить крестьян в дворовые, отбирая у них землю. Существенно улучшилось положение различных категорий незакрепощенных крестьян общей численностью 8 миллионов душ мужского пола, что равнялось более трети всех крестьян империи.
В марте 1835 года образован Секретный комитет «Об улучшении состояния крестьян разных званий», возглавленный членом Государственного Совета, генерал-адъютантом Павлом Дмитриевичем Киселевым. Через месяц комитет был преобразован в Пятое отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии, под тем же руководством.
17 мая 1837 года Киселев представил Николаю I доклад, в котором предложил: создать специальное министерство, создать правильную и справедливую администрацию для управления этими свободными крестьянами, устранить среди них малоземелье, упорядочить сбор податей, создать сеть начальных сельских школ для мальчиков и девочек, организовать всеохватывающую сеть медицинских и ветеринарных пунктов.
26 декабря того же года высочайшим указом было образовано Министерство государственных имуществ во главе с Киселевым «для управления государственными имуществами и для заведования сельским хозяйством». В его ведение вошли все казенные земли и леса, а также надзор за правильностью взимания государственных налогов. И, наконец, 30 апреля 1838 года было издано «Учреждение об управлении государственными имуществами в губерниях».
Исключительно важной работой, имеющей плодотворное продолжение почти на 80 лет (вплоть до 1917 года), была деятельность Второго отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии, возглавляемого Михаилом Михайловичем Сперанским.
Сын сельского священника, Сперанский достиг высших постов в России – при Александре I он был Государственным секретарем. С 1812 он находился в ссылке, затем был сибирским губернатором, а в конце царствования Александра I был возвращен в Санкт-Петербург и 17 июля 1821 года введен в Государственный Совет – по департаменту законов, вскоре же получил в дар около трех с половиной тысяч десятин земли, а его дочь стала фрейлиной.
В декабре 1825 года, в дни восстания декабристов и суда над ними, Николай I сказал о Сперанском: «Я нашел в нем самого верного, преданного и ревностного слугу, с огромными сведениями, с огромной опытностью».
Сперанский был членом Верховного уголовного суда над декабристами и голосовал за смертную казнь пятерых руководителей восстания.
Сосредоточившись на кодификации законодательных актов, 2-е Отделение, возглавляемое Сперанским, собрало и опубликовало более 30 тысяч законодательных актов России – с Соборного Уложения 1649 года до 12 декабря 1825-го. Они были расположены в хронологическом порядке в 40 томах, еще 5 томов Приложений содержали хронологические и предметные указатели.
Для чиновников и юристов-практиков в 1832 году был издан 15-томный «Свод законов Российской империи».
Затем ежегодно выходили «Продолжения Свода законов» с указаниями на измененные и упраздненные статьи.
Сперанский возглавлял эту работу до самой смерти, хотя в последние годы сильно болел, но находил в себе силы в 1835—1837 годах еще и преподавать право наследнику престола Александру Николаевичу. Причем, несмотря на огромные знания в области права и гигантский государственный опыт, он тщательно готовился к каждому занятию и отказался от преподавания, когда из-за болезни не смог этого делать.
Сперанский скончался 13 февраля 1839 года.
Дело по переизданию Полного Собрания Законов продолжалось и после его смерти – сначала во 2-м Отделении Его Императорского Величества канцелярии, с 1882 по 1893 год было передано в кодификационный отдел Госсовета, а затем – до 1917 года – производилось Отделением Свода законов государственной канцелярии.
Следует отметить и большой личный вклад Николая в создание многих зданий и сооружений в Санкт-Петербурге. С 1825 года все дела, связанные со строительством Исаакиевского собора (архитектор А. А. Монферран), он контролировал лично, а о ходе строительства регулярно сообщалось в газете «Санкт-Петербургские ведомости». Николай надзирал за строительством 30 лет, не дожив до его окончания три года.
Николай I был поборником торжественности и парадности застройки столицы в стиле позднего классицизма.
В этом стиле сооружено все, что украсило Санкт-Петербург во второй половине 20-х – 30-х годах XIX столетия.
В 1827—1834 годах в стиле ампир были сооружены Нарвские триумфальные ворота (архитектор В. П. Стасов) в память Отечественной войны 1812 года. В 1827—1835 – Троицкий (Измайловский) собор (архитектор В. П. Стасов). Собор построен в стиле позднего классицизма в слободе лейб-гвардии Измайловского полка и потому в отличие от уже имеющегося в городе Троицкого собора – в Александро-Невской Лавре – назван Измайловским.
В 1829—1834 годах были капитально перестроены здания Сената и Синода, находившиеся на Сенатской площади (архитектор К. И. Росси). В 1830—1834 годах проводились работы по поискам материалов, а затем по обработке и доставке в город Александровской колонны (архитектор А. А. Монферран). Монолит красного гранита был найден близ Выборга (130 километров от Санкт-Петербурга). Монолит обрабатывали около двух лет, и весной 1832 года на специально построенной плоскодонной барже он был доставлен двумя пароходами в столицу. Там, силами трех тысяч человек, при помощи шестидесяти кабестанов, колонну, весившую 600 тонн, менее чем за два часа поставили на постамент, под который было забито 1250 деревянных свай.
Высота колонны с постаментом равнялась 47,5 метра. Торжественное открытие памятника, увенчанного бронзовой фигурой ангела с крестом, символизирующего Александра I, произошло 30 августа 1834 года.
В 1831—1833 годах было построено здание Михайловского театра (архитектор A. П. Брюллов). В 1834—1838 годах на Царскосельском проспекте, по проекту
B. П. Стасова, построены в стиле ампир чугунные 12-колонные Московские триумфальные ворота, символизирующие могущество и триумф русской армии.
В 1826—1839 годах под наблюдением Николая построены либо реставрированы многие набережные и мосты города. Первый железнодорожный мост – через Обводный канал – был построен из дерева, хотя и стоял на каменных устоях. Лишь в 1841 году, со второй попытки, возвели одноарочный металлический мост через Екатерининский канал, а через Неву первый постоянный металлический мост был построен в 1843—1850 годах инженером
C. В. Кербедзоном. Назывался мост «Благовещенским», так как соединял Благовещенскую площадь с 7-й линией Васильевского острова.
В 1835—1836 годах была построена первая железная дорога – между Санкт-Петербургом и Царским Селом – длиною в 27 километров.
Большое положительное влияние оказал на развитие промышленности открытый в 1828 году Мануфактурный совет. Следует иметь в виду, что централизованных промышленных заведений – заводов, фабрик, рудников и т. п. – было гораздо меньше, чем мелких рассеянных мануфактур, которые и производили основные товары – особенно в хлопчатобумажной, стекольной, кожевенной и продовольственной промышленности.
Мануфактурный совет, хотя и был всего лишь одним из отделов при Департаменте мануфактур и внутренней торговли в Министерстве финансов России и имел только совещательный голос при министре, тем не менее был весьма значительным учреждением. Он контролировал развитие промышленности, сообщал через собственный журнал сведения об изобретениях в России и за рубежом, помогал организовывать новые промышленные общества, устраивать выставки, выдавал привилегии, разрешал конфликты между предпринимателями и рабочими. В состав Совета обязательно входили два профессора – химии и технологии, что обеспечивало высокий научный уровень его деятельности.
Находясь в Санкт-Петербурге, Совет имел несколько отделений в Москве, губернские комитеты почти во всех губерниях Империи и множество собственных корреспондентов в уездах.
В 1828 году в Санкт-Петербурге был открыт Практический технологический институт (впоследствии известный как Технологический) для подготовки инженеров. В 1832 году открылась Императорская Николаевская военная академия – высшее учебное заведение, готовившее офицеров Генерального штаба.
Что же касается внешней политики, то следует заметить, что министром иностранных дел во все тридцатилетнее царствование Николая I был один и тот же человек – граф Карл Нессельроде. Он управлял Министерством иностранных дел с 1816 года и всегда отличался тем, что был абсолютно послушен и воле Александра I, и воле Николая I.
Наступившее после смерти Александра I двухнедельное междуцарствие персы восприняли как ослабление России и начали совершать набеги на приграничные области Закавказья.
В Тегеран для выяснения обстоятельств и переговоров отправилась делегация во главе со светлейшим князем Александром Сергеевичем Меншиковым. Едва делегация появилась в Иране, все ее члены во главе с послом были арестованы, а вслед за тем войска персов вторглись в Закавказье. Их авангард подошел к Тбилиси, разгромил пригороды, но вынужден был отойти. Однако, вопреки традиции, наместник на Кавказе, старый опытный генерал А. П. Ермолов, или «capдар Ермулла», как звали его горцы Кавказа и Закавказья, на сей раз действовал не столь энергично, как прежде, но все же к 13 сентября 1826 года армия Аббас-Мирзы была разбита под Елизаветполем и отброшена за Аракс. Это сражение выиграл И. Ф. Паскевич – отец-командир Николая I, в дивизии которого будущий император начал уже не «потешную», а настоящую, серьезную военную службу.
За это любимец Николая был награжден шпагой, украшенной алмазами, с надписью «За поражение персиян под Елизаветполем». Это была первая победа, одержанная в новое царствование и потому особенно приятная Николаю.
12 марта 1827 года Паскевич официально занял место Ермолова, обвиненного петербургскими стратегами в медлительности и нерешительности.
А еще перед этим, сразу после победы русских под Елизаветполем, 25 сентября 1826 года, другая враждебная России держава – Оттоманская Порта – подписала в Аккермане проект конвенции, предъявленный Россией. Эта конвенция подтверждала положения Бухарестского трактата 1812 года и признавала переход к России Сухума и других приморских городов, а также предложенную российским уполномоченным графом М. С. Воронцовым границу по Дунаю. Русские суда получали право беспрепятственного прохода через Босфор и Дарданеллы; православные подданные султана в Сербии и в Дунайских княжествах поддерживали Россию, что сильно укрепило ее позиции на Балканах.
Это позволило Паскевичу действовать еще более энергично, и весной 1827 года русские войска двинулись в Армению и Нахичевань. 3 октября был освобожден Ереван, а еще через десять дней пал Тавриз. Иранское правительство запросило мира, и Николай согласился, но переговоры оказались очень долгими и сложными. Именно в этих переговорах в полной мере проявился блестящий дипломатический талант А. С. Грибоедова, прикомандированного еще весной 1822 года в штат Главноуправляющего Грузией «по дипломатической части».
Зимой, в начале 1828 года Паскевич начал подготовку к походу на столицу Персии – Тегеран. Напуганный этим, шах 10 февраля подписал в Туркманчае мир.
По этому миру к Российской империи присоединялись области: Ереванская, Нахичеванская и Ленкоранская. В связи с этим Паскевич получил графский титул и стал именоваться «графом Паскевичем-Эриванским», а кроме того, получил в награду и миллион рублей.
* * *
8 декабря 1827 года султан Турции объявил России войну.
14 апреля 1828 года в Петербурге был обнародован манифест о войне с Турцией, приказ войскам и указ о новом рекрутском наборе.
Для военных действий против Турции была двинута 2-я армия фельдмаршала Витгенштейна, сосредоточенная на юге России. В задачу армии входило занятие Дунайских княжеств и взятие крепостей на южном берегу Дуная. Под началом у Витгенштейна было три пехотных и один кавалерийский корпус общей численностью в 114 тысяч человек при 384 орудиях.
За две недели до обнародования манифеста 1 апреля из Петербурга начал по частям выступать гвардейский корпус, во главе которого стал Михаил Павлович.
25 апреля из Петербурга к армии выехал Николай, оставив секретное распоряжение в случае его смерти считать наследником престола Михаила.
На сей раз нетерпение увидеть войну подстегивало царя необычайно, Николай ехал днем и ночью и 7 мая настиг свою армию у Браилова, который был уже блокирован 2-й армией. С его приездом начались энергичные работы по подготовке к штурму крепости.
30 мая Исакча капитулировала, и русские войска двинулись в наступление по Добрудже к легендарному Траянову валу.
Турецкие крепости сдавались одна за другой. Только в июне пали Мачин, Браилов, Гирсов, Тульча и Кюстенджи; но решение Николая отпускать сдавшихся турок на свободу нанесло его армии ощутимый вред – не все отпущенные на свободу уходили домой, очень многие двинулись к крепости Силистрия и существенно усилили ее гарнизон.
На другом театре военных действий – Черноморском побережье Кавказа – тоже
был одержан успех – 12 июня князь Меншиков взял Анапу, после чего успехи русской армии кончились.
Подводя итоги началу кампании, Николай писал Константину: «Все, что касается этой кампании, представляется мне неясным, и я решительно не могу высказать что-либо определенное относительно моего будущего…»
Через год армия наконец добилась крупного успеха: 25 июня была взята крепость Силистрия. После ее сдачи Витгенштейн был заменен Дибичем, и Дунайская армия быстро пошла через Балканы к Адрианополю, лежавшему в трех переходах от Константинополя. Крепость Адрианополь сдалась без боя, и 2 сентября в ней был подписан мирный договор, по которому к России переходили все Кавказское побережье и устье Дуная. Подтверждалась независимость Молдавии и Валахии, предоставлялась автономия Греции и Сербии, обеспечивалась свобода мореплавания и с Турции взималась контрибуция в сто миллионов золотых рублей.
Дибич и Паскевич стали фельдмаршалами. Поздравляя Паскевича, Николай написал ему:
«Кончив одно славное дело, предстоит вам другое, в моих глазах столь же славное, а в рассуждении прямых польз гораздо важнейшее – усмирение навсегда горских народов или истребление непокорных».
Тем самым Кавказские войны, начавшиеся еще в 20-х годах XVIII столетия, вступили в свой наиболее жестокий заключительный этап, продолжавшийся еще 35 лет – до 1864 года.
* * *
В следующем, 1830 году, в середине лета, внимание Николая было привлечено к событиям, произошедшим во Франции: 17 июля в Париже началось вооруженное восстание, а через два дня восставшие взяли Тюильрийский дворец и все правительственные здания. Королевские войска частью перешли на сторону народа, частью – бежали из Парижа. 2 августа французский король Карл X отрекся от престола и бежал в Англию. Через два дня на престоле оказался новый король – Луи-Филипп Орлеанский, признанный большинством французов, но не признанный Николаем, считавшим Луи-Филиппа «коварным и вероломным», а кроме того, занявшим трон в обход законного претендента – герцога Генриха Бордосского. Более всего возмутило Николая, что белый флаг Бурбонов тут же был сменен на трехцветный республиканский, и он немедленно приказал не допускать корабли с этими флагами в русские гавани, а если они будут пытаться войти на рейд, открывать по ним огонь. Вслед за тем император собрался порвать с Францией дипломатические отношения и отозвать из Парижа российского посла, а французского – выслать из Петербурга, но, поостыв и побеседовав с французским послом бароном Полем Бургоэном, отменил приказ о стрельбе по кораблям под трехцветным флагом и воздержался от разрыва дипломатических отношений.
И все же ход событий волновал Николая, и у него появилась мысль о создании антифранцузской коалиции. Чтобы узнать настроения австрийского императора и прусского короля, он послал графа А. Ф. Орлова в Вену, а фельдмаршала Дибича – в Берлин. Однако они еще не доехали до мест назначения, как и Австрия, и Пруссия официально признали Луи-Филиппа. Вслед за тем признала его и Англия. Николаю оставалось только последовать их примеру, что он и сделал.
* * *
Между тем осенью 1830 года в Россию пришла эпидемия холеры. Царь сам возглавил борьбу с нею, но дела на Западе отвлекли его от этого. В начале октября он получил известие, что в Нидерландских владениях, где королевой была его сестра Анна Павловна, началась революция. Кроме сообщения, гонец передал Николаю и письмо короля Нидерландов с просьбой о вооруженной помощи против мятежников бельгийцев, восставших против него в Брюсселе. И Николай тут же послал приказы о приведении армии в боевую готовность.
Вскоре Николай стал получать тревожные известия и из Польши.
Уединенная жизнь, которую вел Великий князь Константин в своем загородном дворце Бельведер, полный отрыв его от варшавского общества привели к тому, что восстание 1830 года, начавшееся 17 ноября, застало Великого князя врасплох. В этот же день повстанцы должны были убить Константина. В шесть часов вечера, когда уже начало темнеть, двадцать заговорщиков, вооруженных ружьями со штыками, собрались в Лазенках, у Бельведера, а в семь часов направились ко дворцу и, отбросив двух сторожей-инвалидов, ворвались в вестибюль дворца.
Константин, по обыкновению, после обеда спал. Услышав шум и крики: «Смерть тирану!», он выглянул из спальни и тут же увидал мятежников, преследовавших оказавшегося во дворце начальника варшавской полиции Любовицкого. Любовицкий бежал навстречу Константину и кричал: «Спасайтесь, Ваше Высочество!» Константин увидел, как несколько убийц ударили Любовицкого штыками, как тот замертво рухнул, и Великий князь в последнее мгновение сумел ускользнуть за дверь, а его камердинер тут же быстро закрыл ее на две прочные задвижки.
Камердинер через соседнюю комнату провел Константина на чердак и спрятал его там. В это время приехавший вместе с Любовицким генерал Жандр выскользнул во двор и стал звать на помощь слуг и солдат.
Заговорщики, не разглядев в темноте, кто собирает защитников, решили, что это Константин, и, набросившись на Жандра, закололи штыками и его.
Между тем слуги и солдаты начали выбегать во двор, чтобы организовать отпор мятежникам, и те поспешно покинули двор и укрылись в ближайшей роще.
Их не преследовали, ибо более всего были обеспокоены судьбой Великого князя и его жены.
Первой отыскали княгиню Ловичскую и предложили ей немедленно покинуть дворец, но она наотрез отказалась уезжать одна, и только когда объявился Константин, они вместе оставили Бельведер. Они направились на мызу Вержба, куда уже собирались русские войска, чтобы дать отпор повстанцам, но Константин, увидев, что численный перевес на стороне мятежников, не стал вступать в сражение с ними, а приказал отступать к русским границам.
Через месяц, 23 декабря, войска пришли в Белосток, где уже сосредоточилась армия Дибича, посланная на подавление восстания.
К этому времени и Константин, и Жаннетта заболели. Особенно сильно болела Жаннетта. Из-за сильных переживаний в Бельведере 17 ноября она слегла, и у нее стали развиваться все признаки скоротечной чахотки. Константин увез жену в Витебск, и вскоре туда приехали из Петербурга лучшие придворные врачи.
Во время болезни жены Константин неотлучно находился при ней. А в это время в Варшаве было создано Национальное правительство во главе с князем Адамом Чарторижским, тем самым, что был ближайшим другом императора Александра и в молодости вместе с ним мечтал о свободе Польши и создании республики. Под давлением повстанцев Сейм объявил Николая низложенным, и тогда армия Дибича вошла в Польшу. Война шла с переменным успехом, пока наконец 26 мая 1831 года под Остроленкой повстанцы не были разбиты. А через три дня после этого умер Дибич. Он прошел огонь наполеоновских войн, войну с турками и поляками, а сразила его холера, добравшаяся и до Польши.
Эпидемия была здесь почти повсеместной, холера свирепствовала и на землях Белоруссии, где в Витебске все еще жили Константин Павлович и княгиня Лович. Через три недели после смерти Дибича 15 июня умер от холеры и Константин Павлович. 16 июня тело Великого князя было забальзамировано и положено в гроб. Прощаясь с мужем, Жаннетта обрезала свои прекрасные длинные косы и положила их под голову покойного.
17 августа тело Константина было погребено в Петропавловском соборе, причем возле гроба была одна лишь Жаннетта, так как из-за боязни заражения холерой на похоронах не было ни одного члена императорской фамилии и ни одного сановника.
После похорон Жаннетта уехала в Гатчину. Она постилась и молилась, проводила дни и ночи в одиночестве, часто плакала и болела все сильнее и сильнее.
А в это время новый главнокомандующий – фельдмаршал Паскевич – штурмом взял пригород Варшавы Волю, после чего столица Польши 8 сентября капитулировала. Конституция 1815 года была ликвидирована, а участники восстания подверглись жестоким репрессиям. Паскевич снова был осыпан наградами и получил наивысший титул империи – Светлейшего князя, с добавлением – «Варшавский».
Весть о разгроме Польши застала Жаннетту Лович в Гатчине, после чего она попросила перевезти ее в Царское Село.
17 ноября 1831 года, в первую годовщину Варшавского восстания и через пять месяцев после кончины Константина, Светлейшая княгиня Жаннетта Лович умерла на тридцать шестом году.
* * *
Холера все еще продолжала свирепствовать, и Николай метался между Санкт-Петербургом и Москвой, смиряя холерные бунты, жертвами которых оказывались врачи-иноземцы – чаще всего немцы, ибо русских врачей почти не было, немцы-аптекари и местные начальники, которых считали состоящими в сговоре с ними.
Холерные бунты возникали и в военных поселениях под Новгородом, где солдаты-поселенцы посчитали, что всему виной – врачи-немцы и их тайные сообщники – собственные офицеры.
И снова Николай помчался туда, совершенно один, приказал выстроить военных поселян побатальонно, но когда он вошел в середину каре, бунтовавшие солдаты, изранившие и убившие своих офицеров, легли на землю, лицом вниз, изъявляя всеконечную покорность. Николай велел вывести из рядов зачинщиков бунта и предать их военному суду; а батальон, где убили батальонного командира, он приказал отправить в полном составе в Петербург, разместить всех солдат по крепостям, отдать под суд и исключить из списков.
Затем он сам скомандовал: «Направо!», и батальон, отбивая шаг, двинулся в Петербург. Следует сказать, что и здесь Николай довел дело до конца: зачинщики и активные участники холерных бунтов были осуждены: к исправительным работам – на галерах, в каменоломнях, на мануфактурах – было приговорено 773 человека, выпорото розгами – 150, пропущено сквозь строй – 1599, бито кнутом – 88. Из двух последних групп забито до смерти 129 человек.
* * *
Едва Николай вернулся в столицу из военных поселений, как 27 июля 1831 года Александра Федоровна родила еще одного сына, названного Николаем. (В семье Романовых его звали «Николаем Николаевичем Старшим».) Рождение сына было одним из немногих событий, доставивших Николаю радость. Все остальное ввергало его в глубокое уныние, и прежде всего беспрерывные случаи взяточничества, откровенного воровства, документальных подделок разного рода и хитроумного мошенничества, на которое мог быть способен только русский ум, формировавшийся столетиями противостояния чиновников и предпринимателей с законами.
Ожесточенную борьбу с казнокрадством и взяточничеством, с прямыми обманами и откровенным жульничеством Николай будет вести всю жизнь, и в конце концов это сведет его в могилу.
Здесь автор считает уместным обратиться к одному частному великосветскому сюжету, имеющему некоторое отношение к царской семье, поскольку одним из действующих лиц этой истории является прусский король Фридрих-Вильгельм III, отец императрицы Александры Федоровны.
Все началось с того, что в 1833 году в Петербург после долгих странствий по Европе, вернулась внучка покойного фельдмаршала М. И. Кутузова, старого друга прусского короля, 28-летняя Елизавета Федоровна Тизенгаузен.
У Михаила Илларионовича было пять дочерей, самой любимой из которых была Лизанька, вышедшая замуж за остзейского аристократа графа Фердинанда Тизенгаузена. Кутузов любил его больше всех других своих зятьев, признаваясь, что Фердинанд, которого на русский манер называли Федором, дорог и мил ему, как родной сын.
Здесь уместно будет сказать, что в свое время судьба подарила Кутузову и родного сына – Мишеньку, но его во младенчестве «заспала», то есть во сне придавила до смерти, его кормилица – крепостная крестьянка. В день смерти первенца Кутузов не был дома – он служил далеко от Петербурга и, получив письмо от жены, долго плакал и молился. В ответном письме жене – Екатерине Ильиничне – сразу после слов утешения и призыва к смирению с волей Божьей, он просил ее пожалеть несчастную кормилицу, которая так любила маленького Мишеньку и теперь от великого горя из-за ее оплошки может наложить на себя руки. Вот таким оказался помещик, тогда подполковник Кутузов, ломая все стереотипы о жестоких крепостниках-самодурах. После смерти Мишеньки у Кутузова больше не было сына, и потому зять Фердинанд Тизенгаузен занял в сердце Михаила Илларионовича сыновнее место.
Брак Лизаньки и Федора был счастливым. Молодые любили друг друга, и вскоре у них родились две дочери – Дашенька и Лизанька. Успешной была и карьера графа Тизенгаузена – к 1805 году он был уже полковником и флигель-адъютантом Александра I. Однако и карьера, и семейное счастье, и сама жизнь оборвались в один момент – в трагической для русских битве при Аустерлице, где главнокомандующим был Кутузов, Фердинанд Тизенгаузен был убит. На второй день сражения многие видели, как, держась за край телеги, на которой везли тело Тизенгаузена, шел по грязи его несчастный тесть и, не стесняясь, плакал.
Через шесть лет после этого Лизанька вышла замуж еще раз. Ее мужем стал генерал-майор Николай Федорович Хитрово, участник войн с Наполеоном, соратник Кутузова, сильно израненный и оттого еще во время войны переведенный служить по Министерству иностранных дел. В 1815 году Н. Ф. Хитрово был назначен послом в Великое герцогство Тосканское, и Лизанька уехала вместе с ним и дочерями во Флоренцию. Там прожили они четыре года. Николай Федорович почти все это время болел и в 1819 году умер. Лизаньке было тогда 36 лет, а ее дочерям – 15 и 14. Целый год носила вдова траур по умершему, а когда она впервые выехала вместе с дочерьми на бал, в ее старшую – Дарью или, как звали ее на европейский лад, Долли – влюбился австрийский посланник граф Фикельмон. Он был богат, холост и, несмотря на свои 43 года, рискнул сделать предложение шестнадцатилетней Долли.
3 июня 1821 года Дашенька Тизенгаузен стала графиней Фикельмон, выйдя замуж не по расчету, но по любви, и сохранила это чувство к мужу до конца его дней. А через два года Елизавета Михайловна Тизенгаузен, оставив своих дочерей во Флоренции, возвратилась в Петербург. Там стала она хозяйкой популярнейшего, модного литературно-музыкального салона, где бывали и Александр I, и Пушкин, и Жуковский, и Гоголь, а в 1839 году появился и Лермонтов.
Меж тем Долли Фикельмон и Елизавета Тизенгаузен, оставленные матерью во Флоренции, почти постоянно вместе и порознь ездили по Италии и Германии, заводя знакомства с писателями и художниками, философами и артистами. Их друзьями стали братья Брюлловы, французская писательница мадам де Сталь, немецкий философ и писатель Фридрих Шлегель.
Однажды, оказавшись в Берлине, сестры были приглашены на бал во дворец прусского короля Фридриха-Вильгельма III. Король в свое время, как уже неоднократно говорилось в этой книге, был другом Кутузова, искренне любил и почитал фельдмаршала и потому с особой сердечностью отнесся к внучкам великого полководца, неожиданно пожаловавшим к нему на бал. Особенно же пришлась по душе старому королю младшая из сестер – Лизанька. Фридриху-Вильгельму шел шестой десяток, после смерти королевы Луизы он вдовел уже много лет, и молодая красавица – графиня Тизенгаузен, ко всему прочему немка по отцу, совершенно очаровала старого короля. Чувство это оказалось настолько серьезным и прочным, что король сделал Лизаньке официальное предложение, не посчитав такой брак мезальянсом. И хотя графиня Тизенгаузен не была особой королевской крови, но она была внучкой Светлейшего князя Кутузова-Смоленского, освободителя Германии, командовавшего прусскими войсками во многих славных сражениях, высоко чтимого его подданными, жителями Пруссии, и потому сделанное Лизаньке предложение должно было быть воспринято не только с пониманием, но и с одобрением. Однако, посоветовавшись с матерью, Лизанька королю отказала, сославшись на то, что она не может стать королевой, ибо к такой судьбе следует готовить себя с рождения. Однако, не желая огорчать короля, пообещала сохранить к нему чувства сердечной привязанности и одарить своей дружбой. Случай этот не афишировался, и, как полагали, со временем страсти угасли и все вернулось на круги своя.
В 1829 году графа Фикельмона назначили австрийским послом в Россию, и Долли вместе с ним уехала в Петербург, создав там вскоре еще один салон, не менее популярный, чем салон ее матери. А Лизанька Тизенгаузен-младшая по-прежнему оставалась в Европе и возвратилась в Петербург в 1833 году, сразу же став камер-фрейлиной императрицы Александры Федоровны. Следует заметить, что графиня Елизавета Федоровна Тизенгаузен вернулась в Россию незамужней, но привезла с собой шестилетнего мальчика, которого представила сыном своей внезапно скончавшейся подруги – венгерской графини Форгач. Так как мальчик остался сиротой, то Елизавета Федоровна усыновила его и забрала с собою в Петербург. Императрица, горячо полюбившая свою новую камер-фрейлину, перенесла любовь и на ее приемного сына – Феликса Форгача. Императрица, как вы помните, была дочерью Фридриха-Вильгельма III, и дружба ее с графиней Тизенгаузен, которая слыла другом отца, ни у кого не вызвала удивления. Удивление вызвало другое – чем старше становился Феликс Форгач, тем более он делался похожим на прусского короля, отца императрицы Александры Федоровны, стоявшей на пороге своего сорокалетия, который был и отцом Феликса Форгача, еще не достигшего десяти лет.
А далее следует сказать и о судьбе Феликса Форгач, так как его потомки сыграли не последнюю роль в истории дома Романовых. И хотя события эти произойдут уже в XX веке и, соответственно, будут описаны в самом конце книги, все же считаю уместным рассказать о них и здесь.
В 1836 году Феликса определили в Артиллерийское училище под именем Феликса Николаевича Эльстон, а после того, как он женился на графине Сумароковой, 8 сентября 1856 года указом Александра II ему был присвоен титул графа и повелено было «впредь именоваться графом Сумароковым-Эльстон». Сын Ф. Н. Сумарокова-Эльстон, Феликс Феликсович, женившись на княжне Зинаиде Николаевне Юсуповой, из-за пресечения мужского потомства в роде Юсуповых еще одним императорским указом унаследовал и княжеский титул своей жены и стал именоваться: «князь Юсупов, граф Сумароков-Эльстон». И, наконец, внук первого Эльстона и сын первого Юсупова-Сумарокова-Эльстона – Феликс Феликсович Второй в 1914 году женился на племяннице Николая II – великой княжне Ирине Александровне, еще более укрепив свое кровное родство с семьей Романовых. Этот Ф. Ф. Юсупов вошел в историю России более всего тем, что организовал убийство Григория Распутина.
* * *
Одним из самых памятных событий 30-х годов была дуэль и смерть Пушкина. Вокруг этого сплелось много слухов, домыслов и просто сплетен. За время, прошедшее с середины 1837 года, этому событию посвящены сотни статей и книг. Во многих из них Николая обвиняют не только в преступном небрежении, но и почти в скрытом соучастии в убийстве Пушкина, в частности потому, что он был влюблен в его жену Наталью Николаевну.
Жена Пушкина – в девичестве Наталья Николаевна Гончарова – была одной из самых красивых женщин России, и Николай – отменный женолюб, – конечно же, не мог не отметить ее.
Однако ставить знак равенства между светскими ухаживаниями и любовным романом никак невозможно, да и просто-напросто более чем несерьезно. Если угодно, те,
кто верит в неверность Натальи Николаевны, по меньшей мере уподобляются злоязычным современникам поэта, с удовольствием смаковавшим грязные сплетни об императоре, поэте и Наталье Николаевне.
Я убежден в чистоте отношений Николая и Натальи Николаевны, ибо изучил этот сюжет досконально, посвятив ему большой очерк «Царь, поэт и жена поэта» во 2-м томе своей книги «Самодержцы. Любовные истории царского дома», выпущенной в Москве в 1999 году. К ней я и адресую читателей, интересующихся данным вопросом.
* * *
А теперь позвольте вернуться к описанию событий, последовавших после смерти Пушкина, и более подробно остановиться на одном из них, причины которого освещались в России очень мало.
Произошло это событие 17 декабря 1837 года.
В этот вечер Николай, императрица и цесаревич отправились в Большой театр. Там давали балет «Баядерка» с блистательной Тальони в главной роли.
Во время представления в царскую ложу вдруг вошел дежурный флигель-адъютант и шепотом, чтобы не испугать императрицу, доложил императору, что в Зимнем дворце начался пожар.
В Зимнем оставались младшие дети, и, кроме того, во дворце постоянно находилось несколько тысяч слуг. Ни слова не сказав, Николай вышел из ложи.
Пожар начался в верхних комнатах, где ночевали слуги. На случай пожара во дворце имелось множество приспособлений и своя пожарная команда. Решив, что легко справятся сами, пожарные даже не известили дворцовое начальство, а тем более министра двора князя Волконского, которого все боялись пуще огня. Однако на всякий случай от каждого из гвардейских полков к дворцу вызвали по одной пожарной роте, но общего командования создано не было, и роты, каждая по отдельности, стояли на площади под сильным ветром, а солдаты и офицеры с недоумением глядели на темный и тихий Зимний дворец, не видя никаких признаков пожара.
И вдруг одновременно из множества окон по фасаду бельэтажа с грохотом вывалились рамы и стекла, из оконных проемов вылетели наружу горящие шторы и стали виться на ветру огненными языками, а весь дворец внутри озарился огненным светом. И тотчас же на площадь хлынули волны густого черного дыма, а над крышей вспыхнуло гигантское зарево, которое, как утверждали очевидцы, было видно за пятьдесят верст.
К этому времени на площади, кроме солдат, стояли уже и тысячи других людей, и все они, замерев, глядели на происходящее. И как раз в этот момент к Зимнему подкатил в легких открытых санках сам хозяин горящего дома.
Николай сошел с саней, и возле него тут же встали полукругом генералы и офицеры, сановники и придворные, оказавшиеся рядом как по мановению волшебной палочки.
Николай отдал приказ солдатам и офицерам войти во дворец через все входы и выносить все, что можно вынести. Однако спасать было уже почти нечего, и люди, оказавшиеся во дворце, метались по охваченным огнем бесконечным, огромным залам и анфиладам, ища спасения для самих себя. А между тем все пожарные команды столицы были уже здесь, и лошади, впряженные в сани с бочками, непрерывно метались от Невы к Зимнему и обратно. Наконец стали рушиться потолки, накрывая десятки тех, кто еще не успел выбраться.
Дворец горел трое суток, пока не выгорел дотла, оставив только закопченные черные стены, опоясывавшие груды пепла, золы и горящих углей.
И все же, благодаря героизму спасавших дворец солдат, находившихся во внутренних караулах, а также тех, кто оказался в помещениях, еще не охваченных огнем, удалось спасти множество дорогих вещей – мебель, картины, зеркала, знамена, почти все портреты Военной галереи 1812 года, утварь обеих дворцовых церквей, трон и драгоценности императорской фамилии.
Разумеется, при первых признаках пожара, прежде всего были немедленно вывезены в Аничков дворец все члены царской семьи, а вслед за тем стали разбирать два перехода между Зимним дворцом и Эрмитажем, закладывая проемы кирпичом и создавая надежный брандмауэр.
Таким образом, огонь остановился перед Эрмитажем и главные ценности были спасены.
Еще не остыли угли и пепел пожарища, как тут же начала работать комиссия, которая должна была установить причины возникновения пожара. Руководил ею А. Х. Бенкендорф, и, как мы вскоре узнаем, его кандидатура была отнюдь не случайной.
Расследование показало, что виной всему «был отдушник, оставленный не заделанным при последней переделке большой Фельдмаршальской залы, который находился в печной трубе, проведенной между хорами и деревянным сводом залы Петра Великого, расположенной бок о бок с Фельдмаршальской, и прилегал весьма близко к доскам задней перегородки. В день несчастного происшествия выкинуло его из трубы, после чего пламя сообщилось через этот отдушник доскам хоров и свода залы Петра Великого; ему предоставляли в этом месте обильную пищу деревянные перегородки; по ним огонь перешел к стропилам. Эти огромные стропила и подпорки, высушенные в течение 80 лет горячим воздухом под накаливаемой летним жаром железной крышей, воспламенились мгновенно».
Такой была официальная версия причины пожара. Однако один из первых очевидцев его начала – начальник караула, стоявшего в большой Фельдмаршальской зале, Мирбах, настаивает в своих воспоминаниях на другой версии. Он видел, как из-под пола, у порога Фельдмаршальской залы, рядом с которой были комнаты министра двора, показался дым. Мирбах спросил оказавшегося рядом старого лакея:
– А скажи, пожалуй, в чем дело? И тот ответил:
– Даст Бог, ничего – дым внизу, в лаборатории. (Там располагалась лаборатория дворцовой аптеки. – В. Б.) Там уже два дня, как лопнула труба; засунули мочалку и замазали глиной; да какой это порядок. Бревно возле трубы уже раз загоралось, потушили и опять замазали; замазка отвалилась, бревно все тлело, а теперь, помилуй Бог, и горит. Дом старый, сухой, сохрани Боже.
Пол возле порога Фельдмаршальской залы тут же вскрыли пожарные, и из-под него мгновенно взметнулось пламя. Мирбах велел закрыть двери в соседние залы – Петра Великого и малую Аванзалу – и остался на посту.
Как бы то ни было – незаделанный ли в трубе отдушник или отвалившаяся в очередной раз замазка возле уже неоднократно горевшего бревна, но причина была все та же – беспечность, русская надежда на авось и извечная халатность и разгильдяйство.
Любопытно, что только два человека были наказаны за этот пожар – вице-президент гофинтендантской конторы Щербинин и командир дворцовой пожарной роты капитан Щепетов. Первого признали виновным в том, что его контора не имела подробных планов деревянных конструкций дворца, а второго – в том, что он недооценил пожароопасность деревянных конструкций. И тот, и другой были уволены в отставку.
Почему же наказание оказалось не более чем символическим? Потому что главным виновником случившегося был сам Николай. Когда в 1832 году Монферран создавал те залы, где начался пожар, – Петра Великого и Фельдмаршальский, – то ни единой детали убранства, а тем более конструкций, он не делал без разрешения Николая. И именно Николай утвердил и схему отопления этих помещений, и создание деревянных конструкций.
21 декабря состоялось новое заседание комиссии по восстановлению Зимнего дворца под председательством князя П. М. Волконского. В ее состав вошли инженер А. Д. Готман и архитекторы А. П. Брюллов, В. П. Стасов и А. Е. Штауберт. Через восемь дней комиссия была высочайше утверждена, а вскоре расширилась до трех десятков человек.
Прежде всего – под свежим впечатлением от только что случившегося пожара – было решено провести свинцовые водопроводные трубы, строить брандмауэры, каменные и чугунные лестницы, кованые и железные двери и ставни, заменяя повсюду дерево чугуном, железом, кирпичом и керамикой.
Президент Академии художеств А. Н. Оленин предложил использовать предстоящие работы по строительству и отделке дворца как практическую школу для воспитанников Академии. Руководить двенадцатью архитекторами, скульпторами и художниками был назначен А. П. Брюллов – родной брат знаменитого живописца Карла Брюллова. Главным распорядителем всех работ назначался Стасов. Ему же поручалось «возобновление дворцового здания вообще, наружная его отделка и внутренняя отделка обеих церквей и всех зал».
Общее руководство работами Николай поручил генералу Клейнмихелю. И, надо сказать, тот со своей задачей справился, как всегда, не без большой пользы для себя.
Через несколько дней вокруг уцелевших от огня кирпичных стен сгоревшего дворца начали ставить строительные леса, через три недели уже воздвигли временную кровлю, и одновременно с этим начали интенсивнейшим образом очищать внутреннее пространство от золы, пепла, мусора и обгоревших трупов.
Преображенец-офицер Дмитрий Гаврилович Колокольцев – очевидец и участник этих событий, писал потом, что в очистке дворца «участвовали все гвардейские полки беспромежуточно, по крайней мере с месяц времени… Находили иных людей, как заживо похороненных, других обезображенными и искалеченными. Множество трупов людей обгорелых и задохшихся от дыма было усмотрено почти по всему дворцу». Справедливости ради надо сказать, что всем родственникам погибших Николай приказал выплатить пенсии.
После того как мусор вывезли, а трупы похоронили, во дворец вошли две тысячи каменщиков, которые и начали возводить стены, колонны, потолки и лестницы. Вскоре на строительство и отделку дворца ежесуточно выходило от шести до восьми тысяч человек. Стены, перекрытия и кровля дворца были возведены необычайно быстро, и без всякого промедления начались внутренние отделочные работы. Главным вопросом было интенсивное и эффективное осушение только что воздвигнутых, совершенно сырых помещений. Для этого поставили десять огромных печей, непрерывно обогреваемых коксом, и двадцать вентиляторов с двойными рукавами, выведенными в форточки. Все это, прогревая помещения, выкачивая сырость и вредные пары от красок, клея и прочих химических веществ, превращало воздух в помещениях в сухой и чистый, поддерживая температуру на уровне +36 °C.
И все же де Кюстин, талантливый французский литератор и путешественник, побывавший в Зимнем дворце сразу после его второго рождения, писал:
«Во время холодов от 25 до 30° шесть тысяч неизвестных мучеников, не заслуживших этого, мучеников невольного послушания, были заключены в залах, натопленных до 30° для скорейшей просушки стен. Таким образом, эти несчастные, входя и выходя из этого жилища великолепия и удовольствия, испытывали разницу в температуре от 50 до 60°. Мне рассказывали, что те из них, которые красили внутри самых натопленных зал, были вынуждены надевать на голову шапки со льдом, чтобы не лишиться чувств в той температуре. Я испытываю неприятное чувство с тех пор, как видел этот дворец после того, как мне сказали, жизней скольких людей он стоил… Новый императорский дворец, вновь отстроенный с такими тратами людей и денег, уже полон насекомых. Можно сказать, что несчастные рабочие, которые гибли, чтобы скорее украсить жилище своего господина, заранее отомстили за свою смерть, привив своих паразитов этим смертоносным стенам; уже несколько комнат дворца закрыты, прежде чем были заняты».
Как бы то ни было, но уже в марте 1839 года состоялось торжество, посвященное окончанию восстановления парадных залов. И хотя отделка покоев императорской фамилии продолжалась еще полгода, следует признать, что столь скорого исполнения необычайно сложных и многоплановых работ мировая практика до тех пор не знала, да, пожалуй, и впоследствии ничего подобного не было.
…И совершенно справедливо, что все архитекторы, инженеры, скульпторы, художники и прочие созидатели нового дворца были осыпаны деньгами, подарками, чинами и орденами.
А Петр Аркадьевич Клейнмихель 29 марта 1839 года был возведен в графское Российской империи достоинство с пожалованием девиза «Усердие все превозмогает». Однако низкие завистники, коих у новоиспеченного графа было предостаточно, тут же измыслили некое для его сиятельства уничижение, посетовав, что надо было государю, по примеру Румянцева-Задунайского, Суворова-Рымникского и Потемкина-Таврического, наречь нового графа Клейнмихелем-Дворецким.
Встреча цесаревича Александра со своей будущей женой, Гессен-Дармштадтской принцессой Марией
В 1838 году, 17 апреля, наследнику престола цесаревичу Александру Николаевичу исполнилось 20 лет. Отец считал, что Александру следует поехать в Европу, чтобы увидеть другие страны, сравнить их с Россией, сделать должные выводы и, главное, найти себе невесту.
День двадцатилетия цесаревич отметил дома и вскоре выехал из Санкт-Петербурга в Европу. Ему предстояло весьма долгое, более чем годичное, путешествие по многим странам. Главным из сопровождавших его лиц был его любимый наставник Жуковский.
На пути в Берлин их догнали отец, мать, младшие братья Николай и Константин и сестра Александра. Пробыв в Берлине в обществе своего деда – короля Фридриха-Вильгельма III, и сонма немецких королей, принцев, герцогов и владетельных князей, Александр через три недели уехал в Штеттин и оттуда вместе с отцом и братьями направился на военном пароходе «Геркулес» в Стокгольм к старому союзнику русских шведскому королю Карлу-Юхану, бывшему маршалу Франции Бернадоту. Объехав значительную часть Швеции, Александр через три недели отплыл в Копенгаген, где тоже провел три недели.
Какое впечатление производил цесаревич в первые месяцы своего пребывания в Европе? Уже не раз упомянутый в книге писатель и путешественник де Кюстин, встретив Александра в Германии, писал о нем так: «Выражение его взгляда – доброта. Это в прямом смысле слова – государь. Вид его скромен без робости. Он прежде всего производит впечатление человека, прекрасно воспитанного. Он прекраснейший образец государя из всех, когда-либо мною виденных».
А ведь де Кюстин видел не один десяток государей…
Во время путешествия жестокая хандра не оставляла Александра ни в Ганновере, ни в Южной Германии, ни в Австрии. Он немного оживился в австрийских владениях Северной Италии – подлинной сокровищнице средневековой архитектуры, скульптуры и собраний коллекций всемирно известных художников.
Путь его пролегал через такие прославленные великими зодчими, ваятелями и живописцами города, как Верона и Милан, Кремона и Мантуя, Виченца и Падуя, Венеция и Флоренция, а в конце этой части путешествия и «вечный город» – Рим. Здесь цесаревич был принят папой Григорием XVI, осмотрел Ватикан, Колизей, Капитолий и все, что было достойно внимания. Он встречался со всей русской колонией и с особым удовольствием со своими соотечественниками – художниками и скульпторами.
Этим завершился 1838 год.
6 января 1839 года Александр въехал в Неаполь, осмотрел Геркуланум и Помпеи, поднялся на Везувий и двинулся обратно в Северную Италию, а оттуда в Вену, чтобы осмотреть поля сражений при Асперне и Ваграме. В Вене, как и везде, ждали наследника парады и балы, экскурсии и торжественные приемы. Особенно радушно встречали его в семьях императора и князя Меттерниха.
Пробыв в Вене десять дней, Александр через Штутгарт 11 марта приехал в Карлсруэ. Сопровождавший его Жуковский вечером 12 марта написал императрице: «Но что делается в его сердце – я не знаю. Да благословит Бог минуту, в которую выбор сердца решит судьбу его жизни… В те два дня, которые мы здесь провели, нельзя было иметь досуга для какого-нибудь решительного чувства; напротив, впечатление должно было скорее произойти неблагоприятное, ибо оно не могло быть непринужденным». Предчувствие не обмануло Жуковского, – «выбор сердца» решил судьбу Александра буквально на следующий день. 13 марта 1839 года, остановившись на ночлег в маленьком, окруженном садами и парками Дармштадте, где по его маршруту остановка не была предусмотрена, Александр нашел то, чего не удалось ему отыскать ни в одном другом городе Европы. Дармштадт был резиденцией Великого герцога Гессенского Людвига II. Александр, опасаясь скучного «этикетного» официального вечера, остановился в местной гостинице, но герцогу, конечно же, доложили о приезде в Дармштадт наследника русского престола, и он явился в гостиницу с визитом. Великий герцог пригласил цесаревича в театр, а после спектакля попросил заехать к нему в замок. И вот здесь-то и подстерегала цесаревича неожиданная встреча с очаровательной четырнадцатилетней принцессой Марией. Александр возвратился в гостиницу, очарованный и плененный дочерью герцога.
Александр сказал сопровождавшим его адъютантам Каверину и Орлову: «Вот о ком я мечтал всю жизнь. Я женюсь только на ней».
Имя Марии повторял он неустанно и тут же написал отцу и матери, прося у них позволения сделать предложение юной принцессе Гессенской. Дальнейшее путешествие по Германии и Голландии, а потом и по Англии, занимало его далеко не так сильно, как увлекательные странствия по Европе, до появления его в Дармштадте.
Месяц, проведенный в Лондоне, дал ему очень много. Он сблизился со своей ровесницей, королевой Викторией, был радушно принят чопорной английской аристократией, побывал и в парламенте, и на скачках, и в Оксфорде, и в Тауэре, и в доках на Темзе, и в Английском банке, и в Вестминстерском аббатстве. Покинув Лондон, Александр помчался в Гессен, чтобы заверить родителей Марии в своем неизменном намерении стать со временем ее мужем: о помолвке, а тем более о свадьбе не могло быть и речи из-за того, что будущей невесте не было еще и 15 лет.
23 июня 1839 года Александр вернулся в Петергоф, чтобы через неделю присутствовать на свадьбе своей сестры, Великой княжны Марии Николаевны, с герцогом Максимилианом Лейхтенбергским, о чем речь пойдет ниже. А между тем его собственные матримониальные дела складывались не лучшим образом…
Свадьба великой княжны Марии Николаевны и герцога Лейхтербергского, князя Эйхштетского Максимилиана
Эта свадьба была первым государственным и семейным торжеством, проходившим в новом Зимнем дворце, еще не до конца отстроенном. Свадьба Марии и Максимилиана состоялась при обстоятельствах не совсем обычных, которые старались не доводить до широкой публики, хотя во дворце давно уже ходили слухи, что предстоящий брак заключается не по любви и даже не по расчету, а по острой необходимости.
Известно было, что восемнадцатилетняя Великая княжна Мария Николаевна двумя годами раньше влюбилась в князя Александра Ивановича Барятинского и даже намеревалась выйти за него замуж.
Барятинский, бывший четырьмя годами старше Марии Николаевны, в бытность свою в Школе гвардейских подпрапорщиков в 1831—1833 годах прославился своими кутежами и волокитством и был признанным заводилой среди петербургской «золотой молодежи». О свадьбе с таким человеком не могло идти и речи, тем более что за скандальные истории Барятинский был отправлен на Кавказ, где получил пулю в бок и золотую саблю с надписью «За храбрость».
Случилось это тотчас же, как только попал он на войну. Из-за ранения и награды его тут же отозвали в Петербург, восстановили в гвардии, и он даже стал одним из флигель-адъютантов цесаревича. Конечно же, в путешествие по Европе Барятинский с ним не ездил, но на свадьбу Марии Николаевны с Максимилианом, его счастливым соперником, был приглашен и в новом Зимнем дворце присутствовал.
Побывавший в Петербурге сразу после венчания голландский полковник Гагерн так писал о новобрачной: «Великая княжна Мария Николаевна мала ростом, но чертами лица и характера – вылитый отец. Профиль ее имеет также большое сходство с профилем императрицы Екатерины (Великой. – В. Б.) в годы ее юности. Мария – любимица своего отца, и полагают, что в случае кончины императрицы она приобрела бы большое влияние. Она обладает многими дарованиями: уже в первые дни замужества она приняла в свои руки бразды правления». Правда, последнее замечание Гагерна о главенстве в новой семье свидетельствовало столько же о сильном характере Марии Николаевны, сколько и о мягкосердечии ее мужа. И хотя у герцога была весьма своеобразная, но все же и весьма славная родословная, в день свадьбы – 14 июля 1839 года – он был всего-навсего подпоручиком российской гвардии. Он был двумя годами старше Марии Николаевны, хорош собой, высок и статен. Герцог был и прекрасно образован, что позволило ему в будущем занимать посты президента Академии художеств и директора Горного института – бесспорно, лучшего высшего учебного заведения России. (Впрочем, о его службе в России дальше будет рассказано более подробно.) Разумеется, что и происхождение его играло не последнюю роль в женитьбе на дочери императора. Подтверждением тому было и имя герцога – Максимилиан-Евгений-Иосиф-Огюст-Наполеон.
Его отцом был пасынок Наполеона Бонапарта – сын первой жены императора Франции Жозефины Богарнэ от ее брака с графом Александром Богарнэ, генералом республиканской армии, безвинно казненным якобинцами.
(Кстати, в мае 1793 года, незадолго до казни, Александр Богарнэ сменил на посту главнокомандующего Северной республиканской армией генерала де Кюстина – родственника маркиза Астольфа де Кюстина, о котором упоминалось выше.)
Выйдя во второй раз замуж за бедного молодого офицера, будущего императора, Жозефина открыла путь для блестящей карьеры своего сына Евгения и дочери Гортензии. Евгений в 23 года стал генералом, – впрочем, по заслугам, – а после вступления его отчима на престол – принцем Империи. В 1805 году он был провозглашен вице-королем Италии (королем Италии был сам Наполеон), а еще через год Бонапарт официально усыновил его и даже собирался объявить своим наследником. В 27 лет Евгений женился на дочери баварского короля принцессе Амалии-Августе, а еще через год добавил к своим титулам и титул князя Венеции. От этого-то брака в 1817 году и родился герцог Максимилиан Лейхтенбергский. Его титул «герцога Лейхтенбергского» произошел от названия замка Лейхтенберг в одноименном ландграфстве в округе Пфальц, которое в год его рождения было уступлено баварским королем – дедом Максимилиана – своему зятю Евгению Богарнэ вместе с частью княжества Эйхштет. Это превратило новую территорию в герцогство Лейхтенбергское, отец Максимилиана, лишившийся всех своих титулов из-за поражения Наполеона, стал герцогом Лейхтенбергским и князем Эйхштетским с присвоением титула Королевского Высочества. За четыре года до свадьбы эти титулы – из-за бездетности его старшего брата – перешли к 18-летнему Максимилиану. Таким было происхождение зятя Николая I, нового Великого князя Российского императорского дома, Его Императорского Высочества герцога Лейхтенбергского.
Оказавшийся на их свадьбе Астольф де Кюстин отметил любопытное для всякого француза совпадение: венчание состоялось в день 50-й годовщины взятия Бастилии, что настроило маркиза на особый лад. Увидев Николая в церкви Зимнего дворца, он был поражен и августейшей четой, и отношением к ней окружающих, и роскошью и великолепием обряда: «Стены, плафоны церкви, одеяния священнослужителей – все сверкало золотом и драгоценными камнями. Здесь было столько сокровищ, что они могли поразить самое непоэтическое воображение… Я мало видел могущего сравниться по великолепию и торжественности с появлением императора. Он вошел с императрицей в сопровождении всего двора, и тотчас мои взоры, как и взоры всех присутствующих, устремились на него, а затем и на всю императорскую семью. Молодые супруги сияли: брак по любви в шитых золотом платьях и при столь пышной обстановке – большая редкость, и зрелище поэтому становилось гораздо интереснее. Так шептали вокруг меня, но, – добавлял умный и проницательный де Кюстин, – я лично не верю этому чуду и невольно вижу во всем, что здесь делается и говорится, какой-либо политический расчет».
Недалекое будущее доказало его правоту – развитая интуиция, знание жизни и незаурядный психологизм известного писателя не подвели француза: хотя брак Марии и Максимилиана был отнюдь не бездетным – за двенадцать лет у них родились четверо сыновей и три дочери, – однако ходили упорные слухи, что многие герцоги и герцогини Лейхтенбергские имеют других отцов, о чем будет рассказано чуть ниже.
Описывая церемонию венчания, де Кюстин обратил внимание на то, что по окончании обряда корону над головой невесты держал ее брат – цесаревич Александр, а корону над головой герцога Лейхтенбергского – граф Петр Петрович Пален, русский посол в Париже, сын одного из главных заговорщиков – убийц Павла I. Таким образом, замечал де Кюстин, сын убийцы призывал благословение небес на голову внучки убитого, что не могло не показаться странным. Однако не только это удивило наблюдательного путешественника: первыми лицами во время свадьбы оказались не жених, не невеста, не священники, а находившийся всегда в центре внимания отец невесты, император Николай.
«Император – всегда в своей роли, которую он исполняет, как большой актер. Масок у него много, но нет живого лица, и когда под ними ищешь человека, всегда находишь только императора.
Думаю, что это можно даже поставить ему в заслугу: он добросовестно исполняет свое назначение. Он обвинял бы самого себя в слабости, если бы мог допустить, чтобы кто-нибудь хоть на мгновение подумал, что он живет, думает и чувствует, как обычные люди. Не разделяя ни одного из наших чувств, он всегда остается лишь верховным главой, судьей, генералом, адмиралом, наконец монархом, и никем другим».
Николай и здесь всем распоряжался, не подавая, конечно, никаких команд, но приказывая взглядом и движением мышц лица, за выражением которого неотрывно следили все. «Его гордое равнодушие, его черствость – не прирожденный порок, а неизбежный результат того высокого положения, которое не сам он для себя избрал и покинуть которое он не в силах. Как бы то ни было, но совершенно особая судьба русского императора внушает мне сострадание: можно ли не сочувствовать его вечному одиночеству, его величественной ссылке?» – добавлял де Кюстин.
По окончании венчания молодые, августейшая чета, императорская фамилия и все присутствующие были приглашены в восстановленный дворец, в одной из зал которого был накрыт стол на тысячу человек. Кюстин так описывал этот праздник: «Это была феерия, и восторженное удивление, которое вызвала у всего двора каждая зала восстановленного за один год дворца, придавало холодной торжественности обычных празднеств какой-то особый интерес. Каждая зала, каждая картина ошеломляли русских царедворцев, присутствовавших при катастрофе, но не видевших нового дворца после того, как этот храм по мановению их господина восстал из пепла. Какая сила воли, думал я при виде каждой галереи, куска мрамора, росписи стен. Стиль украшений, хотя они закончены лишь несколько дней назад, напоминает о столетии, в которое этот дворец был воздвигнут: все, что я видел, казалось старинным… Блеск главной галереи в Зимнем дворце положительно ослепил меня. Она вся была окрашена в белый цвет. Это несчастье во дворце дало возможность императору проявить свою страсть к царственному, даже божественному, великолепию… Еще более достойной удивления, чем сверкающая золотом зала для танцев, показалась мне галерея, в которой был сервирован ужин. Стол был сервирован с исключительным богатством. На тысячу человек в одной зале был сервирован один стол!»
Вопреки де Кюстину, Гагерн, посетив Зимний дворец в одно с ним время, заметил: «Вообще русские очень рады, когда они могут похвалиться: „Мы имеем самое большое, что бы то ни было – дворец, театр или крепость“; или еще: „Никогда столь большое здание не было возведено за столь короткое время“. Величина и скорость для них значат больше, чем доброкачественность и красота. Наполеон справедливо заметил о них: „Поскребите его шкуру – и вы найдете татарина“. Невыгодные последствия столь большой поспешности повсюду видны в Зимнем дворце: сырые, нездоровые стены; все комнаты летом много топились для просушки, поэтому уже во многих апартаментах стало невозможно жить».
Барятинский, как уже выше говорилось, был приглашен на свадьбу Марии Николаевны с Максимилианом, которая ставила крест на его мечтах о женитьбе на Великой княжне. Но будучи человеком еще молодым, чрезвычайно взбалмошным и в высшей степени самонадеянным, этот смельчак и баловень судьбы все же не оставил надежды войти в царскую семью. Сравнивая свою родословную с родословной герцога Лейхтенбергского, он пришел к выводу, что Максимилиан ему не чета – Барятинский был Рюриковичем, потомком Черниговских и Тарусских князей, а в сравнительно недавнем прошлом его дед – Иван Сергеевич Барятинский, генерал-поручик и посол Екатерины II в Париже – был женат на Гольштейнской принцессе Екатерине, родственнице великой императрицы. Все это вскружило голову молодому князю, и он стал оказывать весьма недвусмысленные знаки внимания другой дочери Николая, 17-летней Ольге Николаевне, о которой Гагерн писал: «Вторая великая княжна, Ольга Николаевна, любимица всех русских; действительно, невозможно представить себе более милого лица, на котором выражались бы в такой степени кротость, доброта и снисходительность. Она очень стройна, с прозрачным цветом лица, и в глазах тот необыкновенный блеск, который поэты и влюбленные называют небесным, но который внушает опасения врачам».
Однако Барятинский и тут просчитался. Он не учел, что Ольга Николаевна, не в пример своей старшей сестре, холодна и расчетлива, а кроме того, и крайне самолюбива – она отказывала владетельным князьям Германии только потому, что видела в предстоящем замужестве себя не иначе, как королевой. Когда же Николай узнал о новых кознях неугомонного князя, он снова отослал его на Кавказ, присвоив ему незадолго до того чин полковника.
Подтверждая основательность сомнений в любви Максимилиана Лейхтенбергского и Марии Николаевны, Н. А. Добролюбов писал: «Но, выдавши Марию замуж, Николай I сказал ей, что теперь опять она может взять себе в адъютанты Барятинского, и он был возвращен. Впрочем, он ей надоел наконец, и, окончательно убедившись, что при дворе многого не добьешься, Барятинский уехал в горы Кавказа за чинами, почестями и воинской славой. Умный и лукавый А. П. Ермолов сказал об этом так: „Ведь на Кавказе большие горы, а в Петербурге болото топкое; в болоте столько же легко увязнуть, сколько в горах удобно подняться на высоту“. Барятинский и поднялся на максимально возможную высоту, став через 27 лет главнокомандующим, наместником Кавказа и фельдмаршалом, пленив в
1859 году неуловимого Шамиля. Но об этом – после.
Что же касается Марии Николаевны и ее мужа – герцога Максимилиана Лейхтенбергского, то можно констатировать, что царская дочь никакого заметного следа в истории России не оставила, кроме потомков, о которых автор непременно расскажет, чтобы дать информацию, не распыляя ее по страницам этой книги.
Говоря о самой Марии Николаевне, современники утверждали о существовании весьма нежных отношений между нею и знаменитым итальянским певцом, графом Джованни Марио Канди, гастролировавшим в России в 1849—1853 годах.
Он выступал в Петербурге на сцене Итальянской оперы вместе со своей женой, не менее знаменитой певицей Джулией Гризи. Его гастроли в Петербурге были триумфом великого певца, которому здесь исполнилось сорок лет. Многие дамы буквально сходили с ума от красавца-графа, обволакивавшего слушавших его бархатистым тембром великолепного, чистого и полнозвучного голоса. Конечно же, Марио мог нравиться Марии Николаевне, но возле какой из великосветских дам не роятся, подобно осам, сплетни?
После Марио Н. А. Добролюбов назвал еще и графа Г. А. Строгонова, обвенчавшегося тайно от царя в Мариинском дворце в 1855 году. «О детях его говорить нечего: Максимилиан начинает свое завещание проклятием того часа, в который он вступил в Россию». Однако следует учесть, что герцог Максимилиан 20 октября 1852 года уже скончался, и все любовные связи его бывшей жены, на тот момент тридцатитрехлетней вдовы, никак нельзя рассматривать как супружескую неверность. Но недоброжелатели Марии Николаевны, еще довольно молодой женщины, не делают в своих выпадах против нее никакой разницы между положением супруги и вдовы.
Теперь же более подробно расскажем о жизни герцога Максимилиана.
Он приехал в Санкт-Петербург в 1837 году, за два года до женитьбы на Марии Николаевне.
На второй день после венчания поручик российской гвардии указом императора стал членом императорской фамилии и в том же году генерал-майором гвардии и шефом лейб-гвардии гусарского полка.
Однако герцог не был только военным: ему по нраву были такие, казалось бы, далекие друг от друга сферы, как естествознание – физика и химия – и искусство, прежде всего живопись и скульптура.
Герцог упорно трудился над проблемами гальванопластики, электрохимии и металлургии, став всемирно известным ученым в этих разделах науки, как теоретической, так и прикладной, и основал в Петербурге на свои средства гальванопластический завод. Максимилиан активно содействовал строительству железной дороги Санкт-Петербург – Москва.
Второй сферой его интересов было искусство. В 1842 году Максимилиан был избран почетным членом Императорской Академии художеств, а на следующий год – ее Президентом. На этом посту он оставался до своей смерти 20 октября 1852 года. Максимилиан прожил всего 35 лет. 6 декабря 1852 года Николай объявил своим указом детей Максимилиана членами императорской фамилии с титулом «герцогов Лихтенштейн, князей Романовских».
* * *
Каких бы отцов ни приписывали детям, рожденным Марией Николаевной, совершенно очевидно, что после смерти мужа она не родила ни одного ребенка. Ее последним сыном был герцог Георгий Максимилианович, родившийся 17 февраля 1852 года – за восемь месяцев до смерти герцога Максимилиана.
Сыновья Марии Николаевны и Максимилиана – Николай (рождения 1843 года), Евгений (рождения 1847 года), Сергей (рождения 1849 года) и Георгий (рождения 1852 года) были генералами, а их дети, дожившие до октября 1917 года, либо сражались на стороне белых и умерли за границей, в эмиграции, либо, оставшись в Советском Союзе, стали жертвами большевистского террора.
Род герцогов Лейхтенбергских, князей Романовских пресекся 16 декабря 1974 года со смертью в Риме последнего его представителя
Сергея Георгиевича – Почетного председателя Русского национального объединения. Умер Сергей Георгиевич на 85-м году жизни.
Свадьба цесаревича Александра с Марией, принцессой Гессен-Дармштадтской
Вскоре после свадьбы Марии Николаевны цесаревич Александр узнал истинную причину задержки сватовства, которая оказалась значительно серьезнее, нежели слишком юный возраст принцессы: вот уже двадцать лет семья герцога Людвига находилась в эпицентре болезненного внимания, оживленных пересудов и скабрезных сплетен при всех дворах Германии.
Дело было в том, что после женитьбы Людвига II на шестнадцатилетней принцессе Вильгельмине Баденской и рождения у них двоих сыновей и дочери муж и жена охладели друг к другу и, что не являлось ни для кого секретом, жили как чужие люди. И вдруг, после многолетней размолвки, Вильгельмина родила мальчика, которого назвали Александром. Не желая официально прослыть рогоносцем, Людвиг признал его своим сыном. А через год – 8 августа 1824 года – Великая герцогиня родила еще одного ребенка, принцессу Марию, ту самую, что пленила сердце цесаревича. Причем утверждали, что отец обоих детей не был даже дворянином.
Чуть позже появилась новая версия происхождения детей, на сей раз гораздо менее экстравагантная, оказавшаяся, кстати сказать, и истинной – отцом Марии и ее брата был шталмейстер герцога Людвига, швейцарский барон Август Людвиг де Граней, француз по происхождению, необычайно красивый. Зато к матери Марии никаких претензий быть не могло: она являлась не только законной супругой герцога Людвига, но и родной сестрой тетки цесаревича – императрицы Елизаветы Алексеевны, жены Александра I, а стало быть, также доводилась цесаревичу Александру теткой.
Между тем время шло, и в середине 1840 года Марии Дармштадт-Гессенской должно было исполниться 16 лет – возраст, по меркам того времени вполне подходящий для брака.
4 марта 1840 года Александр выехал из Санкт-Петербурга в Дармштадт, в июле отпраздновал день рождения Марии и к началу сентября вместе с невестой приехал в Варшаву, где их ждали Николай и Александра Федоровна.
Все вместе возвратились они в Санкт-Петербург, где предсвадебные хлопоты заняли более двух месяцев – речь шла не просто об очередной свадьбе одного из отпрысков императорской фамилии, а о бракосочетании будущего императора России. (Да и счет у свадьбы был ровный – в 20-й раз роднились Романовы с одним из августейших немецких родов.)
А пока шла подготовка к свадьбе, Гессен-Дармштадтская герцогиня Максимилиана-Вильгельмина-Августа-София-Мария – таким было полное имя юной невесты – усердно штудировала православный катехизис и учила русский язык.
5 декабря 1840 года герцогиня была крещена по православному обряду и стала Великой княжной Марией Александровной.
Переменив конфессию, невеста оставила одно из пяти прежних своих имен – Мария, ибо оно было общехристианским и к нему равно почтительно и благоговейно относились в любой из христианских церквей. Теперь оставалось дожидаться дня венчания. И этот день наступил 16 апреля 1841 года.
Беспрерывные празднества, сначала в Петербурге, а потом и в Москве, продолжались более месяца. Фрейлина А. Ф. Тютчева так описывала Марию Александровну: «Была она высокой, худощавой, хрупкой на вид. Но в то же время – исключительно элегантной, напоминала изящные фигуры немецких женщин, изображенных на старинных гравюрах… И хотя черты ее лица не были классическими, волосы ее, нежная кожа, большие голубые глаза были
действительно прекрасными… Вообще, выражение ее лица было всегда невозмутимо спокойным, и нельзя было прочесть на нем ни внутреннее возбуждение, ни видимое воодушевление. Улыбка ее, немного ироническая, странно контрастировала с выражением глаз… Я настаиваю на этих подробностях, потому что редко можно встретить более характерное лицо, на котором отражались бы столь различные контрасты и нюансы, свидетельствующие, несомненно, об очень комплицированном «я».
И даже желчный, злоязыкий П. В. Долгоруков должен был признать, что Мария Александровна женщина совершенно незаурядная. «…Мария Александровна в первые годы своего пребывания в России пользовалась репутацией женщины необыкновенно умной, – писал Долгоруков. – При пустом, легкомысленном дворе Николая, который в последние годы своей жизни любил употреблять в разговоре с женщинами тон самый грязный, самый цинический, при этом николаевском дворе, который умел безвозвратно убить в России всякое уважение ко двору, появление среди этого круга молодой женщины, отлично воспитанной, поразило всех. Приличие ее обхождения, ее молчаливость, ее скромность, – скрывающая, впрочем, порядочную долю гордости, заставило принять ее за женщину необыкновенно умную. Холодность ее вежливости, вежливости сухой, но самой отменной, приписана была желанию не вмешиваться в дела, чтобы не навлечь на себя гнева грозного свекра. Ее отчуждение от всех, ее любовь к уединению приписаны были осторожности, глубокомыслию и наконец отвращению, которое, как полагали, внушал ей жалкий николаевский двор. Все это придавало ей в России огромную популярность».
Кроме ума и прекрасных манер, Мария Александровна отличалась и красотой, что делало счастье молодых супругов совершенно безоблачным и удачным во всех отношениях.
И никто не посмел бы усомниться в этом и предсказать более чем печальный исход этой почти небесной идиллии…
Царствование Николая I до революции 1848 года в Европе
Николаю I было суждено процарствовать 30 лет. Что же принесли России и семье Романовых непростые и бурные сороковые годы? Каким звеном в непрерывной цепи событий они оказались?
Расскажем хотя бы о главных и, может быть, самых знаменательных из них, обратив внимание прежде всего на жизнь царской семьи.
Семейная жизнь Александра Николаевича и Марии Александровны, по меньшей мере первые двадцать лет, оставалась совершенно безоблачной: с 1842 по 1860 год, за 18 лет, у них родилось восемь детей – шестеро сыновей и две дочери. Только двое старших – Александра и Николай – оказались недолговечны. Александра умерла семи лет, а Николай Александрович, родившийся в сентябре 1843 года и подававший большие надежды, одаренный сильным умом, любивший науки и искусства, в отличие от многих своих родственников, не испытывавший никакого расположения к фрунту, умер на 22-м году от чахотки. Трое детей Александра II прожили довольно долго: Алексей умер в 1908 году в 58 лет; Владимир – в 1909 г. в возрасте 62-х; Мария – в 1920 г., 67 лет.
Остальные же дети погибли насильственной смертью, как и сам Александр II – их отец. В 1905 году бомбой террориста Ивана Каляева был разорван на части 48-летний Великий князь Сергей Александрович, а в 1919 году был убит и последний сын Александра II – Павел Александрович.
Особо следует остановиться на втором сыне цесаревича – Александре, будущем российском императоре, который родился 26 февраля 1845 года. После смерти в 1865 году старшего брата – Николая Александровича, Александр Александрович стал наследником престола, а потом и императором, хотя в детстве его не готовили к престолу, предназначая для военной карьеры. Когда же он был провозглашен цесаревичем, ему было уже 20 лет, образование его почти закончилось, а главное, и характер, и наклонности более всего соответствовали родовой страсти почти всех мужчин из дома Романовых – военной службе.
Однако в 1842 году, когда молодые родители радовались своей первой дочери, до всех этих событий было еще очень и очень далеко.
А вот над дочерью императора Николая, 19-летней Великой княгиней Александрой Николаевной, вышедшей замуж в январе 1844 года за Гессен-Кассельского ландграфа Фридриха-Вильгельма, смерть уже занесла свою косу. Александра Николаевна была самой красивой из дочерей Николая и самой музыкальной – она прекрасно играла на фортепьяно, имела великолепный голос и безукоризненный слух. Семнадцати лет Великая княжна заболела чахоткой, которую просмотрели врачи, и вскоре после свадьбы, 29 июля 1844 года, умерла в столице мужа – Касселе.
Николай очень страдал из-за смерти своей любимицы и считал, что с этого дня жизнь его резко переменилась к худшему и несчастья стали преследовать его одно за другим…
Теперь же логика повествования заставляет нас вернуться в начало 30-х годов.
…27 июля 1831 года Александра Федоровна родила третьего сына, Николая. Это произошло сразу после возвращения императора из-под Новгорода, где он усмирил бунт в военных поселениях. А 13 октября 1832 года у августейших супругов родился последний – седьмой – ребенок, тоже мальчик, четвертый сын – Михаил, которому предстояла самая долгая жизнь из всех сестер и братьев – он дожил до 77 лет и умер 5 декабря 1909 года. То, что после Михаила императрица не родила более ни одного ребенка, объяснялось тем, что врачи запретили ей дальнейшие роды и даже брачные отношения, и Николай, среди особо близких и доверенных людей, шутя, называл себя «соломенным вдовцом», получив от супруги официальное разрешение заводить связи на стороне.
Однако прежде все же скажем о сыновьях императора. Второй сын Николая и Александры Федоровны – Константин – родился 9 октября 1827 года, и между ним и старшим братом – цесаревичем Александром – были еще три их сестры – Мария, Ольга и Александра, о которых речь пойдет, главным образом, в связи с их замужествами. Разница в возрасте между братьями была в девять с половиной лет, и потому Константина воспитывали особняком, готовя с самого рождения к службе на море.
Уже в четырехлетнем возрасте Константин получил чин генерал-адмирала – высший чин во флоте, соответствующий званию фельдмаршала. Что значил четырехлетний младенец по сравнению с Францем Лефортом, Федором Головиным, графом Андреем Остерманом, графом Федором Апраксиным, князем Михаилом Голицыным – первыми пятью генерал-адмиралами российского флота? Правда, великий князь Павел Петрович тоже был генерал-адмиралом и тем создал прецедент получения этого чина членами императорского дома, а потом эта традиция сохранилась до 1905 года, но справедливость требует сказать и о том, что генерал-адмирал получил чин мичмана в семь лет и лишь в шестнадцать стал лейтенантом. К этому времени он прошел уже хорошую теоретическую и практическую военно-морскую подготовку под руководством ученого, исследователя Арктики, капитана первого ранга, флигель-адъютанта Федора Петровича Литке. К 1829 году Ф. П. Литке успел совершить и трехлетнее кругосветное плавание, что принесло ему европейскую известность в ученом мире. С ноября 1832 года он стал воспитателем, а через 15 лет – попечителем Константина Николаевича. К этому времени его двадцатилетний воспитанник принял участие в нескольких морских плаваниях, в течение двух последних лет командуя фрегатом «Паллада».
27 июля 1831 года родился третий сын Николая, Великий князь Николай II Николаевич, а менее чем через полтора года после него, 13 октября 1832 года, последний, Михаил. Из-за маленькой разницы в возрасте Николай и Михаил росли и учились вместе, как это было с их августейшими дядьями Александром Павловичем и Константином Павловичем и как это было с их отцом и его младшим братом Михаилом Павловичем.
Великие князья Николай Николаевич и Михаил Николаевич вместе начали «службу» в 1-м Кадетском корпусе, когда первому шел восьмой год, а второму – седьмой. Для августейших братьев был создан «потешный взвод» преображенцев, в котором инструктором по ружейной экзерциции, фрунту, шагистике и барабанному бою, а также и фельдфебелем был сам император. И если все царские сыновья с самого начала были нацелены не только на овладение премудростями военной службы, то эти двое «последышей», хотя бы сначала, занимались исключительно ею.
* * *
Теперь вновь вернемся к особе императора – человека необычайно волевого, ответственного за дело, выпавшее на его долю, и чрезвычайно трудоспособного. Николай I был достаточно умен и, хорошо понимая, что происходит вокруг него, все более и более убеждался в том, что, несмотря на все его усилия и почти круглосуточную работу, он уподобляется мифологическому Сизифу, осужденному богами на вечный бесплодный труд.
Это понимал не только Николай. С каждым годом становилось все очевиднее, что Россия безнадежно отстает от развитых стран Европы, но упорно идет своим собственным, отличным от других стран путем. «Что за странный этот правитель, – писала о Николае графиня М. Д. Нессельроде, – он вспахивает свое обширное государство и никакими плодоносными семенами его не засевает». А если чем и засевал Николай Россию, то семена эти не всходили, умирая в смертоносной, бесплодной земле.
Виною всему был режим, дошедший до последней крайности удушения жалких остатков лакейски послушного либерализма, создавший цензуру над цензурой – Бутурлинский комитет, в котором прочитывались уже вышедшие в свет издания, режим, всерьез готовившийся закрыть университеты, – не мог рассчитывать ни на что, кроме еще большего ужесточения власти, для сохранения собственного существования. И на вершине этого бесчеловечного режима стоял император, не просто глава его, но подлинный демиург и олицетворение восточной деспотии, называвшейся Российской империей. «Угнетение, которое он оказывал, – писала А. Ф. Тютчева, – не было угнетением произвола, каприза, страсти; это был самый худший вид угнетения – угнетение систематическое, обдуманное, самодовлеющее, убежденное в том, что оно может и должно распространяться не только на внешние формы управления страной, но и на частную жизнь народа, на его мысли, его совесть и что оно имеет право из великой нации сделать автомат, механизм которого находился бы в руках владыки».
Внешне все свидетельствовало о победе этого принципа, о его полном торжестве. Миллионная армия, вымуштрованная до состояния манекенов, и стотысячный чиновничий корпус, перемещавший и по горизонтали, и по вертикали миллионы бумаг, создавали убедительную картину безупречной активной деятельности, да и сам Николай трудился самозабвенно и неустанно.
А. Ф. Тютчева писала, что император «проводил за работой восемнадцать часов в сутки, трудился до поздней ночи, вставал на заре, спал на твердом ложе, ел с величайшим воздержанием, ничем не жертвовал ради удовольствия и всем ради долга и принимал на себя больше труда и забот, чем последний поденщик из его подданных. Он чистосердечно и искренне верил, что в состоянии все видеть своими глазами, все слышать своими ушами, все регламентировать по своему разумению, все преобразовать своею волею. В результате он лишь нагромоздил вокруг своей бесконтрольной власти груду колоссальных злоупотреблений, тем более пагубных, что извне они прикрывались официальной законностью и что ни общественное мнение, ни частная инициатива не имели ни права на них указывать, ни возможности с ними бороться».
Одна из умнейших и образованнейших женщин России Александра Осиповна Смирнова, урожденная Рассет, до замужества фрейлина, а затем жена петербургского губернатора, оставила любопытные воспоминания о литературной жизни Петербурга, нравах и событиях двора. В своем дневнике она записала 5 марта 1845 года:
«Государь сказал мне: „Вот скоро двадцать лет, как я сижу на этом прекрасном местечке. Часто удаются такие дни, что смотрю на небо, говорю: зачем я не там? Я так устал…“ Но устал не только Николай, устала вся Россия, от интеллигентов-радикалов до его собственных министров. Крестьянские бунты в западных губерниях империи привели к отмене или ограничению барщины в Литве, Белоруссии и на Правобережной Украине. Там же были установлены размеры земельных крестьянских наделов и перечень крестьянских повинностей. Однако все это были лишь робкие попытки незначительно ограничить крепостничество, и они мало что дали крестьянам.
А радикалы-интеллигенты – чаще всего разночинцы, то есть «люди разного чина и звания», выходцы из дворян, купцов, мещан, духовенства, крестьян, ремесленников, получившие образование и порвавшие со своей средой, – встали на путь осмысления всего происходящего в России, а затем и на путь борьбы за освобождение своих собратьев от средневекового феодального рабства.
В начале 1846 года в Киеве возникло тайное революционное Кирилло-Мефодиевское общество, в которое входили несколько десятков человек – Т. Г. Шевченко, историк-профессор Н. И. Костомаров и др., ставившие целью освобождение Украины и создание международной Славянской федерации. В 1847 году по доносу провокатора – студента Петрова – общество было разгромлено.
Чуть раньше – в 1845 году – в Петербурге возник кружок «русских фурьеристов» – последователей социалиста-утописта Шарля Фурье, – возглавляемый переводчиком министерства иностранных дел Михаилом Васильевичем Буташевичем-Петрашевским. В кружок входили Ф. М. Достоевский, сподвижник В. Г. Белинского В. Н. Майков, М. Е. Салтыков-Щедрин, ученые, офицеры – всего более ста человек. Занимаясь вначале чисто научной деятельностью – чтением рефератов, дискуссиями на исторические и литературные темы, – участники кружка все более политизировались, чему способствовали не только события в России, но прежде всего то, что происходило в это время в Европе. Особенно же сильное влияние на деятельность петрашевцев оказала революция, начавшаяся в феврале 1848 года во Франции.
Однако речь об этом пойдет ниже, а пока мы побываем на еще одной свадьбе, состоявшейся в Петергофе летом 1847 года, когда в Европе было еще относительно спокойно.
Свадьба великой княжны Ольги Николаевны и кронпринца королевства Вюртемберг Карла-Фридриха-Александра
По стандартам своего времени Великая княжна Ольга Николаевна стала невестой довольно поздно – в 25 лет. И будет не лишним поведать о том, как она прожила эти четверть века.
…30 августа 1822 года у цесаревича Николая Павловича и Великой княгини Александры Федоровны родилась вторая дочь – Ольга. Их старшим детям – Александру Николаевичу и Марии Николаевне – было 4 и 3 года. Статс-дама княгиня А. Н. Волконская доставила малютку на крещение в церковь Таврического дворца. Литургию совершил митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Серафим.
Императрица-мать – Мария Федоровна – возложила на Ольгу орден святой Екатерины 1-го класса, а императрица Елизавета Алексеевна поднесла Ольгу к причащению.
Императора Александра I не было при крещении – в это время он находился в дороге на Веронский конгресс.
Девочку после крестин отвезли во дворец к родителям, а в Таврическом дворце были даны торжественный обед, бал и артиллерийские залпы.
С юных лет Ольга, Мария и младшая Александра находились под опекой и руководством статс-дамы Юлии Федоровны Барановой. Учение сестер началось рано и проходило по программам Смольного института. Девочки часто приезжали в Смольный, и каждая из них выбирала себе подругу для труда и игр. Ольга выбрала себе А. Меркулову – дочь московского сенатора.
Когда девочки подросли, их учителем стал В. А. Жуковский.
Отмечая эту сторону деятельности Жуковского, князь П. А. Вяземский посвятил ему такие стихи:
Еще пред ним раскрылся жребий славной: Святой залог приняв из царских рук, Он пробудил в младой семье державной Благой рассвет познаний и наук.Словесность и литературу преподавал П. А. Плетнев, и его уроки очень нравились Ольге Николаевне. Она любила и занятия французским языком и литературой, и историей искусств, и музыкой. Ольга Николаевна охотно играла на фортепьяно и органе, но из искусств более всего любила скульптуру и живопись.
Кроме того, у Ольги Николаевны была воспитательница Анна Алексеевна Окулова, женщина глубоко верующая, истая русская патриотка, прекрасно знавшая отечественную литературу и родной язык. Окулова была демократична в своих убеждениях и имела широкий круг знакомых, которые принадлежали к простолюдинам, но отличались особенно высокой нравственностью или какими-либо талантами.
Окулова убедила Ольгу Николаевну создать училище для девочек из семей священников. В первом наборе оказалось 12 девочек, живших на полном обеспечении Великой княжны. Первая их начальница была родственницей Окуловой, а учебной работой ведал ученый протоиерей Иоаким Кочетов.
За всеми этими делами и хлопотами Ольга Николаевна, казалось, и вовсе забыла о замужестве, но помог случай.
Великая княжна была доброй христианкой и нежной дочерью. Она всегда ухаживала за матерью, которая со временем стала часто болеть. Зиму 1845—1846 годов Ольга Николаевна провела в итальянском городке Палермо, где лечилась императрица Александра Федоровна. Там же находился и Николай I.
В это время в Палермо приехал наследный принц Вюртемберга – Карл-Фридрих-Александр. Его приняли в царской семье, и, познакомившись с Великой княжной, он был настолько поражен ее красотою и грациозностью, что тут же сделал предложение, которое было сразу принято.
Из Палермо царская семья вместе с женихом Ольги Николаевны отправилась в Венецию, а оттуда в Зальцбург, куда приехала мать жениха, королева Вюртемберга, чтобы познакомиться с невестой сына. К счастью, будущие свекровь и невестка понравились друг другу.
С середины июня 1846 года толпы петербуржцев ожидали на берегу Финского залива в Петергофе прибытия корабля с августейшими женихом и невестой. Корабль должен был прийти к летней царской резиденции из Кронштадта, где по придворной традиции родственники должны были встречать жениха Ольги Николаевны.
25 июня, в день 50-летия Николая I, Ольга и Карл-Фридрих обручились.
Весь июнь стояла холодная и дождливая погода, а в день обручения засияло солнце, на небе не было ни одного облачка, термометр показывал +21 °С и все были уверены, что это предвещает молодым безоблачное счастье.
Свадьба началась 1 июля, в день рождения императрицы. В 8 часов утра пять пушечных выстрелов известили о предстоящем венчании, которое состоялось в церкви Петергофского дворца. Затем молодые пошли из церкви в Стольную залу, где было произведено венчание по протестантскому обряду, ибо жених был лютеранином. После обеда в Белом зале, в 8 часов вечера в Петровском зале начался бал.
…Свадебные торжества продолжались больше недели. Все эти дни гремели пушки, звонили колокола всех церквей, и казалось, что возвратился золотой век Екатерины Великой, когда в ее честь давал в Таврическом дворце и его парке волшебный праздник фельдмаршал Потемкин. Только теперь торжества проходили в Петергофе и его огромном парке, расцвеченном тысячами свечей и фонариков.
Николай I превратил свадьбу во всенародный праздник, разрешив петербуржцам всех чинов и званий гулять в садах и парках Петергофа.
10 июля петербургское дворянство дало бал в честь новобрачных, на котором присутствовала вся царская семья, все высшие сановники и генералы, резиденты всех аккредитованных в России государств.
На следующий день, 11 июля, праздновались именины Ольги, которые для августейших особ именовались «тезоименитством».
И снова на праздник были допущены все, кто пожелал.
Праздник проходил в Санкт-Петербурге, на островах Крестовском и Елагине, вся царская семья каталась в открытых экипажах, а молодожены бросали в собравшихся серебряными монетами.
Наконец, с наступлением темноты, многодневный праздник окончился грандиозным фейерверком.
Вскоре Ольга Николаевна, взяв с собою немалый штат приближенных, выехала в Вюртемберг. Своим духовником она выбрала зятя протоиерея Кочетова Ивана Базарова, который прожил при ней до самой ее кончины. Уехала с Ольгой в Вюртемберг и Анна Окулова.
В сентябре Ольга Николаевна прибыла в Штутгарт, столицу Вюртемберга, где русский посланник князь Александр Горчаков собрал для нее хорошую библиотеку, необходимую для ознакомления новой кронпринцессы с историей и всеми сторонами жизни ее нового отечества.
Следующий, 1847 год был в Вюртемберге неурожайным. Начался голод. Ольга Николаевна принимала самое активное участие в помощи голодающим и своею щедростью покорила вюртембергцев.
Когда в 1848 году в Западной Европе началась революция, Вюртемберг тоже попал в ее водоворот. После восстания в Бадене и Дрездене революция пришла и в Штутгарт.
Толпы бунтарей не раз осаждали дом, где жили кронпринц и Ольга. (Именно дом, а не дворец, потому что дворец был построен только через 6 лет после ее приезда в Штутгарт, в 1853 году, да и тот был тесным и неуютным.) Когда однажды вооруженные бунтари окружили их дом, Ольга вышла на балкон и сказала: «Я никого и ничего не боюсь! Я – дочь императора Николая, помните об этом, и лучше всем вам разойтись по домам».
Толпа разошлась, а некоторые даже кричали: «Да здравствует кронпринцесса!»
За время своей жизни в Вюртемберге Ольга Николаевна не раз бывала в Москве и в Санкт-Петербурге, чаще всего по случаю свадеб или похорон.
В 1864 году ее муж стал королем Вюртемберга Карлом I, и только тогда они переселились в королевский дворец.
Наиболее значительным событием своей «королевской» жизни Ольга Николаевна считала свадьбу Великой княжны Веры Константиновны, вышедшей в 1874 году за Вильгельма-Евгения, герцога Вюртембергского.
А дальше пошли сплошные горечи и утраты: она тяжело переживала длительную болезнь и последовавшую 9 февраля 1876 года смерть своей сестры Марии – эти печальные события заставили Ольгу Николаевну долго прожить в Санкт-Петербурге. В 1877 году скончался муж Веры Константиновны – молодой герцог Вюртембергский Вильгельм-Евгений.
В мае 1880 года умерла императрица Мария Александровна, с которой Ольга Николаевна дружила еще до своей свадьбы и переписывалась более 30 лет. И окончательно сразила ее весть об убийстве брата – императора Александра II.
С тех пор королева Ольга заболела, а когда в 1891 году умер ее муж, она слегла и 18 октября 1892 года скончалась.
Эпизоды внешней и внутренней политики России в конце 40-х годов XIX столетия
1848 год, начавшийся в Петербурге, как всегда, масленицей, балами и маскарадами, вскоре превратился в один из самых трудных и горестных для царской семьи годов. Он стал почти двойником 1831 года, когда в Россию пришла холера, а в Европу – революция. Теперь, спустя 17 лет, эти два бедствия вновь появились на исторической сцене неразлучными спутниками.
21 февраля Николай получил из Варшавы телеграмму, извещавшую, что Луи-Филипп отказался от престола, а 22 вечером, на балу у цесаревича Александра, император объявил о получении депеши, в которой сообщается, что Франция провозглашена республикой.
На следующий день во время доклада министра двора П. М. Волконского Николай сказал, что пошлет в Париж 300 тысяч солдат, но, как и в 1830 году, когда тот же Луи-Филипп оказался в результате революции на троне и Николай хотел поддержать законного претендента своими войсками, вовремя одумался. 14 марта был опубликован манифест, в котором говорилось, что, «возникнув сперва во Франции, мятеж и безначалие скоро сообщились сопредельной Германии и, разливаясь повсеместно с наглостью, возраставшею по мере уступчивости правительств, разрушительный поток сей прикоснулся, наконец, и союзной нам империи Австрийской и королевства Прусского. Теперь, не зная более пределов, дерзость угрожает в безумии своем и нашей, Богом нам вверенной России. Но да не будет так!»
И уже 19 марта началось выступление первых русских полков к западной границе. А вскоре там была развернута 33-тысячная армия, готовая по первому слову царя двинуться в Пруссию или Австрию, Венгрию или Францию. Однако в 1849 году армия Паскевича вошла только в Венгрию, подавив там революцию и сохранив в стране монархический режим дома Габсбургов. Во всех же других странах правящие режимы справились с бунтарями сами, не менее повстанцев опасаясь русских войск, которые, вернувшись в Россию, принялись за свои прежние дела – разводы, парады, смотры и маневры, не вынеся ровным счетом ничего из прошедшей кампании для боевой подготовки и модернизации вооружения.
Старый преображенец, генерал Н. К. Имеретинский писал, что по приходе в 1849 году из венгерского похода, когда были разбиты мятежники-мадьяры, «преображенцы опять принялись за свои гладкостволки, расстрелянные, разбитые, снаружи зачищенные кирпичом и внутри совершенно ржавые и негодные. А иностранные военные агенты особенно прилежно и неупустительно посещали смотры „практической стрельбы“. Много памятных книжек было написано на разных языках, и везде, во всех реляциях подробно описывалось, что в русской гвардии при стрельбе в цель на двести шагов из 200 выпущенных пуль лишь десятая часть попадает в мишень в одну сажень ширины и такой же высоты». И все же в глазах Николая и официальной военно-бюрократической элиты Российской империи только что одержанная победа над венгерскими инсургентами стала апофеозом могущества самодержавной власти.
Вскоре после победоносного возвращения из Венгрии, в 1850 году, был торжественно отпразднован четвертьвековой юбилей «благополучного царствования государя императора Николая I», которое во всех отчетах и приветственных адресах оценивалось как вершина славы и могущества России.
Подавление русскими войсками революции в Венгрии возродило среди крайних реакционеров Европы призрачную надежду восстановления Священного союза, тихо усопшего после революции 1830 года. В какой-то мере этому способствовали родственные связи Романовых с европейскими монархами. Двадцатилетний австрийский император Франц-Иосиф I, по выражению Е. В. Тарле, «был лишь русским генерал-губернатором, проживающим для удобства службы в городе Вене». Не столь откровенно, но все же достаточно сильно зависел от Николая и его шурин, прусский король Фридрих-Вильгельм IV – родной брат императрицы Александры Федоровны.
Конечно, этого было явно недостаточно, чтобы считать Россию самой сильной державой в мире, а ни на что другое Николай согласиться не мог. Однако иных союзников у Николая не было, и он раскладывал все тот же незатейливый пасьянс из трех-четырех карт.
Переговоры Николая с австрийским императором и прусским королем обеспечили России безопасность ее западной границы от Балтики до Карпат. И это развязывало Николаю руки как на западе, так и на востоке, ибо Австрия была соседкой Турции, а на союз с Австрией в 1851 году русский император мог рассчитывать при любой ситуации. И все же с начала 50-х годов на первый план для России выдвинулся так называемый «восточный вопрос». Этот термин вошел в дипломатический лексикон с 1822 года, когда впервые был употреблен на Веронском конгрессе, и обозначал комплекс международных противоречий, возникших в борьбе за территориальное наследство распадающейся Османской империи. К началу 50-х годов этот вопрос крайне обострился и стал играть важную роль в политике ведущих европейских держав.
Россия также не могла игнорировать «восточный вопрос». С одной стороны, было стремление освободить от османского ига угнетенных турками-мусульманами православных славян и греков. С другой – подрыв мощи Османской империи, угрожавший ей окончательной гибелью, мог повлечь за собой возникновение самостоятельных государств – республик или легитимных монархий, что не отвечало представлениям Николая о законности и порядке, а также пугало его совершеннейшей неопределенностью нового положения на территориях, принадлежащих султану. Поэтому Николай ставил перед собой задачу одержать победу над традиционным противником России – Турцией, сохранив при этом ее целостность. Однако в таком случае братские православные народы продолжали оставаться под иноземным владычеством и были обречены на национальную, религиозную и культурную дискриминацию.
После окончания русско-турецкой войны 1828—1829 годов и заключения Адриано-Польского мира, ставившего Россию в привилегированное положение по сравнению с другими державами, обострились отношения между Николаем и правительствами Англии и Франции. Еще более укрепились позиции России в 1833 году после подписания с султаном Ункяр-Искелесийского договора о дружбе и оборонительном союзе между двумя странами. Затем – в 1840 и 1841 годах – этот договор был заменен Лондонскими конвенциями, когда гарантами помощи султану, кроме России, стали Англия, Австрия, а затем еще Франция и Пруссия.
После этого Англия и Франция, промышленно хорошо развитые и конкурентоспособные, постепенно вытеснили Россию с рынков Ближнего Востока и подчинили себе Турцию и в экономическом, и в политическом отношениях, взяв под свое покровительство армию и флот султана и направив туда своих инструкторов и наставников. Таким образом и турецкая армия, до того полуазиатская, вооруженная оружием конца XVIII – начала XIX века, стала приближаться к европейским стандартам.
В области внутренней политики в сороковые годы были осуществлены два крупнейших мероприятия: завершена реформа Киселева о государственных крестьянах и проведена финансовая реформа Канкрина. Кроме того, успешно продолжалось осуществление Кодификации законов Российской империи, разработанной Сперанским в 20 – 30-е годы.
В связи с реформой о государственных крестьянах следует упомянуть о так называемых «картофельных бунтах», проходивших большей частью на территориях, заселенных государственными крестьянами, и оказавшихся для российского правительства изрядной неожиданностью. Ведь в России картофель не был диковинкой – его начали культивировать еще при Екатерине II, которая в 1765 году рекомендовала «сажать земляные яблоки, кои в Англии называются „потетес“, а в иных местах – земляными грушами, тартуфклями и картофелями». Однако Екатерина лишь рекомендовала картофель к культивации, а Николай – предписал, что и вызвало серию «картофельных бунтов» в Поволжье, Приуралье и на Севере, в которых участвовало полмиллиона крестьян – больше, чем в восстаниях Разина и Пугачева.
Бунты продолжались десять лет – с 1834 по 1844 год – и были жестоко подавлены войсками, причем количество убитых и сосланных в Сибирь исчислялось многими тысячами. И все же Николай победил – картошка стала вторым хлебом России.
Что же касается улучшения жизни крестьян, то здесь ни Николай, ни его министр Киселев ничего добиться не смогли, ибо в истории России правительство всегда преуспевало в насилии и погромах, столь же неизменно терпя неудачи в любых попытках что-либо улучшить. И будь Киселев семи пядей во лбу, он и тогда ничего не смог бы сделать, ибо объективный ход событий был не на его стороне.
И все же одна из реформ в царствование Николая – финансовая – была доведена до конца и увенчалась совершенным успехом. Эта реформа связана с именем чуть ли не единственного хорошо образованного министра – Егора Францевича Канкрина, литератора и экономиста, окончившего два университета и получившего политико-юридическое и инженерно-техническое образования. Даже необычность фамилии – Канкрин – была следствием его учености, ибо его предки носили фамилию Кребс, что по-немецки означает «рак», а Егор Францевич латинизировал это слово, как делали средневековые ученые-гуманисты, став Канкриным, так как по-латыни рак – «cancer». Отличался он от всех прочих министров своей честностью, аскетической простотой в быту, любовью к чтению и учено-литературному обществу.
Канкрин приехал в Россию двадцатидвухлетним и только в 1811 году, когда ему было уже сорок шесть лет, сделал первый удачный шаг, попав на глаза Барклаю-де-Толли и генералу Пфулю. В 1812 году он стал генерал-интендантом 1-й армии, а в 1813 – и всех российских войск. Он блестяще провел расчеты с союзниками, доказав несостоятельность их требований и выплатив за военные поставки всего 60 миллионов рублей вместо требуемых ими 360 миллионов.
В 1818 году он представил Александру I записку об освобождении крестьян, за что на три года практически был отстранен от службы. Но в 1821 году Александр, нуждаясь в Канкрине, ввел его в Государственный Совет, а еще через два года назначил министром финансов. Канкрин повел дело безукоризненно честно, наводя строжайшую экономию и решительно борясь с мошенниками и казнокрадами, чем нажил себе несусветное число врагов. Его спасло то, что Николай абсолютно доверял ему и оказывал Канкрину неизменную поддержку. Однако напор недоброжелателей был так силен, что в борьбе с ними Егор Францевич в 1841 году перенес инсульт, а еще через три года – второй. Но к этому времени Канкрин успел довести до конца главное дело своей жизни – введение в России денежной системы на основе серебряного монометаллизма.
Когда Канкрин стал министром финансов, ему досталось хозяйство, расшатанное непрерывными войнами, обусловленное отсталой экономической системой. Последствия Отечественной войны еще долго сказывались на состоянии России. Так, в 1814 году курс совершенно обесценившихся ассигнаций равнялся 20 копейкам серебра за рубль ассигнациями. Поэтому Канкрин в 1839—1843 годах провел денежную реформу, в основу которой был положен серебряный рубль, адекватный 3 рублям 50 копейкам ассигнациями. С 1843 года ассигнации начали постепенно изыматься из обращения, заменяясь на кредитные билеты. Это оздоровило русские финансы, и авторитет рубля укрепился и на международной арене. Однако проведение реформы было делом крайне трудным, и Канкрин, борясь с многочисленными ее противниками, тяжело заболел. По состоянию здоровья он был отправлен в отставку, а спустя год с небольшим, 9 сентября 1845 года, умер.
Главным девизом Канкрина было: «Не ломать, а улучшать», и он, исповедуя этот принцип, не отступал от пяти правил: 1) бережливость и экономия; 2) осторожность в пользовании государственным кредитом; 3) крайняя осторожность в установлении новых налогов; 4) поднятие отечественной промышленности; 5) упрочение денежной системы. Неизменно следуя этой программе, Канкрин в очень сложных обстоятельствах николаевского царствования развил и укрепил русскую финансовую систему, сделав российский рубль одной из престижных денежных единиц в Европе.
Современники отмечали, что Канкрин был единственным из российских министров, чья деятельность имела научную основу. Однако высшим принципом для него было соединение теории и практики, знание науки и понимание жизни.
Следует считать большим успехом и продолжение публикаций сборников новых документов, пополнявших Свод законов Российской империи, начатый Сперанским и продолженный небольшим, но высококвалифицированным коллективом его соратников и единомышленников.
Очень важными событиями, стоящими на границе внутренней и внешней политики, а точнее – принадлежащими и к той, и к другой, являлись и браки членов царской семьи, которых в этот период было заключено три – в 1844,46 и 48 годах.
Выше уже упоминалось о злосчастной судьбе Александры Николаевны, скончавшейся от чахотки через шесть месяцев после свадьбы в июле 1844 года, а также о бракосочетании Ольги Николаевны с кронпринцем Вюртемберга Фридрихом-Карлом в 1846 году. Теперь настало время рассказать о следующей свадьбе, состоявшейся в 1848 году.
Свадьба великого князя Константина Николаевича с герцогиней Саксен-Альтенбургской Александрой Фредерикой
6 февраля 1848 года состоялось обручение Великого князя Константина Николаевича с герцогиней Саксен-Альтенбургской Александрой Фредерикой.
Более полугода проходила подготовка к свадьбе. Как всегда, невеста готовилась к переходу в православие, учила и Символ веры, и православный катехизис, и разговорный русский язык, а ее уполномоченные и родственники уточняли брачный договор.
Активно помогала в подготовке и тетушка жениха, Великая герцогиня Саксен-Веймарская, тогда уже 62-летняя, но все еще полная сил Мария Павловна.
К этому времени представители династии Веттинов заняли престолы Бельгии (с 1831 года) и Великобритании (с 1840), когда принц Саксен-Кобург-Готский Альберт женился на королеве Виктории. Поэтому предстоящий брак Константина Николаевича с Саксен-Альтенбургской герцогиней Александрой Фредерикой не следовало воспринимать как акт, укреплявший родственные связи только с Саксонией.
30 августа 1848 года в Санкт-Петербурге состоялась свадьба, после которой восемнадцатилетняя Александра Фредерика стала называться Великой княгиней Александрой Иосифовной.
Александра Иосифовна прожила долгую жизнь и скончалась в 81 год, незадолго до Первой мировой войны.
У Константина Николаевича и Александры Иосифовны было четверо сыновей – Николай, Константин, Дмитрий, Вячеслав и две дочери – Ольга и Вера. Те из них, кто вступил со временем в брак, роднились только с представителями и представительницами немецких династий. Не была исключением и Ольга Константиновна, ставшая в 1867 году королевой Греции, ибо королем Греции – православной страны – был Георгиос I, лютеранин, происходивший из династии Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургов.
Однако о них будет рассказано позже, а пока вернемся в год 1848-й.
Что же представлял из себя Великий князь Константин Николаевич ко дню своей свадьбы?
Ему шел 21-й год, он был на девять лет младше своего старшего брата, наследника престола Александра Николаевича, уже семь лет женатого на Великой княгине Марии Александровне, в девичестве бывшей герцогиней Марией Гессен-Дармштадтской.
В день свадьбы император Николай произвел Константина Николаевича в контр-адмиралы и зачислил его к себе в свиту, и, надо сказать, вполне заслуженно.
Константина с детства готовили к морской службе. Его воспитателем был Фридрих Беньямин Литке – на русский лад Федор Петрович – выдающийся географ-мореплаватель и ученый, вице-адмирал, председатель Морского ученого комитета, возглавлявший два кругосветных путешествия и четыре экспедиции в Северный Ледовитый океан.
Великий князь Константин начал службу во флоте еще в детстве, а в 1847 году стал командовать фрегатом «Паллада», который позднее совершил знаменитое путешествие, описанное И. А. Гончаровым в очерках «Фрегат „Паллада“ (СПб., 1857).
И хотя сам Константин Николаевич за время службы во флоте в 1850—1877 годах командовал и отрядами, и эскадрами, и победоносно участвовал в восьми военных кампаниях, все же его истинным призванием с юности были военно-морская наука и география. Еще до свадьбы – в 1845 году, когда было ему всего 18 лет – он организовал «Русское географическое общество» и стал его председателем, а ученым секретарем был назначен Литке. В 1849 году Константин Николаевич стал членом Государственного Совета, на следующий год – членом Адмиралтейского совета и Совета военно-морских учебных заведений.
Все это позволило императору Николаю I в 1852 году назначить Константина Николаевича товарищем (заместителем) начальника Главного морского штаба.
Здесь неуместно пускаться в детали дальнейшей жизни Константина Николаевича, потому что его деятельность – весьма многогранная, охватившая царствование его отца Николая I, брата Александра II и племянника Александра III, и его роль в истории русского общества будут довольно подробно освещены в этой книге, когда речь пойдет о важнейших событиях второй половины XIX столетия.
Брачный союз великой княжны Екатерины Михайловны и великого герцога Мекленбург-Стрелицкого Георга-Августа
Герцогство Мекленбург долгое время играло важную роль в матримониальных делах династии Романовых.
В 1716 году Петр Великий отдал за его владыку свою племянницу Екатерину Ивановну, в скором времени сбежавшую от мужа в Санкт-Петербург с трехлетней дочерью, которая в России стала правительницей Анной Леопольдовной, свергнутой в результате дворцового переворота, руководимого дочерью Петра Елизаветой.
Второй раз герцогство Мекленбург появилось на сцене дома Романовых в 1799 году, когда император Павел I, преследуя военно-стратегические цели, выдал одну из своих дочерей, Елену Павловну, за наследника престола Мекленбургского герцогства Фридриха-Людвига.
А в 1851 году Николай I ввел в семью Романовых еще одного представителя мекленбургской династии – Великого герцога Мекленбург-Стрелицкого Георга-Августа.
Ранее ни Мекленбург-Шверинское, ни Мекленбург-Стрелицкое герцогства не назывались «Великими», но Георг-Август уже имел этот титул.
Что же изменилось к середине XIX века?
Историческая судьба земли Мекленбурга была сложной и драматичной, пока, наконец, два герцогства – Мекленбург-Шверинское и Мекленбург-Стрелицкое – за их стойкое противостояние Наполеону решением Венского конгресса 1815 года не были возведены в ранг двух Великих герцогств.
А в середине XIX века в Великом герцогстве Мекленбург-Стрелицком образовалась русская ветвь. Ее родоначальником стал герцог Георг Август Эрнест Адольф Карл Людвиг – второй сын Великого герцога Георга Фридриха Мекленбург-Стрелицкого. Великий герцог Георг-Август был родным племянником королевы Пруссии Луизы, дочь которой – Шарлотта Прусская, вышла замуж за Николая I и стала русской императрицей Александрой Федоровной. Это родство и предопределило матримониальные обстоятельства Великого герцога Мекленбург-Стрелицкого Георга-Августа: в 1851 году он женился на Великой княжне Екатерине Михайловне – двоюродной сестре Николая I, дочери младшего брата русского императора – Великого князя Михаила Павловича и его жены Великой княгини Елены Павловны – в девичестве принцессы Каролины Вюртембергской.
Великий герцог Георг Мекленбург-Стрелицкий родился 11 января 1824 года. Он получил хорошее домашнее образование, но не удовлетворившись им, окончил гимназию в Дрездене, затем – Боннский университет, после чего блестяще сдал экзамены на чин капитана артиллерии в армии Пруссии. Он служил ревностно и прослыл решительным врагом революции 1848 года, беспощадно подавлявшим ее. Он отказался выполнять приказ оставить Берлин и в знак протеста подал в отставку. Не дожидаясь ответа, Георг уехал в Стрелиц, затем – в Англию и наконец в июле 1850 года прибыл в Санкт-Петербург для того, чтобы сделать предложение племяннице Николая I – Великой княжне Екатерине Михайловне. Он был строен, высок ростом, хорош собой. Ему шел 27-й год, а его невесте – 24-й, и они были вполне подходящей парой.
Следует заметить, что в конце января 1845 года скончалась сестра Екатерины Михайловны 19-летняя Елизавета, а в начале ноября 1846 года – еще одна ее сестра, незамужняя Мария. Таким образом, предложение Георга было как нельзя кстати, ибо замужество Великой княжны Екатерины укрепляло надежду на продолжение рода.
Еще до официального сватовства Великому герцогу был пожалован орден Андрея Первозванного, а через два дня после этого присвоен чин генерал-майора артиллерии, и он был назначен командиром и шефом артиллерийской батареи в составе Первой конно-артиллерийской бригады.
Вслед за тем Георг или, как стали называть его теперь на русский лад, Георгий Георгиевич, вплотную занялся приготовлениями к свадьбе.
Накануне венчания – 3 февраля 1851 года – царь пожаловал ему алмазные знаки к ордену Андрея Первозванного, а на следующий день в Большой церкви Зимнего дворца молодых обвенчали.
В церкви Георга и Екатерину венчали по православному обряду, затем в одной из зал дворца еще раз по лютеранскому обряду.
Молодым отвели апартаменты в Михайловском дворце и предоставили прелестную Дудергофскую мызу.
В дальнейшем военная деятельность Георга Георгиевича оказалась тесно связанной с перевооружением русской армии, потерпевшей сокрушительное поражение в Крымской войне.
Расцвет его деятельности пришелся на царствование Александра II, в начале которого герцог только переступил тридцатилетний рубеж. Георг сторонился интриг и скромно исполнял свои служебные обязанности. Тем не менее, он дослужился до чина генерала от артиллерии и генерал-адъютанта.
Он умер от болезни почек 8 июня 1876 года и был погребен в Ораниенбауме, поскольку Ораниенбаум с его прекрасным дворцом, как и Каменно-островский дворец, с прилегающими к ним земельными угодьями, были подарены Николаем I Георгу Мекленбург-Стрелицкому и оставались в распоряжении его потомков до 1917 года.
Герцогская Мекленбург-Стрелицкая династия, точнее сказать – семья, разумеется, уже давно не правящая, существует и сегодня.[1]
Здесь вполне уместно будет прервать рассказ и обратиться к важным событиям первой половины 50-х годов – началу Крымской войны и смерти Николая I.
Крымская война 1853—1856 годов и самоубийство Николая I
Начнем с вопроса, что представляла собой армия России накануне Крымской войны?
Количественно русская регулярная армия, не считая иррегулярных казачьих войск, состояла из двух кавалерийских и девяти пехотных корпусов, в которых числилось 911 тысяч солдат и унтер-офицеров и 28 тысяч офицеров и генералов. Казачьи войска состояли из 250 тысяч рядовых и 3500 офицеров и генералов. Только 15 % офицеров имели специальное военное образование. Ахиллесовой пятой русской армии была ее техническая отсталость, – в то время как в европейских армиях основным видом стрелкового оружия стало нарезное, так называемое штуцерное, в России штуцерных ружей было по 6 штук на роту, а остальные солдаты были вооружены гладкоствольными ружьями начала века.
Артиллерийских орудий всех видов было 2300. И артиллерия тоже успела сильно отстать за долгое царствование Николая I. «Странно и поучительно, – писал генерал П. Х. Граббе, – что в общих мерах покойного государя, обращенных наиболее на военную часть, были упущены две такие важности, каковы введение принятых уже во всех западных армиях усовершенствований в артиллерии и в ружье; в особенности огромный недостаток пороха, что я узнал из уст самого государя и что, впрочем, везде и оказалось. Этому пособить было трудно».
Но особенно скверно обстояло дело со снабжением армии и с медицинским обслуживанием, что приводило к тому, что солдаты постоянно голодали, а смертность была невероятно высокой. Интендантство, медицинский департамент и даже благотворительные организации, призванные опекать больных, старых, сирот, вдов, ветеранов, превратились в прибежище воров и мошенников всех мастей и оттенков. Характерен случай, произошедший как раз в описываемое время.
1 февраля 1853 года Николаю доложили, что директор канцелярии инвалидного фонда Комитета о раненых Политковский похитил более миллиона рублей серебром. Николай был потрясен не столько размером хищения, сколько тем, что кража совершалась много лет подряд, а на балах и кутежах Политковского бывали не только многие министры и генерал-адъютанты, но и сам Л. В. Дубельт – начальник штаба корпуса жандармов.
Председателем же этого Комитета был генерал-адъютант Ушаков, облеченный особенным доверием императора. Когда военный министр князь В. А. Долгоруков ввел Ушакова к Николаю, только что узнавшему о величайшей краже, император протянул похолодевшую от волнения руку Ушакову и сказал: «Возьми мою руку, чувствуешь, как холодна она? Так будет холодно к тебе мое сердце».
Все члены Комитета о раненых были преданы военному суду. Негодование Николая было столь глубоко, а печаль столь безысходна, что «государь занемог от огорчения и воскликнул: „Конечно, Рылеев и его сообщники со мной не сделали бы этого!“
Повальное, безудержное казнокрадство, чудовищная канцелярская рутина, безнадежная техническая отсталость армии и флота – парусного, деревянного – были неотвратимым историческим итогом и следствием общего застоя в развитии всего народного хозяйства страны, ее промышленности, консерватизма социальных отношений, средневековья в сельском хозяйстве. Это наглядно продемонстрировала Первая Всемирная выставка, открывшаяся в Лондоне 1 мая 1851 года.
В ней участвовали 39 стран, в том числе и Россия. Из 800 тысяч экспонатов только 400 были из России. Это равнялось 0,005 %. Россия выставила сырье, продукцию сельского хозяйства, ткани и холодное оружие.
Посетители выставки отметили манную и гречневую каши и были поражены дотоле совершенно неизвестной черной икрой.
Что это значило по сравнению с подлинными чудесами науки, техники и передового производства, демонстрируемыми европейскими странами?
Но царь и его окружение не придавали всему этому большого значения. Описывая красносельские маневры 1852 года «отцу-командиру» Паскевичу, Николай сообщал: «Чужестранцы (присутствовавшие на маневрах генералы и офицеры иностранных армий. – В. Б.) просто осовели, они даже остолбенели, – им это здорово понравилось. Смотрами и учениями гвардии я отменно доволен». Однако довольным можно было быть только показной стороной маневров – внешним блеском, печатаньем шага, громом оркестров; но тем же «чужестранцам» бросалось в глаза и то, что в 1852 году маневры и парады проводились беспрерывно, превращаясь в откровенную демонстрацию русской военной силы, и что при этом почетными гостями были многочисленные австрийские и прусские офицеры и генералы. Все это настораживало английских и французских дипломатов, не исключавших того, что дело идет к войне, – требовался лишь достаточно убедительный повод для этого. И такой повод, а лучше сказать предлог, появился. Еще в мае 1851 года французский посол в Константинополе маркиз Шарль Лавалетт начал настойчиво добиваться от турецкого правительства признания преимуществ католиков перед православными в священных городах Палестины – Иерусалиме и Вифлееме. Франция поддержала католиков, Россия – православных, а так как Палестина принадлежала Турции, то ключ решения этой проблемы находился в руках султана Абдул-Меджида, который был настроен не в пользу России.
9 января 1853 года Николай принял английского посла сэра Сеймура и откровенно изложил ему план раздела Османской империи. Россия претендовала на Молдавию, Валахию, Сербию и Болгарию, а Англии Николай предложил Египет и Крит. Сама же Турция должна была остаться единой и неделимой, не находясь под властью ни одной из держав. Вслед за тем в феврале 1853 года в Константинополь отправился А. С. Меншиков, потребовавший от султана, чтобы все православные Османской империи были переданы под покровительство царя. Турецкое правительство ультиматум отвергло и попросило Англию и Францию ввести в Дарданеллы свои военные корабли. В ответ русские войска вошли в Молдавию и Валахию, находившиеся под номинальным суверенитетом Турции. 4 октября 1853 года, с согласия и при поддержке Англии и Франции, Абдул-Меджид объявил России войну, которая продолжалась два с половиной года и вошла в историю под именем Восточной, или Крымской, войны, так как важнейшим театром военных действий с сентября 1854 года стали Крым и его главная крепость – Севастополь. Однако, прежде чем войска противника оказались в Крыму, боевые действия развернулись на Дунае и в Закавказье.
* * *
23 октября 1853 года русские войска Дунайской армии князя Михаила Дмитриевича Горчакова атаковали у селения Старые Ольтеницы переправившийся через Дунай большой турецкий отряд, но были отбиты – «атака провалилась, потому что она была плохо соображена и во всех отношениях плохо проведена», – писал впоследствии А. С. Меншиков. А 25 декабря русские потерпели еще одно поражение – у Четати, по мнению офицеров, виной тому был «общий план» самого Горчакова, хотя и солдаты, и офицеры дрались отчаянно и вели себя безукоризненно. Однако доверие к генералам было уже на первом этапе войны подорвано.
В Закавказье только армянский князь, генерал Бебутов, одержал победу над турками.
Значительно более успешными были действия на море.
18 ноября 1853 года победу над турками одержал вице-адмирал Павел Степанович Нахимов. Он, командуя эскадрой из восьми кораблей, заблокировал турецкий флот из шестнадцати кораблей, стоявший в порту Синоп, и сжег его.
Не желая допустить господства русских на Черном море, 23 декабря англо-французский флот вышел из Босфора и перерезал русские коммуникации между Варной и Одессой. В связи с этим Россия 9 февраля 1854 года объявила войну Англии и Франции. Новый, 1854 год начался удачным наступлением войск Горчакова.
11 марта 45 тысяч солдат и офицеров при 168 орудиях форсировали Дунай и вошли в Северную Добруджу (современная Румыния). Союзники ответили бомбардировкой с моря Одессы, а затем высадили у Варны 70-тысячный десант и блокировали Севастополь эскадрой из ста кораблей, причем более половины из них были паровыми. Русский же флот насчитывал 26 кораблей, 20 из которых были парусными. Однако действия англо-французского флота этим не ограничились: их эскадры двинулись в Балтийское море – к Свеаборгу и Кронштадту, в Северное море – к Архангельску и Соловкам и даже к Петропавловску-на-Камчатке.
К этому времени изменилось и отношение к России Австрии, Пруссии и Швеции, что заставило Николая держать на западных границах России главные силы своей армии. На Дунае из-за вступления Австрии в войну на стороне союзников русские войска оставили Молдавию и Валахию и отошли за Прут.
Благодаря еще одному успеху войск Бебутова, одержанному 24 июля 1854 года под Кюрюк-Дара, турецкая армия отступила в город Карс, расположенный на территории Турции, и, таким образом, Закавказский театр военных действий перестал существовать.
А 2 сентября союзники начали высадку десанта в Крыму. У Евпатории сошло на берег 62 тысячи английских, французских и турецких солдат и офицеров при 134 орудиях, навстречу которым командующий русскими войсками в Крыму А. С. Меншиков двинул 33 тысячи человек при 96 орудиях. 8 сентября противники сошлись на берегу реки Альмы. После исключительно упорного и кровопролитного сражения русские отступили к Бахчисараю, оставив без прикрытия Севастополь, чем сейчас же воспользовались союзники и осадили город с юга. 13 сентября 1854 года началась героическая 349-дневная оборона Севастополя, длившаяся до 28 августа 1855 года и считающаяся одной из наиболее славных страниц в истории русской армии и флота.
…Николай I с самого начала войны пытался руководить ходом событий на всех ее фронтах, а когда началась осада Севастополя, он ежедневно посылал Меншикову одно-два письма, в которых вникал во все мелочи кампании, проявляя детальное знание и людей, и обстановки. Николай давал советы, как следует строить укрепления вокруг Севастополя, чем отвечать на бомбардировки города, каким образом отбивать штурмы. И время шло, а Севастополь стоял нерушимо, хотя все новые и новые дивизии союзников высаживались в Крыму. Из России туда тоже непрерывным потоком шли войска. Но Николай предчувствовал бесплодность своих усилий и метался, не зная, что предпринять.
Зимой 1854 года император вместе с больной Александрой Федоровной на время переехали в Гатчину, где, не желая никого видеть, долгие часы проводили наедине. Тоска Николая усугублялась и тем, что снова, в который уж раз, императрица тяжело заболела, и врачи даже опасались за ее жизнь. А. Ф. Тютчева, бывшая вместе с царской четой в Гатчине, записала в дневнике 24 ноября: «Со времени болезни императрицы, при мысли о возможности ее смерти, несчастный император совершенно утратил бодрость духа. Он не спит и не ест. Он проводит ночи в комнате императрицы, и так как больную волнует мысль, что он тут и не отдыхает, он остается за ширмами, окружающими кровать, и ходит в одних носках, чтобы его шаги не были слышны. Нельзя не быть глубоко тронутым при виде такой чисто человеческой нежности в этой душе, столь надменной по внешности. Господь да сжалится над ним и да сохранит ему самое дорогое для него существо в ту минуту, когда у него уже все отнято». Очевидность того, что у Николая «уже все отнято» бросалась в глаза обитателям Гатчины. В тот же день Тютчева записала: «Гатчинский дворец мрачен и безмолвен. У всех вид удрученный, еле-еле смеют друг с другом разговаривать. Вид государя пронизывает сердца. За последнее время он с каждым днем становится все более и более удручен, лицо озабочено, взгляд тусклый. Его красивая и величественная фигура сгорбилась, как бы под бременем забот, тяготеющих над ним. Это дуб, сраженный вихрем, дуб, который никогда не умел гнуться и сумеет только погибнуть среди бури».
Перспективу «погибнуть среди бури» Николай оставлял не только для себя. Он, несомненно, сильно любивший своих сыновей, послал двоих младших – Николая и Михаила – в действующую армию, чтобы воодушевить солдат и показать России, что он любит свою страну больше родных сыновей. К этому времени Николаю было 23 года, а Михаилу – 21. Их военное образование, как, впрочем, и общее, было закончено.
В 1850 году 19-летний, Николай Николаевич был уже шефом двух полков, полковником и флигель-адъютантом. С разницей в один-два года повторял служебные успехи старшего брата и Михаил. Оба они в 1850 году совершили путешествие по России, а в 1852 – по Европе. В этом же году Николай Николаевич стал генерал-майором и членом Государственного Совета, правда с весьма существенной оговоркой: отец-император обязал его, присутствуя в Совете, в решении дел никакого участия не принимать.
Но в делах военных оба Великих князя принимали активное практическое участие с детства. Особенно успешно шли дела у старшего, искренне любившего и хорошо знавшего инженерное дело. С началом войны оба брата деятельно трудились в окрестностях Петербурга, ибо с моря и столице, и Кронштадту угрожала реальная опасность.
Боевое крещение Николай и Михаил получили в Севастополе, куда прибыли 23 октября 1854 года. Они вели себя образцово – не кланялись пулям и не отсиживались в штабах. Они бы оставались в Севастополе и дальше, но из-за тяжелой болезни матери по приказу Николая выехали в Петербург. 11 декабря братья прибыли в Гатчину. Всем, кто их видел за два месяца перед тем, когда они выезжали в действующую армию, Великие князья показались повзрослевшими и посерьезневшими. Они чистосердечно рассказывали отцу и матери о своих впечатлениях и очень приободрили императрицу. Несмотря на радость встречи, Александра Федоровна была недовольна, что они уехали из армии и почти сразу же сказала: «Очень радостно увидеться, это даст нам силы для новой разлуки». Императрица победила в ней мать.
И разлука наступила вскоре же: Великие князья, не дождавшись Нового года, выехали обратно в Севастополь. С ними вместе был отправлен и флигель-адъютант полковник Волков с личным письмом Николая, в котором император требовал взять Евпаторию, куда, как он опасался, может высадиться сильный вражеский десант и армия Меншикова окажется отрезанной от континентальной части империи.
Меншиков поручил взятие Евпатории 19-тысячному отряду генерала С. А. Хрулева. Нападение на город было произведено 5 февраля 1855 года в 6 часов утра, а в 10 часов утра все русские орудия были подтянуты к Евпатории на 150 саженей и открыли огонь картечью, начав подготовку к штурму. Штурм вскоре начался, но был отбит, и Хрулев, узнав к этому времени, что гарнизон Евпатории состоит из 40 тысяч человек, приказал отступать, чтобы не терять напрасно людей.
* * *
Известие о неудаче под Евпаторией пришло в Петербург 12 февраля. Николай принял депешу от Меншикова, лежа в постели. Точнее, на походной кровати, застланной тощим старым матрацем, укрытый поношенной шинелью с красной генеральской подкладкой, залатанной в нескольких местах.
За неделю до этого Николай заболел, как считали врачи, легкой формой гриппа и, по их совету, до 9 февраля не выходил из Зимнего дворца – морозы в эти дни превышали 20 градусов.
А меж тем из-под Севастополя шли известия одно хуже другого, из-за чего император сильно нервничал и пребывал в постоянном унынии. Придворные понимали, что близящееся военное поражение заставит Николая сесть за стол переговоров в качестве побежденного, чего он не сможет перенести. Николай стал раздражительным, несдержанным, склонным к необдуманным решениям. И одним из таких совершенно неожиданных решений стало странное желание больного императора выехать утром 9 февраля на смотр маршевых батальонов. Причем Николай приказал подать себе не теплую шинель, а легкий плащ и, как обычно, открытые сани.
Доктор Ф. Я. Каррель сказал императору: «Ваше Величество, в вашей армии нет ни одного медика, который позволил бы солдату выписаться из госпиталя в таком положении, в каком вы находитесь, и при таком морозе в 23 градуса». Наследник и слуги стали просить Николая хотя бы одеться потеплее, но он сел в сани и умчался в манеж, где было так же холодно, как и на улице. Николай пробыл там несколько часов, а потом долго еще ездил по городу и приехал домой совершенно больной и с высокой температурой, которая держалась всю ночь. И тем не менее, на следующее утро он снова выехал в манеж инспектировать маршевые батальоны, хотя мороз стал еще сильнее, а кроме того, поднялся пронизывающий ветер. Вернулся Николай совершенно больным и тотчас же свалился в постель. И все же могучий организм победил. 12 февраля он, несмотря на температуру, уже принимал с докладами и среди прочих сообщений узнал о том, что накануне в Инженерном замке, в Макетном зале, где стояли макеты всех крепостей России, – в том числе и макет Севастополя, – видели двух иностранцев, попавших туда неизвестно каким образом и свободно срисовывавших план города и крепости.
Макетный зал считался совершенно секретным, и ключ от него находился у коменданта Инженерного училища, старого заслуженного генерала А. И. Фельдмана, причем ему категорически было запрещено пускать в зал кого-либо из посторонних. Ко всему прочему, один из офицеров, бывших в зале, не задержал иностранцев, а просто предложил им уйти из училища, что те немедленно и исполнили.
Николай, узнав об этом, пришел в страшную ярость и помчался в Инженерный замок. Едва переступив порог, он стал кричать, и, когда прибежал испуганный Фельдман, то слова «безмозглая скотина» и «старый идиот» были самыми пристойными, какие он услышал от царя. Все это император высказал при офицерах и юнкерах и выскочил за порог, не попрощавшись, как и вошел, не поздоровавшись. Военные инженеры много раз встречались с Николаем, видели его в разных ситуациях, но столь разъяренным – никогда.
Совершенно расстроенный, император вернулся в Зимний дворец, где его ожидало еще одно, более подробное сообщение из Крыма о неудаче, постигшей Хрулева под Евпаторией. Первым побуждением Николая было снять с поста командующего Меншикова, которого он считал главным виновником случившегося, и назначить на его место М. Д. Горчакова с сохранением за ним и прежней должности главнокомандующего. Однако в этот день он сдержался.
Известие о падении Евпатории буквально подкосило Николая. Он бродил по залам Зимнего дворца, горестно восклицая: «Бедные мои солдаты! Сколько жизней принесено в жертву даром!»
Картины осажденного Севастополя, к бастионам которого подходили все новые и новые силы союзников, постоянно стояли перед глазами Николая. Именно 12 февраля, когда он узнал о поражении под Евпаторией, император впервые не принял министров, пришедших к нему с докладами, и за весь день не прикоснулся к пище. В ночь на 13-е он то бродил по залам дворца, то молился, но ни на минуту не сомкнул глаз. С этого времени Николай перестал спать, никого не желал видеть и порой глухо рыдал, стараясь заглушить звуки плача. Он понимал, что гибнет дело всей его жизни, но не мог ничего сделать.
Впоследствии, анализируя главную причину крушения николаевского режима, академик В. О. Ключевский писал: «Николай поставил себе задачей ничего не переменять, не вводить ничего нового в основаниях, а только поддерживать существующий порядок, восполнять пробелы, чинить обнаружившиеся ветхости с помощью практического законодательства и все это делать без всякого участия общества, даже с подавлением общественной самостоятельности».
Вечером 14 февраля 1855 года прибыл очередной курьер из Севастополя с депешей от Меншикова, в которой подробно излагалась история неудачи под Севастополем, а на следующий день Меншиков был отставлен. Побудительным толчком к отставке Меншикова послужило письмо Николая Николаевича, в котором он просил у отца-императора заменить Меншикова Горчаковым. Это письмо пришло не просто от сына к отцу, но от генерала, который с 20 января 1855 года отвечал за инженерное обеспечение и оборону большого участка северной стороны Севастополя, от генерала, о котором давали превосходные отзывы люди, в искренность и честность которых царь еще верил.
Отставка Меншикова была последней акцией Николая. После 15 февраля болезнь хотя и не отступала от Николая, но и не усиливалась. Во всяком случае, лейб-медик М. Мандт 17 февраля считал состояние больного удовлетворительным. Возле императора неотступно находился другой его врач, Каррель. В три часа ночи на 18 февраля Николай вдруг попросил Карреля оставить его и позвать Мандта.
Впоследствии Мандт, уехав из Петербурга в Германию, рассказывал то, что с его слов знали очень немногие, самые близкие его друзья, оставшиеся в России. Он говорил, что, придя к Николаю, застал императора в состоянии безысходной депрессии, и больной, подозвав его к себе, сказал:
– Был ты мне всегда предан, и потому хочу говорить с тобой доверительно – исход войны раскрыл ошибочность всей моей внешней политики, но я не имею ни сил, ни желания измениться и пойти иной дорогой: это противоречило бы моим убеждениям. Пусть мой сын после моей смерти совершит этот поворот. Ему это сделать будет легче, столковавшись с неприятелем.
– Ваше величество, – возразил царю Мандт, – Всевышний дал вам крепкое здоровье, и у вас есть силы и время, чтобы поправить дело.
– Нет, исправить дела к лучшему я не в состоянии и должен сойти со сцены. С тем и вызвал тебя, чтоб попросить помочь мне. Дай мне яд, который позволил бы расстаться с жизнью без лишних страданий, достаточно быстро, но не внезапно, чтобы не вызвать кривотолков.
Мандт отказывался сделать это, но Николай все же настоял на своем и заставил врача дать ему медленно действующий яд. Выпив смертельное снадобье, Николай позвал к себе цесаревича и долго беседовал с ним, наставляя Александра на царствование.
Александр вышел от умирающего отца весь в слезах, но никогда никому не передавал своего последнего разговора с Николаем.
Предсмертное распоряжение Николая было вполне в его духе – он приказал одеть себя в мундир и привести к нему своего старшего внука – старшего сына цесаревича Николая Александровича. Испуганный двенадцатилетний мальчик опустился на колени перед кроватью грозного деда, чтобы выслушать краткую сентенцию из двух слов: «Учись умирать!» Последнее напутствие внуку оказалось пророческим: Великий князь Николай Александрович не достиг уготованного ему трона – он умер в 1865 году, не дожив до двадцати двух лет.
Цесаревич, призванный к постели умирающего отца, записал ход событий следующим образом: «Мандт (пришел) за мной. Государь спросил Бажанова (священника, духовного отца императрицы. – В. Б.). Причастился при нас всех. Голова совсем свежая. Удушье. Сильные мучения. Прощается со всеми – с детьми, с прочими. Я на коленях, держу руку. Жал ее. К концу чувствуется холод. В четверть первого все кончено. Последние ужасные мучения». Незадолго перед концом к императору вернулась речь, которая, казалось, совершенно покинула его, и одна из его последних фраз, обращенных к наследнику, была: «Держи все – держи все». Эти слова сопровождались энергичным жестом руки, обозначавшим, что держать нужно крепко», – рассказывала жена цесаревича Мария Александровна, тоже присутствовавшая при кончине императора.
* * *
…После того как Николай I умер, была распространена официальная версия, что причиной смерти явилась пневмония, развившаяся как осложнение после гриппа. Однако тут же, как всегда, появилась и другая версия: якобы император был отравлен Мандтом по категорическому настоянию самого Николая.
Эта версия получила серьезное подтверждение от современников, которые могут считаться добросовестными и хорошо информированными людьми, но в исторической литературе распространения не получила, хотя является совершеннейшей правдой.
Александр Второй. Первые шаги нового императора
19 февраля 1855 года новый император Александр II, выступая в Государственном совете, сказал: «Покойный родитель в последние часы жизни сказал мне: „Сдаю тебе мою команду, но, к сожалению, не в таком порядке, как желал, оставляю тебе много трудов и забот“.
На первых порах эти многие «труды и заботы» оказались непосильными для Александра. А. Ф. Тютчева, внимательно наблюдавшая за царской четой, менее чем через год – в январе 1856 года – записала: «Император – лучший из людей. Он был бы прекрасным государем в хорошо организованной стране и в мирное время, где приходилось не только охранять. Но ему недоставало темперамента преобразователя. У императрицы тоже нет инициативы… Они слишком добры, слишком чисты, чтобы понимать людей и властвовать над ними. В них нет той мощи, того порыва, которые овладевают событиями и направляют их по своей воле; им недостает струнки увлечения… Сам того не ведая, он (Александр II) вовлечен в борьбу с могучими силами и страшными стихиями, которых он не понимает».
Тютчева и сама не понимала, какой страшной, но вместе с тем исключительно точной пророчицей, подлинной ясновидящей, она оказалась.
Александр всю жизнь был вовлечен «в борьбу с могучими силами и страшными стихиями», которые через четверть века погубили его.
Новому императору досталось тяжелое наследство: 28 августа 1855 года после генерального штурма союзников русские оставили южную сторону Севастополя, взорвав пороховые погреба и затопив последние корабли. Героическая оборона, продолжавшаяся 349 дней и стоившая России более ста тысяч жизней, закончилась.
Но Александр решил бороться дальше. Почти сразу после падения Севастополя в Николаев для приведения города в оборонительное состояние уехали Великие князья Константин и Николай, а 13 сентября туда же прибыл царь с младшим братом Михаилом. Поблизости шла война, англо-французский флот из 90 кораблей дрейфовал перед Одессой, а десант союзников высадился под Очаковом и занял Кинбурн. Александр из Очакова сам наблюдал за маневрами флота, а Великие князья организовывали в это время оборону Николаева. Михаил возглавлял артиллерию, а Николай – инженерные работы. В конце октября Александр с братьями прибыл в Крым, категорически запретив какую бы то ни было встречу, и четыре дня объезжал позиции, интересуясь истинным положением дел и подлинным состоянием войск. Он много и часто общался с солдатами, а уезжая, отдал приказ всех участников обороны Севастополя наградить серебряной медалью на георгиевской ленте с надписью «За защиту Севастополя».
Однако царь понимал, что война проиграна и следует подумать о заключении мира.
После нескольких попыток прозондировать возможность заключения мира без выплаты Россией контрибуции и территориальных уступок Александр II 20 декабря 1855 года созвал совещание ближайших своих сановников – Нессельроде, военного министра Долгорукова, Киселева, Орлова, Воронцова, статс-секретаря графа Блудова и Константина Николаевича – Военно-морского министра, чтобы принять решение, на каких условиях и каким образом должен быть заключен мир. П. Д. Киселев заявил, что перспективы победить союзников у России нет и дальнейшие кампании только ухудшат ее положение. Большинство присутствовавших высказались так же.
3 января 1856 года состоялось второе совещание, оказавшееся еще более единодушным, и Александр согласился приступить к мирным переговорам, которые начались в Париже 13 февраля и продолжились до 18 марта. Россия возвратила Карс, а союзники оставили Севастополь; Черное море объявлялось нейтральным; все державы дали обязательство не вмешиваться в дела Турции, – такими были главные итоги Парижского мирного договора. Стабилизировав внешнеполитическое положение России, Александр тотчас же приступил к приведению в устойчивое состояние и дел внутриполитических.
Серьезно было изменено правительство России: бывшие министры Николая I уступили место более либеральным и более прогрессивно мыслящим коллегам.
Весной Александр со всеми тремя братьями поехал в Финляндию, а затем в Варшаву, куда съехались члены императорской фамилии, представители коронованных особ и сами эти особы из разных стран Европы.
Великолепные балы сменялись не менее великолепными пиршествами, и Александр, желавший очаровать поляков и хорошо умевший это делать, на сей раз ограничился лишь тем, что разрешил революционерам-эмигрантам вернуться на родину, но категорически отверг какие бы то ни было попытки отделения Польши от России. «Будьте же, господа, действительно соединены с Россией и оставьте всякие мечты о независимости, которые нельзя ни осуществить, ни удержать. Сегодня повторяю вам опять: я убежден, что благо Польши, что спасение ее требует, чтобы она соединилась навсегда, полным слиянием, с славною семьею русских императоров, чтобы она обратилась в неотъемлемую часть великой всероссийской семьи». Это первое выступление Александра по польскому вопросу стало его принципиальной программой, которой он придерживался на протяжении всего своего царствования.
Пробыв в Варшаве шесть дней, Александр на четыре дня заехал в Берлин, где в его честь были проведены военные смотры, учения и парады. 29 мая царь вернулся в Петербург, а 14 августа вся царская семья выехала на коронацию в Москву.
* * *
Что же представлял из себя новый русский царь накануне коронации?
Ему было 38 лет, он был отцом четырех сыновей – Николая, Александра, Владимира и Алексея и дочери – Марии. Старшему сыну сравнялось 12 лет, Марии шел третий год. Все братья и сестры царя были младше него, и он мог бы считаться старшим в семье, если бы не вдовствующая императрица-мать, 58-летняя Александра Федоровна. Из девяти братьев и сестер его покойного отца в живых оставались лишь две тетки Александра – Великая герцогиня Саксен-Веймарская Мария Павловна и королева Нидерландов, тоже уже давно вдовствующая, Анна Павловна. Таким образом, Александр, как старший из мужчин, был бесспорным главой дома Романовых.
Александр вступил в пору государственной зрелости. После женитьбы по воле отца он стал членом трех комитетов: Финансового, Кавказского и Комитета министров. С 1845 года Александр, в отсутствие отца, оставался первым лицом государства. Параллельно с государственной шла и его военная служба – в 1846 году он стал генералом от инфантерии, пройдя перед тем все предшествующие звания.
В июне 1849 года Александр был назначен командиром гвардейского пехотного корпуса, который уже шел на подавление венгерской революции. Но командир оказался не на полях сражений, а рядом со своим отцом, который руководил всеми военными операциями, находясь в Варшаве. Зато, когда Паскевич разгромил венгерскую армию, к императору Францу-Иосифу поехал Александр с официальным поздравлением от императора Николая.
Но все-таки первым лицом в Вене был не цесаревич, а фельдмаршал и светлейший князь Иван Федорович Паскевич. К этому времени князь, безусловно, был самым доверенным человеком императора, глубоко им уважаемым и почитаемым. Александр выехал в Вену 2 августа 1849 года, а через два дня Николай издал специальный приказ по армии, которым повелевал воздавать Паскевичу точно такие же почести, как и царю. А двумя годами позже, в дни празднования 25-летия со дня восшествия на престол, царь сказал Паскевичу: «При грустных предзнаменованиях сел я на престол русский и должен был начать мое царствование казнями, ссылками… У меня не было людей преданных. Я остановился на тебе – само провидение мне указало на тебя!… Война в Польше! Новое испытание – испытание грустное. Дела наши были плохи! И снова я ухватился за тебя, Иван Федорович, как за единственное спасение России! Иван Федорович! Ты – слава моего двадцатипятилетнего царствования, ты – история царствования Николая I».
К моменту приезда Александра в Вену Паскевич был уже фельдмаршалом не только русской, но и австрийской и прусской армий, олицетворяя незыблемость монархических начал и строгость по отношению к мятежникам, хотя сам он был против казней руководителей восстания. При его поддержке Александру удалось добиться отмены смертной казни даже венгерскому главнокомандующему Артуру Гергею, который был интернирован в Австрию, но потом вернулся в Венгрию. Ему суждено было дожить до 98 лет и умереть в 1916 году, незадолго до Февральской революции.
А Александра ожидало новое повышение по службе: 28 августа 1849 года от холеры умер Великий князь Михаил Павлович, и Александру, как старшему по званию в гвардии, предстояло занять освободившуюся вакансию. Он стал главнокомандующим гвардией и Гренадерским корпусом и начальником всех военно-учебных заведений.
В 1850 году Александр совершил большое путешествие на юг, посетив Севастополь, Северный Кавказ, а затем и Закавказье – Тифлис и Кутаиси, Эривань и Эчмиадзин, Баку и Дербент. На левом фланге Кавказской линии, возле еще не покоренной Чечни, 26 октября произошло его боевое крещение. В этот день Александр выехал из Воздвиженской крепости в Ачхай, сопровождаемый наместником Кавказа, князем Воронцовым, с усиленным конвоем из нескольких сотен казаков, двух рот пехоты и артиллерией. Цесаревич ехал с авангардом, как вдруг заметил группу чеченцев и, не сказав ни слова, дал шпоры коню и помчался к неприятелю. Следом за ним помчался его конвой, свита, но под Александром был великолепный, кровный скакун, и его соратники не могли поспеть за ним. Чеченцы открыли огонь, но, увидев, с какими силами придется иметь дело, начали отступать. Однако их окружили, почти всех перебили и поднесли Александру оружие их погибшего начальника. Конечно, поступок Александра был чистой воды легкомыслием, но Воронцов в письме Николаю представил его подвигом и попросил наградить цесаревича орденом Георгия 4-й степени, что и было сделано.
13 ноября новоявленный георгиевский кавалер вернулся в Царское Село, а еще через две недели уже участвовал в Орденском празднике святого Георгия.
Вскоре после возвращения с Кавказа Александр был назначен в состав комитета, который должен был рассмотреть вопрос о целесообразности присоединения к России Приамурья. В 1850 году капитан Г. И. Невельской, выполняя приказ Сибирского генерал-губернатора Н. Н. Муравьева, спустился вниз по Амуру и в его устье заложил военный пост Николаевск, подняв над ним российский государственный флаг. Однако петербургские сановники, и прежде всего Нессельроде и Чернышев, опасаясь осложнения отношений с Китаем и Англией, признали инициативу Муравьева несвоевременной и рискованной. К счастью, сам Муравьев приехал в Петербург, встретился с Александром и сумел убедить его в перспективности и полезности совершенного им и Лисянским предприятия, после чего цесаревичу стало гораздо легче склонить членов комитета к защите точки зрения Муравьева.
Следующим важным государственным делом для Александра оказалось участие в делах Крымской войны. Он выполнял самые разные поручения Николая, а в последние дни его жизни нашел в себе силы взять бразды правления в свои руки.
Итак, в Москву на коронацию отправлялся достаточно опытный в государственных делах человек, по меркам того времени, уже и немолодой – Александру шел 39-й год, – искушенный в делах административных, военных, и дипломатических.
14 августа царская семья прибыла на Николаевский вокзал и отправилась в Москву.
* * *
Впервые коронационный выезд осуществлялся по железной дороге. Но не только это было новацией в предстоящих торжествах. После трех дней пребывания в Петровском дворце, расположенном у въезда в Москву, 17 августа Александр, вся его семья и блестящая свита въехали на Тверскую улицу, которую называли также и «Царской» из-за традиционных торжественных въездов в столицу царствующих особ.
Александр въехал в Москву под звон колоколов и грохот пушек, окруженный братьями и двумя старшими сыновьями – тринадцатилетним Николаем и одиннадцатилетним Александром – будущим императором Александром III. Начиная с 23 августа три дня в Москве шли народные гулянья и угощение простого народа. 26 августа в Успенском соборе прошла коронация, со строгим соблюдением всего «чина». Вел торжество семидесятичетырехлетний Филарет.
С самого начала все шло как нельзя лучше, но вдруг старик Горчаков, стоявший с державой на бархатной подушке, зашатался, потерял сознание и упал, выронив подушку. Держава со звоном покатилась по мраморному полу. Присутствующие ахнули, считая произошедшее верным признаком несчастья. Александр же не переменился в лице, а когда коронация кончилась, сказал Горчакову: «Не беда, что свалился. Главное, что стоял твердо на полях сражений». Так вспоминал этот эпизод, сохранившийся как семейное предание, правнук Горчакова Аркадий Столыпин.
По примеру прежних царствований были розданы чины, титулы и «многие милости».
А. Ф. Орлов, председатель Государственного совета и Комитета министров, недавно подписавший в Париже мир с союзниками, был возведен в княжеское достоинство. Князь М. С. Воронцов стал фельдмаршалом, четыре сановника – графами. Царь на три года отменил рекрутские наборы, простил недоимки, амнистировал или облегчил участь почти всех преступников, в том числе декабристов и петрашевцев. Всем амнистированным было разрешено возвратиться вместе с семьями из ссылки и жить, где пожелают, кроме Петербурга и Москвы. Им возвращалось дворянство, а князьям, графам и баронам и их титулы, а также конфискованные по суду имения. Среди тех, кто вернулся из ссылки, был и Ф. М. Достоевский. Отдельным актом были отменены высокие пошлины на заграничные паспорта, введенные Николаем и препятствовавшие выезду за границу.
Радость и надежды на лучшее будущее воскресли в сердцах многих людей, но более всего воодушевлены были начинаниями нового императора те, кто занимал крайне враждебную позицию по отношению к его отцу – Николаю I. И среди таковых не был исключением даже «Неистовый Искандер» – Герцен.
* * *
29 апреля 1857 года Мария Александровна родила пятого сына, Сергея, которому предстояла такая же участь, что и самому Александру II, – пасть от руки убийцы, но об этом – в свое время. И завершая эту скорбную линию, добавим, что и последний его сын, Павел, кому суждено будет родиться через три года – 21 сентября 1860 года, тоже окажется жертвой насилия: он будет расстрелян в Петрограде 28 января 1919 года в дни «Красного террора».
А в 1857 году, после рождения Сергея Александровича, Марии Александровне было предписано лечение минеральными водами на немецком курорте Киссингеме. Царь и царица, объехав многих своих немецких родственников, наконец приехали на курорт.
Одним из наиболее важных событий 50-х годов в жизни царской семьи, несомненно, было совершеннолетие Николая, старшего сына Александра II.
8 сентября 1859 года, в день своего шестнадцатилетия, цесаревич Николай Александрович принес присягу на верность службе, принял всех послов, аккредитованных в Петербурге, совершенно очаровав их умом и сердечностью. Но на следующий год с ним случилось несчастье – во время скачки на ипподроме в Царском Селе цесаревич упал с лошади и ушиб спину, на что сначала не обратили должного внимания, а потом болезнь запустили. Через пять лет это стало причиной смерти цесаревича, которая повлекла за собою важные изменения в ходе истории династии. Другим событием в царской семье стало появление на свет последнего ребенка – Великого князя Павла, родившегося 21 сентября 1860 года, а третьим была смерть матери императора – Александры Федоровны, скончавшейся 19 сентября 1860 года на 63-м году.
Главные события царствования александра II в 1855—1860 годах
Вступив на престол в 1855 году, Александр II получил в наследство позорное крепостное право и многолетнюю Кавказскую войну, длившуюся с незначительными перерывами с середины XVI столетия – с царствования Ивана Грозного.
В русской исторической литературе, в большинстве случаев написанной с позиций верноподданных слуг господствующего режима, каким бы он ни был – монархическим или социалистическим, – утвердилась традиционная точка зрения, что Кавказская война началась в 1817 году и окончилась в 1864-м.
На самом деле война на Северном Кавказе началась с появлением здесь русских в первой половине XVI века, когда на реке Сунжа – правом притоке Терека – осели беглые русские крестьяне из центральных областей России. Главным их поселением стало урочище Гребни на речке Акташ. По этому названию и сами казаки стали называться «гребенскими». Впрочем, есть и другая версия их названия: поселение по гребню Сунженского хребта – горного хребта Предкавказья между левым берегом реки Сунжи на юге и Алханчуртской долиной – на севере.
Как бы то ни было, но именно с появлением в Предкавказье гребенских казаков и началась война с горцами Чечни, Дагестана, Ингушетии, Осетии и Кабарды, не желавшими жить с новыми вооруженными соседями, к тому же исповедовавшими враждебную им религию – христианство.
Что же касается 1817 года, то именно тогда русские регулярные войска, сведенные в отдельный корпус, – сначала называвшийся «Грузинским», а с 1820 года «Кавказским», начали систематическую, беспрерывную войну, шаг за шагом вытесняя горцев из их родных мест.
С июня 1816 и до 1839 года русскими войсками на Кавказе командовал герой Отечественной войны 1812 года генерал Алексей Петрович Ермолов, прозванный местным населением «визирь Ермулла». Он же командовал и казачьими частями Черноморского и Донского казачьих войск. Ермолов начал окружать горные районы кольцами кордонов, прорубая просеки в лесах, сжигая непокорные аулы, а оставшихся в живых горцев выселяя в долины под надзор русских гарнизонов, где одна за другой вырастали русские крепости.
В 1827 году Ермолова сменил Паскевич, продолжавший эту же тактику, дополнив ее карательными набегами на аулы и усилив строительство укрепленных линий с опорными пунктами и крепостями. С середины 30-х годов XIX столетия во главе свободолюбивых народов Чечни и Дагестана встал третий имам – Шамиль, сын крестьянина, ученый богослов, человек выдающейся храбрости и красноречия, необычайно популярный в среде простых людей. Натиск войск Шамиля оказался настолько сильным, что царские войска перешли к обороне. Получив
подкрепления из двух дивизий, новый главнокомандующий граф М. С. Воронцов начал поход на аул Дарго – резиденцию Шамиля, и хотя взял Дарго и сжег его, но окончательной победы не добился: Шамиль ушел в горы и продолжал борьбу. А борьба эта, следует сказать, достигла высочайшей степени ожесточения.
Крымская война придала силы горцам, получившим поддержку турок, но с падением Карса и уходом Анатолийской армии преобладание русских вновь стало безусловным.
После подписания Парижского мирного договора 1856 года Россия сосредоточила на Кавказе 200-тысячную армию. Вставший во главе ее князь А. И. Барятинский и начальник его штаба, сорокалетний генерал Д. А. Милютин – будущий военный министр, выдающийся военный теоретик и государственный деятель, последний русский фельдмаршал, ставший им в возрасте 82 лет, в 1898 году, – разработали план последовательного продвижения от рубежа к рубежу, с прочным закреплением занятых территорий. Весной 1859 года кольцо русских войск сомкнулось возле чеченского аула Ведено, где сосредоточились главные силы Шамиля. Горцы, попав в окружение, дрались отчаянно, но потерпели поражение. Шамиль с небольшим отрядом мюридов сумел бежать в Дагестан, в аул Гуниб. 25 августа он вынужден был сложить оружие и сдался в плен.
Барятинский лично руководил взятием Гуниба и пленением Шамиля. Как только имам и его семья оказались у него в руках, князь тут же сообщил об этом императору и получил приказ отправить Шамиля и его близких на поселение в Калугу. Под большим конвоем, который по мере продвижения на север все уменьшался, Шамиль вскоре оказался в Харькове. Там его и одного из его сыновей отделили от других членов семьи и повезли в Чугуев, где в это время находился Александр.
При встрече Александр обнял и поцеловал Шамиля и назначил местом его пребывания Калугу. Побывав в Петербурге, Москве и Туле, Шамиль с двумя своими женами, двумя сыновьями и тремя дочерьми поселился в Калуге, но вскоре после того, как по собственному желанию присягнул на верность России, переехал со всей семьей в Киев. Оттуда он совершил паломничество в Мекку и Медину для поклонения святым местам. Там он умер в марте 1871 года, там и был похоронен.
6 декабря 1862 года Барятинский из-за серьезной и продолжительной болезни вышел в отставку, и на его место назначен был Великий князь Михаил Николаевич. 14 февраля 1863 года он приехал в Ставрополь и вступил в командование войсками Отдельной Кавказской армии и управление краем, продолжая войну с последними непокорными племенами – шапсугов и убыхов, – живших в районе Туапсе и Сочи. 21 мая 1864 года пал последний оплот повстанцев – урочище Кбаада, в верховьях реки Мзымпа. Этот день стал официальной датой окончания Кавказских войн, хотя отдельные восстания периодически вспыхивали то в одном, то в другом районе Кавказа.
Однако как ни велико было значение присоединения к России Кавказа, в эти же годы произошло событие, которое по своему значению во много раз превосходило победу в полувековой войне и было самым грандиозным свершением царствования Александра II – освобождение десятков миллионов крестьян от крепостного ига.
Освобождение крестьян
Среди тех «многих трудов и забот», которые оставил Николай I своему сыну, был один из самых «проклятых вопросов» – крепостное право, которое было сродни древневосточному рабству и монгольскому игу. Попытка обсудить положение крестьян была предпринята еще Николаем I сразу после коронации. 6 декабря 1826 года под председательством В. П. Кочубея, при активном участии М. М. Сперанского, начал работу первый Секретный комитет, который должен был выработать проект реформы по освобождению крестьян. Шестилетняя деятельность этого комитета ни к чему не привела, и в 1835 году был создан второй секретный комитет, в котором ведущие роли играли Сперанский, Е. Ф. Канкрин и П. Д. Киселев, но из-за появления новых людей деятельность комитета не стала более результативной. В царствование Николая, до 1848 года, – пока не произошли революции в Европе, – правительство еще несколько раз пыталось решать то одну, то другую частную проблему освобождения крестьян, но эти попытки так и оставались тщетными.
В январе 1857 года Александр II приказал создать еще один секретный комитет, «для обсуждения мер по устройству быта помещичьих крестьян». Это был последний в истории России секретный комитет по крестьянскому вопросу, потому что уже в начале следующего года он был преобразован в Главный комитет по крестьянскому делу и в этом качестве довел реформу до конца.
В советское время существовала только одна точка зрения на роль царя в проведении реформы – очень не хотел, но не мог все оставить по-старому. Факты же свидетельствуют, что Александр II играл исключительно важную роль в подготовке и проведении реформы. Главными проводниками и авторами ее были сам Александр II, его брат – Великий князь, генерал-адмирал Константин, митрополит Филарет, профессор истории К. Д. Кавелин, предводитель тверского дворянства А. М. Унковский, генерал-адъютант Я. И. Ростовцов, видный славянофил, публицист Ю. Ф. Самарин, другой славянофил – прогрессивный помещик и предприниматель А. И. Кошелев, министр внутренних дел С. С. Ланской, его товарищ, то есть заместитель, Н. А. Милютин и Великая княгиня Елена Павловна – вдова дяди императора, Великого князя Михаила Павловича, после смерти своего мужа с головой окунувшаяся в политику. Именно эти люди и были главными «виновниками» того, что крестьянская реформа, пройдя сквозь сотни препон, созданных и в Сенате, и в Государственном совете, и в министерствах, и в губерниях, все же победила. И выдающуюся роль в этом сыграл сам Александр II.
Еще 30 марта 1856 года, находясь в Москве, Александр сказал представителям дворянства Московской губернии: «Лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно, само собою, начнет отменяться снизу. Прошу вас, господа, думать о том, как бы привести это в исполнение. Передайте слова мои дворянству, для соображения».
Увидев, что многие члены Главного комитета по крестьянскому делу всячески тормозят реформу, царь поставил во главе его неутомимого генерал-адмирала Константина Николаевича, и тот, проведя три бурных заседания – 14,17 и 18 августа 1857 года, – сдвинул дело с мертвой точки, убедив собравшихся в необходимости осторожного, но непрерывного движения вперед. А в конце октября в Петербург прибыл виленский генерал-губернатор В. И. Назимов с адресом от дворян Виленской, Ковненской и Гродненской губерний, в котором они просили позволения освободить своих крестьян. Это обращение дало возможность Александру II обратить внимание на произошедшее помещиков других губерний и призвать их последовать примеру литовских и белорусских собратьев. Первыми откликнулись дворяне Санкт-Петербургской губернии, и вслед за тем по всей России стали возникать губернские комитеты по подготовке освобождения крестьян. Осенью 1858 года, путешествуя по внутренним губерниям России, Александр в каждой из них прежде всего знакомился с работой комиссии. В Твери, в Костроме, в Нижнем Новгороде, во Владимире, в Москве, в Смоленске, в Вильно царь разъяснял свою позицию, доказывал необходимость отмены крепостного права и настойчиво добивался поддержки, иногда высказывая резкое недовольство тем, что реформа тормозится.
Так, шаг за шагом, убирая одно препятствие за другим, опираясь на своих единомышленников, Александр довел дело до конца. 19 февраля 1861 года он подписал «Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости» и соответствующий манифест, которые были опубликованы сначала в обеих столицах, а затем и в провинции с 5 марта по 2 апреля.
19 февраля 1861 года Александр писал Константину Николаевичу, что «мы можем ныне же со спокойной совестью сказать себе, что нами употреблены для свершения оного все бывшие во власти нашей средства».
С этого дня Россия вступила в новую фазу развития, к которой привел ее Александр II, оставшийся в истории с именем «Освободитель», столь же и так же неотделимым от него, как «Великие» от Петра I и Екатерины II.
* * *
Между тем Александр сместил многих министров и других высших сановников – Санкт-Петербургского генерал-губернатора, военного министра, министра государственных имуществ, министра финансов. Изменения коснулись и главного поста в администрации империи – председателя Государственного совета и Комитета министров. Занимавший его князь Алексей Федорович Орлов – опора крепостников и ретроградов – умер вскоре после отмены рабства – 21 мая 1861 года. После недолгого перерыва первым чиновником России стал граф Дмитрий Николаевич Блудов – 76-летний сановник, прошедший огонь, воду и медные трубы на крутой и высокой иерархической лестнице государственной службы. Он начал службу в первые годы царствования Александра I, поступив в архив Министерства иностранных дел, и затем, перейдя на дипломатическую службу, сблизился со многими царедворцами самого высокого ранга. По протекции Н. М. Карамзина он стал известен Николаю I и был назначен правителем канцелярии при Верховном уголовном суде над декабристами. Блудов составил угодное царю заключение, благодаря чему попал в разряд высших государственных чиновников, занимая последовательно должности товарища министра народного просвещения, министра внутренних дел, министра юстиции и председателя Департамента законов Государственного Совета. Таков был путь графа Дмитрия Николаевича к должности главы правительства России. Самым же существенным было то, что всю жизнь он раскаивался в своем невольном грехе перед декабристами и страдал из-за того, что служит в окружении людей, «которые ровно ничего не понимают и всего боятся, всего решительно! Глупость у них рождает трусость, а от трусости они еще более глупеют». Новые министры, как и сам Блудов, относились к числу «либеральных», или «просвещенных бюрократов», выступавших за преобразование общественных отношений и административного аппарата России путем реформ. И хотя Блудову предстояло занимать свой последний пост всего три года – в 1864 году он умер, – он успел завершить главное дело своей жизни – за полтора месяца до смерти утвердить у Александра «Положение о губернских и уездных земских учреждениях», по которому впервые в России на местах возникала система органов местного самоуправления, земств, в значительной степени не зависимых от государственной власти.
Эти перемены произошли накануне важного юбилея – тысячелетия России, который было решено отмечать осенью 1862 года.
Почему был выбран 1862 год? В первой русской летописи «Повесть временных лет», написанной знаменитым летописцем Нестором, первой датой является 852 год, когда, по мнению летописца, «начася прозывати Руска земля», а 862-й – это год призвания новгородцами варяжского князя Рюрика, основателя первой правящей династии Рюриковичей, в родстве с которой была и династия Романовых. Потому-то и решено было отмечать тысячелетие России в 1862 году.
Юбилейный год, однако, начался неспокойно. В Петербурге разбрасывались прокламации, призывающие к топору и «красному петуху», а в мае в столице вспыхнули грандиозные пожары, охватившие сначала кварталы бедноты, а к концу месяца перекинувшиеся в центр. 28 мая дотла сгорели Апраксин и Щукин дворы с двумя тысячами лавок, здание Министерства внутренних дел, в подвалах которого хранились тысячи дел об освобождении крестьян. Огонь прорвался на Невский проспект, угрожая Гостиному двору и Публичной библиотеке.
Александр сам руководил борьбой с пожарами и присутствовал при их тушении, пока наконец неистовство огня не было сломлено. Созданная по его приказу следственная комиссия не смогла обнаружить поджигателей, но собранные ею сведения отличались большим разбросом мнений: от лондонских агентов Герцена и польских повстанцев – в это время в Польше вновь происходило сильное брожение – до помещиков-ретроградов, желавших реставрации крепостничества. Как бы то ни было, но ближайшим следствием пожаров стали ужесточение цензуры, закрытие воскресных школ, приостановление выпуска журналов «Современник» и «Русское слово», а среди отданных под суд оказался и Николай Гаврилович Чернышевский, попытавшийся издавать «Современник» в Лондоне и идейно вдохновлявший создателей революционной организации «Земля и воля».
Восстание в Польше
15 февраля 1861 года, за четыре дня до подписания документов об освобождении крестьян, в Варшаве начались уличные шествия и демонстрации, при разгоне которых русские войска открыли огонь и убили пять человек. Наместник в Королевстве Польском князь М. Д. Горчаков решительно пресек дальнейшее кровопролитие, пойдя на уступки манифестантам и желая во что бы то ни стало сохранить мир и спокойствие. Но события обострялись, и 27 марта произошло новое кровопролитие.
Весной 1862 года в Варшаву приехал бывший главнокомандующий Крымской армией граф А. Н. Лидерс. Он сумел навести порядок, но только внешний – болезнь была лишь загнана внутрь. 15 июня 1862 года в Саксонском саду, среди бела дня, на Лидерса было совершенно покушение: неизвестный выстрелил из пистолета и попал ему в челюсть, а сам сумел скрыться. Так в Российской империи начался политический террор. Через полторы недели наместником Польши был назначен Великий князь Константин Николаевич. Он приехал в Варшаву вместе с женой 20 июня и уже на следующий вечер, выходя из театра, получил пулю в плечо. Покушавшийся был схвачен. Он оказался портным, подмастерьем, фамилия его была Ярошинский. Вслед за тем последовали еще два покушения – оба неудачные – на маркиза Александра Велепольского, решительного проводника мирной, конструктивной политики сотрудничества с русскими и вместе с тем несомненно польского патриота. Оба покушавшихся на него были тоже арестованы и вместе с Ярошинским повешены на земляном валу Варшавской цитадели.
Новый, 1863 год начался вооруженными выступлениями в разных городах Польши. Поводом к выступлению послужил рекрутский набор, при помощи которого власти хотели избавиться от молодых мужчин, замешанных в беспорядках. Константин Николаевич немедленно объявил военное положение на территории всей Польши и вызвал на помощь 2-ю гренадерскую дивизию и несколько казачьих полков. Началась война между регулярной русской армией и множеством небольших разрозненных повстанческих отрядов, которые появились и за пределами Польши – в Литве, Белоруссии, Подолии. На Пасху Александр издал манифест, которым обещал амнистию всем сдавшим оружие и дальнейшее расширение местного самоуправления. Однако центральный комитет повстанцев отверг предложения царя, объявил себя Народным правительством и потребовал полной независимости Польши, Литвы и Руси как нераздельных частей единого Польского государства. (Под Русью понимались западно-русские земли, входившие некогда в Речь Посполитую, разделенную между Россией, Австрией и Пруссией.)
Подавить восстание было поручено генерал-адъютанту Михаилу Николаевичу Муравьеву, назначенному генерал-губернатором Северо-Западного края и получившему прозвище «Вешатель».
За время с февраля 1863 года по март 1865-го во главе восстания стояло пять разных «диктаторов». Трое из них были повешены, один попал в тюрьму, еще один, раненный в бою, уехал за границу.
Тысячи повстанцев были сосланы в Сибирь.
Смерть цесаревича Николая Александровича и ее последствия для династии
Из-за восстания в Польше Александр II не выезжал за пределы России, но весной 1864 года он вместе с Марией Александровной отправился на воды в Киссенген и Швальбах, где императорская чета пробыла до конца июня.
В это же время в Европу отправился и цесаревич Николай Александрович, который перед тем, в 1861—1863 годах, успел совершить два длительных путешествия, крайне насыщенных и весьма полезных с познавательной точки зрения. После этого в июне 1864 года, как бы продолжая образовательную программу, цесаревич поехал за границу.
Один из сопровождавших его в этом путешествии, профессор Б. Н. Чичерин – известный историк, философ и правовед – писал: «Мы путешествовали, как кружок друзей разных возрастов, различных положений, но все сведенные одним чувством и общими стремлениями. Центром этого маленького мира был прелестный юноша с образованным умом, с горячим и любящим сердцем, веселый, приветливый, обходительный, принимающий во всем живое участие, распространяющий какое-то светлое и отрадное чувство».
Со времен образовательных путешествий Александра I, Николая I и Александра II маршрут был примерно одинаков. Объехав Германию и Голландию, цесаревич направился в столицу Дании Копенгаген и там, в замке Фреденсборг, встретил прелестную семнадцатилетнюю принцессу Дагмару, дочь датского короля Кристиана IX, и принял решение сделать ей предложение.
Принцесса Дагмара, – что по-датски означает «утренняя заря», – родилась в Копенгагене 14 ноября 1847 года.
До знакомства с цесаревичем Николаем Александровичем жизнь Дагмары проходила в религиозной и высоконравственной семье гвардейского офицера, женатого на племяннице бездетного короля Дании Фредерика VII – последнего короля из династии Ольденбургов.
15 ноября 1863 года Фредерик умер, и престол перешел к отцу Дагмары – Кристиану Глюксбургу, первому представителю новой династии на датском троне. Мать Дагмары – принцесса Луиза Гессенская, давшая трон своему мужу и ставшая королевой Луизой, имела троих сыновей и трех дочерей, сыгравших затем видную роль в династической истории Европы. Старший брат Дагмары в 1903 году наследовал от отца корону Дании и взошел на трон под именем Фредерика VIII. Принцесса Александра вышла замуж за принца Уэлльского Эдуарда, а после того как он стал королем Великобритании Эдуардом VII и императором Индии, эти же титулы стала носить и Александра. Второй брат Дагмары стал королем Греции под именем Георгиоса I, а младшая сестра Тира, выйдя замуж за короля Ганновера, герцога Кумберлендского, добавила в фамильную копилку титулов датского дома еще и эти два. Дагмара же стала императрицей России.
Однако это случилось позднее, а летом 1864 года дело дошло только до того, что Николай Александрович послал к своим родителям, находившимся в это время в Дармштадте, на родине императрицы Марии Александровны, одного из офицеров свиты, князя В. А. Барятинского, с известием о своем намерении. Согласие родителей было получено, и после обручения, о котором жители Петербурга были извещены пушечным салютом в 101 выстрел, невеста переехала из Дании в Дармштадт, к своим новым родственникам, и стала заниматься там законом Божьим, готовясь к переходу в православие. А Николай Александрович уехал в Италию. Там начались у него сильнейшие боли в спине. Врачебный консилиум вынес решение, что это не более чем острый приступ ревматизма, и порекомендовал больному провести зиму в Ницце.
Вскоре, однако, цесаревич уже не мог распрямиться и ходил, сгорбившись, с каждым днем слабея все больше и больше.
4 апреля к нему выехал двадцатилетний Великий князь Александр, а еще через два дня и сам император с восемнадцатилетним сыном Владимиром. По дороге к ним присоединились невеста цесаревича со своей матерью. В Ницце они застали Николая при смерти. Великий князь Александр и Дагмара находились у постели умирающего до последней минуты. Незадолго до смерти цесаревич соединил их руки и просил обещать, что после того, как он умрет, они станут мужем и женой. Александр и Дагмара плакали, уверяя больного, что он непременно выздоровеет, но вскоре никаких надежд ни у кого не осталось: приехавшие в Ниццу мировые медицинские светила, и среди них Н. И. Пирогов, поставили диагноз – туберкулезное воспаление спинного мозга. Это был смертельный приговор. В ночь на 13 апреля 1865 года Николай Александрович умер.
Общее горе очень сблизило принцессу Дагмару и Александра. Однако в те минуты они и предположить не могли, что всего полтора года спустя действительно станут мужем и женой и что двое из их сыновей – Николай и Михаил – будут последними императорами России…
Николай Александрович был похоронен в Петропавловском соборе, а Александр провозглашен цесаревичем, и ему суждено было через 16 лет взойти на престол под именем Александра Третьего.
Семейные дела императора и появление княжны Долгоруковой
Семейные дела Александра II после 1860 года вступили в новую фазу. Прошло уже 19 лет со дня его свадьбы с Марией Александровной, успевшей за это время родить двух дочерей и шестерых сыновей, последний из которых, Павел, появился на свет 21 сентября 1860 года, когда императрице шел 37-й год и даже по стандартам нашего времени ее никак нельзя было назвать молодой матерью.
Между тем у императрицы было слабое здоровье, и многочисленные роды не шли ей на пользу. Кроме того, уроженка Южной Германии, она тяжело переносила климат Северной Пальмиры, и все это привело к тому, что у Марии Александровны развилась астма и начались сердечные приступы.
Нездоровье послужило причиной охлаждения между нею и Александром, которому к этому времени было уже далеко за сорок. Природа, как известно, не терпит пустоты, и сердечный вакуум был вскоре заполнен, ибо сорок семь лет отнюдь не Мафусаилов возраст.
Как-то ранней весной 1865 года император прогуливался в Летнем саду. Вдруг он заметил прелестную девушку – грациозную, модно одетую, с румянцем во всю щеку, с большими лучистыми глазами. Он узнал ее. Это была восемнадцатилетняя княжна Катенька Долгорукова, всего лишь год назад окончившая Смольный институт.
Александр знал ее давно. Летом 1857 года, оказавшись на больших маневрах под Полтавой, он останавливался в имении ее отца – князя Михаила Михайловича Долгорукова и тогда-то впервые увидел девятилетнюю Катеньку. Девочка поразила его ласковостью, непосредственностью и грацией, и царь запомнил ее. Через несколько лет Долгоруковы разорились. Непрактичность и широкий образ жизни привели к тому, что их усадьба была несколько раз описана кредиторами, и, только продав фамильные бриллианты и золото, княгиня Вера Долгорукова смогла уплатить проценты и спасти имение Тепловку от публичных торгов с молотка. Подкосила их и реформа 1861 года, а еще более – неожиданный пожар, погубивший большой и богатый дом. После этого княгиня Вера написала Александру обо всех постигших их несчастьях, и царь велел определить четверых мальчиков в кадетские корпуса в Санкт-Петербурге, а Катеньку и Машеньку – в Смольный. Кроме того, Александр остановил «экзекуцию» банков и тем спас семью от окончательного разорения. Однако переживания последних лет настолько подорвали здоровье князя Долгорукова, что он вскоре умер, а его вдова переехала в Петербург и, сняв скромную маленькую квартирку, жила от воскресенья до воскресенья, когда к ней могли прибегать сыновья, а иногда навещала и дочерей, прилежно учившихся и мечтавших попасть при выпуске на мраморную доску первых в своих классах. Самой большой радостью для девочек были родительские и «царские дни», когда в Смольный приезжал царь, и визит его сопровождался роскошным обедом и многочисленными подарками. Однажды Александр приехал в Смольный в Вербное воскресенье 1865 года, и ему были представлены все преподаватели, наставницы и воспитанницы старших классов. Среди последних были и сестры Долгоруковы, которых он сразу же узнал.
Сестры Долгоруковы с самого начала оказались в числе наиболее красивых воспитанниц, хотя были не похожи друг на друга – Катенька была шатенкой с лицом цвета слоновой кости, Машенька – ярко выраженной блондинкой, с лилейным цветом кожи и привлекательной соразмерной полнотой. Увидев восемнадцатилетнюю Катю, Александр влюбился в нее, как бы это банально ни звучало, с первого взгляда. Александр доверил свою сердечную тайну фрейлине Вареньке Шебеко и стал посылать с нею сестрам Долгоруковым сладости и фрукты. Его выбор посредницы объяснялся тем, что Шебеко и раньше выполняла некоторые деликатные его поручения, и тем, что начальница Смольного института, мадам Леонтьева, была родственницей Шебеко. Леонтьева, конечно же, догадывалась о происходящем, но не только не препятствовала, но и всячески способствовала зарождению и развитию романа.
Вскоре после визита Александра Катенька простудилась, и ее положили в смольнинскую больницу, в маленькую отдельную палату. Шебеко провела царя к больной. Александр, конечно же, сохранял инкогнито, и в тот день визитер и больная впервые остались наедине. Как ни была Катенька наивна, она все же догадалась, что очень нравится императору. После его ухода она верила и не верила этому и не знала, что делать.
А Вера Шебеко поехала к матери Кати и Маши, нашла ей приличную квартиру, оплатила ее и еще дала денег княгине, сказав, что помощь исходит от царя, но одновременно попросила сохранить все в тайне, чтобы в городе не возникло никаких кривотолков. Шебеко даже сказала, что это – семейное счастье Вишневских, подчеркивая девичью фамилию княгини Веры, чей прапрадед, полковник Вишневский, привез в Петербург пастушка Алешу Розума, ставшего фаворитом, а потом и мужем императрицы Елизаветы Петровны – графом Алексеем Григорьевичем Разумовским. Едва ли княгиня Долгорукова усмотрела в последней фразе намек на Катю, но она не могла не понять, что ее дочь очень нравится императору. Что же касается Кати, то она была истинная, эталонная смольнянка, чьим идеалом была онегинская Татьяна, и девушка оставалась чистой, целомудренной, неприступной, чем еще более разжигала страсть Александра, не устававшего твердить ей о своей пламенной и нежной любви.
А Шебеко смотрела далеко вперед и рассчитывала, что царь тем быстрее добьется успеха, чем раньше Катя оставит Смольный. Ловкая фрейлина стала все чаще пугать Катю необычайною сложностью предстоящих выпускных экзаменов и посоветовала подать заявление о выпуске из Института без экзаменов в связи со слабым здоровьем. Леонтьева, конечно же, пошла навстречу и разрешила девушке оставить Смольный. Катя перебралась к матери, чем сильно обрадовала Александра, который теперь надеялся на содействие княгини Долгоруковой в благоприятном для него развитии романа. Однако посещения царем Кати в квартире ее матери тоже были не очень для него приемлемы, тем более что отношения между Александром и его возлюбленной по-прежнему оставались платоническими и делать из квартиры «гнездышко любви» было еще рано. Решено было назначить местом встреч Летний сад, где Александр любил отдыхать после приемов и докладов. А Вера Шебеко обещала будто бы невзначай привести туда Катю. Так впервые Александр и встретил княжну в Летнем саду после выхода ее из Смольного.
Царь был великий ценитель красоты, подлинный эстет и большое значение придавал месту свиданий. В то время Летний сад был одним из самых прелестных мест Петербурга, утопавший в диковинных декоративных деревьях из царских оранжерей. Был конец весны, и вокруг цвели сирень, жасмин и жимолость, благоухали тюльпаны, нарциссы и гиацинты. По обеим сторонам одной из аллей цвели розы, другую аллею обрамляли левкои. В фонтане плавали золотые рыбки, а между деревьями белели античные мраморные статуи, создавая атмосферу изысканной и классической красоты. Застенчивая и невинная молодая красавица была здесь подобна юной весталке – жрице языческой богине Весты, обреченной на целомудрие. Она была и столь же, как весталки, невозмутима, и совершенно спокойна, что сбивало с толку ничего не понимающего Александра, перед которым почти все терялись, волновались, заискивали и искали протекции. И это ее спокойствие еще больше раздувало в нем огонь страсти. Наконец, благодаря настойчивым разъяснениям Шебеко и матери, Катя поняла, что она должна хоть немного пойти навстречу царю и дать ему хотя бы маленькую надежду на то, что все со временем переменится.
А между тем постоянные посетители Летнего сада приметили статного и красивого пожилого сановника, в одно и то же время гулявшего с хорошенькой молоденькой барышней, и, чтобы не искушать судьбу, Варвара Шебеко предложила перенести свидания на острова – Елагинский, Крестовский или Каменный, – где их еще ни разу не видели. Так они и сделали и продолжали встречаться до самого конца 1865 года, а после того и всю зиму 1866-го. Постепенно Катя привыкла к императору, но ее страшно смущало то, что Александр Николаевич был, ко всему прочему, на тридцать лет старше ее, и это тоже мешало восемнадцатилетней княжне чувствовать себя естественно. Потому-то и находилась она в смятении вот уже несколько месяцев и вела себя очень скованно и смущенно, соглашаясь лишь на невинные прогулки. Однако раз от разу ей становилось все легче, и Александр чувствовал это и радовался, что лед скованности быстро тает.
Оставаясь одна, Катенька все чаще вспоминала Александра, сорокасемилетнего императора, о котором в том самом 1865 году французский поэт Теофиль Готье написал следующее: «Волосы государя были коротко стрижены и хорошо обрамляли высокий и красивый лоб. Черты лица изумительно правильны и кажутся высеченными скульптором. Голубые глаза особенно выделяются благодаря коричневому тону лица, обветренного во время долгих путешествий. Очертания рта так тонки и определенны, что напоминают греческую скульптуру. Выражение лица, величественно-спокойное и мягкое, время от времени украшается милостивой улыбкой».
И все же княжна не сразу полюбила его. Это случилось после того, как однажды при встрече царь показался ей несчастным и нуждающимся в ее поддержке, в ее жалости и сострадании. Именно эти чувства поначалу определили перемену в ее отношении к Александру, и, почувствовав, что она необходима этому человеку, именно человеку, а не царю, Екатерина Михайловна совсем по-другому взглянула и на самое себя, ощутив, что она не вчерашняя инфантильная смольнянка, а женщина, готовая к состраданию и самоотверженности.
Первое покушение
4 апреля 1866 года, в четвертом часу дня, император Александр прогуливался в Летнем саду. Окончив променад, он вышел за ворота, где стояла его коляска, и только собрался сесть, как вдруг возле него появился молодой мужчина и направил пистолет прямо в грудь государя. Как только неизвестный выхватил револьвер, один из стоявших возле него зевак сделал резкое движение рукой. Потом утверждали, что он ударил стрелявшего по руке.
Жандармы и некоторые из очевидцев бросились на стрелявшего и повалили его. «Ребята! Я за вас стрелял!» – кричал террорист.
Александр приказал отвести его к экипажу и спросил:
– Ты поляк?
– Русский, – ответил террорист.
– Почему же ты стрелял в меня?
– Ты обманул народ: обещал ему землю, да не дал.
– Отвезите его в Третье отделение, – сказал Александр, и стрелявшего вместе с тем, кто вроде бы помешал ему попасть в царя, повезли к жандармам.
Стрелявший назвал себя крестьянином Алексеем Петровым, а другой задержанный – Осипом Комиссаровым, петербургским картузником, происходившим из крестьян Костромской губернии. Случилось так, что среди благородных свидетелей оказался герой Севастополя генерал Э. И. Тотлебен, и он заявил, что отчетливо видел, как Комиссаров толкнул террориста и тем спас жизнь государя.
Александр с места покушения отправился в Казанский собор, где горячо поблагодарил Бога за свое чудесное спасение. А вокруг Зимнего дворца собралась ликующая толпа, встретившая его криками «ура!» и не расходившаяся до полуночи. Вечером во всех церквах прошли благодарственные молебны, а во дворце собрались члены Государственного совета, сенаторы, министры и генералы, тоже кричавшие «ура!» и непрерывно поздравлявшие Александра с чудесным спасением.
Во всех театрах перед началом спектаклей оркестры исполняли гимн «Боже, царя храни», заканчивавшийся под крики «ура!»
Вечером в Зимнем дворце Александр обнимал и целовал Комиссарова, а затем возвел Иосифа Ивановича Комиссарова-Костромского в дворянское достоинство.
Из уст в уста передавали, что Осип Иванович родился в селе Молвитино Костромской губернии, в 12 верстах от знаменитого села Домнина – родины Ивана Сусанина. И, конечно же, тут же стали называть нового «спасителя» вторым Иваном Сусаниным.
Не менее торжественно и бурно отметили деяние Коммиссарова в Москве. В его честь в Английском клубе был устроен грандиозный банкет, сам он избран почетным членом, а московское дворянство поднесло Осипу Ивановичу золотую шпагу.
Ревность дворянства, воистину, не знала границ: в честь Коммиссарова была объявлена подписка на сбор средств, чтобы купить для него имение. Дворяне быстро собрали деньги и купили Осипу Ивановичу дом и усадьбу. Да только оказавшись помещиком и богачом, бывший картузник запил и в пьяном виде повесился.
А доставленный в Третье отделение террорист лишь на шестые сутки сознался, что он вовсе не крестьянин Петров, а саратовский дворянин Дмитрий Васильевич Каракозов. Следствие по его делу было поручено особой комиссии во главе с М. Н. Муравьевым, и тот вскоре дознался, что за Каракозовым стоит революционная организация – Московский кружок, возглавляемый его двоюродным братом Н. А. Ишутиным, вольнослушателем университета, установившим связи с разрозненными подпольными кружками разгромленной революционной организации «Земля и воля», вдохновителем и устроителем которой был Чернышевский, а заграничными единомышленниками-помощниками – Герцен и анархист М. А. Бакунин. Кружок Ишутина состоял из учащихся и студентов, готовившихся к насильственному перевороту и активно пропагандировавших социалистические учения.
Уже 8 апреля Ишутин и многие другие члены кружка были арестованы. Во время суда выяснилось, что кружок состоял из двух частей – «Организации» и «Ада». Члены «Организации», а таковых было большинство, о существовании «Ада» не знали. А в «Аду» состояли немногие, особо доверенные, глубоко законспирированные боевики-террористы. Именно они готовили цареубийство, которое попытался осуществить Каракозов, попеременно одолеваемый мыслями то о самоубийстве, то об убийстве царя.
В Алексеевском равелине Петропавловской крепости, куда он был заключен, Каракозов производил на всех его видевших и общавшихся с ним – следователей, жандармов, солдат, священника отца Палисадова, много дней пытавшегося добиться от узника раскаяния и примирения, – впечатление человека, находящегося на грани сумасшествия. Это потом утверждали и врачи в беседах с комендантом Петропавловской крепости генералом Черевиным.
Жандармы арестовали 197 подозреваемых, 171 человек был тут же отпущен, а судили лишь 36 «ишутинцев». Им дали разные наказания. Суд приговорил только двоих – Каракозова и Ишутина – к смертной казни. 3 сентября на Смоленском поле были поставлены две виселицы, и Каракозов с Ишутиным взошли на эшафот. Однако в последний момент смертная казнь Ишутину была заменена пожизненной каторгой, а его брат был повешен. До мая 1868 года Ишутин находился в Шлиссельбурге, а потом был выслан на Кару, где и умер через одиннадцать лет с признаками явного помешательства.
Павильон «Бабигон»
При таких обстоятельствах – чудесном избавлении от смерти, необходимости казнить двадцатипятилетнего Каракозова, растерянности от того, что в ответ на все его благодеяния он получает пулю, – Александр наконец добился от Катеньки взаимности. На ее долю в это время тоже выпало немало печалей – весной 1866 года, тяжелого для них обоих, у княжны умерла мать. И она осталась бы в горе своем одна, если бы не все та же незаменимая Вера Шебеко, которую девушка звала «тетя Вава». Она не дала Кате почувствовать одиночество и тотчас же переехала в опустевшую квартиру княгини Долгоруковой, поддержав сироту в самые трудные для нее часы и дни. Здесь они сблизились еще более, и тетя Вава стала «вторым я» Катеньки Долгоруковой. Чаще всего они говорили о государе, о его любви к Катеньке, о его ни с чем не сравнимом терпении и благородстве. И мало-помалу Катенька поверила, что они с императором созданы друг для друга.
Первое их интимное свидание состоялось в павильоне «Бабигон», расположенном в Петергофе, в трех верстах от Главного дворца, неподалеку от дороги, ведущей в Царское Село. Окруженный кустарниками и цветами, уединенный и тихий, павильон «Бабигон» и стал хранителем их тайны. Вечером 1 июля 1866 года Катю привезла сюда тетя Вава и осталась с нею вместе ночевать. В бельэтаже «Бабигона» было несколько прекрасно меблированных комнат с ванными, туалетами, горячей и холодной водой. Уложив Катю в одной из комнат, Шебеко устроилась в соседней.
Поздним вечером в «Бабигон» пришел Александр…
Впоследствии княгиня Долгорукова говорила, что во время этой встречи она была близка к обмороку и, что совсем уж неожиданно для нее, почти в таком же состоянии трепета и восторга был и ее возлюбленный. Расставаясь с нею, царь сказал: «Я не свободен сейчас, но при первой же возможности я женюсь на тебе, ибо отныне и навеки я перед Богом считаю тебя своею женой. До завтра! Храни и благослови тебя Бог!»
С этого дня свидания в «Бабигоне» проходили чуть ли не ежедневно. А когда наступила осень и пошли затяжные дожди, двор вернулся в Петербург. Но и там Долгорукова не реже, чем через день, продолжала навещать царя. Местом их свиданий стал Зимний дворец. Александр приспособил для встреч с нею кабинет своего покойного отца – Николая I, – расположенный в первом этаже и имеющий отдельный вход прямо с площади. Кабинет был невелик; мебель, картины, портьеры – все в нем оставалось прежним, только теперь сюда никто не входил, и некоторое время никто ничего не подозревал, ибо другой вход в кабинет был потайным и соединялся с апартаментами Александра, расположенными на втором этаже…
Сватовство и обручение цесаревича Александра Александровича
Тем временем цесаревич Александр Александрович решил жениться и остановил свой выбор на Дагмаре, которая вот уже более года безраздельно владела его сердцем. Однако из-за того, что Александр был скромен и очень застенчив, он не говорил Дагмаре о своих чувствах, хотя и догадывался, что бывшая невеста покойного брата, кажется, тоже неравнодушна к нему.
Летом 1866 года новый цесаревич уехал в путешествие по Европе с намерением посетить и Копенгаген, чтобы еще раз проверить свои чувства к Минни, как звали Дагмару в узком семейном кругу Романовых. И когда он увидел ее снова, почувствовал неодолимое желание объясниться с Дагмарой. И все же он не решался сделать последний шаг, не зная, как отнесется к этому датская принцесса. В эти дни он писал отцу: «Я чувствую, что могу, и даже очень, полюбить милую Минни, тем более что она так нам дорога. Дай Бог, чтобы все устроилось, как я желаю. Решительно не знаю, что скажет на все это милая Минни; я не знаю ее чувства ко мне, и это меня очень мучает. Я уверен, что мы можем быть так счастливы вместе. Я молюсь усердно Богу, чтобы Он благословил меня и устроил мое счастье».
Наконец 11 июня он решился сделать предложение, о чем в тот же день писал отцу следующее: «Я уже собирался несколько раз говорить с нею, но все не решался, хотя и были несколько раз вдвоем. Когда мы рассматривали фотографические альбомы вдвоем, мои мысли были совсем не на карточках; я только и думал, как бы приступить с моею просьбою. Наконец я решился и даже не успел всего сказать, что хотел. Минни бросилась ко мне на шею и заплакала. Я, конечно, не мог также удержаться от слез. Я ей сказал, что милый наш Никса много молится за нас, конечно, в эту минуту радуется с нами. Слезы у меня так и текли. Я ее спросил, может ли она любить еще кого-нибудь, кроме милого Никса. Она отвечала мне, что никого, кроме его брата, и мы крепко снова обнялись. Много говорили и вспоминали о Никсе, о последних днях его жизни в Ницце и его кончине. Потом пришли королева, король и братья, все обнимали нас и поздравляли. У всех были слезы на глазах».
17 июня 1866 года цесаревич был помолвлен в Копенгагене, а через три месяца нареченная невеста прибыла в Кронштадт, где ее встретили император, императрица и все члены их семьи. Из Кронштадта все они отправились в Царское Село, а 17 сентября 1866 года, в день Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи, который выдался ясным и по-летнему теплым, въехали в Петербург. Весь Невский проспект был заполнен бесконечной вереницей золоченых придворных карет, многочисленной свитой, следовавшей верхом за каретой невесты, в которой рядом с нею сидела и императрица-мать, гвардейскими полками, стоящими шпалерами вдоль проспекта. Дома были украшены цветами, коврами и русскими и датскими флагами.
Возле Казанского собора шествие остановилось, и члены царской фамилии взошли на ступени храма, где их встретил митрополит Исидор и причт, в сверкающем парадном облачении. После молебна молодые поехали в Зимний дворец, и по дороге принцесса непрерывно кланялась на обе стороны, прижимая руки к сердцу.
Толпы народа стояли возле Зимнего дворца, приветствуя невесту цесаревича, и потому Дагмара много раз выходила на балкон, чтобы поклонами благодарить своих новых подданных.
А вечером цесаревич, Дагмара и императрица Мария Александровна снова проехали по главным улицам Петербурга, встречаемые радостными, восторженными кликами.
13 октября состоялся обряд миропомазания и наречения новым именем – принцесса Дагмара стала Великой княжной Марией Федоровной, – а еще через полмесяца был издан Манифест о вступлении в брак Александра Александровича и Марии Федоровны, и в честь их бракосочетания была объявлена амнистия, а с неисправных должников были сложены недоимки и взыскания.
Датской принцессе было непросто занять подобающее ей место в российской императорской семье и при петербургском дворе, но она успешно справилась с этим, вызвав, правда, неудовольствие партии Великого князя Константина Николаевича и откровенную радость их политических противников.
«Цесаревна Мария Федоровна, – писал князь П. В. Долгоруков, – хотя не красавица в полном смысле слова, но женщина необыкновенно приятная лицом, взглядом, обхождением, разговором, женщина очень умная, но властолюбивая и совершенно преданная понятиям ретроградным». Долгоруков объяснял эту реакционность Марии Федоровны полученным ею воспитанием и ее природными корнями. «Отец ее, – продолжал Долгоруков, – Датский король, преисполнен аристократической спеси, ненависти к либерализму и к современным идеям, а мать родом из Гессен-Кассельского рода, который разбогател в XVIII веке, продавая своих подданных в английскую армию: за солдата, который возвращался увечным, платилось столько-то процентов прибавки, а за солдата, убитого или умершего, платилась еще большая прибавка».
Разумеется, Мария Федоровна и при дворе своего свекра опиралась на тех царедворцев, которые были близки ей по духу и взглядам. И первым из них оказался шеф жандармов и начальник Третьего отделения, граф Петр Андреевич Шувалов, а вторым – его двоюродный дядя, гофмаршал двора цесаревича Владимир Яковлевич Скарятин – сын одного из убийц императора Павла.
Второе покушение
16 мая 1867 года император с двумя сыновьями – Александром и Владимиром, и с большой свитой выехал в Париж на Всемирную выставку и 20 мая прибыл в столицу Франции. Их встречал Наполеон III, поселивший высоких гостей в Елисейском дворце, в тех же апартаментах, которые в 1814 и 1815 годах занимал Александр I. Каждый день пребывания императора и великих князей в Париже ознаменовывался пышными и блестящими торжествами и празднествами: обед и бал в Тюильри сменился парадным спектаклем в Опере, а затем последовало и посещение Выставки. Однако официальный протокол не отражал всего многообразия мероприятий, к которым приобщился в Париже Александр II. Не знали об этом и приставленные к царю французские агенты, и даже сам шеф Третьего отделения граф Орлов, сопровождавший царя. А дело было в том, что Александр собрался в Париж не только потому, что ему хотелось увидеть великий город, двор Наполеона III и Всемирную выставку, но и потому, что там по совместной с ним договоренности в это время ждала его Катенька Долгорукова. В первый же день приезда Александр отправился в Комическую оперу, но уехал со спектакля, заявив, что он скучен. Вернувшись в Елисейский дворец, царь около полуночи постучал в двери апартаментов графа Адлерберга и попросил у него немного денег.
– Сколько вам нужно? – спросил удивленный граф.
– Даже не знаю, может быть, сотню тысяч франков?
Адлерберг дал Александру сто тысяч, и, как только царь ушел, министр двора тут же сообщил находившемуся в том же дворце шефу жандармов Шувалову, что Александр ушел, как он сказал, на прогулку и просил его не сопровождать.
Это сообщение не слишком обеспокоило Шувалова, потому что по инструкции за царем в любом случае должны были повсюду следовать русские агенты. Однако время шло, а Александра не было. Он вернулся во дворец только в три часа ночи. А утром агенты доложили, что царь взял наемный фиакр и поехал на улицу Рампар, в дом, где остановились, как выяснили агенты, две знатные дамы-иностранки: одна из них была Китти Долгорукова, вторая – жена ее брата Михаила, до замужества итальянская графиня Вулкане.
25 мая в честь Александра на Лоншанском поле был устроен смотр войск. После смотра Александр, Наполеон III и свиты обоих императоров неспешно и торжественно ехали к городу через Булонский лес. Наполеон, Александр и оба великих князя ехали в одной открытой коляске. Вдруг раздался выстрел, пуля попала в лошадь французского шталмейстера, ехавшего рядом. Стрелявшего задержали. Им оказался двадцатилетний польский эмигрант Антон Иосифович Березовский – сын бедного дворянина Волынской губернии. В 16 лет он участвовал в восстании 1863 года, а потом бежал за границу. Два года он работал в слесарной мастерской и не был связан ни с какими революционными организациями. Когда его предали французскому суду присяжных заседателей, он заявил, что покушение на царя было задумано и осуществлено им самим, без чьей-либо помощи и соучастия. Покушение он считает своим личным делом и просит рассматривать как акт мести за вековое угнетение Польши и за те жестокости, которые совершали русские войска и царская администрация при подавлении восстания 1863 года. Симпатии к Польше были во Франции многовековой традицией, Березовский был молод, и суд присяжных приговорил его к пожизненной каторге. Забегая вперед, скажем, что осужденный провел на каторге почти 20 лет. Лишь в 1906 году он был помилован президентом Клемансо, но когда ему сообщили об освобождении, Березовский отказался оставить место заключения.
Мужество и невозмутимость Александра, проявившиеся при втором покушении на его жизнь, стали, похоже, неотъемлемой чертой его характера.
В Париже, как и в Петербурге после покушения Каракозова, царь стал предметом всеобщего восторга и поклонения. Подобные чувства охватили и Катеньку Долгорукову, хотя, помимо восхищения и любви, она, прежде всего, испытывала страх за его жизнь.
После посещения княжны в отеле на улице Рампар их свидания продолжались в Елисейском дворце. Катеньке особенно импонировало, что она гуляет в том самом саду, где некогда прогуливалась мадам Помпадур, где после поражения при Ватерлоо находился Наполеон, а теперь именно здесь российский император снова клянется ей в своей неизменной любви и заверяет в том, что она перед Богом его жена. Здесь же Александр признался ей, что с тех пор, как полюбил ее, не было ни одной женщины, которую бы он приблизил к себе.
С этих пор их связь стала еще более прочной.
Междинастический брак вне Германии: свадьба Ольги Константиновны с королем Греции Георгиосом I из династии Глюксбургов
Суд над Березовским происходил уже после того, как Александр уехал из Парижа. По пути в Петербург, 6 июня, он приехал в Варшаву. Этот его визит был первым после подавления польского восстания 1863 года. И несмотря на то что память о восстании была еще свежа, а выстрелы Березовского буквально еще звучали в ушах поляков, в Варшаве никаких эксцессов не произошло, и Александр решил по пути в Петербург проехать через Вильно и Ригу. И в Литве, и в Латвии он при встречах со всеми сословиями говорил о неделимости империи, поощрял переход в православие и ратовал за то, чтобы государственным языком был бы здесь не польский и не немецкий, а только русский.
Возвратившись в Петербург, Александр присутствовал при обручении своей племянницы, Великой княжны Ольги Константиновны – дочери генерал-адмирала Великого князя Константина Николаевича. Он был вторым сыном Николая I и, соответственно, являлся наиболее важной персоной в доме Романовых после своего старшего брата-императора. (Его старшие сестры в расчет не принимались, так как в доме Романовых предпочтение всегда отдавалось представителям мужской линии.)
Напомню, что жена Константина Николаевича, Александра-Фредерика, герцогиня Саксен-Альтенбургская, была дочерью герцога Саксен-Альтенбургского Иосифа, и потому, когда Александра-Фредерика приняла православие, она стала Великой княгиней Александрой Иосифовной.
Итак, по возвращении в Санкт-Петербург Александр II присутствовал при обручении своей племянницы Ольги Константиновны с королем Греции Георгиосом I, который, хотя и носил в Греции имя Георгиоса, по происхождению был датским принцем Вильгельмом Георгом Глюксбургом, избранным греческим королем при активной поддержке Англии. Следовательно, и о нем, как о члене немецкой династии Глюксбургов (полное название династии – Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбург), непременно следует рассказать на страницах этой книги.
Находясь в Греции, Георг присягнул на верность конституции и стал основателем новой королевской династии Греции. Георг и Мария Федоровна (датская принцесса Дагмара, жена цесаревича Александра Александровича) были родными братом и сестрой и почти ровесниками. Георгу в 1867 году было 22 года, а Марии Федоровне – 20. А Ольга Константиновна была и того моложе – накануне свадьбы ей исполнилось 16 лет.
Свадьбу Георга I и Великой княжны Ольги Константиновны праздновали в Царском Селе с оружейными залпами, балами и фейерверком. Георг на свадьбе был одет в мундир русского генерала, потому что был шефом одного из полков русской армии.
Забегая вперед, скажем, что их супружество во многом оказалось удачным. Ольга родила двух дочерей – Александру и Марию и пятерых сыновей – наследного принца герцога Спартанского Константина и принцев – Георга, Николая, Андрея и Христофора. Со всеми будет потом связана семья Романовых, но ближе прочих окажется к ней принц Георг – второй сын Ольги, которому будет суждено в 1891 году спасти жизнь своему двоюродному брату – цесаревичу Николаю, будущему российскому императору.
Надо сказать, что через греческого короля и Марию Федоровну династия Романовых породнилась чуть ли не со всей Европой, так как их брат стал королем Дании Фредериком VIII, а сестра Александра – женой короля Великобритании Эдуарда VII. И как верно подметил писатель Э. С. Радзинский, Луизу Гессенскую, мать всех этих монархов, «прозвали тещей всей Европы»: ее бесчисленные дочери, сыновья и внуки породнили между собой почти все королевские дома, объединив таким образом материк от Англии до Греции.
Добавим к этому, что представители династии Глюксбургов и сегодня занимают троны Дании и Норвегии, а их родственников и свойственников можно найти в любой царствующей фамилии Европы.
Таким образом, на всех тронах христианских государств Европы с конца XIX столетия утвердились немецкие династии. Тем более что еще раньше, с 1832 по 1863 год, королем Греции был Оттон Баварский из династии Виттельсбахов.
* * *
Приехав через несколько недель в Афины, Ольга Константиновна, ставшая «Василисой тон Эллион» – «королевой всех эллинов», почувствовала себя в большой пыльной деревне: у подножия Акрополя паслись козы, а по соседству с королевским дворцом лепились одна к одной крытые черепицей крестьянские хижины.
Ольга сразу же занялась широкой благотворительностью: построила в центре Афин церковь, а в Пирее – госпиталь для русских моряков. Она подарила госпиталю хорошую библиотеку из книг русских классиков и православных сочинений.
По традиции, экипажи приходящих в Пирей русских кораблей дарили королеве по иконе, а Ольга передавала их церкви, и таким образом ее церковь, которую до сих пор называют «русской», со временем украсилась десятками прекрасных икон.
Ольга любила посещать корабли, смотреть самодеятельные концерты моряков, говорить с ними на родном языке. Ее любимым поэтом был М. Ю. Лермонтов. Ольга составила и издала небольшим тиражом хрестоматию, под названием «Изо дня в день. Извлечения из сочинений Лермонтова на каждый день». В хрестоматии было 365 страниц – по одной на каждый день, – и каждая страница начиналась несколькими строчками стихов или прозы, обрамленными цветной рамкой. Хрестоматия была исповедью Ольги Константиновны, собранием ее сокровенных мыслей, раздумий о нравственности, смысле жизни, добре и зле.
Правление Георгиоса I длилось полвека – с 1863 по 1913 год. Было оно чрезвычайно трудным, и все это легло не только на плечи короля, но и на плечи его жены, Ольги Константиновны.
Она любила мужа, любила и семерых своих детей и боялась за их жизни, все время подвергавшиеся опасности, потому что положение новой династии было очень непрочно.
Как только молодожены приехали из России в Афины, сразу же начались уличные бои между сторонниками и противниками короля. В это же время продолжало бушевать восстание на острове Крит, вспыхнувшее годом раньше. Островитяне-греки требовали присоединения к Греции, уничтожения зависимости от Турецкой империи, окончательно захватившей Крит в начале XVIII века.
Направленная на Крит многотысячная турецкая армия ничего не могла поделать с повстанцами. Восстания следовали одно за другим, продолжаясь до 1898 года, когда остров при вмешательстве европейских держав получил автономию. Сын Ольги Константиновны – принц Георг, был, по предложению России, назначен комиссаром острова.
В 1912 году Греция в союзе с Болгарией и Черногорией начала войну с Турцией за освобождение Южной Македонии и ряда других территорий.
Король Георгиос I, принимавший участие в военных действиях, 18 марта 1913 года был убит.
Ольга Константиновна осталась вдовой.
Королем Греции стал ее старший сын – сорокапятилетний Константинос. Он правил до июня 1917 года и отрекся от престола после высадки англичан и французов в Салониках в ходе Первой мировой войны.
Константинос I был откровенным германофилом (между прочим, с 1913 года германским генерал-фельдмаршалом), он был женат на сестре кайзера Вильгельма II – прусской принцессе Софии и остался верным Германии до конца. Он уехал в Швейцарию, когда перипетии политики снова на полтора года – с конца 1920-го до сентября 1922-го – вернули ему греческий трон, но 26 сентября Константинос I вторично отрекся от престола и уехал в Италию. 11 января 1923 года он умер в Палермо. А Ольга Константиновна, тоже оказавшись в эмиграции в Италии, умерла в Риме 15 июня 1926 года в возрасте 75 лет.
Вынужденные романтические предприятия
Теперь нам предстоит вновь возвратиться в осень 1867 года, чтобы не прерывать ход основного повествования.
Вернувшись из Парижа в Петербург, Александр продолжал встречаться с Катей, но уже не у себя во дворце и не в «Бабигоне», так как о местах их встреч стало известно, а на квартире брата Кати Михаила Михайловича Долгорукова. Однако и это убежище оказалось недолговременным, – боясь испортить репутацию, супруги Долгоруковы вскоре отказали царю и Екатерине Михайловне в приюте.
Сохранились письма Александра к Луизе – жене Михаила Долгорукова, в которых самодержец Всея Руси умоляет ее не лишать его и Катю их единственной возможности быть вместе. Но Долгоруковы были непреклонны и закрыли для любовников двери своей квартиры. И тогда нашелся только один человек, рискнувший пожертвовать своей репутацией, – это был начальник личной охраны царя генерал Рылеев, между прочим, родной внук казненного декабриста К. Ф. Рылеева. Начальник охраны по долгу службы обязан был без малейшего колебания отдать за Александра жизнь, но честь для дворянина была тогда дороже жизни, и потому поступок Рылеева, если бы о нем узнали, был бы расценен почти как продажа души дьяволу.
Что же касается возлюбленной царя, то она как была наивной и бескорыстной идеалисткой, так ею и оставалась, не понимая реалий жизни и все воспринимая почти так же, как и в Смольном.
Оставаясь у Рылеева, уже пожилой царь не только расточал супружеские ласки, но и старался замолить грех. Александр не был ханжой, но глубокое религиозное чувство заставляло его придавать отношениям с Катей максимально возможную духовность, возвышенность и чистоту. Они вместе читали Послания апостола Павла, вместе молились и просили Бога дать им супружеское счастье и прекрасных, здоровых детей. И почти всякий раз, расставаясь, Александр, как клятву, повторял, что Катенька – его жена перед Богом и что он обязательно сделает ее своей законной женой и перед людьми, если на то будет Божья воля.
Рождение последнего русского царя – Николая Романова
6 мая 1868 года в Царском Селе Великая княгиня Мария Федоровна родила первенца. Его отец – цесаревич, Великий князь Александр Александрович, записал в дневнике: «Минни разбудила меня в начале 5-го часа, говоря, что у нее начинаются сильные боли и не дают ей спать, однако по временам она засыпала и потом опять просыпалась до 8 часов утра. Наконец мы встали и отправились одеваться. Одевшись и выпив кофе, пошел скорее к моей душке, которая уже не могла окончить свой туалет, потому что боли делались чаще и чаще и сильнее. Я скорее написал Мама записку об этом, и Мама с Папа приехали около 10 часов, и Мама осталась, а Папа уехал домой. Минни уже начинала страдать порядочно сильно и даже кричала по времени. Около 12 1/2 жена перешла в спальню и легла уже на кушетку, где все было приготовлено. Боли были все сильнее и сильнее, и Минни очень страдала. Папа вернулся и помогал мне держать мою душку все время. Наконец в половине третьего пришла последняя минута и все страдания прекратились разом. Бог послал нам сына, которого мы нарекли Николаем. Что за радость была – этого нельзя себе представить. Я бросился обнимать мою душку-жену, которая разом повеселела и была счастлива ужасно. Я плакал, как дитя, и так легко было на душе и приятно».
Едва ли младенцу дали это имя в честь его прадеда – Николая Павловича, который по-прежнему оставался непопулярным и не прибавил бы симпатий новому потенциальному цесаревичу. Его назвали так, скорее всего, в память о его недавно скончавшемся дяде – Николае Александровиче, третью годовщину смерти которого отмечали менее чем за месяц до его рождения. К тому же покойный был и любимым братом цесаревича Александра Александровича, и старшим сыном Александра II и Марии Александровны, и первым женихом Марии Федоровны.
Новорожденному Николаю Александровичу предстояло стать последним российским императором. Он появился на свет в день святого праведника великомученика Иова, библейское предание о котором сильно напоминает жизнь Николая II.
Иову довелось безропотно пройти все испытания – он потерял все, что нажил, и был свидетелем гибели всех своих детей. И то же самое было написано на роду и этому младенцу, родившемуся в день памяти многострадального Иова – 6 мая. И когда в день своего рождения Николай читал в Библии «Книгу Иова», то не раз бросались в глаза ему такие строки из IV главы ее: «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: зачался человек! Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Нет мне мира, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье».
В какой-то мере это обстоятельство сделало Николая фаталистом, убежденным, что судьба его предопределена самим временем его появления на свет. Накануне крушения монархии, как писал потом об этом Великий князь Александр Михайлович, Николай сказал: «На все воля Божья. Я родился 6 мая, в день поминовения многострадальца Иова. Я готов принять мою судьбу».
Но это случится через пятьдесят лет, а тогда, в день появления на свет своего первого внука, император Александр II объявил амнистию, причем наибольшие льготы получили политические преступники – участники восстания в Польше и русские
революционеры. Всех политических преступников-каторжан перевели в разряд ссыльных, а ссыльным разрешили поселиться в сибирских городах и даже в европейской части России, но в отдаленных от столиц губерниях.
Вскоре состоялись и крестины. Крестными Николая был сам его августейший дед – Александр II, его бабушка со стороны матери – датская королева Луиза, двоюродная прабабушка – Великая княгиня Елена Павловна, вдова Великого князя Михаила Павловича, и дядя – датский принц Фредерик.
Нести младенца было доверено гофмейстерине княгине Куракиной, а сопровождали ее фельдмаршал князь А. И. Барятинский и канцлер князь А. М. Горчаков, тот самый, что при коронации выронил из рук державу. Но на сей раз в руках его ничего не было, – он только ассистировал Куракиной, несшей будущего самодержца на подушке.
Нетрудно представить, какие чувства испытывал Александр II на крестинах своего первого внука. Он не мог нарадоваться рождению первенца у своего старшего сына, тем более что родился мальчик, которому предстояло занять российский трон, но вместе с тем этот мальчик превратил его в деда, а его жену сделал бабкой, и это еще раз напомнило Александру о его возрасте, как напомнили об этом чуть раньше прошедшие юбилеи – сначала серебряная свадьба, а затем и его собственное пятидесятилетие, тихо отпразднованное за три недели до рождения внука.
Внешняя политика России во второй половине 50-х – начале 70-х годов
После Парижского конгресса 1856 года сфера внешнеполитической деятельности России в Европе сузилась до пределов Балкан, где русские традиционно отстаивали интересы своих единоверцев, борясь с мусульманами-турками.
Центр тяжести внешней политики был перенесен на Восток – в 1855 году была установлена русско-японская граница на Курилах, в 1860 – русско-китайская граница по Амуру.
С 1862 по 1867 год проходили переговоры с Японией о статусе Сахалина, завершившиеся принятием соглашения «о совместном владении Сахалином».
В этом же, 1867 году, 18 марта, между Россией и США был подписан договор о продаже Аляски, принадлежавшей России, Соединенным Штатам. Богатейшая территория, площадью в полтора миллиона квадратных километров, что равняется трем Франциям с заморскими департаментами, была продана за 7200 тысяч долларов. Кстати, все эти деньги, до единого цента, были инвестированы по приказу Александра II в железнодорожное строительство.
В России с самого начала усиленно насаждалось мнение, бытующее, как ни странно, и сегодня, что правительство Соединенных Штатов расценивало приобретение Аляски, как свою большую победу.
Все было совсем наоборот. Российскому поверенному в Вашингтоне Эдварду Стеклю пришлось истратить на подкуп американских должностных лиц 150 тысяч долларов, чтобы сделка состоялась, ибо главное богатство тогдашней Аляски – пушной и морской зверь – были выбиты Российско-американской компанией, а о золоте тогда еще ничего не знали.
Четыре русские деревни с населением в 700 человек дорого обходились России – нужно было ежегодно снабжать их всем необходимым, а колонисты не обеспечивали сами себя, задолжав к 1861 году более двух миллионов рублей.
А пока шли переговоры с разными государствами, русские энергично осваивали новые земли, упорно пробиваясь на Восток, к океану, и строя новые города: в 1856 году был заложен Благовещенск, в 1858-м – Хабаровск, в 1860-м – Владивосток.
В то время как на Дальнем Востоке отлаживались отношения России с Китаем, Японией и США, в средней Азии и Казахстане продолжалось безостановочное колонизационное продвижение русских войск на
юг и восток. После того как в 1854 году закончилась война на Кавказе, наступила очередь Туркестана, включавшего южную часть Казахстана, всю Среднюю и часть Центральной Азии, общей площадью более трех миллионов квадратных километров. Туркестан простирался от Южного Урала и Восточного берега Каспийского моря на западе до Алтая и Китая – на востоке и от Томской и Тобольской губерний на севере – до Ирана и Афганистана на юге. Традиционно Северный Туркестан назывался Русским Туркестаном, Восточный – Китайским, а Южный – Афганским.
На территории Русского Туркестана в 1865 году была образована Туркестанская область, а еще через два года – Туркестанское генерал-губернаторство.
На территории Русского Туркестана находились также два средневековых государства – Хивинское и Бухарское ханства.
Продвигаясь на юг, русские вышли к хребту Заилийский Алатау и в 1854 году построили здесь еще одно укрепление, сначала называвшееся Заилийским, а чуть позже – Верным. С 1867 года этот город, ныне называющийся Алматы, стал центром Семиреченской области Туркестанского генерал-губернаторства, подчинявшегося не Сенату, а военному министру. Завоевав Казахстан, русские войска вышли на территорию Кокандского ханства и в 1862 —
1866 годах захватили его важные крепости – Ходжент и Ташкент, получив возможность развить наступление на Хиву и Бухару. Первым пало Бухарское ханство. После того как в 1868 году был занят русскими войсками Самарканд, хан признал себя данником русского царя. Затем наступила очередь Хивинского ханства, которое уже к концу 60-х – началу 70-х годов оказалось с трех сторон окруженным русскими владениями, и потому русские войска в 1873 году нанесли по нему одновременный удар с трех сторон. В этом походе приняло участие более 12 тысяч солдат и офицеров при 56 орудиях, а в низовья Амударьи из Аральского моря вышла и военная флотилия. Командовал походом туркестанский генерал-губернатор, генерал-адъютант Константин Петрович Кауфман. В результате победы над Хивинским ханством оно превратилось в протекторат России.
В последнем походе отличился и впервые стал знаменит тридцатилетний офицер Михаил Дмитриевич Скобелев, с которым мы еще не раз встретимся на страницах этой книги.
Если война в Казахстане не повлекла почти никаких международных осложнений, то кампании в Кокандском ханстве и предстоящая война с Бухарой и Хивой неминуемо должны были обострить отношения с Англией, ибо уже за Пянджем начиналась сфера английских интересов и до «жемчужины английской короны» – Индии – было рукой подать, а Афганистан становился сопредельной территорией.
Что же касается Европы, то в центре событий 60-х – 70-х годов XIX столетия было противоборство двух великих держав – Франции и Германии. Оно особенно обострилось после того, как произошло объединение множества немецких земель в одно единое государство. Процесс этот был проведен под руководством прусского канцлера Бисмарка. Объединяя Германию «железом и кровью», Пруссия в 1864 году начала с захвата Шлезвига и Голштинии. Вопреки исторической традиции, Россия не заступилась за герцогства, платя таким образом Пруссии за недавнюю помощь в подавлении польского восстания 1863 года. Затем противником Пруссии оказалась Австрия, претендовавшая на роль гегемона в Германии. Австрия пользовалась поддержкой почти всех мелких немецких государств, но Пруссия вовлекла в войну на своей стороне Италию, и, таким образом, Австрии пришлось сражаться на два фронта. Россия объявила себя нейтральной и тем способствовала Пруссии в достижении победы. После подписания в Праге 23 августа 1866 года мирного договора, Пруссия стала бесспорной доминирующей силой в Германии. За пять дней до этого прусский канцлер Отто фон Бисмарк подписал договор о создании Северогерманского Союза, в который вошли 17 немецких государств, расположенных севернее реки Майн, а в сентябре и октябре того же года в Союз вступили еще 4 государства. Таким образом, бывшие независимые королевства, герцогства, княжества, архиепископства и вольные города сплотились воедино, признав своим лидером Пруссию, избрав ее короля президентом Союза и наделив его правами главнокомандующего объединенными вооруженными силами, руководителем внешней политики и главой исполнительной власти. Он же, прусский король Вильгельм I, назначал и единственного союзного министра – бундесканцлера. Им стал Бисмарк, занимавший этот пост до его ликвидации в связи с образованием в 1871 году Германской империи, где он же занял пост рейхсканцлера. Пикантность ситуации для Александра, как главы Императорского дома, заключалась в том, что при объединении Германии задевались интересы его многочисленных родственников в Гессене, Дармштадте, Вюртемберге и других государствах, так как их династические права терялись вместе с потерей ими тронов.
Однако и тут у Александра хватило государственной мудрости пренебречь последним обстоятельством ввиду значительно более важных задач, стоящих перед Германией в связи с ее объединением, и с пониманием отнестись к исторической миссии Вильгельма и Бисмарка. Такую же благожелательную к Пруссии позицию заняли правительства Англии и Франции.
В 60-е годы Россия, в согласии с Англией и Францией, признала королем Греции наследника датского престола принца Георга, а королем Румынии, или, как тогда называли, Объединенных княжеств Молдавии и Валахии, принца Карла Гогенцоллерна. Вскоре российский императорский дом вступит и с королем Георгиосом, как стал именоваться датский принц в Греции, и с Каролем, как стал именоваться Карл Гогенцоллерн, в родственные династические связи.
И в это же время все туже затягивался неразрешимый тугой узел вечного русско-турецкого соперничества на Балканах, где Россия традиционно выступала защитницей, а Оттоманская Порта – угнетательницей православных славян и греков.
В целом международная обстановка к началу 70-х годов была намного спокойнее, чем в начале или в середине XIX века.
Однако вскоре ситуация переменилась.
Летом 1870 года в немецком курортном городке Эмс, славившемся своими целебными минеральными водами, произошло событие, которое затем привело к изменению карты Европы и серьезнейшим образом повлияло на ее дальнейшую судьбу.
Оно, впрочем, было последним звеном в цепи целого ряда событий.
* * *
Собственно, исходной точкой событий следует считать сентябрь 1868 года, когда была свергнута с престола Испании жестокая и развратная королева Изабелла II. 30 сентября она бежала во Францию, а на оставленный ею трон почти сразу же стал претендовать один из Гогенцоллернов – принц Леопольд Зигмаринген, в то время уже лишившийся своего монархического статуса и находившийся на службе у прусского короля. Для того чтобы стать претендентом на испанский трон, Леопольд должен был получить согласие Вильгельма I – официального главы дома Гогенцоллернов. Как только возможность такого варианта стала обсуждаться, Франция тотчас же выдвинула решительные возражения, опасаясь появления немца на троне Испании. Вильгельм понимал опасность дальнейшего развития событий и отказался поддержать кандидатуру Леопольда. Но сторонником Леопольда, мечтавшего об испанском троне, стал «железный канцлер» Бисмарк, сумевший уговорить Вильгельма I дать свое согласие на кандидатуру Леопольда. Поддерживал ее и премьер-министр Испании Прима.
Когда Леопольд сделал заявление о выдвижении своей персоны на испанский трон, обстановка накалилась до предела, и Франция не скрывала, что не остановится даже перед войной, но не допустит немецкого принца в Мадрид, ибо это означало, что во главе соседних государств окажутся монархи из династии Гогенцоллернов.
В это самое время Александр II с императрицей выехали в Эмс, куда они регулярно ездили уже несколько лет по рекомендации врачей. На сей раз в Эмс поехала и Екатерина Михайловна, которая после Парижа была неотступно возле императора. Александр, вернувшись со Всемирной выставки, назначил ее фрейлиной своей жены, и теперь она была обязана посещать все торжественные балы и приемы, на которых бывали Мария Александровна и, разумеется, сам император.
Вместе с царской семьей приехал и министр иностранных дел князь Александр Михайлович Горчаков.
В это время в Эмсе находился и прусский король со своим министром иностранных дел – Бисмарком. Два монарха и два канцлера обсуждали самые разные вопросы, но испанской проблемы, кажется, не касались. После отъезда Александра из Эмса отношения между Францией и Германией вроде бы были улажены, как вдруг положение катастрофически обострилось.
Канцлер Бисмарк, уже находившийся в Берлине, получил от прусского советника Абекена, все еще остававшегося в Эмсе, депешу, из которой следовало, что Вильгельм I отказался поддерживать Леопольда и заверил французов об этом через своего адъютанта. Представитель министерства иностранных дел Франции, граф Винценто Бенедеттин, попросил у Вильгельма аудиенции, но король отказал ему, так как считал вопрос окончательно решенным.
Бисмарк, получив депешу, извещавшую о произошедшем, так отредактировал ее для печати, что она приняла в высшей степени оскорбительный для Франции характер. При желании, можно было не придать этому значения, но обе стороны хотели войны и превратили Эмскую депешу в удобный повод для ее начала.
8 июля Франция объявила войну Северогерманскому Союзу, чего только и ждал Бисмарк, уже отмобилизовавший армию и приготовивший ее к стремительному и мощному удару.
Великие державы сразу же заявили о своем нейтралитете, и война, начавшаяся в июле 1870 года, превратилась в поединок между Германией и Францией. Поединок этот был недолгим и закончился сокрушительным поражением Франции.
2 сентября 1870 года в сражении при Седане армия императора Наполеона III была разбита, а сам он попал в плен. (Наполеон III был сыном падчерицы Наполеона Бонапарта Гортензии Богарнэ и его брата Луи. 10 декабря 1848 года он был избран президентом Французской Республики, а через четыре года провозглашен императором.)
Как только весть о разгроме при Седане и пленении императора Наполеона III дошла до Парижа, там вспыхнуло восстание, и 4 сентября Наполеон III был объявлен низложенным. Во Франции вновь была провозглашена республика. Одним из деятельнейших ее руководителей стал крупный французский историк и видный политик 73-летний Адольф Тьер. 24 сентября он прибыл в Петербург в качестве чрезвычайного уполномоченного французского правительства, надеясь получить поддержку России в грядущих переговорах с победителями-пруссаками.
Александр принял его и заверил, что сделает все возможное, чтобы грядущий мир не был для Франции чрезмерно тяжелым и, тем более, унизительным. Тьер писал потом, что Александр – «благороднейший в мире человек, прилежный к делам, понимающий в них толк и исполненный откровенности и прямодушия». В свою очередь, царь так отозвался о Тьере: «Какой поразительный ум! И какая вера в возрождение Франции. Он так уверен в ее быстром возрождении, что даже предложил мне союз… Это благородный человек и большой патриот».
31 августа 1871 года этот «благородный человек и большой патриот», накануне подписавший мир с Германией и безжалостно подавивший Парижскую Коммуну, стал президентом Франции.
Но это произошло через восемь месяцев после того, как Вильгельм I из короля Пруссии превратился в германского императора. Символично, что провозглашение Вильгельма императором произошло не на территории Пруссии или какого-нибудь другого немецкого государства, а в Зеркальном зале Версальского дворца, загородной резиденции французских королей.
Для России одним из важнейших последствий окончания франко-прусской войны было то, что утратили силу старые соглашения, подписанные в Париже в 1856 году, о режиме в черноморских проливах.
* * *
Александр II обладал многими качествами, необходимыми главе государства. И среди них были и такие, как предусмотрительность, осторожность, склонность к компромиссам во избежание конфликтов.
Поэтому в мае 1873 года Александр утвердил подписанную в Петербурге российским фельдмаршалом Ф. Ф. Бергом и германским фельдмаршалом Х. Мольтке военную конвенцию о взаимной помощи в случае нападения на Россию или Германию третьей страны. Чтобы не раздражать Францию, по настоянию Горчакова в конвенции говорилось, что она заключена, с целью «упрочить господствующий ныне в Европе мир и удалить возможность войны».
Конвенция была подписана во время визита в Петербург императора Вильгельма, канцлера Бисмарка и фельдмаршала Мольтке. Затем Александр и Горчаков отправились в Вену, и там два императора подписали соглашение о взаимных дипломатических консультациях при возможных международных осложнениях. А 23 октября того же года к этому соглашению присоединилась и Германия, когда к Францу-Иосифу приехали Вильгельм и Бисмарк.
Так оформился «Союз трех императоров», просуществовавший 13 лет и сыгравший свою роль в развитии международных отношений в Европе.
Рождение сына и дочери в «малой» семье императора
Вечером 29 апреля Долгорукова почувствовала, что уже близятся роды. Она быстро вышла из дома, села в наемную карету и поехала в Зимний, в старый кабинет Николая I, как она заранее условилась с царем.
В 10 часов утра 30 апреля у нее родился мальчик, которого тут же тайно увезли на квартиру генерала Рылеева.
Мальчик был здоров и красив. Через несколько дней его крестили и назвали Георгием.
Узнав о случившемся, члены «большой» семьи Александра II единодушно заявили, что ни Георгий, ни его мать никогда не войдут в царскую семью и останутся вне династии.
Позицию «большой» семьи разделяла и вся русская родовая знать.
Пересуды еще не замолкли, как вдруг Александр и Долгорукова подбросили еще одну охапку хвороста в жарко пылавший костер сплетен: в конце 1873 года Екатерина Михайловна родила еще одного ребенка. На сей раз это была девочка, названная Ольгой.
Здесь уже страсти ревнителей семейной чистоты закипели так сильно, что начальник Третьего отделения граф Петр Шувалов должен был поставить царя в известность, что говорят о нем и его личной жизни в Петербурге, в России и за границей.
Царь холодно выслушал Шувалова и надменно дал ему понять, что в свою личную жизнь не даст вмешиваться никому.
Эта непрошеная инициатива стоила Шувалову места – через несколько месяцев Александр, не спросив у него ни совета, ни согласия, совершенно неожиданно для Петра Андреевича назначил его послом в Лондон. А на его место поставил дотоле скрывавшегося в тени, скромного и незнатного службиста, виленского генерал-губернатора генерал-майора Александра Львовича Потапова. Был Потапов весьма маленького роста и потому имел среди товарищей прозвище «Потапенок». Однако он обладал большим умом, великой хитростью и неуемным стремлением к власти, коей добивался тонкими интригами и огромным трудолюбием. Кроме того, был он честен, ко взяточникам совершенно безжалостен и более всего предан карьере и службе, а отсюда и государю как верховному распорядителю этой власти.
Да и Шувалову – человеку, безусловно, преданному царю и весьма способному – в Лондоне тоже было что делать: ему предстояло укрепить русско-английский династический союз, который, как и все династические союзы Европы, был густо перемешан с немецкой кровью.
Достаточно сказать, что и сама правящая тогда королева Англии и императрица Индии Виктория была отпрыском Ганноверской династии, а ее муж Альберт – принц-консорт и отец ее пятерых детей – происходил из династии герцогов Саксен-Кобург-Готских.
Брак дочери александра II великой княжны Марии Александровны с Альфредом – герцогом Эдинбургский, герцогом Саксен-Кобург-Готским
В 1874 году состоялась свадьба дочери Александра II Марии и второго сына английской королевы Виктории Альфреда Эрнеста Альберта, герцога Эдинбургского, герцога Саксен-Кобург-Готского, графа Кентского и Ольстерского.
Старший сын Виктории – Альберт-Эдуард, будущий король Англии Эдуард VII – в 1863 году женился на датской принцессе Александре – родной сестре будущей цесаревны Марии Федоровны, а тогда еще принцессы Дагмары.
Когда Дагмара в 1866 году венчалась в Петербурге с Великим князем Александром Александровичем, ее сестра, тогда уже герцогиня Уэлльская, была на последних месяцах беременности и из-за этого не смогла приехать на свадьбу. В Петербург на свадебные торжества приезжал ее муж, принц Уэлльский Альберт-Эдуард.
Альберт-Эдуард был весьма радушно принят при дворе, получил от Александра II чин полковника русской гвардии и стал из-за всего этого ярым сторонником России. Прощаясь, он пригласил цесаревича и цесаревну в Лондон, и молодые с радостью приняли его приглашение.
А еще через восемь лет второй сын Виктории, Альфред-Эрнст-Альберт, герцог Эдинбургский, а по отцу и герцог Саксен-Кобургский, решил жениться на дочери Александра II Марии Александровне.
Виктория приняла этот замысел в штыки, объясняя свою позицию прежде всего тем отвращением, которое вызывает у нее низкая нравственность отца невесты – императора Александра, позволяющего себе скандальную связь с женщиной, которая на тридцать лет младше его.
Александр II тоже сначала не слишком одобрял этот брак, потому что Мария была его единственной, и к тому же горячо любимой, дочерью, и разлука с ней представлялась отцу настоящим несчастьем. Однако Марии нравился принц Эдинбургский, с которым она виделась в Германии, в Югенгейме, у их общих немецких родственников, и она наотрез отказалась выходить замуж за кого-либо другого.
После переписки с Викторией, в которой обсуждались вопросы брака, принц Эдинбургский приехал в Петербург с еще двумя членами английского королевского дома. Виктория была возмущена тем, что ей даже не показали будущую ее невестку, хотя она и настаивала на этом, и, негодуя, выразила свое возмущение тем, что послала невестке в подарок веточку мирта – символ мира – и молитвенник. Императрица Индии, дарившая бриллианты своим горничным, на сей раз предстала перед своими новыми родственниками старой ханжой-пуританкой.
Встреча принцев была необычайно торжественной и пышной. На сей раз красные ковры были постланы уже на вокзале, а само венчание, состоявшееся 11 января 1874 года, превзошло все, случавшееся до сих пор.
Свадебные столы были накрыты в Георгиевском зале Зимнего дворца, превращенном по этому случаю в огромную оранжерею, и пока звучали тосты, на каждый из них отвечали артиллерийским салютом пушки Петропавловской крепости: за здравие их императорских величеств и ее величества королевы Великобритании и Ирландии – 51 выстрел и за каждый последующий тост – по 31 залпу.
«Ничего нельзя представить более великолепного, чем этот торжественный банкет, – писал английский посланник в Петербурге лорд Лофниус. – Блеск богатейших драгоценностей смешивался с блеском мундиров, золотых и серебряных блюд и роскошного севрского фарфора. Во время всего обеда пели талантливые артисты итальянской оперы – Патти, Альбани и Николинни, что придавало еще больше великолепия этой сцене несравненной красоты, которую трудно описать».
После бала, в котором участвовало три тысячи гостей, молодожены поехали на вокзал, где их ожидал поезд – первую брачную ночь и медовый месяц они решили провести в Царском Селе.
1874 год для императорской семьи оказался богат на свадьбы: в мае должно было состояться бракосочетание племянницы Александра II Великой княжны Веры с герцогом Вюртембергским Вильгельмом-Евгением, а в августе намечалась свадьба брата императора – Владимира Александровича с дочерью Великого герцога Мекленбург-Шверинского принцессой Марией.
Конечно же, все эти браки готовились заранее, и, несмотря на то что любовь, как правило, в каждом из них играла известную роль, все же немаловажное место занимала в них и международная политика, а также расширение и укрепление междинастических связей – нередко уже давно ставших родственными.
Брак великой княжны Веры Константиновны с герцогом Вильгельмом-Евгением Вюртембергским. поездка александра II в Англию
Сразу после свадьбы Марии и Альфреда Александр с головой ушел в так называемую «большую политику». В Петербург пожаловал – впервые в истории – австрийский император, сорокачетырехлетний Франц-Иосиф I, незадолго перед этим довольно враждебно настроенный по отношению к России. Его визит знаменовал собою конец этой вражды и окончательное примирение двух держав.
В мае того же 1874 года Александр отправился в Штутгарт на свадьбу своей племянницы Веры Константиновны с герцогом Вильгельмом-Евгением Вюртембергским.
Вера Константиновна была внучкой Николая I, дочерью Великого князя Константина Николаевича и его жены – Великой княгини Александры Иосифовны, до принятия православия принцессы Александры Саксен-Альтенбургской.
Вера Константиновна родилась 4 февраля (в день памяти святой Вероники) 1854 года, и к моменту свадьбы ей было 20 лет.
В детстве Верочку старшие двоюродные братья и сестры называли просто «маленькой», без имени. Несмотря на то, что Вера, ее старшая сестра Ольга и брат Константин были любимы всеми родственниками, – а таковых было предостаточно, – детям не хватало отца – адмирала Константина Николаевича, который по долгу службы постоянно был в разъездах. С пяти лет Вера начала писать отцу трогательные и полные любви и нежности письма.
Оказываясь в Санкт-Петербурге или в его окрестностях, Константин Николаевич, всегда очень занятый чтением и делами, урывал каждую минуту, чтобы побыть как можно дольше с детьми.
Разумеется, Великий князь посещал и светские рауты, но делал это неохотно, предпочитая обедать и ужинать у родственников, с удовольствием вводя в мир взрослых и своих детей, чтобы они постепенно приобретали навыки общения, необходимые в обществе.
17 сентября каждого года, начиная с пяти лет, Вере отмечали именины, как взрослой: с утра все Великие князья с женами и детьми приезжали к обедне, поздравляли именинницу, а потом все вместе садились завтракать, держа девочку в центре внимания. Все были серьезными, и она тоже вела себя сдержанно и степенно, с каждым разом все лучше понимая, что такое Великая княжна. Этому же способствовали и частые визиты в царскую семью, где поведение было особенно чинным.
С этого же возраста отмечали ей и дни рождения, 4 февраля обязательно устраивая обедню, правда, не всегда в церкви, а иногда и дома.
Религия, службы, церковные книги и особенно пример родственников, чаще всего искренне и глубоко верующих, сделали и Веру доброй христианкой, с детства соблюдавшей посты и все предписания православия. А ее отец, прекрасно игравший на рояле и виолончели, хорошо знавший музыку, приобщил дочь к игре на разных инструментах.
Родители часто брали детей в театр, и Вера с детства полюбила и оперу, и балет, и драматическое искусство.
С детства Веру и Олю приучали к прогулкам в окрестностях Санкт-Петербурга, поощряя к знакомствам с простыми людьми. Правда, им не разрешали делать это самостоятельно, но под присмотром учителей и фрейлин они часто гуляли по соседству с теми загородными дворцами, в которых жили.
Летом 1860 года Константин Николаевич получил в подарок «американский кабриолет» – одну из первых разновидностей автомобиля – и быстро его освоил, с удовольствием катая в нем детей. А 1 июня 1860 года у Веры появился брат Дмитрий, и она стала заботливой нянькой.
Вместе с первой радостью – обретением нового родного человека, шестилетняя Верочка поняла и то, что случаются и невозвратные потери, – в ночь на 20 октября 1860 года скончалась ее 62-летняя бабушка, вдовствующая императрица Александра Федоровна. 29 октября Александру Федоровну похоронили в Петропавловском соборе, и Вера в первый раз присутствовала при погребении, а 10 марта 1861 года девочка впервые исповедалась, и это тоже произвело на нее психологически сильное впечатление.
Вера обожала свою мать. Когда 2 июня 1861 года Александра Иосифовна уезжала в Киль, на родину, Вера, хоть и понимала, что мать вскоре вернется, но рыдала столь безутешно, что, жалея ее, плакали и взрослые.
Становясь взрослее, она переживала обычные метаморфозы роста, но к юности характер стал у нее ровнее, и она превратилась в милую девушку, сохранив все положительные черты, которые были у нее в детстве.
С Вюртембергским домом у Романовых были давние родственные связи: Павел I вторым браком – с 1776 года – был женат на Софье Вюртембергской (в православии императрице Марии Федоровне). Их дочь Екатерина с 1816 года была женой короля Вюртемберга Фридриха-Вильгельма, а их младший сын – Михаил – был женат с 1824 года на принцессе Каролине Вюртембергской (в православии – Елене Павловне). Внучка Павла I, дочь Николая I, Великая княжна Ольга, с 1846 года была королевой Вюртемберга, так как ее мужем был король Фридрих-Карл.
И, наконец, внучка Николая I – стало быть, правнучка Павла I и Марии Федоровны и, таким образом, четвертое поколение в доме Романовых, роднящееся с Вюртембергской династией, – Великая княжна Вера Константиновна, обвенчавшаяся с Вюртембергским герцогом Вильгельмом-Евгением.
* * *
Прежде чем продолжать наш рассказ далее, необходимо вспомнить о событиях, происходивших в Германии и Вюртемберге в 60-х – начале 70-х годов XIX столетия.
Следует иметь в виду, что среди множества государств, находившихся на территории, населенной немцами, лишь два из них – Пруссия Гогенцоллернов и Австрия Габсбургов – были державами, претендовавшими на ведущую роль. В результате длительной борьбы между Пруссией и Австрией за господство в Германии летом 1866 года начался конфликт из-за Шлезвиг-Гольштейна.
В это время все еще существовал Германский союз, созданный после падения Наполеона в июне 1815 года Венским конгрессом.
К 1866 году в Германский союз входили 32 немецких государства. Кроме того, свои династические интересы защищали в нем короли Англии и Голландии, так как они владели Ганновером и Люксембургом, а также и датский король, владевший Гольштейном и Лауэнбургом.
С самого начала существования Германского союза господствующую роль играла в нем союзница Наполеона Бонапарта – Австрия. 14 июня 1866 года Германский союз по предложению Австрии принял решение мобилизовать союзную армию против Пруссии.
Однако это решение Пруссию врасплох не застало: еще раньше прусский канцлер Отто фон Бисмарк договорился с Россией и Францией о нейтралитете, а в апреле 1866 года заключил секретный военный союз с Италией, объединению которой мешала Австрия.
Прусская армия находилась в постоянной боевой готовности и потому 16 июня вторглась в Ганновер, Гессен и Саксонию, а 20 июня 250 тысяч итальянских войск вступили в занятую австрийцами Венецианскую область.
Война была быстрой и победоносной для Пруссии и Италии. Уже 23 августа в Праге был подписан Мирный договор. По этому договору Австрия соглашалась на роспуск Германского союза, обещала не вмешиваться впредь в дела немецких государств и давала согласие «на новое устройство Германии». Австрией было признано и присоединение Венецианской области к Италии. Бисмарк тут же основал вместо Германского союза Северогерманский союз. Договор о его создании был подписан за четыре дня до подписания Пражского мирного договора – 18 августа. В него вошли Пруссия и еще 17 северогерманских государств, к которым со временем присоединялись все новые, в том числе и южно-германские.
1 июля 1967 года вошла в силу конституция Северогерманского союза, по которой Президентом союза был король Пруссии, семидесятилетний Вильгельм I Гогенцоллерн. В компетенцию союза входили: военное дело и иностранные отношения, монетная система, почта и железные дороги.
Были определены права Рейхстага – Государственного собрания – и Бундесрата – Союзного совета, – органа представительства земель. Оба эти совета играли весьма второстепенную роль, руководили же всем король Пруссии и его канцлер, в данном случае – Бисмарк.
В Северогерманский союз не входили некоторые государства Южной Германии, в том числе и Вюртемберг, оставаясь относительно нейтральными. Однако, когда в июле 1870 года между Пруссией и Францией началась война из-за того, что Франция препятствовала объединению Германии, в Вюртемберге поднялась волна националистических выступлений в поддержку Пруссии.
То же самое происходило и в других южно-германских государствах. Понимая, что их позиция должна быть изменена, Бисмарк до начала франко-прусской войны подписал договор о передаче под контроль прусского генерального штаба армий Баварии, Бадена, Вюртемберга и Гессен-Дармштадта.
И как только война началась, все южно-германские войска приняли в ней участие на стороне Пруссии.
8 августе 1870 года французская армия была разгромлена в ряде сражений, и 2 сентября Франция капитулировала. В плен попал и император Наполеон III.
А в ноябре все немецкие государства, дотоле не входившие в Северогерманский союз, вошли в него (последним, 26 ноября 1870 года, вступил Вюртемберг). И, таким образом, было устранено последнее препятствие для создания Германской империи.
9 декабря Рейхстаг Северогерманского союза постановил, что будущее государство будет называться «Германской империей».
И 18 января 1871 года она была провозглашена в Версале.
День провозглашения Германской империи был выбран не случайно: 18 января 1701 года бранденбургский курфюрст Фридрих Гогенцоллерн был коронован в Кенигсберге (ныне Калининград) и стал королем Пруссии под именем Фридриха I.
А 18 января 1871 года в Зеркальной зале Версальского дворца была провозглашена Германская империя во главе с кайзером Вильгельмом I.
Провозглашенная империя занимала площадь в 540 тысяч квадратных километров. Ее население превышало 41 миллион человек. Империя состояла из тех же регионов, что и Северогерманский союз, а вскоре основой конституции новой империи стала прежняя конституция Северогерманского союза.
Все прежние феодальные государственные образования сохранили свои названия, их правители не утратили свои титулы, звания и достоинства, не утеряв и многих своих прерогатив.
В империю входили 4 королевства, в их числе и Вюртемберг, 6 Великих герцогств, 12 герцогств и 3 Вольных города.
Конституция Германской империи была принята имперским Рейхстагом 14 апреля 1871 года.
Внешне либеральная и даже весьма демократическая конституция на самом деле представляла полное торжество военного деспотизма, бюрократически сколоченного и строго охраняемого полицией.
Власть сосредоточилась в руках трех человек: императора, Бисмарка, ставшего канцлером империи, и начальника Генерального штаба, фельдмаршала Мольтке-Старшего, автора плана победоносной франко-прусской войны. Среди 25 старых государств, вошедших в империю, руководящая роль принадлежала Пруссии и привела к торжеству ее государственных, военных и моральных принципов, к успеху идеологии прусского юнкерства.
Королевство Вюртемберг как было раньше, так и осталось при императоре Вильгельме во многом автономным государством.
Что же касается Германской империи, то ее появление было встречено в Европе по-разному: кто радовался этому, кто негодовал, а многие – особенно ее соседи – откровенно боялись этой новой огромной силы.
И как бы подводя итог шестидесятым – началу семидесятых годов XIX столетия, в самом начале 1873 года на европейский континент пришло сообщение, что 9 января в маленьком английском городке Чизи-хёрсте, близ Лондона, скончался бывший император Франции Наполеон III – отпущенный на волю вскоре после капитуляции его армии, он уехал в Англию, где и умер в изгнании.
Такой была обстановка в Европе и в Германии, когда Вера Константиновна приехала в Штутгарт.
Город, конечно же, показался ей убогим и маленьким по сравнению с Санкт-Петербургом или Москвой, хотя и считался одним из крупных политических, торговых и культурных центров Германии. Старый город мог похвалиться двумя-тремя дворцами, старой ратушей да парой исторических соборов.
Однако в области культуры его прославили поэты Шиллер и Шубарт, а в области науки – философ Гегель.
Не слишком роскошной была и свадьба. Если бы не царское приданое невесты, то брачные торжества могли показаться более чем скромными, несмотря на то, что титулованных немецких родственников на свадьбе было предостаточно.
После свадьбы Александр II отправился в Англию, выполняя вторую часть поездки, которая была задумана им еще в Санкт-Петербурге, до того как поехал он в Штутгарт.
Официально было объявлено, что русский царь едет в Лондон, чтобы повидаться со своей любимой дочерью – Марией, совсем недавно ставшей герцогиней Эдинбургской.
Однако свидание с Марией Александровной было лишь соблюдением дипломатической формальности.
На самом же деле царь решил во что бы то ни стало добиться симпатии англичан и посеять на островах семена русофилии, заглушив будущими всходами бурные сорняки традиционной для Англии русофобии.
Александр ехал с пристани в открытой коляске, и тысячи любопытствующих англичан находили русского царя не азиатским владыкой, а настоящим джентльменом.
Королева Виктория встретила царя у входа в Виндзорский дворец и потом лично сопровождала его по городу.
Визит Александра в Англию оказался успешным, хотя Англия и не стала союзницей России, она все же стала склоняться к тому, что в будущем такая позиция может стать для нее не только приемлемой, но и необходимой.
Светлейшие князья Юрьевские
Вернувшись в Петербург, Александр озаботился и статусом своих незаконных детей – Георгия и Ольги. В силу своей самодержавной власти, российский император имел право издавать любой закон, причем независимо от того, противоречит новый закон прежним или только дополняет их. Поэтому Александр был волен дать своим детям любой статус, и он избрал оптимальный вариант – 11 июля 1874 года в Царском Селе он издал указ: «Малолетним Георгию Александровичу и Ольге Александровне Юрьевским даруем Мы права, присущие дворянству, и возводим в княжеское достоинство с титулом Светлейших. Александр».
Он решил, что давать детям фамилию их матери не следует, ибо их могли не признать другие Долгоруковы; дать имя Романовых он не мог, так как Екатерина Михайловна не состояла с ним в церковном браке, который, единственно, мог бы дать ей и детям его фамилию. И Александр решил назвать сына и дочь Юрьевскими, потому что основателем рода Долгоруковых был князь московский Юрий Долгорукий, восьмой сын Великого Киевского князя Владимира Мономаха. А так как «Долгорукий» было не более чем прозвищем князя Юрия, то не справедливей ли было назвать этих его потомков, отдаленных семью веками, светлейшими князьями Юрьевскими, дав тем самым простор новой ветви древнего генеалогического древа?
Написав указ, Александр, однако, не отослал его в Сенат, а, сохранив в тайнике, вручил генералу Рылееву, приказав хранить его до того времени, когда и понадобится его опубликование.
Свадьба великого князя Владимира Александровича и принцессы Марии Мекленбург-Шверинской
После благополучного разрешения беспокоившей его непростой проблемы с детьми из «малой семьи» Александр II занялся подготовкой к свадьбе Великого князя Владимира Александровича.
Владимир родился 10 апреля 1847 года и был третьим после покойного Николая и цесаревича Александра сыном императора. Его будущей женой стала Великая герцогиня Мекленбург-Шверинская – Мария-Александрина-Елизавета-Элеонора.
Император Александр II почему-то разрешил ей не принимать православия и остаться протестанткой. Этот случай был первым в доме Романовых и стал прецедентом для некоторых других невест из протестантских семей. Однако в 1908 году Мария добровольно перешла в православие, по глубокому внутреннему убеждению.
16 августа 1874 года Мария Павловна и Владимир Александрович обвенчались. По мнению многих, они представляли собой прекрасную пару. Владимиру было 27 лет, Марии – 20.
Несмотря на молодость, Мария Павловна многим придворным напоминала Екатерину Великую: она была прекрасно образованна, необычайно умна, очень самостоятельна и даже слыла вольнодумствующей.
Патриот и русофил Александр III не любил ее за то, что она осталась в протестантстве, и считал Марию германофилкой.
Двор Марии Павловны был очень влиятелен и активно формировал общественное мнение высшего света. Кроме того, Мария Павловна широко привлекала на свои приемы банкиров, торговцев и промышленников, которые из-за своего неаристократического происхождения не могли попадать ко двору. А у Марии Павловны они охотно становились благотворителями, с удовольствием отдавая на добрые дела много тысяч рублей.
Через год после свадьбы, 19 августа 1875 года, Мария Павловна родила первенца – Александра, который, однако, не прожил и полутора лет. Но 30 сентября 1876 года появился на свет второй сын, названный Кириллом.
А вообще к январю 1882 года – за семь лет – Мария Павловна выполнила «августейшую норму», произведя на свет пятерых детей: после Александра и Кирилла Великая княгиня родила Бориса (12 ноября 1877 года), Андрея (2 мая 1879 года) и Елену (17 января 1892 года), которая в 20 лет вышла замуж за Николая – Великого князя Греческого из династии Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбург.
После восшествия на трон Александра III Владимир Александрович стал вторым человеком в дворцовой иерархии, соответственно и его жена оказалась старшей среди Великих княгинь царской фамилии. (Среди женщин только императрица-мать сохранила перед невесткой Марией Павловной несомненное главенство.)
Мария Павловна с умом и тактом использовала свой статус, но в тех вопросах, которые она считала важными, ее позиция всегда оказывалась неколебимой.
Вместе с Великим князем Николаем Михайловичем – внуком Николая I и сыном Великого князя Михаила Николаевича – Мария Павловна была самой важной персоной так называемой «великокняжеской фронды» – прямой оппозиции Николаю II и особенно императрице Александре Федоровне. Николай Михайлович был выдающимся историком, создателем и первым председателем Русского исторического общества, существовавшего с 1909 до 1917 года. Он понимал, что монархия в России обречена, и видел главное зло в Александре Федоровне и опутавшем ее проходимце и авантюристе Распутине.
И Николай Михайлович, и Мария Павловна одинаково относились к тому, что происходило на их глазах, и Мария Павловна сочувственно и с полным пониманием воспринимала постоянно произносимую Николаем Михайловичем фразу «наш дурачок Ники».
(В 1918 году Михаил Николаевич был заключен в Петропавловскую крепость и 28 января 1919 года расстрелян большевиками.)
Великий князь Владимир Александрович очень походил на своего отца – императора Александра II. Он был отлично сложен, красив, умен и хорошо образован, однако, как многие русские вельможи, считал, что он всегда прав, не терпел возражений и позволял в крайнем случае перечить себе только наедине.
Как почти все Великие князья, он с младых ногтей был приписан к гвардии, однако этим не исчерпывались его служебные обязанности. Он страстно любил живопись и с 1867 был президентом Академии художеств. Не следует думать, что Владимир Александрович был крупным искусствоведом: с 1843 года императорская Академия художеств находилась в ведении Императорского двора и ее президентами были только особы царской крови. Точно так же, не будучи ученым, Владимир Александрович был избран почетным членом Российской Академии наук. Принадлежность к царской семье обеспечивала Великому князю беспрепятственное прохождение по лестнице чинов и званий как в военном ведомстве, так и в гражданской службе. В середине 70-х годов Владимир Александрович возглавлял Комитет по созданию офицерских собраний армии и флота.
Забегая вперед, скажем, что Владимир Александрович к концу жизни, – а скончался он 4 февраля 1909 года – был генералом от инфантерии, генерал-адъютантом, членом Государственного Совета и президентом Академии художеств. Кстати, в 1909 году президентом Академии художеств стала его вдова Мария Павловна.
Во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов – войны за освобождение Болгарии от турецкого ига – Владимир Александрович стоял на левом фланге Рущукского отряда, командуя 12-м корпусом, отразившим 14 и 30 ноября 1877 года наступление главных турецких сил, что принесло Владимиру Александровичу славу подлинного полководца.
После войны Великий князь с 1884 года был Главнокомандующим российской гвардией, а потом и Петербургским военным округом. В 1905 году он стал организатором расстрела демонстраций, состоявшихся в Санкт-Петербурге 9 января.
Эсеры приговорили Владимира Александровича к смерти, но покушения на него оказались безуспешными.
Великий князь умер 4 февраля 1909 года от болезни почек.
Миротворческая миссия
После свадьбы сына Александр II недолго пробыл в Петербурге. События в Европе развивались таким образом, что уже весной 1875 года царь вынужден был поехать в Берлин. Его отъезд объяснялся единственной причиной – серьезным опасением начала новой войны между Германией и Францией.
К этому времени Франция уже выплатила Германии чудовищную контрибуцию в 200 миллионов золотых франков и, более того, сумела не только восстановить, но и значительно увеличить свою военную мощь. Этим обстоятельством был чрезвычайно обеспокоен Бисмарк, полагавший, что если Германия еще раз не разгромит Францию, то сама может стать ее жертвой.
В Берлине Александр II решительно заявил кайзеру Вильгельму, что не потерпит нападения на Францию. Вильгельм, не признаваясь в агрессивных замыслах, закончил беседу тем, что переадресовал царя к своему канцлеру. Александр принял Бисмарка на следующий день и столь же категорично заявил ему, что в случае войны Германии с Францией Россия не останется нейтральной. Позиция Александра серьезно повлияла на отношения двух держав – Бисмарк не только пообещал оставить Францию в покое, но и на самом деле прекратил всякие враждебные по отношению к ней действия.
Однако, не дав затянуться одному узлу международных противоречий, Александр не смог предотвратить затягивание другого узла – восточного.
Турция все еще жила, хотя и была таким же «тяжелобольным человеком», как и в царствование Николая. Она все еще была центром империи, в которую входили многие христианские народы Балкан, традиционно воспринимавшие Россию как защитницу и освободительницу. Этот узел проблем возник несколько веков назад и давал знать о себе, как только православные народы брались за оружие, пытаясь сбросить с себя ненавистное османское иго.
Ненависть этническая дополнялась ненавистью религиозной, а это оказывалось в совокупности такой гремучей смесью, от которой мог взлететь на воздух не только Балканский полуостров, но и вся Европа.
Спасение мира и благонравия в собственном доме
Уладив, как мог, дела внешнеполитические, Александр занялся «домашним устроением». И неизвестно, где потребовались от него большие усилия – в Берлине или же в Петербурге, ибо все сильнее разраставшаяся императорская семья порождала все новые и новые заботы.
Здоровье императрицы не улучшалось. Ее заботило все то же – судьба детей и внуков, а также ставшая неизбывной проблема неверного мужа и его невенчанной жены с двумя маленькими детьми. Старший сын, цесаревич Александр, свято хранил верность жене и благополучно растил троих детей – семилетнего Николая, четырехлетнего Георгия и только что появившуюся на свет Ксению. В семье второго сына императора и императрицы, недавно женившегося Владимира, ждали первенца. Следующий сын – двадцатипятилетний Алексей, женат не был, увлеченно служил во флоте и, совершив в 1871—1872 годах кругосветное путешествие, мечтал не о женщинах, а о море, и потому хлопот родителям не доставлял. Единственная дочь императора, Мария, как мы знаем, жила в Англии, а двое младших сыновей – Сергей и Павел – были еще юношами восемнадцати и семнадцати лет.
Гораздо более, чем дети, доставляли императору хлопот его младшие братья – Константин и Николай, и старший из племянников – Великий князь Николай Константинович, к этому времени уже двадцатипятилетний мужчина.
Объясняя, отчего почти все великие князья становились бонвиванами и шалопаями, А. А. Толстая писала в 1899 году: «Почему все они или почти все ненавидят свои классные комнаты? Да потому, что они видят в этой гимнастике ума невыносимое ярмо, давящее на них, тогда как они отнюдь не убеждены в его необходимости и стараются не утруждать себя понапрасну… Боязнь скуки преследует кошмаром наших Великих князей, и эта боязнь идет за ними из детства в юность и к зрелому возрасту становится обычной подругой их жизни. Только этим я могу объяснить некоторые связи, возникающие во дворце и принимающие невероятные размеры… Очень часто участники таких фарсов не имеют иных достоинств и пользуются весьма незавидной репутацией, но это не мешает общению с ними.
Словом, нельзя упрекнуть кого-либо персонально за сложившийся порядок вещей. Такова судьба сильных мира сего, они ведут совершенно ненормальное существование, и нужно быть гением или ангелом, чтобы суметь противостоять ему».
А они не были гениями, но, уподобляясь ангелам, избрали своим земным раем Императорское театральное училище, которое придворные и офицеры между собой чаще называли «придворным гаремом», ибо именно оттуда, особенно из балетного отделения, рекрутировались любовницы Великих князей.
Николай Николаевич Старший – брат Александра II – был покорен бывшей воспитанницей балетного отделения мадемуазель Числовой. Это случилось в 1865 году, когда прошло уже девять лет со дня свадьбы Николая Николаевича Старшего с Александрой Петровной Ольденбургской. Однако отношения Великого князя с балериной интрижкой назвать было нельзя: у них возникла большая семья, и Николай Николаевич в этой семье был по-настоящему счастлив.
Еще один брат императора, Великий князь Константин Николаевич, сам стал жертвой неверности и порочных склонностей своей жены, Великой княгини Александры Иосифовны, которую он однажды на время вынужден был отправить за границу. Говорили, что поводом к изгнанию Александры Иосифовны были излишне нежные отношения ее к бывшей ее фрейлине Анненковой. «Невероятности» такого рода случались с Александрой Иосифовной и за границей. Обыватели швейцарского города Веве рассказывают, что Великая княгиня Александра Иосифовна во время своего проживания там в пансионе «Эрмитаж» имела недоразумение с двумя матерями девочек 14 и 16 лет и что матери этих девочек получили от нее по 8 и 10 тысяч франков, чтобы не давать дальнейшего следствия этим скандальным «недоразумениям». По утверждению князя С. Д. Урусова, Александра Иосифовна была весьма неравнодушна и к мужчинам и даже доводила адъютантов своего мужа до истощения.
История сохранила и ее роман с великим музыкантом Иоганном Штраусом, когда он в 1856 году был приглашен в Россию и в вокзале Павловска дирижировал концертами, привлекшими к «королю вальса» огромное стечение публики. Александра Иосифовна, как и многие другие, до такой степени была им очарована, что даже вышила Штраусу его подтяжки. Это чувство она сохранила к великому композитору на всю жизнь, выписав его в Петербург на очень непродолжительное время, когда он был уже стариком.
В большой императорской семье были и другие подобные истории, скандалы и казусы, но автор будет рассказывать лишь о тех из них, которые касались членов династии Романовых и представителей немецких владетельных домов.
Освобождение Болгарии
В апреле 1876 года началось восстание в Болгарии, к лету безжалостно подавленное турками. Это вызвало необыкновенно сильное сочувствие к братьям-болгарам, а затем и к другим славянским народам Балкан – сербам, черногорцам, боснийцам.
Видный французский историк и крупный дипломат академик Жорж Морис Палеолог писал: «Красноречие Аксакова, Самарина, Каткова, Тютчева взволновало общественное сознание и оживило идеи панславизма. В опьяняющей атмосфере Московского Кремля говорили лишь о Византии, о Царьграде, Золотом Роге, Святой Софии и об исторической миссии русского народа. Вскоре все слои общества, от дворянства до крестьян и от интеллигенции до купцов, были охвачены националистическим бредом. Немногие уцелели от этой заразы. Еще меньше было тех, кто открыто с ней боролся». К числу тех, кто долго противился этому панславистскому дурману, принадлежал и Александр II. Однако сила общественного мнения была столь велика, что царь не мог более ей противиться, и 12 апреля 1877 года, в годовщину начала Болгарского восстания, Россия объявила войну Турции.
Россия основательно подготовилась к новой войне и загодя отмобилизовала против турецких войск две армии – Бессарабскую и Кавказскую.
В день объявления войны Турции Бессарабская армия, находившаяся под командованием великого князя Николая Николаевича Старшего, перешла Прут и двинулась к Дунаю. Одновременно с нею в Армению вступила Кавказская армия, которой командовал другой брат царя – Великий князь Михаил.
В день начала войны Александр прибыл в Кишинев, где стоял штаб его брата Николая Николаевича и находилась его собственная ставка. Среди местных жителей здесь были тысячи бессарабских болгар. Император сам подписал приказ о выступлении против турок и провожал войска, двинувшиеся в поход.
Затем и сам Александр выехал в действующую армию и, подобно Петру Великому, делил с солдатами и офицерами все тяготы войны, нередко ночуя в избах и хатах, питаясь из солдатского котла, бесстрашно стоя под пулями неприятеля.
Братья царя не блистали воинскими талантами, и царь назначил командующим Передовым отрядом генерал-адъютанта И. В. Ромейко-Гурко, показавшего себя выдающимся полководцем. Столь же блистательным военачальником был и командующий Западным отрядом генерал Криденер.
Передовой отряд генерала Гурко, состоявший всего из 12 тысяч солдат и офицеров, перейдя Дунай, стремительно бросился вперед и, разбив под Карабунаром турецкую конницу, 25 июня освободил древнюю столицу Болгарии – Тырново, и вскоре занял Шипкинский перевал, ставший ареной длительных и тяжелых боев с быстро подошедшими сюда турецкими силами.
Александр шел по Болгарии вместе со своей армией. Английский военный атташе полковник Веллеслей, участник этого похода, доносил своему министру: «Царь Александр живет в разрушенном болгарском доме с земляным полом и земляными стенами. Он целые дни посещает раненых, появляясь лишь во время завтраков с двумястами своими офицерами в обширной военной палатке, воздвигнутой среди поля… Александр выглядит усталым и осунувшимся. И хотя его заставило предпринять эту войну общенародное рвение, не было у него к ней личного вдохновения и был он глубоко озабочен оборотом, который принимала военная кампания».
* * *
…Среди русских военачальников в действующей армии находился храбрый и талантливый молодой офицер – принц Александр Баттенбергский, племянник императрицы Марии Александровны. Отцом принца был родной брат императрицы – Александр, считавшийся, как и она сама, сыном швейцарского барона Людвига де Гранея и великой герцогини Гессен-Дармштадской Вильгельмины. Юный шурин цесаревича Александра Николаевича появился вместе с сестрой в Петербурге, когда ему было пятнадцать лет. Юноша очень понравился императору Николаю I своей статью, ловкостью, немецкой подтянутостью и исполнительностью. Кроме того, юный принц оказался еще и прекрасным кавалеристом.
Все это склонило Николая I дать мальчику чин ротмистра конной гвардии. После помолвки сестры с цесаревичем Александром юный принц получил чин полковника, а в 1843 году новый восемнадцатилетний родственник царя стал генерал-майором. К счастью, принц оказался не из тех, кому чины достались понапрасну. Он не был паркетным шаркуном и рвался на войну. В 1844 году Николай разрешил ему отправиться на Кавказ, в армию князя Воронцова, где принц стал командующим всей кавалерией Кавказской армии. В 1845 году он отличился при штурмах крепостей Анди и Дарго, подтвердив еще раз репутацию храбреца и рубаки.
Вернувшись в Петербург, молодой генерал влюбился во фрейлину императрицы Марии Федоровны – Юлию фон Гауке. Она была дочерью польского военного министра, генерала от артиллерии графа Морица фон Гауке, служившего вместе с великим князем Константином Николаевичем в Варшаве. В 1830 году, во время восстания, когда Константин Павлович чудом избежал смерти, граф Гауке пал от руки мятежников, и его дочь Юлия осталась сиротой. Пятилетней девочкой ее поместили в Смольный. Оттуда юная графиня попала во дворец, став фрейлиной императрицы, где и увидел ее принц Александр.
В 1851 году она стала его женой, как считали многие, окрутив храброго, безоглядного и влюбчивого молодого человека, бывшего к тому же тремя годами младше предприимчивой польской графини. Как только они поженились, император Николай тотчас же выслал их за границу, назначив молодым супругам приличную пенсию. Они уехали в Гессен, где Великий герцог, формальный отец принца Александра, пожаловал ему титул графа Баттенберга, в дальнейшем дав им титул светлейших князей Баттенбергов. Следует заметить, что все их сыновья заключили необычайно удачные браки.
Светлейшая княгиня Юлия родила четверых сыновей. Людвиг-Александр стал вице-адмиралом британского флота и в 1884 году женился на Гессенской принцессе Виктории – старшей сестре жены императора Николая II Александры Федоровны. Второй сын – Александр, о котором подробно пойдет речь дальше, – служил в русской армии, показав себя не меньшим храбрецом, чем его отец, отличившийся в Кавказской войне. Третий сын – Генрих – стал основателем рода герцогов Маунтбаттенов, женившись на принцессе Беатрисе, дочери английской королевы Виктории. Именно от этой супружеской пары впоследствии пошла ветвь английского аристократического рода – герцогов Маунтбаттенских, занимающих и до сего дня выдающееся положение в Англии. Достаточно сказать, что муж королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский и Маунтбаттеннский Филипп – прямой потомок Юлии и Александра Баттенбергов. И, наконец, четвертый сын – Франц-Иосиф, служивший в болгарской армии в чине полковника, стал мужем Черногорской принцессы Анны, еще раз породнившись с домом Романовых, так как они тоже были в династических связях с домом владетельных князей Черногории.
…Итак, в 1877 году Александр Баттенберг, двадцатилетний светлейший князь, племянник императора Александра II, делал первые шаги на военном поприще. Родившись в Германии, он там же получил и военное образование, едва успев к 1877 году закончить офицерское училище в Дрездене. В русскую армию он пошел не просто добровольцем, князь был ревностным поборником идеи освобождения Болгарии и потому храбро дрался и на Шипке, и под Плевной (ныне Плевен).
А между тем именно под Плевной русскую армию постигла первая неудача – Осман-паша разбил войска Николая Николаевича, неудачно осаждавшие город.
Через десять дней турки, овладев инициативой, нанесли еще один сильный удар. Александр отдал приказ об отступлении и перенес свою Ставку в деревню Горний Студень, лежавшую в 25 километрах от Дуная. Отошла на север и штаб-квартира Николая Николаевича, и войска Гурко, оставившие перевалы.
Плевну взяли лишь 28 ноября 1877 года после пятимесячной осады и нескольких безуспешных, кровопролитных штурмов.
Важную роль при взятии Плевны сыграл сорокатысячный румынский корпус, который находился под командованием князя Румынии Карла I Гогенцоллерна.
В 1877 году, когда пала Плевна, Карлу I было 38 лет. Он был избран князем Румынии всенародным плебисцитом в 1866 году и с тех пор, вот уже одиннадцать лет, успешно, хотя и не без трудностей, управлял государством.
Победа над Турцией очень сильно подняла авторитет Румынии, которая 26 марта 1881 года стала королевством, а Карл I Гогенцоллерн – ее королем (под именем Кароля I).
В декабре 1877 года русские войска в двадцатиградусный мороз, сбивая турок с хорошо укрепленных позиций, перешли Балканы и вступили в Центральную и Южную Болгарию. Через месяц турки попросили перемирия, но Александр приказал продолжать наступление, и 19 января 1878 года передовые отряды Гурко и молодого генерала Михаила Дмитриевича Скобелева оказались всего в тридцати километрах от Константинополя.
Разгром Турции и военная победа России на Балканах требовали дипломатического подтверждения всего достигнутого, а сделать это было нелегко, прежде всего из-за решительного противодействия Англии и особенно самой королевы Виктории.
И в этом отношении характерен следующий эпизод.
…На рейде Константинополя стоял английский флот, в составе которого находился военный корабль «Султан» под командованием герцога Эдинбургского Альфреда – родного сына Виктории и зятя Александра II, три года назад женившегося на его дочери, великой княжне Марии Александровне.
Герцог счел возможным пригласить на свой корабль Александра Баттенберга, племянника российского императора и, соответственно, двоюродного брата своей жены. Кузен, служивший во вражеской армии, не преминул воспользоваться предложением и пожаловал на рейд Константинополя, а затем и на борт «Султана». Королева Виктория расценила этот визит как шпионскую акцию русских, чьим агентом она считала Александра Баттенберга, тем более что герцог Эдинбургский представил ему всех офицеров высшего ранга и даже была продемонстрирована новейшая, только что изобретенная и потому совершенно секретная торпеда. Королева потребовала от Британского Адмиралтейства сместить ее сына с поста командира корабля, пока «Султан» стоит у Константинополя.
Разгорячившись, Виктория написала своему премьер-министру Дизраэли, что «если Англия будет продолжать лизать русские ноги», то она откажется от престола. Но Дизраэли, сторонник мира с Россией, проявил благоразумие и на обострение англо-русских отношений не пошел. Однако королева настаивала на ужесточении британской позиции, и ее премьер-министр вынужден был послать флот к Принцевым островам, лежащим в Мраморном море между проливами Босфор и Дарданеллы.
В ответ русские войска двинулись вперед и вышли к местечку Сан-Стефано, расположенному в десяти километрах от Константинополя.
19 февраля в Сан-Стефано русские уполномоченные граф Н. П. Игнатьев и А. И. Нелидов и турецкие уполномоченные Сафвет-паша и Саадулла-бей подписали мирный договор. По этому договору Сербия, Румыния и Черногория получали полную независимость, а Болгария, Босния и Герцеговина становились автономными территориями. Болгария освобождалась от присутствия турецких войск и получала право избрать собственного князя. Кроме того, Россия возвращала себе земли и города, отошедшие к Турции по Парижскому договору 1856 года.
В тот же день – 19 февраля – Николай Николаевич послал царю телеграмму, в которой, поздравляя брата с заключением мира, писал: «Господь сподобил Вас окончить начатое Вами святое дело: в самый день освобождения крестьян Вы освободили христиан от мусульманского ига».
Однако великие державы – все, кроме Франции, – были напуганы и не удовлетворены итогами Сан-Стефанского мира. Для того чтобы низвести успехи России до минимума, Англия, Австро-Венгрия, а также и Бисмарк, не простивший Александру его позиции по отношению к Германии в 1875 году, развили бешеную инициативу и 1 июля 1878 года, всего через три месяца после подписания мира, сумели созвать в Берлине конгресс, на котором присутствовали представители Германии, Англии, Австро-Венгрии и России. Франция, Италия и Турция были приглашены в Берлин без права решающего голоса. Инициаторы созыва конгресса обкорнали и расчленили Болгарию, отняли у Румынии часть Бессарабии и свели дело к тому, что глава русской делегации канцлер Горчаков должен был с горечью констатировать: «Мы потеряли сто тысяч солдат и сто миллионов золотых рублей в этой кампании, и все наши жертвы были напрасными».
Итог переговоров объяснялся тем, что в казне на ведение войны не было ни копейки, а ряды армии беспощадно косила эпидемия тифа.
Еще за двенадцать дней до начала Берлинского конгресса Горчаков 18 мая вынужден был подписать с англичанами тайное соглашение, предопределявшее содержание заключительного документа конгресса, а 23 и 25 мая Англия подписала конвенции с Турцией и Австрией, зафиксировавшие общую политическую линию в переговорах с Россией. Так как все предварительные переговоры велись в глубокой тайне, то результаты Конгресса оказались для русских неожиданными и ошеломительными. И когда в России и Болгарии узнали обо всем произошедшем, то у множества даже далеких от политики людей это вызвало не просто разочарование, но сильнейшую ненависть к правительству и самому императору Александру, которого считали виновником нового национального позора России.
* * *
Однако следует подчеркнуть, что борьба европейских держав на Балканах и в соседних с полуостровом странах и территориях привела в XIX веке к таким результатам, которые объективно усилили роль немецких династий в этом ареале.
По разным причинам – чаще всего в результате поисков политических компромиссов – на престолах некоторых государств оказались короли из владетельных домов Германии. Так, в Болгарии князем стал Александр Баттенберг, о котором рассказывалось выше, а затем трон перешел к династии Кобургов (Фердинанд I).
В Греции в 1832 году королем стал Оттон I из баварской династии Виттельсбахов. И хотя в 1862 году Оттон I Баварский был низложен в результате национального греческого движения, ему наследовал еще один иностранный принц, – на сей раз датский, – но из немецкой династии Глюксбургов – Вильгельм-Георг. (Из этой же династии Глюксбургов происходила и принцесса Дагмара – в России Великая княгиня, а потом и императрица Мария Федоровна.) Став королем Греции, Вильгельм-Георг, на греческий лад, стал называться «Георгиосом I».
В Румынии в 1866 году к власти был приведен принц Карл I, ставший в Бухаресте Каролем, из династии Гогенцоллернов-Зигмарингенов – так называемой «швабской» линии Прусской королевской семьи.
Что же касается непосредственно Балкан, то там существовали две собственных славянских королевских династии – Карагеоргиевичей и Обреновичей. Один из потомков династии Карагеоргиевичей – Александр – встал во главе организованного им в 1918 году Государства сербов, хорватов и словенцев, которое до Второй мировой войны часто называли Королевством Югославия.
В этом неравном «Союзе трех» ведущая роль принадлежала Сербии. Однако следует иметь в виду, что на Балканах существовала и еще одна очень авторитетная славянская династия – Петровичей-Негошей, управлявшая с конца XVII века Черногорией, наиболее решительной противницей Турции и другом России. Две принцессы из дома Негошей – «сестры-черногорки» – российские Великие княгини Анастасия и Милица Николаевны, стали женами Великих князей Николая Николаевича Младшего и Петра Николаевича – внуков Николая I. Однако эти персоны не будут предметом нашего внимания, так как они не имеют отношения к немецким династиям. И только в тех случаях, когда сюжетные линии с участием «сестер-черногорок» или их мужей пересекутся с действиями других персонажей книги, автор упомянет о них.
Необходимо иметь в виду и то, что почти все другие области Балкан, попав в свое время под власть Оттоманской империи, были отняты у нее Австро-Венгрией и потому оказались под сильным влиянием дома Габсбургов, хотя Австрия не вводила на этих территориях персонального автократического протектората. Это относилось к территориям, занятым и сербами, и хорватами, и боснийцами, населяющими Балканы, независимо от того, какую религию они исповедовали.
Гидра террора поднимает головы
После возвращения с Берлинского конгресса в Петербург Александр почти сразу же стал объектом охоты заговорщиков из подпольной террористической организации «Народная воля».
Правда, еще до того как эти «идейные бомбисты» организовались для убийства Александра, ему неоднократно доводилось слышать о деятельности их предшественников, входивших в другие революционные организации, бывшие предтечами «Народной воли».
Наиболее значительной из них была возникшая в конце 1861 года «Земля и воля», заснувшая летаргическим сном через два года и возродившаяся под тем же названием через тринадцать лет, в 1876 году.
Сначала программой новых «Землевольцев» была просветительная работа среди народа – рабочих, крестьян, гимназистов и студентов. Однако 24 января 1878 года Россия узнала, что, кроме учителей, землемеров и акушерок, в этой организации имеются и профессионально подготовленные террористы. Именно тогда, 24 января 1878 года, в собственном кабинете на Адмиралтейском проспекте Петербурга выстрелом из револьвера в упор был тяжело ранен петербургский градоначальник, генерал-адъютант Ф. Ф. Трепов. В него стреляла двадцативосьмилетняя дворянка, учительница в прошлом, политическая ссыльная Вера Ивановна Засулич.
Ей не было еще и двадцати лет, когда она вошла в террористическую, заговорщическую группу С. Г. Нечаева – выдающегося честолюбца, интригана и мистификатора, создавшего в 1869 году тайную организацию «Народная расправа». Почти сразу же нечаевцы – главным образом студенты Петровской сельскохозяйственной академии – по его приказу убили собственного товарища И. И. Иванова, обвинив его в предательстве, хотя улики против Иванова были совершенно недостаточны. Сделано же это было для того, чтобы «сцементировать организацию кровью».
Сам Нечаев проповедовал ради свершения революции самые крайние меры. В написанном им программном сочинении «Катехизис революционера» он требовал от членов организации подавлять в себе любые человеческие чувства, мешающие революции. Он требовал порвать с окружающим революционера миром, стать яростным и беспощадным его врагом, порвать с его законами и приличиями, нравственностью и гуманизмом, не останавливаться перед убийствами, шантажом, провокациями, обманом, запугиваниями, беспрекословно выполнять приказы, исходящие из глубоко законспирированного революционного центра. После убийства Иванова Нечаев бежал за границу, но через три года был арестован в Швейцарии и передан в Россию. Его приговорили к 20 годам каторги, и когда он сидел в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, его бывшая единомышленница Засулич и совершила покушение на Трепова. На суде она объясняла свой поступок тем, что мстила за заключенного студента-революционера Боголюбова, которого Трепов приказал высечь розгами за нарушение режима.
Засулич предстала перед детищем Александра II – судом присяжных, и суд 31 марта 1878 года оправдал ее. Восторженная толпа, осаждавшая здание петербургского Окружного суда, вынесла героиню процесса на руках, засыпав оправданную и ее адвоката П. А. Александрова цветами.
Не меньшая популярность выпала и на долю председателя Окружного суда, ведшего это дело, А. Ф. Кони. Оправдательный приговор был вынесен в то время, когда вслед за покушением на Трепова террористы произвели целый ряд дерзких, дотоле не бывавших в России преступлений.
24 января Засулич ранила Трепова. 30 января в Одессе, при обыске, полиции было оказано вооруженное сопротивление, и только вмешательство войск позволило совершить арест преступников. 1 февраля в Ростове-на-Дону революционеры убили провокатора-рабочего. 23 февраля в Киеве было совершено покушение на товарища прокурора Котляревского, который спасся буквально чудом: три пули, выпущенные в него с близкого расстояния, не задели его. На следующий день террористы стали расклеивать на стенах домов листовки с сообщением, что Котляревский и жандармский капитан барон Гейкинг приговорены революционерами к смерти. В это время полиция и жандармы попытались захватить расклейщиков, но те открыли огонь.
Студенческие волнения и демонстрации во Владимире, Москве и Петербурге дополняли картину происходящего в России в феврале-марте 1878 года.
После суда над Засулич, тут же уехавшей в Швейцарию, убийства не прекратились. 24 мая киевские террористы ударом кинжала убили Гейкинга.
Летом этого же года перед судом предстали революционеры, оказавшие в Одессе вооруженное сопротивление при обыске 30 января. Руководителем этой акции был видный народник-бунтарь, сын священника Иван Мартынович Ковальский. Он первым в России совершил такое преступление и первым предстал перед военным судом, который и приговорил его к расстрелу.
Казнь Ковальского состоялась 2 августа 1878 года, а 4 августа, в ответ на это, в Петербурге ударом кинжала в грудь был убит в центре города, среди бела дня управляющий Третьим отделением и шеф жандармов, генерал-адъютант Н. В. Мезенцов. Его убийцы тут же скрылись. То, что начальник Тайной полиции империи был убит столь безжалостно и дерзко, заставило Александра прибегнуть к чрезвычайным мерам и передать дела о государственных преступлениях ведению военных судов «с применением ими наказаний, установленных для военного времени».
Но и эти меры оказались неэффективными. 9 февраля 1879 года выстрелом из револьвера был убит харьковский губернатор, генерал-майор свиты его величества князь Д. Н. Кропоткин, за то, что жестоко подавил бунты в Белгородской и Новоторжской тюрьмах. Убийце удалось скрыться. А 13 марта в Петербурге было совершено покушение на шефа жандармов и управляющего Третьим отделением, генерал-адъютанта А. Р. Дрентельна.
Не прошло и месяца, как очередь дошла и до самого императора.
Третье покушение произошло 2 апреля 1879 года, когда Александр гулял по Дворцовой площади, как и обычно, без охраны. Он привык к тому, что узнававшие его люди здоровались с ним, и потому не обратил внимания, когда встретившийся ему молодой мужчина снял картуз и вежливо поклонился. Александр в ответ поклонился столь же вежливо, но, кланяясь, успел краем глаза заметить, как мужчина наставил на него револьвер. Сохранив самообладание, Александр мгновенно отскочил в сторону, и хотя прогремело четыре выстрела подряд, ни одна пуля его не задела. В это время проходившая мимо молочница бросила бидоны и кинулась на террориста, обхватив его мертвой хваткой. Террорист, выронив револьвер, стал вырываться из ее объятий, но это удалось ему только тогда, когда он ухитрился укусить молочницу за палец и та выпустила его. Однако тут же возле убийцы появились другие прохожие, повалили его и передали полиции. Стрелявшим оказался бывший студент Петербургского университета, проучившийся всего один год, а потом занимавшийся пропагандой, тридцатитрехлетний Александр Константинович Соловьев. Он категорически отказался давать какие-либо показания о побудительных мотивах своего преступления. Следователь напрасно убеждал Соловьева быть откровенным. Тот ответил: «Не старайтесь. Вы ничего от меня не узнаете. Уже давно я решил пожертвовать своей жизнью. К тому же, если бы я сознался, меня бы убили мои соучастники. Даже в той тюрьме, где я теперь содержусь». Он не изменил линии поведения до конца следствия. Соловьева судили в Верховном уголовном суде и повесили 28 мая того же года.
* * *
…Когда Александр стал объектом очередного покушения, большинство россиян сочло это не просто преступлением, но тяжким грехом. Однако многие остались почти безразличны к случившемуся, а некоторые тайно огорчились, что третье покушение оказалось таким же безрезультатным, как и первые два.
Как бы то ни было, но вскоре после этого в деятельности главных российских террористов получила развитие своя неумолимая логика: они решили заняться охотой на медведя, оставив энтузиастам-одиночкам охоту на более мелкое зверье.
Выстрелы Соловьева, его покушение, уже третье – после Каракозова у ограды Летнего сада и Березовского в Париже – особенно плохо отразились на здоровье императрицы, давно уже тяжелобольной.
– Больше незачем жить, – сказала она, – я чувствую, что это меня убивает. Знаете, сегодня убийца травил его, как зайца. Это чудо, что он спасся, – вспоминала фрейлина А. Ф. Тютчева.
Пожалуй, ненамного легче воспринимал все произошедшее и Александр. После того как он вернулся с войны, а особенно после Берлинского конгресса, ему часто приходилось сталкиваться не просто с неблагодарностью и непониманием, но и с ослеплением и ненавистью, которых он – царь и христианин – понять не мог. Размышляя над своим царствованием, он осознавал, что до него ни один царь не дал России так много свобод и вольностей, как он. Он отменил рабство, запретил шпицрутены и розги, раскрыл двери гимназий, университетов и школ для простонародья, сделал гласным и справедливым суд, поломал рекрутчину, открыл границы – и за все это получает выстрел за выстрелом. Покушение Соловьева произошло после Берлинского конгресса, когда против царя ополчились все ура-патриоты, революционеры и недовольные крестьянской реформой вчерашние крепостники.
Лидер славянофилов И. С. Аксаков, разжигая недовольство царем, говорил: «Берлинский мир был для России и династии Романовых гораздо более тяжким ударом, чем любой террористический акт нигилистов». Так это или не так, утверждать было немного рано, но уже на процессе по делу Соловьева стало ясно, что где-то в таинственных глубоких подвалах кует свое отравленное оружие подпольная Россия, объединившаяся в организацию убийц, взявшую себе имя «Земля и воля». И величайшим парадоксом было то, что царь, давший России столько воли и столько земли, сколько можно было дать, стал главным врагом этой организации и объектом чудовищной, испепеляющей, смертельной ненависти.
Облава на самодержца
В августе 1879 года в русском революционном движении победили радикалы-террористы, создавшие внутри партии «Народная воля» хорошо законспирированный подпольный центр – Исполнительный комитет, поставивший перед собою задачу подготовить убийство Александра II. Его убийство народовольцы считали самым важным шагом на пути к социальной революции. Они верили, что смерть царя, показав их необыкновенное могущество, заставит народ подняться на всеобщее вооруженное восстание, итогом которого станет установление народовластия и социализма.
А пока Исполнительный комитет в глубоком подполье ковал оружие террора, готовя боевые группы и создавая арсенал разнообразных орудий убийства, Александр принимал свои контрмеры.
В шесть крупнейших городов империи – Москву, Петербург, Варшаву, Киев, Харьков и Одессу, оказавшиеся к тому же глубже других зараженными бациллами революции, были назначены генерал-губернаторы, наделенные чрезвычайными полномочиями. Среди них были герои последней войны. Руководитель осады Плевны инженер-генерал Э. И. Тотлебен, прославившийся еще в Кавказской войне и обороне Севастополя, был назначен в Одессу; отличившийся во многих сражениях на Балканах, освободитель Софии, генерал от инфантерии И. В. Гурко стал генерал-губернатором Петербурга; генерал-адъютант М. Т. Лорис-Меликов – ветеран войны против Шамиля и покоритель Карса, стал генерал-губернатором не только на Харьковщине, но и получил под свою власть половину Поволжья – Астраханскую, Самарскую и Саратовскую губернии.
5 августа Александр подписал указ, ужесточавший полицейский режим и существенно упрощавший процедуру судопроизводства. Все дела о терроре передавались в ведение чрезвычайных военно-полевых судов. Обвиняемых судили без предварительного следствия, без допроса свидетелей, и приговор такого суда обжалованию не подлежал – он был окончательным. Казалось, что в стране наступило спокойствие. Однако же вскоре стало ясно, что оно было не более чем затишьем перед бурей, во время которого Исполнительный комитет «Народной воли» заканчивал подготовку страшных, дотоле небывалых деяний.
Руководителем террористического ядра был Андрей Иванович Желябов, сын дворового человека, родившийся крепостным. Когда ему было десять лет, пало крепостное право, и он получил право поступить в Керченскую гимназию. Он закончил ее в 1869 году и тогда же поступил на юридический факультет Новороссийского университета в Одессе. Через два года его исключили за участие в студенческих беспорядках и выслали из Одессы. С этого времени и до конца своих дней колесил Желябов по России, сея зерна революции, убеждая и доказывая, что будущее России только в революции. Он прошел через подпольные кружки и студенческие сходки, через тюрьмы и политические процессы и наконец пришел к выводу, что единственным средством осуществления его идеалов может быть только террор.
В июне 1879 года Желябов приехал в Липецк, где в тайне от своих товарищей-землевольцев собрались еще десять его единомышленников-террористов и объявили себя Исполнительным комитетом социально-революционной партии, преемницей которой стала оформившаяся в конце 1901 – начале 1902 года партия эсеров (социалистов-революционеров). Оттуда конспираторы переехали в недалекий Воронеж, где собрался съезд «Земли и воли». Они поняли, что с их прежними товарищами им не по пути и через два месяца создали собственную организацию – «Народная воля», став во главе ее и сделав ее единственной целью проведение террористических актов. После Воронежского съезда в Исполнительный комитет вошла Софья Львовна Перовская, в отличие от Желябова, она принадлежала к аристократии, так как была правнучкой графа А. К. Разумовского и дочерью действительного статского советника, члена Совета при министре внутренних дел Льва Николаевича Перовского. Она рано ушла из дома и после окончания высших женских курсов (так называемых «Аларчинских») в Петербурге встала на ту же тропу, что и Желябов, и так же, как он, прошла через кружки, тюрьмы и подполье. Именно она стала поставщицей самой ценной информации, так как ее близкие знали многое из того, что помогало террористам при подготовке покушений на Александра и его приближенных.
Первая террористическая акция начала разрабатываться после того, как Софья Перовская узнала через свою мать, что в ноябре 1879 года Александр с семьей проедет из Ливадии в Петербург через Одессу, Харьков и Москву.
Было решено взорвать царский поезд в одном из пунктов на пути его следования. Террористы рассчитали, что из Ливадии Александр II непременно поедет или через Одессу, если изберет маршрут Крым – Одесса морем, а затем Одесса – Москва поездом, или только по железной дороге, если отправится в Москву из Симферополя. Чтобы действовать наверняка, минные засады следовало учинить в Одессе, в Александровске – заштатном городишке между Курском и Белгородом – и в Москве. Полагали, что успех обеспечен, потому что где-то в одном из трех мест Александр будет убит.
Народовольцы, казалось, все предусмотрели, но царь уцелел, и террористы решили организовать убийство императора прямо в Зимнем дворце. Для этого во дворец был направлен красивый молодой столяр Степан Халтурин, близкий знакомый Желябова и Перовской. Халтурин устроился в Зимний на работу, а там познакомился с одним из жандармов, стал ходить к нему домой, понравился его дочери-невесте и даже пообещал на ней жениться. Благодаря протекции своего будущего тестя, Халтурину выделили в подвале маленькую комнатку, где он и поселился. Рядом с ним, в более просторных комнатах, жили солдаты лейб-гвардии Финляндского полка, несшие во дворце караульную службу.
Днем Халтурин работал в царском винном погребе, облицовывая стены, а после выходов в город прятал там же пачки динамита.
Так он готовился около трех недель – с середины января и до начала февраля 1880 года. Теперь следовало выбрать момент, когда царь оказался бы над винным погребом, где было спрятано и подготовлено к взрыву большое количество динамита.
В это время полиция и жандармерия утроили усилия по ликвидации «Народной воли». Однако почти все операции проходили в спешке и суматохе, и жандармы не прорабатывали до конца всех версий, какие могли бы навести их на верный след террористов. Так, когда на квартире народника Богословского при обыске были обнаружены свежие номера «Народной воли», приготовленные к распространению, там же были обнаружены нелегальная литература, револьвер и три карандашных рисунка планов Зимнего дворца. Рисунки были показаны коменданту дворца, и он сказал, что они совершенно точны и что царские апартаменты обозначены на плане правильно. Более того, на плане обнаружили и четко нарисованный кружок, расположенный рядом с помещениями солдатского караула, под царской столовой, но по необъяснимым причинам эту версию не стали разрабатывать, и Халтурин продолжал свое дело.
Исполнительный комитет торопил Халтурина, но он действовал наверняка и не спешил. Он прожил в Зимнем уже несколько месяцев, за это время довольно хорошо и подробно изучил его план и знал, что над погребом находится зал, где обычно обедает и ужинает вся семья. То, что при взрыве погибнут и женщины, и дети, и слуги, и солдаты, ни Халтурина, ни его руководителей ничуть не смущало. Он был холодным и расчетливым прагматиком, и ему предстояло лишь точно выбрать время взрыва, зная наверняка, что царь – в столовой.
И снова в центре событий оказалась Перовская. Как и в первый раз, она узнала от матери, что 5 февраля к царю пожалует брат императрицы с сыном, Александром Баттенбергом, князем Болгарии.
Он хотя и был монархом, но монархом конституционным. С ним вместе приехал в Санкт-Петербург и его сын Александр. На подобных приемах обычно бывали все члены царской семьи и, конечно же, обязательно сам царь, и что еще было важно – такие приемы относились не просто к семейным торжествам, а к государственным актам, и потому требовали точного соблюдения протокола и строго выдерживались по времени.
Начало ужина было назначено на 6 часов, и Желябов приказал произвести взрыв в двадцать минут седьмого, когда вся семья уже будет за столом. Однако поезд опоздал на десять минут, а кроме того, отец и сын, оказавшись во дворце, сначала пошли к императрице Марии Александровне, так как она из-за болезни не могла присутствовать на ужине и собиралась оставаться в своих апартаментах.
Обо всех этих тонкостях дворцовый столяр, разумеется, не знал и потому никаких поправок в свой план не внес.
И когда отец и сын Баттенберги сидели у постели их сестры и тетки, император ждал своих гостей в соседнем со спальней большом кабинете, а цесаревич Александр и великие князья и княгини стояли в ожидании отца и гостей в смежном со столовой зале, раздался взрыв. Погас свет, зазвенели выбитые стекла, посыпалась штукатурка. Никто из членов семьи не пострадал, но было убито девятнадцать и ранено сорок восемь солдат. Столовая и соседняя с нею Желтая гостиная были совершенно разрушены, из подвала валил дым, и снова Александр, не потеряв самообладания, мгновенно бросился помогать раненым. Но тут же ужасная мысль молнией ожгла его мозг, и он, почувствовав, как падает сердце, побежал к лестнице, ведущей на третий этаж. Не помня себя, Александр в несколько прыжков одолел первый марш и вдруг увидел, как навстречу к нему, в ад и мрак взрыва, летит Катенька. Он схватил ее в объятия, и они оба, прижавшись друг к другу, заплакали.
Несмотря на опасение нового покушения и хорошо осознавая угрозу собственной жизни, Александр через три дня после случившегося в Зимнем дворце пошел на похороны солдат, погибших при взрыве. Он шел с высоко поднятой головой, но все видели, как по его щекам бежали слезы. И все же горе не сломило воли царя, и он продолжал и дальше решительно бороться с террористами.
Для централизации усилий правительства и местных органов власти через неделю после взрыва была создана Верховная распорядительная комиссия по охранению государственного порядка и общественного спокойствия. Ее начальником стал М. Т. Лорис-Меликов, генерал от кавалерии, генерал-адъютант, герой последней русско-турецкой войны и один из лидеров либерального движения в России. Членами Комиссии стали министры, сенаторы, генералы и чиновники высших рангов, ответственные за сохранение порядка.
Лорис-Меликов получил небывало широкие полномочия и мог бы стать диктатором России, если бы у него имелись такие склонности. Но он был человеком совсем иного склада, и когда, как ему показалось, обстановка немного нормализовалась, он просил царя отменить чрезвычайное положение и чрезвычайные законы и вернуться к обычному ходу дел, хотя через десять дней после того, как Лорис-Меликов стал во главе Комиссии, и на него было совершено покушение.
Террорист-народоволец Молодецкий стрелял в «диктатора» на улице, но храбрый 55-летний генерал обезоружил его, свалил на тротуар и передал подоспевшим полицейским. По новому закону террорист был осужден в 24 часа и повешен.
Меньше чем через два месяца после этого, 11 апреля 1880 года, Лорис-Меликов поставил перед Александром вопрос о дальнейшем проведении реформ – крестьянской, судебной, финансовой, городской и других, не отказываясь от борьбы с террором. Так, продолжая реформы и в то же время усиливая борьбу с революционерами, Лорис-Меликов пытался умиротворить Россию.
От Тризны – к свадьбе
22 мая 1880 года в 8 часов утра умерла императрица Мария Александровна. Она тихо скончалась после очень долгой болезни, продолжавшейся полтора десятка лет. Последний месяц больная почти все время находилась в полузабытьи и умерла так незаметно, что не успели даже позвать близких, чтобы проститься с нею. 28 мая ее похоронили в Петропавловском соборе, и во время похорон царедворцы заметили, что Екатерины Михайловны среди присутствующих нет, несмотря на то что она, как фрейлина, должна была бы провожать императрицу в последний путь.
Долгорукова осталась в Царском Селе и там ждала Александра. Он приехал к ней на следующий день и посвятил ее в планы относительно перемен, которые неминуемо должны были произойти в связи со смертью Марии Александровны и в штате двора, и в его собственном домашнем обиходе, не касаясь существа их личных взаимоотношений.
Среди тех намерений, о которых царь сообщил своей возлюбленной, было и одно весьма немаловажное, касающееся его невестки Марии Федоровны. Это намерение Александр осуществил уже на следующий день, 29 мая, издав рескрипт на имя цесаревны Марии Федоровны, которым она назначалась преемницей скончавшейся императрицы и объявлялась августейшей покровительницей и руководительницей Ведомства императрицы Марии. (Ведомство носило имя его основательницы – императрицы Марии Федоровны – жены Павла I. В его задачи входило всемерное содействие образованию детей, юношей и девушек, а также широкая благотворительность всем россиянам.) О масштабах Ведомства и разносторонности его деятельности свидетельствует то, что к этому времени в его состав входило 459 учреждений: Александровский (Царскосельский) лицей, Николаевский Сиротский институт в Гатчине, 27 женских институтов со Смольным во главе, 77 женских школ, 31 мужская гимназия, 20 специальных мужских учебных заведений, училища для глухонемых, воспитательные дома, училища нянь, фельдшериц, дома призрения для больных и престарелых, богадельни, повивальные (акушерские) пункты, 113 детских приютов, благотворительные общества, 23 больницы и т. п.
Кроме того, к цесаревне Марии Федоровне перешло и руководство Российским обществом Красного Креста, возникшим за 13 лет перед тем под названием «Общества о раненых и больных воинах». (Мария Федоровна руководила им в годы русско-японской и во время 1-й Мировой войны, и делала это весьма успешно.)
И лишь 25 июня – через месяц после похорон жены – Александр сказал Екатерине Михайловне то, чего она ждала вот уже четырнадцать лет: «Петровский пост кончится 6 июля. В этот день я решил обвенчаться с тобой». Однако он ни слова не сказал об этом ни одному человеку. Лишь за два дня до срока, 4 июля, Александр, находясь в Царском Селе, вызвал Александра Адлерберга и заявил, что хочет обвенчаться с Долгоруковой. Адлерберг пытался возражать, но царь сказал, что волен распоряжаться собственной судьбой, как сочтет нужным, тем более что жениться на Долгоруковой ему велит чувство долга перед нею и их общими детьми. Свадьба состоялась в назначенный день в три часа дня в Большом Царскосельском дворце, в одной из маленьких комнат, где стоял походный алтарь – обыкновенный стол, на котором стояли: крест, евангелие, свечи, венцы и обручальные кольца.
При венчании присутствовали: граф А. В. Адлерберг, генерал-адъютант А. М. Рылеев, мадемуазель Шебеко и генерал-адъютант граф Э. Т. Баранов. После венчания Александр пригласил свою молодую жену и Веру Шебеко на прогулку, попросив взять с собою и старших детей – Георгия и Ольгу.
Шебеко рассказывала потом, что вдруг Александр с неожиданной печалью в голосе сказал:
– Я боюсь своего счастья, я боюсь, что меня Бог слишком скоро лишит его. – И вслед за тем настойчиво попросил сына обещать, что он никогда не забудет своего отца.
Возвратившись с прогулки, Александр составил акт о состоявшемся бракосочетании, подтвержденный подписями Адлерберга, Баранова, Рылеева и его собственной, и вслед за тем написал указ Сенату: «Вторично вступив в законный брак с княжной Екатериной Михайловной Долгоруковой, мы приказываем присвоить ей имя княгини Юрьевской с титулом „Светлейшей“. Мы приказываем присвоить то же имя с тем же титулом нашим детям: сыну нашему Георгию, дочерям Ольге и Екатерине, а также тем, которые могут родиться впоследствии, мы жалуем их всеми правами, принадлежащими законным детям сообразно статье 14 Основных законов империи и статье 147 Учреждения императорской фамилии».
Тем самым Екатерина Михайловна, а также Георгий, Ольга и Екатерина становились полноправными членами императорской фамилии, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
* * *
Между тем жизнь страны шла своим чередом, и Лорис-Меликов не только пытался искоренять крамолу, но и по мере возможностей старался продолжать развитие реформ. С этой целью он убедил царя ликвидировать Верховную распорядительную комиссию, закрыть Третье отделение, а его самого, освободив от всех экстраординарных должностей, назначить министром внутренних дел.
Находясь на этом посту, летом 1880 года Лорис-Меликов убедил царя в том, что окончательную победу над революционерами они одержат тогда, когда даруют России конституцию и преобразуют самодержавную империю в конституционную монархию.
А осенью 1880 года царь совершил важный поступок для обеспечения безбедного существования в будущем своей новой семьи.
11 сентября 1880 года Александр перевел в Государственный банк 3 302 970 рублей на имя Екатерины Михайловны Долгоруковой, написав: «Ей одной я даю право распоряжаться этим капиталом при моей жизни и после моей смерти».
Последнее покушение
Осенью 1880 года Лорис-Меликов добился и у царя, и у наследника согласия на то, чтобы земства посылали своих представителей на заседания Государственного Совета для участия в выработке законов и таким образом делали его представительным органом.
Однако в это же самое время «Народная воля» развила бешеную деятельность, направив все свои усилия на то, чтобы задуманное убийство Александра наконец-то увенчалось успехом. И в те дни, когда планы были уже составлены и частично проработаны, когда в Петербург съехались все участники готовящегося убийства, в Елисаветграде незадолго до Нового, 1880 года был арестован Григорий Гольденберг – один из опаснейших террористов-народовольцев, посвященный во многие планы организации. Гольденберг был не только задержан с чемоданом динамита, но жандармам было известно, что он является убийцей харьковского генерал-губернатора князя Кропоткина. Следователем к нему был назначен полковник Добржинский, который, играя на чудовищно гипертрофированном самолюбии и некоем подобии мании величия, сумел вовлечь Гольденберга в игру, где подследственному была предоставлена роль пророка, выводящего заблудшую молодежь России из тьмы преступлений к свету всеобщего примирения.
Гольденберг написал показания, занявшие полторы сотни страниц, называя имена, адреса, события, факты, что и было умело препарировано и ловко использовано жандармами для арестов тех из террористов, которых сумели найти.
После Нового года Гольденберга перевезли в Петропавловскую крепость, где его посетил Лорис-Меликов. Граф не скрыл, что предстоящие процессы над теми, кого уже арестовали, едва ли обойдутся без смертных приговоров.
…15 июля 1880 года, осознав, к чему привели его откровения, Гольденберг покончил с собой в камере Трубецкого равелина. Но и после его смерти казни выданных им революционеров продолжались.
Параллельно с этим продолжалось и движение страны к конституции – медленно, достаточно робко, более чем половинчато, но – продолжалось. Александр видел во всем этом и то, чего не видели другие: он хотел не только произвести политическое преобразование России из монархии абсолютной и самодержавной в монархию конституционную, но и короновать Екатерину Михайловну, исполнив тем самым и долг перед своим народом и перед Богом, давшим ему такую замечательную жену. А затем передать духовную власть старшему своему сыну – цесаревичу Александру Александровичу и уехать из России с Долгоруковой-Юрьевской и их общими детьми в По или в Ниццу, став частными лицами, то есть сделать то, что не удалось Александру I, рухнувшему под тяжким бременем наследственной власти.
Слухи об этом – а особенно упорно о конституции – стали распространяться по Петербургу, а оттуда и по России сразу после нового, 1881 года. Называли точные даты опубликования манифеста, передавали содержание документа, говорили о том, что будет сразу после того, как все это произойдет.
И в то же самое время Желябов и Перовская закончили последние приготовления к покушению на царя. Они тщательно изучили время и маршруты Александра, подготовили бомбы, расставили метальщиков, предусмотрев все возможные варианты необходимой подстраховки, определили слабые места охраны и назначили день убийства – 1 марта.
* * *
В субботу 28 февраля 1881 года за завтраком Александру передали срочное письмо от Лорис-Меликова. Министр внутренних дел спешил известить царя о том, что 27 февраля арестован Андрей Желябов – организатор и участник всех покушений на Александра с 1879 года. Чуть погодя во дворец приехал и сам Михаил Тариэлович и сообщил, что в самые ближайшие дни следует ожидать очередного покушения и потому следует воздержаться от выездов из дворца. Александр не согласился с министром и перевел разговор на текущие дела. А таким делом было подписание манифеста о введении в состав Государственного Совета делегатов от представительных организаций.
После того как манифест был подписан, царь поздравил с этим выдающимся событием Екатерину Михайловну, сказав ей, что в понедельник утром, 2 марта, он будет опубликован в газетах.
Спускаясь по лестнице Зимнего дворца, Лорис-Меликов встретил Шебеко и, отведя ее в сторону, сказал:
– Поздравьте меня, дорогая Варвара Игнатьевна. Это – великий день в истории России. Я сейчас же отвезу манифест в типографию.
Кроме того, он рассказал Шебеко об аресте Желябова и о том, что на свободе пока остаются почти все его сообщники, готовящие покушение, и потому царю все еще грозит страшная опасность…
* * *
Утром 1 марта, погуляв после завтрака с женой по залам дворца, Александр выехал в манеж. Развод прошел прекрасно, и он уехал в Михайловский дворец к Екатерине Михайловне, своей любимой кузине. Оттуда, попив чаю, в четверть третьего Александр выехал в Зимний. Карета и конвой, стремительно промчавшись по Инженерной улице, повернули на пустынную набережную Екатерининского канала. Александр увидел, как навстречу ему какой-то мальчик тащит по снегу корзину, по тротуару идет незнакомый ему офицер, а чуть дальше стоит простоволосый молодой человек со свертком в руке. И как только карета поравнялась с молодым человеком, тот вдруг бросил сверток под ноги лошадям. Карету тряхнуло, занесло на сторону, рысаки бились в упряжи, барахтаясь в кровавом снегу. Александр увидел, как невесть откуда взявшиеся люди, схватив метальщика, держали его, закрутив за спину руки. Увидел он и убитых лошадей, и убитого мальчика, и двоих убитых казаков-конвойцев.
Оглушенный взрывом, он, шатаясь, подошел к злодею и хрипло спросил его:
– Кто таков?
– Мещанин Глазов, – ответил тот.
– Хорош, – сказал Александр и пошел к уцелевшим саням, на которых за его каретой ехал полицмейстер, полковник Дворжицкий.
Кучер Фрол Сергеев кричал:
– Скачите во дворец, государь! Но Александр не мог оставить раненых.
В этот момент один из придворных спросил царя: «А Ваше императорское величество не ранены?» Александр ответил: «Слава Богу, нет». Услышав это, террорист, криво усмехнувшись, сказал: «Что? Слава Богу? Смотрите, не ошиблись ли?». И не успел он произнести это, как раздался еще один взрыв. Очевидцы говорили, что после того, как рассеялся столб снежной пыли и дыма, они увидели не менее двух десятков убитых и раненых. Одни лежали неподвижно, другие со стонами отползали по покрытому кровью и сажей снегу подальше от места взрыва. Между поверженными людьми валялись куски изорванной одежды, сабель, эполет, части человеческих тел, осколки газового фонаря, остов которого от взрыва погнулся. У искореженной взрывом кареты, в лохмотьях шинели лежал, упираясь руками в землю, Александр, у которого была оторвана одна ступня, а ноги были размозжены.
Он попытался встать, но, хотя глаза его были открыты, ничего не видел и лишь шептал:
– Помогите… Жив ли наследник? Снесите меня во дворец… Там умереть…
Александра, окровавленного, с раздробленными взрывом ногами, довезли до дворца, и когда понесли по лестнице, то кровь ручейком стекала на пол.
Сбежавшиеся врачи смогли лишь остановить кровотечение. Им, как могла, помогала Екатерина Михайловна, не потерявшая самообладания и простоявшая возле раненого до самого конца. Неожиданно для всех и, наверное, для самой себя, она оказалась наиболее собранной и стойкой, а все остальные неутешно и безудержно рыдали у тела усопшего. Рыдания сотрясали могучего тридцатишестилетнего наследника престола и всех его братьев. Потрясенный горем, стоял возле мертвого деда его старший двенадцатилетний внук Николай. Всю жизнь он считал день 1 марта 1881 года самым страшным и самым трагичным днем в своей жизни и навсегда запомнил до мельчайших деталей все, связанное со смертью своего великого деда, который умер в 3 часа 35 минут.
И в то же время пополз вниз с флагштока Зимнего дворца черно-золотой императорский штандарт, извещая, что хозяин дворца умер…
* * *
Его убийца – Игнатий Иоахимович Гриневицкий, – тот самый, что бросил второй заряд в императора, оказался так близок к Александру, что смертельно ранил и самого себя. Он умер в Третьем отделении, в окружении врачей, пытавшихся спасти его. Умер через семь часов после того, как скончался Александр.
Труп Гриневицкого предъявили всем арестованным, кто мог бы опознать его. Предъявили и Андрею Желябову, арестованному за два дня до убийства царя. Желябов, увидев тело Гриневицкого, сначала отказался удостоверять личность покойного. Однако, сразу же сопоставив, что значат он, Желябов, и убивший себя Гриневицкий для истории и их партии, вдруг мгновенно понял, что должен восстановить справедливость и отдать кесарево кесарю, а Богу – божье. Как можно, чтобы уцелевший при первом взрыве Рысаков, назвавший себя при аресте Глазовым, или погибший Гриневицкий, фигурировали на предстоящем процессе, а он, Андрей Желябов, демиург всего произошедшего, оставался бы в безвестности? И, конечно же, Желябов не мыслил никого, кто мог бы так хорошо, как он, выступать на процессе, пропагандируя идеи «Народной воли», и так решительно защищать народ. А так как мертвый Гриневицкий суду уже не подлежал, то мог ли он уступить всероссийскую трибуну какому-то недотепе Рысакову, не сумевшему даже убить императора и по нелепой случайности попавшему на гребень волны?
И потому, когда Желябова привезли в тюрьму, он потребовал чернил и бумаги и написал прокурору судебной палаты: «Если новый государь, получив скипетр из рук революции, намерен держаться в отношении цареубийц старой системы; если Рысакова намерены казнить, было бы вопиющей несправедливостью сохранить жизнь мне, многократно покушавшемуся на жизнь Александра II и не принявшему физического участия в умерщвлении его лишь по глупой случайности. Я требую приобщения себя к делу 1-го марта и, если нужно, сделаю уличающие меня разоблачения. Прошу дать ход моему заявлению.
Андрей Желябов.
2 марта 1881 г. Дом предварительного заключения.
P. S. Меня беспокоит опасение, что правительство поставит внешнюю законность выше внутренней справедливости, украся корону нового монарха трупом юного героя лишь по недостатку формальных улик против меня. Я протестую против такого исхода всеми силами души моей и требую для себя справедливости. Только трусостью правительства можно было бы объяснить одну виселицу, а не две.
Андрей Желябов».
Прокурор, получив это заявление, был настолько поражен, что образовал комиссию, которая составила протокол осмотра столь необычного документа, но все же признала его законность и дала ему ход – Желябов был привлечен по делу об убийстве царя еще до получения других свидетельских показаний.
Александр III. Начало царствования
2 марта настал день интронизации. Торжественная церемония, потребовавшая от присутствующих расшитых золотом нарядных мундиров, роскошных платьев и украшений, казалась бы кощунственной, если бы не всеобщее горе на лицах и в глазах собравшихся, если бы не плачущие цесаревич и цесаревна. Войдя сначала в Малахитовый зал, Александр и Мария Федоровна двинулись к дворцовой церкви вдоль шпалер придворных, сопровождавших новых самодержцев дружными возгласами: «Верьте нам! Вас любят! Вам служат! Вас защитят!»
Весь молебен присутствующие стояли на коленях, и вместе со всеми стояли на коленях плачущие император и императрица.
Но горе – горем, а дела – делами. Тем более что совершенно неотложных дел у нового императора было несколько. Во-первых, организация похорон, во-вторых, первоочередные государственные дела, и в-третьих, подготовка суда над убийцами его отца.
Александр III был нежным и почтительным сыном, и для него воля покойного была законом.
Когда похороны еще только готовились, необходимо было принять решение о том, публиковать или не публиковать последний документ, подписанный покойным накануне его смерти. Документ этот был настолько важен и политически принципиален и многозначен, что Лорис-Меликов подошел с ним к Александру III, когда врачи и слуги еще прибирали тело усопшего. Так как Лорис-Меликову было приказано опубликовать манифест о преобразовании Государственного Совета в завтрашнем номере «Правительственного вестника», а газета должна была выйти в свет утром, то министру внутренних дел не оставалось ничего иного, кроме как сделать весьма рискованный в этическом отношении шаг, объясняемый только исключительностью создавшейся ситуации.
Александр все понял и однозначно ответил:
– Я всегда буду уважать волю отца. Пусть завтра манифест будет опубликован.
Однако после этого в Аничковом дворце, где жил Александр со своей семьей, молодого императора взяли в осаду собравшиеся там консерваторы – еще большие сторонники самодержавия, чем сам царь, – и после многочасовой дискуссии сумели доказать Александру невозможность, крайнюю несвоевременность и большую опасность публикации этого документа. Психологически момент был избран весьма удачно – душегубы еще гуляли на свободе, для убитого ими императора еще сколачивали гроб, а его сын уже шел навстречу чаяниям тех, кто поддерживал – хотя и втайне, но и душой, и сердцем все же поддерживал – убийц его отца.
Поддавшись мольбам, уговорам и резонам Победоносцева и его единомышленников, Александр, встретившись утром 2 марта с Лорис-Меликовым, настоятельно попросил повременить с публикацией манифеста до обсуждения этого вопроса на заседании Государственного Совета.
Это заседание – совместно с членами Совета Министров – состоялось 8 марта.
Председатель Совета Министров П. А. Валуев, решительный враг террористов, сказал, что «при настоящих обстоятельствах предлагаемая нами мера оказывается в особенности настоятельною и необходимою». Валуева поддержал генерал Д. А. Милютин, через два месяца лишившийся портфеля военного министра, который принадлежал ему ровно двадцать лет. Милютина поддержали дядя нового царя, генерал-адмирал, великий князь Константин Николаевич, Государственный контролер Д. М. Сольский, министр юстиции Д. Н. Набоков, председатель департамента законов, князь С. Н. Урусов, министр финансов А. А. Абаза. И тогда царь дал слово обер-прокурору Синода Константину Петровичу Победоносцеву. Бледный, взволнованный Победоносцев начал речь с того, что дело не сводится только к приглашению людей, хорошо знающих народную жизнь. Дело сводится к тому, что в России хотят ввести конституцию, чтобы создать в государстве новую верховную власть, подобную французским Генеральным Штатам, которые привели к тому, что правящая династия взошла на эшафот. Победоносцеву решительно возразил Абаза. Обращаясь к царю, он сказал: «Если Константин Петрович прав, если взгляды его правильные, то вы должны, государь, уволить от министерских должностей всех нас».
Царь закрыл совещание, продлившееся менее трех часов, предложив создать комиссию для пересмотра записки Лорис-Меликова. Комиссия создана не была, зато Валуев, Милютин, Лорис-Меликов, Абаза, министр народного просвещения А. А. Сабуров, министр государственных имуществ А. А. Ливен и даже министр Императорского двора А. В. Адлерберг лишились своих постов в течение ближайших двух месяцев, а Великий князь Константин Николаевич впал в немилость.
На их место пришли другие. Как и прежде, назначение на важный государственный пост зависело, прежде всего, от отношения к тому или иному чиновнику царя, от того, чего царь ожидал от него и с каким умыслом предоставлял кандидату новый государственный пост. На следующий день после погребения Александра II был обнародован манифест об основных принципах внутренней и внешней политики нового императора, и стало ясно, что периоду реформ пришел конец. С либерализмом и либеральными разглагольствованиями было покончено. Самодержцу требовались профессионалы-прагматики, и первым среди них был председатель комитета министров 60-летний Михаил Христофорович Рейтерн.
При Александре II он был прекрасным министром морского флота, финансов, статс-секретарем и управляющим Комитетом железных дорог.
Рейтерн вошел в историю как отец российских железных дорог, выдающийся организатор банковского и кредитного дела, добившийся того, что к 1874 году у России был бездефицитный бюджет.
Александр III снова призвал его на службу государству и 4 октября 1881 года возвел Рейтерна на должность председателя Комитета министров. Рейтерн с согласия царя составил комитет из очень неординарных людей, часто в своей предыдущей деятельности далеких от двора и бюрократии. Вот как впоследствии охарактеризовал это правительство очень умный и прекрасно образованный человек – Великий князь Александр Михайлович: «Князь Хилков, назначенный министром путей сообщения, провел свою полную приключений молодость в Соединенных Штатах, работая в качестве простого рабочего на рудниках Пенсильвании. Профессор Вышнеградский – министр финансов – пользовался широкой известностью за свои оригинальные экономические теории. Ему удалось привести в блестящее состояние финансы империи и немало содействовать повышению промышленности страны. Заслуженный герой русско-турецкой войны генерал Ванновский был назначен военным министром. Адмирал Шестаков, высланный Александром II за границу за беспощадную критику нашего военного флота, был вызван в Петербург и назначен морским министром. Новый министр внутренних дел граф Толстой был первым русским администратором, сознававшим, что забота о благосостоянии сельского населения России должна быть первой задачей государственной власти.
С. Ю. Витте, бывший скромным чиновником управления юго-западных железных дорог, обязан был своей головокружительной карьерой дальнозоркости императора Александра III, который, назначив его товарищем министра, сразу же признал его талант».
Созданием нового Комитета министров Александр III начал дело перевода России с пути реформ на путь контрреформ. Правда, первые законодательные акты по проведению нового курса появились через год, но общество почувствовало перемену политики сразу же. Обеспечивая свою собственную безопасность и безопасность своей семьи, Александр III переехал в Гатчину и оставался там около двух лет, пока не было покончено с «Народной волей». Переселение в Гатчину, кроме того, избавляло императора от не любимого им дворцового церемониала и пустых бесед с многочисленными родственниками, что позволяло императору все время проводить за работой, в чем был он подобен своему деду Николаю I.
* * *
В марте 1881 года прошел открытый процесс над убийцами Александра II. Пятерых из них – Желябова, Перовскую, Михайлова, Кибальчича и Рысакова – повесили 3 апреля на Семеновском плацу в присутствии десятков тысяч людей.
Перовская была первой женщиной в России, казненной по политическим мотивам, а вся экзекуция 3 апреля была последней публичной казнью. Законом от 26 мая 1881 года предписывалось совершать казни скрытно, преимущественно в тюрьмах, но и этот закон потом неоднократно нарушался, обрастая дополнениями, поправками и особыми, им не предусмотренными обстоятельствами, как это происходило в России с незапамятных времен.
* * *
Несколько нарушив последовательное изложение событий, заметим, что коронация Александра III состоялась более чем через два года после вступления его на престол и уже одним этим отличалась от прежних коронационных торжеств, отстоявших от акта интронизации на значительно более короткое время.
…Тридцать тысяч войск стояло между Санкт-Петербургом и Москвой вдоль шестисотверстной Николаевской железной дороги, и, таким образом, расстояние между солдатами было не более двадцати метров. Царский поезд пришел в Первопрестольную меньше, чем через сутки. А теперь предоставим слово присутствовавшему на коронации французскому писателю Корнели, оставившему записки об этом. «Прибыв в Москву, мы остались на вокзале, чтобы встретить императорский поезд. Император и императрица, выйдя из вагона, поместились в открытой коляске и, минуя город, прямо проследовали в загородный Петровский дворец, в котором жил Наполеон I после пожара Москвы.
Толпы народа падали на колени при проезде императорской четы; многие целовали следы, оставленные царским экипажем.
Затем последовал торжественный въезд в Москву. Удобно поместившись на одной из стен Кремля, я мог видеть всю Красную площадь. Через площадь пролегала усыпанная песком дорога, по бокам которой стояли шпалерами павловцы с их историческими остроконечными киверами. Площадь представляла собою море голов. Толпа хранила торжественное молчание. Взоры всех были обращены в ту сторону, откуда должен был последовать торжественный кортеж. Пушки гремели, не смолкая ни на минуту. Ровно в двенадцать часов показались передовые всадники императорского кортежа. Мгновенно громадная площадь огласилась восторженными криками. Детский хор в двенадцать тысяч молодых свежих голосов, управляемый ста пятьюдесятью регентами, исполнял русский национальный гимн. Пушечная пальба, трезвон колоколов, крики толпы – все это слилось в какой-то невообразимый гул. Тем временем кортеж приближался. Вслед за драгунами передо мной промелькнули казаки с целым лесом высоких пик, за ними кавалергарды с их блестящими касками, увенчанными серебряными двуглавыми орлами, собственный его величества конвой в живописных ярко-красных черкесках и наконец показался и сам император. Государь ехал верхом на коне светло-серой масти. На этом же коне, будучи еще наследником, Александр III совершил турецкую кампанию.
Рядом с государем на маленьком пони ехал наследник-цесаревич, будущий император Николай II.
За ними следовали Великие князья, иностранные принцы и многочисленная блестящая свита, за которой в золотой карете, запряженной восьмеркой белых лошадей, следовала императрица. Рядом с ее величеством сидела маленькая восьмилетняя девочка, Великая княжна Ксения Александровна, приветливо улыбавшаяся и посылавшая воздушные поцелуи восторженно шумевшей толпе. В день коронования мне еще раз довелось видеть императорскую чету. Государь и государыня, под богатым балдахином, несомым двадцатью четырьмя генералами, направлялись к собору. У входа в собор ожидал их величества Московский митрополит. Кремлевская площадь с многотысячною толпою хранила молчание. Подойдя к митрополиту, их величества остановились. Благословив августейшую чету, митрополит обратился с глубоко прочувствованным словом. Я видел, как император искал в карманах мундира носовой платок и, не найдя таковой, левой рукою, затянутою в белую перчатку, вытер полные слез глаза. Он, как ребенок, плакал перед этим старцем, говорившим о тяжких испытаниях, перенесенных императорским домом.
По окончании обряда коронации, государь и государыня поднялись на Красное крыльцо, с высоты которого кланялись восторженно приветствовавшему их народу. Их величества были в великолепных порфирах, подбитых горностаем; головы их были увенчаны коронами. В правой руке его величество держал скипетр, украшенный знаменитым алмазом, оцененным в 22 миллиона.
Затем их величества удалились во внутренние покои, где в Грановитой палате, бывшем дворце Ивана Грозного, состоялся высочайший обед».
По случаю коронации была проведена амнистия, прощены долги казне, но широкой раздачи титулов и денег, а тем более земли и поместий, не последовало. И тогда же произошло самое массовое угощение простых людей – и москвичей, и пришедших в Первопрестольную на коронацию из других мест – и устроена раздача царских подарков с лакомствами, колбасой и хлебом. На Ходынском поле, на краю Москвы, неподалеку от загородного Петровского дворца, было роздано 500 тысяч подарков.
…Через тринадцать лет на этом же самом поле по такому же случаю захотят сделать то же самое, но безобидная затея обернется кровавой катастрофой, ставшей как бы прологом к несчастному последнему царствованию…
Дни коронации ознаменовались еще одним важным и великолепным празднеством – 26 мая произошло освящение и открытие Храма Христа Спасителя, строившегося сорок шесть лет.
Самый большой храм России, построенный по проекту архитектора К. А. Тона на народные деньги в память об Отечественной войне 1812 года, был расписан выдающимися мастерами – В. В. Верещагиным, В. И. Суриковым, Г. Н. Семирадским, Ф. С. Журавлевым, К. Е. Маковским, облицован мрамором и представлял собою изумительное архитектурное и художественное творение. Под его сводами могли одновременно находиться десять тысяч человек.
Александр III присутствовал на освящении храма, а после этого возвратился в Петербург.
Государь и его близкие
Сохраняя прежнюю схему повествования, познакомимся теперь с царской семьей, когда ее главой стал Александр III, и прежде всего с самим императором.
В момент вступления на престол Александру III шел тридцать седьмой год. С того времени, когда умер его старший брат Николай и Александр стал наследником престола, его занятия и вся жизнь сильно изменились. С 1865 года, вот уже 15 лет, его целенаправленно готовили к предстоящей миссии, ожидавшей цесаревича после смерти отца, – стать самодержцем, сосредоточивая все нити управления великой империей в одних руках – его собственных.
Воспитанием Александра, главным образом, занимались три человека – профессор-правовед Московского университета Константин Петрович Победоносцев, его коллега, профессор-экономист Александр Иванович Чивилев и главный воспитатель, названный «попечителем», генерал-адъютант граф Борис Алексеевич Перовский. Цесаревич прослушал курсы политических наук и правоведения в объеме университета, что позволило ему не выглядеть одиозно в должности канцлера Гельсингфорского университета.
Хорошая военная подготовка, соответствующая программе Академии Генерального штаба, делала его профессионалом, когда он занимал различные армейские должности – от командира полка до атамана казачьих войск и командующего Петербургским военным округом. А то, что ему довелось участвовать в русско-турецкой войне 1877—1878 годов, придавало новому императору заслуженный авторитет боевого генерала.
В исторической литературе имеется множество статей и книг о К. П. Победоносцеве, не обойден вниманием ученых и граф Б. А. Перовский, а еще один из наставников цесаревича – профессор А. И. Чивилев, предан исследователями русской истории совершеннейшему забвению. Справедливость требует, чтобы и его вклад в воспитание будущего императора России был оценен должным образом, ибо этот вклад оказался и велик, и плодотворен. Скажу о нем очень кратко следующее: Чивилев родился в Санкт-Петербурге в 1808 году и умер здесь же в 1867 – немного не дожив до 60 лет. В 1828 году он поступил в Санкт-Петербургский университет на философско-правовой факультет. Успешно закончив его, Чивилев был отправлен в Дерпт – ныне город Тарту Эстонской республики – в существовавший там Профессорский институт. Там он защитил магистерскую диссертацию «О призрении бедных» и, получив степень магистра философии, уехал в Берлин.
В 1835 году Чивилев был назначен адъюнктом в Московский университет по кафедре политэкономии и статистики. В 1838 году защитил докторскую диссертацию «О народном доходе» и стал профессором истории.
С 1849 года он служил в Министерстве уделов, затем стал директором бывшего Дворянского института в Москве, по заслугам прослыв одним из лучших статистиков и политэкономов России.
В конце жизни он был приглашен в Санкт-Петербург, где стал наставником Великих князей Александра и Владимира и преподавал им комплексную историко-экономическую науку о развитии народного хозяйства.
Изучая с материалистических позиций эту, новую тогда для России, научную дисциплину, Александр все свое царствование придавал исключительное значение проблемам народного хозяйства, окружив себя такими блестящими учеными-министрами, как С. Ю. Витте и М. Х. Рейтерн.
И совсем не случайно, что в годы правления Александра III Российская империя добилась больших успехов в развитии главных отраслей народного хозяйства, став великой железнодорожной державой, сделав русский рубль конвертируемой мировой валютой, вытеснив с зарубежных рынков многие сельскохозяйственные продукты.
Однако, вопреки всему вышеизложенному, русские ультра-патриоты создали портрет Александра III, когда в исторической литературе, в публицистике и в беллетристике стало широко бытовать мнение, что Александр III был не более чем солдафон, невежа и обскурант. Такого рода характеристики исходили от тех редких интеллектуалов-прогрессистов, которые, оказавшись в ближайшем окружении императора, встречали противодействие их собственным концепциям и взглядам, которые они считали единственно верными и возможными для применения в деле развития России. С. Ю. Витте – выдающийся финансист, дипломат и политик, хорошо знавший Александра III, отзывался о нем так: «Император Александр III был совершенно обыденного ума, пожалуй, можно сказать, ниже среднего ума, ниже средних способностей и ниже среднего образования; по наружности – походил на большого русского мужика из центральных губерний, к нему больше всего подошел бы костюм: полушубок, поддевка и лапти; и тем не менее, он своей наружностью, в которой отражался его громадный характер, прекрасное сердце, благодушие, справедливость и вместе с тем твердость, несомненно, импонировал, и если бы не знали, что он император, и он бы вошел в комнату в каком угодно костюме, – несомненно, все бы обратили на него внимание. Фигура императора была очень импозантна: он не был красив, по манерам был скорее более или менее медвежатый; был очень большого роста, причем при всей своей комплекции он не был особенно силен или мускулист, а скорее был несколько толст и жирен».
В этой характеристике не все справедливо. О полученном им образовании нельзя сказать: «ниже среднего», а что касается того, что «он не был особенно силен», то это уже совершеннейшая ложь – Александр пальцами гнул монеты и ломал подковы. Это был настоящий русский богатырь, который хорошо знал свои качества и не только не скрывал их, но, напротив, при случае, бывало, и проявлял. Александр III при всем этом был глубоко русским человеком, у которого любовь ко всему отечественному – в изначальном смысле слова – от «отцов» и «отчизны» – переходила в матерый национализм. Даже вековой традиционализм европейских дворов, где внешние национальные различия были минимальными, был сразу же нарушен новым русским монархом. Сделано же это было быстро, неожиданно и в стиле
предыдущих самодержцев, очень любивших менять военную форму. Вспомним хотя бы прадеда и деда Александра – Павла и Николая. Да только поворот в этом деле был настолько крут, что оба предка Александра перевернулись бы в гробах, если бы им привиделось такое. Александр немедленно распорядился упростить военную форму и сделать ее более удобной. В этом смысле он действовал в духе Потемкина и Суворова. Но была здесь и другая сторона – форма стала национальной. Всех военнослужащих переодели в русские полукафтаны и шаровары, перепоясав их цветными кушаками и надев на головы барашковые шапки. Прежде всех были переодеты генералы свиты. Когда после введения этого новшества состоялся первый придворный прием, то только один из генералов свиты – необычайно спесивый, заносчивый и очень недалекий князь А. И. Барятинский, командир Преображенского полка, болезненно гордившийся полковым мундиром и своей принадлежностью к славному аристократическому братству офицеров лейб-гвардии, – нарушил приказ и явился на прием в прежнем мундире. Когда же министр двора сделал ему в связи с этим замечание, то князь ответил, что мужицкой формы он носить не станет. Этот ответ был равнозначен отставке, и князю пришлось донашивать свой старый мундир в Париже, но уже частным человеком.
Не только лощеных генералов свиты и камергеров двора поражала эта внезапная и резкая перемена. Даже такой прогрессист и либерал, каким был известный судебный деятель А. Ф. Кони, поразился, увидев на Александре III русскую рубашку с вышитым на рукавах цветным узором.
Другой характерной чертой нового царя была его бережливость, доходящая до предела. Он носил одежду – брюки, тужурку, пальто, полушубок, сапоги – до тех пор, пока они не начинали разваливаться. И тогда царь чинил и латал их до последней возможности, причем и изначально это были самые простые вещи – сапоги не были даже офицерскими, а солдатскими, тужурка не из тонкого сукна, рубашки – не из-за границы, а из ивановского холста. И жить он стал не в прежних апартаментах Зимнего дворца, а в маленьких комнатках дворца в Гатчине, где до него жили слуги. Новый император навел строгую экономию во всех отраслях государственного управления, особенно сильно урезав расходы дворцового ведомства. Он сильно сократил штат Министерства двора, уменьшил число слуг и ввел строгий надзор за расходованием денег и в своей семье, и в семьях Великих князей.
Александр III запретил закупку для своего стола заграничных вин, заменив их крымскими и кавказскими винами, а число балов ограничил четырьмя в год.
Летом царская семья жила в Петергофе, занимая маленький дворец Александрию, и лишь однажды в сезон – 22 июля – праздновала день тезоименитства Марии Федоровны. И в Александрии, как и в Гатчине, жизнь царя и царицы проходила в непрерывных трудах и заботах, и только после окончания лагерного сбора в Красном селе, завершавшегося большим парадом, раздачей наград и производством в офицеры, семья уезжала в финские Шхеры, где и ждал их всех настоящий отдых.
Министры могли приезжать сюда в самых исключительных случаях, а государственные бумаги привозили и увозили фельдъегери.
Сколько стрел было выпущено в него левыми журналистами и писателями-эмигрантами по поводу его тупости и невосприимчивости к искусству! А он чаще, чем кто-либо, бывал в опере, очень хорошо музицировал, а на тромбоне играл столь искусно, что участвовал солистом в дворцовых квартетах.
В 1869 году у цесаревича начал собираться маленький оркестр медных духовых инструментов, в который входил он сам и еще восемь музыкантов – офицеров гвардии. С течением времени кружок разросся и в 1881 году превратился в «Общество любителей духовой музыки». Было бы преувеличением утверждать, что там играли музыканты высокого класса, но репертуар был разнообразен, и оркестранты становились год от года все более искусными.
Александр еще в бытность цесаревичем был одним из основателей Русского исторического общества, под его покровительством находился Исторический музей в Москве, а что касается приобретения живописи, графики и скульптуры для Эрмитажа и вообще отношения к русским художникам, то на этом имеет смысл остановиться более подробно, использовав воспоминания видного русского живописца, внука А. Н. Радищева А. П. Боголюбова, известного еще и тем, что он в конце жизни основал у себя на родине, в Саратове, прекрасную художественную галерею, носящую и сегодня его имя.
Серьезное приобщение к прекрасному началось у цесаревича с осмотра дворцов и музеев Копенгагена. Приезжая туда к тестю и теще, цесаревич вместе с Марией Федоровной обходил стекольные заводы, фабрики по производству фаянса и фарфора, мастерские ювелиров, приобретая лучшие образцы производимых там изделий, а затем и старинную мебель, гобелены и самый разнообразный антиквариат. Наконец, наступила и очередь картин, и здесь, вопреки канонам, он стал приобретать полотна современных ему художников, а о школе старых мастеров сказал однажды: «Я должен ее любить, ибо все признают старых мастеров великими, но собственного влечения не имею». Впрочем, в дальнейшем отношение Александра III к старым мастерам переменилось, и он приобретал картины Бларамберга, Ватто и других.
Вскоре в Аничковом дворце Александр отвел два зала под музей. В нем демонстрировались приобретенные им раритеты и коллекция редкостей, купленная у писателя Дмитрия Васильевича Григоровича, автора прославленных повестей – «Деревня» и «Антон Горемыка». Григорович был не только писателем, но и выдающимся знатоком искусств, и потому занимал пост секретаря Общества поощрения художеств и читал лекции по истории искусства цесаревне Марии Федоровне, на коих нередко оказывался и цесаревич.
В Царскосельском дворце Александр разместил коллекцию картин русских художников 30-х – 50-х годов XIX века: там были полотна Брюллова, Басина, Сверчкова, Боголюбова, Боровиковского, скульптуры Клодта и многих иных.
Все это привило цесаревичу и любовь к рисованию и занятиям живописью, а позже даже к занятиям реставрацией.
После женитьбы Александр и Мария Федоровна не просто отреставрировали Аничков дворец, но совершенно переделали его, превратив в Храм Муз, заполненный изящными вещами, подобранными с тонким и безукоризненным вкусом.
В заграничных путешествиях Александр постоянно пополнял свои коллекции. Во время двух своих поездок в Париж он принял от русских художников, в то время находившихся там, звание почетного попечителя созданного ими Общества взаимной помощи, размещавшегося в доме барона Горация Осиповича Гинцбурга – богача и мецената, щедро покровительствовавшего людям искусства.
Посетив мастерские русских художников и выставку их работ в доме Гинцбурга, цесаревич заказал или купил картины у Репина, Поленова, Савицкого, Васнецова, Бегрова, Дмитриева. У Антокольского он купил бронзовые статуи Христа и Петра Великого, а впоследствии приобрел и известнейшие его работы – «Летописец Нестор», «Ермак», «Ярослав Мудрый» и «Умирающий Сократ».
Александр обошел и мастерские многих французских художников, посетив и их патриарха, знаменитого и модного придворного живописца Месонье. Вместе с Марией Федоровной посетил он музеи Лувр, Люксембургский дворец, Ключи, Севрскую фарфоровую фабрику, фабрику гобеленов, а также и Академию художеств. Александр приобрел десятки произведений искусства, но венцом всего был осмотр коллекции древностей русского подданного Базилевского, которая была куплена Александром за пять с половиной миллионов франков, как только он стал императором. Эта коллекция стала основой отдела древностей Императорского Эрмитажа.
* * *
В леворадикальной историографии, когда речь заходила об Александре III, упорно культивировался образ тупого, плохо образованного человека, начисто лишенного как интеллекта, так и чувства юмора. О его образовании и уме мы уже знаем, но и в остроумии ему тоже нельзя отказать. Так, например, однажды командующий Киевским военным округом М. И. Драгомиров забыл поздравить его с днем рождения и вспомнил об этом лишь на третий день. Недолго думая, генерал послал телеграмму: «Третий день пьем здоровье Вашего Величества», на что сразу получил ответ: «Пора бы и кончить». А когда Великий князь Николай Николаевич подал ему прошение о разрешении жениться на петербургской купчихе, Александр учинил такую резолюцию: «Со многими дворами я в родстве, но с Гостиным двором в родстве не был и не буду».
Александр III был совершенно безукоризнен в вопросах семейной морали. Даже в таком, насквозь антимонархическом издании, каким были небезызвестные «Новые материалы по биографии российских коронованных особ, составленные на основании заграничных документов», автор XII тома А. Колосов писал, что Александр III «не в пример всем своим предшественникам на русском престоле, держался строгой семейной морали. Он жил в честном единобрачии с Марией Федоровной, не заводя себе ни второй морганатической жены, ни гарема любовниц». Немалую роль сыграл в этом отношении роман его покойного отца с Е. М. Юрьевской, навсегда ставший для цесаревича образцом того, чего ни в коем случае нельзя делать царю – главе августейшей семьи.
Разумеется, Александр III не был ангелом, и был ли ангел когда-нибудь на русском престоле? И если говорить о негативных качествах нового императора, то это был прежде всего воинствующий национализм, вскоре переросший в шовинизм, что в условиях многонациональной Российской империи было совершенно недопустимо. Насильственная русификация, запрет обучения многих «инородцев» на их родных языках, откровенный антисемитизм – тоже были неотъемлемыми чертами Александра III.
Уже 3 мая 1882 года были изданы «Временные правила об евреях», запрещавшие им приобретать недвижимость в черте оседлости – территории, где разрешалось проживание евреев.
В 1887 году были приняты законы, по которым вводилась процентная норма приема еврейских детей в средние и высшие учебные заведения, городские уездные училища. В черте оседлости эта норма составляла 10 % от общего числа учащихся, вне черты – 5 %, в столицах – 3 %. В 1889 году был ограничен доступ евреев в адвокатуру; в 1890 г. – запрещены выборы их в земства и городское самоуправление; в 1891—1892 годах из Москвы было выселено 20 тысяч евреев – отставных солдат и ремесленников вместе с их домочадцами, а во многих городах Российской империи прошли кровавые еврейские погромы, когда на глазах у бездействовавшей полиции пьяные бандиты убивали детей, женщин и стариков, порою истребляя целые семьи.
Из отрицательных качеств не только антисемитизм был свойственен Александру. Другой его негативной чертой был определенный сословный обскурантизм. Александр считал, что «образование не может быть общим достоянием и должно оставаться привилегией дворянства и зажиточных сословий, а простому народу, так называемым „кухаркиным детям“ – подобает уметь читать, писать и считать. В этом вопросе Александр III полностью разделял взгляды своего наставника Победоносцева, утверждавшего, что истинное просвещение не зависит от количества школ, а зависит от тех, кто в этих школах учит. Если в школах засели длинноволосые нигилисты и курящие папиросы дамочки, то не просвещение, а лишь растление могут дать они детям. Истинное просвещение начинается с морали, а в этом случае гораздо лучшим учителем будет не „ушедший в народ“ революционер, а скромный, нравственный и верный царю священник или даже дьячок.
Такого рода воззрения были милы, близки и понятны Александру III, и он с готовностью внимал им, тем более что еще два «властителя дум» пели в унисон с Константином Петровичем Победоносцевым, это были – публицист и издатель М. Н. Катков и граф Д. А. Толстой.
Цесаревич Николай Александрович
Первенцем императорской четы и таким образом наследником престола был Николай, родившийся 6 мая 1868 года, о чем уже сообщалось. В 1881 году Николаю исполнилось 13 лет. Кроме него, у царя и царицы были еще два сына – десятилетний Георгий и двухлетний Михаил, а также одна дочь – шестилетняя Ксения. Через год Мария Федоровна родила еще одну девочку, Ольгу, свою последнюю дочь. Каждому из этих новых персонажей книги будет уделено определенное внимание, но, конечно, больше всех прочих станет интересовать нас старший сын императорской четы, цесаревич Николай Александрович, ибо именно он через тринадцать лет, в 1894 году, станет последним императором России.
До девяти лет его воспитывали, как обычно, няни и бонны – у маленького Ники, по желанию его родителей, это были преимущественно англичанки, – затем появились учителя-наставники, обучавшие мальчика чтению, письму, арифметике, началам истории и географии. Особое место занимал законоучитель – протоиерей И. Л. Янышев, прививший наследнику престола глубокую и искреннюю религиозность.
Современный историк А. Н. Боханов так пишет об этом: «Достаточно точное суждение о Николае II принадлежит Уинстону Черчиллю, заметившему: „Он не был ни великим полководцем, ни великим монархом. Он был только верным, простым человеком средних способностей, доброжелательного характера, опиравшимся в своей жизни на веру и Бога“. Вот это качество – вера в Бога, – вера такая простая и глубокая у него, очень многое объясняет в жизни человека и правителя. Это по сути дела своеобразный ключ к пониманию его душевных состояний и поступков… Бог олицетворял для Николая Высшую Правду, знание которой только и делает жизнь истинной, в чем он уверился еще в юности… Вера наполняла жизнь царя глубоким содержанием, помогала переживать многочисленные невзгоды, а все житейское часто приобретало для него характер малозначительных эпизодов, не задевавших глубоко душу. Вера освобождала от внешнего гнета, от рабства земных обстоятельств. Русский философ Г. П. Федотов очень метко назвал Николая „православным романтиком“… По словам хорошо знавшего царя протопресвитера армии Г. И. Щавельского, „Государь принадлежал к числу тех счастливых натур, которые веруют, не мудрствуя и не увлекаясь, без экзальтации, как и без сомнения. Религия давала ему то, что он более всего искал – успокоение. И он дорожил этим и пользовался религией, как чудодейственным бальзамом, который подкрепляет душу в трудные минуты и всегда будит в ней светлые надежды“. Разумеется, все это пришло к Николаю позже, но основы были заложены в детстве.
Еще одним качеством, в какой-то мере врожденным, а в значительной степени благоприобретенным и развитым под влиянием окружающих и его собственными усилиями, была пресловутая «обольстительность», столь свойственная Романовым, особенно мужчинам.
«Император Николай II, – писал русский историк-эмигрант С. С. Ольденбург, – обладал совершенно исключительным личным обаянием… В тесном кругу, в разговоре с глазу на глаз, он умел обворожить своих собеседников, будь то высшие сановники или рабочие посещаемой им мастерской. Его большие серые лучистые глаза дополняли речь, глядели прямо в душу. „Эти природные данные еще более подчеркивались тщательным воспитанием. „Я в своей жизни не встречал человека более воспитанного, нежели ныне царствующий император Николай II“, – писал граф Витте уже в ту пору, когда он, по существу, являлся личным врагом государя. А последнее качество – воспитанность, под коей понимались и хорошие манеры, и то, что в старину называли «благонравием“, и умение располагать к себе, – тоже было плодом усилий тех, кто воспитывал и учил цесаревича, и в значительной мере результатом его собственных регулярных усилий.
В 1877 году, когда Николаю было девять лет и он перешел из женских рук в мужские, его главным воспитателем стал пятидесятидвухлетний генерал от инфантерии Григорий Григорьевич Данилович, директор 2-й Санкт-Петербургской военной гимназии, составивший, а затем и осуществивший программу обучения цесаревича, рассчитанную на 12 лет: 8 лет – гимназический курс и 4 года – университетский, правда с известными коррективами, но не за счет сокращения, что заставило потом увеличить время обучения еще на один год. «Г. Г. Данилович, – писал видный дипломат А. П. Извольский, – не имел других качеств, кроме ультрареакционных взглядов». Однако действительным наставником и воспитателем Николая был учитель английского языка Хетс – очень одаренный и очень обаятельный человек, преподававший еще и в Царскосельском лицее. Ему Николай был обязан великолепным знанием английского языка и любовью к спорту. Но Хетс не был Лагарпом. Он не имел и малой доли тех знаний, какими обладал великий швейцарец, не имел даже университетского образования и потому не мог сделать то, что сделал с цесаревичем Александром Павловичем Лагарп.
«Карла Осиповича», как обычно называли мистера Хетса, можно было считать и воспитателем, и нянькой, ибо он глубоко был предан всей семье, приютившей его, и искренне любил своего воспитанника. Он был чистейшим идеалистом, прекрасно рисовал и занимался многими видами спорта. Особенно любил он конный спорт и сумел передать любовь к нему Николаю, тем более что цесаревич с удовольствием служил в лейб-гвардии гусарском полку.
Николай помнил, как совсем маленьким мальчиком, когда рядом с ним еще не было генерала Даниловича, а окружали его няньки да мамки, августейший дед брал его с собою на разводы, смотры и парады тех частей, где был он сам или Николай – шефами. А летом 1876 года, когда шел Николаю девятый год, его впервые обрядили в мундир, повесили на пояс маленькую саблю, дед взял его с собою на смотр и поставил в ряды первой роты лейб-гвардии Павловского полка, хотя формально военная служба началась для Николая годом раньше: по примеру старых времен, он был семилетним ребенком записан в лейб-гвардии Эриванский полк и через год получил там же первый офицерский чин прапорщика. Двенадцати лет он стал поручиком, но это все еще были не более чем детские потехи, а серьезная, настоящая военная служба началась после принятия им присяги в день своего шестнадцатилетия. Но все это будет позже, а сейчас, в 1881 году, он проходил усложненный курс гимназии, где, помимо всех обычных премудростей, изучал не два живых языка, как в гимназии, а четыре: английский, немецкий, французский и датский. Последний был родным языком его матери, и он знал, что рано или поздно окажется у своих родственников в Копенгагене, сможет изъясняться и по-датски. Языки давались Николаю легко, и он с удовольствием занимался ими. Особенно же любил он английский язык и владел им настолько безукоризненно, что столь же безупречные русские знатоки английского языка находили, что Николай и думает по-английски, а потом переводит свои мысли на русский язык.
…6 мая 1884 года, когда Николаю исполнилось 16 лет, в Большой церкви Зимнего дворца он принял присягу по случаю вступления в действительную военную службу. Он все еще, как и четыре года назад, был поручиком, но парадокс заключался в том, что по традиции цесаревич был атаманом всех казачьих войск, а во главе каждого из них непременно стоял генерал, и таким образом все они, хотя и номинально, подчинялись шестнадцатилетнему поручику. Из-за своего атаманства Николай принимал присягу под знаменем лейб-гвардии Атаманского полка, в котором служили представители всех одиннадцати существовавших тогда казачьих войск – от Кубанского до Уссурийского.
Неофициально считалось, что в день принятия присяги для присягающего наступало совершеннолетие, и, таким образом, цесаревич ощущал себя взрослым человеком. До его вступления на престол оставалось еще целых десять лет.
А все эти годы вокруг бурлила взрослая жизнь, и цесаревичу предстояло этим же летом 1884 года очутиться на свадьбе своего любимого дяди Великого князя Сергея Александровича.
Свадьба великого князя Сергея Александровича с гессенской принцессой Елизаветой
Великий князь Сергей Александрович был четвертым сыном Александра II. Он родился 29 апреля 1857 года.
В день своего рождения царственный младенец был произведен в прапорщики и зачислен в лейб-гвардии Преображенский полк. В раннем детстве его воспитательницей была Анна Федоровна Тютчева, в замужестве Аксакова. Когда Сергею исполнилось семь лет, его воспитателем стал капитан-лейтенант Д. С. Арсеньев, состоявший в этой должности, пока его воспитаннику не исполнился 21 год.
В юности сильное воздействие на Великого князя оказал преподававший ему историю России профессор К. Н. Бестужев-Рюмин. Он утвердил Сергея Александровича в идее незыблемости самодержавия, в том, что историю творят великие люди, и привил ему любовь к археологии, особенно во время большой поездки по русскому Северу. С детства Сергей Александрович дружил со своим младшим братом Павлом – пятым и последним сыном царя. Образование свое Сергей Александрович завершил в 20 лет, прослушав курсы права (К. П. Победоносцев), политэкономии (В. П. Безобразов), истории России (С. М. Соловьев), а также курсы русской, немецкой, английской и французской литератур и, соответственно, этих же языков. Военные науки, столь обязательные для Великих князей, читали ему генералы Г. А. Леер и М. И. Драгомиров – тактику и стратегию; военную статистику – П. Л. Лобко; фортификацию – профессор и композитор Ц. А. Кюи; артиллерию – Н. А. Демьяненко.
13 июня 1876 г., 19 лет от роду, Великий князь приступил к обязанностям ротного командира в летних лагерях в Красном селе. В августе он был произведен Александром II во флигель-адъютанты.
29 апреля 1877 г., в день своего совершеннолетия, двадцатилетний князь принес присягу и тут же был произведен в полковники. А 21 мая Сергей Александрович с Д. С. Арсеньевым отправился в действующую армию, на северный берег Дуная, куда вместе с отцом – Александром II и старшим братом – будущим императором цесаревич Александр Александрович. Вскоре Сергей Александрович был переведен в Рущукский отряд, которым командовал цесаревич, бывший на двенадцать лет старше него. 21 сентября на Дунай приехал и его младший брат – Павел, но не для того, чтобы воевать, а лишь для того, чтобы повидаться с отцом и братьями. Сергей Александрович пробыл в Болгарии до декабря 1877 года, вернулся в Петербург вместе с отцом-императором. В Болгарии довелось ему побывать и в одном серьезном бою, происходившем у села Кошево 12 октября. Во время всего боя он сохранял полное хладнокровие, которое потом назвали «мужеством» и наградили за это орденом Георгия 4-й степени, а эта награда давалась исключительно за личное мужество, проявленное в бою.
Вместе с тем, военная служба не была единственным делом Великого князя.
Знавшие его отмечали, что Сергей Александрович и на церковных службах не был случайным человеком. В 1881 г., после смерти отца, он вместе с Великими князьями Павлом Александровичем и Константином Константиновичем отправился в Италию и Палестину. Вернувшись, Сергей Александрович организовал в России в 1882 году Императорское православное палестинское общество для поддержания православия в Палестине, стал первым председателем его и оставался им до самой смерти. Общество помогало паломникам в путешествиях в Святую Землю и занималось изучением ее истории.
Он пожертвовал большие средства на раскопки в Иерусалиме, благодаря которым была обнаружена часть древней городской стены, что позволило уточнить местонахождение Голгофы и других мест Иерусалима, связанных с земной жизнью Иисуса Христа.
На нужды Палестинского общества правительство ежегодно ассигновывало по 130 тысяч рублей золотом, не считая добровольных взносов членов общества и лиц, поддерживающих его деятельность. С первых же дней своего существования Палестинское общество стало крупнейшим научным центром, осуществлявшим исследовательскую деятельность не только по истории и востоковедению, но и по географии, медицине и т. п. Обществом были созданы православные культурно-просветительские заведения и в ряде стран Ближнего Востока: учительские семинарии, школы и другие просветительные и благотворительные учреждения.
Палестинское общество существует и сегодня, входя в Российскую академию наук. С 1918 г. оно именуется Российским Палестинским обществом и продолжает публикаторскую деятельность, начатую им с самого начала. К 2001 году Палестинское общество издало более ста томов научных трудов «Палестинского сборника».
Через пять лет после возвращения с войны, в 1882 году, Сергей Александрович вступил в Преображенский полк, начав с должности командира 1-го батальона, который, как и весь этот элитный полк, славился и своими несомненными боевыми заслугами, и немалой распущенностью офицеров – богачей-аристократов, умудрявшихся поддерживать в образцовом порядке свои роты и одновременно в свободное от службы время предаваться разнузданным оргиям.
В юности Сергей Александрович, самый красивый из сыновей Александра II, был высоким блондином с серо-зелеными глазами и тонкими чертами лица. Великий князь любил чтение и музыку и был равнодушен к прекрасному полу, потому что, как говорили, питал слабость к красивым молодым офицерам.
Тем не менее, еще в юности ему понравилась красивая, умная принцесса Елизавета, которую все в доме звали Эллой, – вторая дочь великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига и его жены Алисы – дочери английской королевы Виктории, родившаяся 20 октября 1864 г. У нее было четыре сестры и два брата. Все они воспитывались в строгих пуританских традициях старой Англии и были набожны, нравственны и хорошо образованны.
Элла познакомилась с Сергеем еще в детстве, когда императрица Мария Александровна – его мать – приезжала в Германию с детьми. А Элла и ее сестры и братья часто ездили в Англию к своей бабке – королеве Виктории.
Элла выросла красивой стройной девушкой с прекрасными чертами лица, необычайно набожной, готовой отдать для ближнего все. Она обладала прекрасным характером, хорошо рисовала и музицировала. Казалось, что на ней лежит благословение ее святой патронессы Елизаветы Тюрингской – родоначальницы Гессенского и Саксонского домов, отличавшейся глубоким благочестием и любовью к людям, после смерти причисленной католической церковью к лику святых. Знавшие ее утверждали, что Элла была красивейшей женщиной Европы. Об этом осталось множество свидетельств ее родных, близких, писавших ее портреты художников, редко удовлетворенных своими работами, потому что, считали они, оригинал оставался недосягаем.
Знатоки искусств считают, что более других приблизился к подлиннику великий скульптор М. Антокольский, изваявший ее бюст из белого мрамора.
В 1884 году, перед самой свадьбой, ее увидел Великий князь Константин Константинович, писавший под псевдонимом «К. Р.», и, пораженный ее красотой, оставил такие стихи:
Я на тебя гляжу, любуюсь ежечасно: Ты так невыразимо хороша! О, верно, под такой наружностью прекрасной Такая же прекрасная душа. Какой-то кротости и грусти сокровенной В твоих очах таится глубина, Как ангел, ты тиха, чиста и совершенна; Как женщина, стыдлива и нежна. Пусть на земле ничто средь зол и скорби многой Твою не запятнает чистоту. И всякий, увидав тебя, прославит Бога, Создавшего такую красоту!В этой книге жене Сергея Александровича отводится особое место, ибо таких, как она, было немного в истории России: выдающаяся женщина и человек, она заняла в конце концов место в пантеоне православных святых великомучениц.
Из-за своей знатности, красоты и высокой нравственности Елизавета, безусловно, была первой невестой Европы, и ее руки домогались многие наследные принцы. Однако же более других претендовал на ее руку прусский принц Вильгельм – будущий император Германии. Но победил в этом споре претендентов Сергей Александрович, женившийся на Елизавете летом 1884 года. В ту пору ей было девятнадцать лет.
…В начале июня Сергей и Елизавета прибыли в Петербург. Невеста Великого князя ехала в золоченой карете Екатерины II, запряженной шестеркой белых лошадей, с форейторами в золоченых ливреях.
Следом по улицам, украшенным цветами и флагами, ехала вся царская семья…
После свадьбы Сергей Александрович и Елизавета уехали в Ильинское – имение Великого князя, расположенное в шестидесяти верстах от Москвы, за Одинцовом. Там в типичной помещичьей усадьбе средней руки – в двухэтажном деревянном доме, неподалеку от деревни с сельским храмом, среди липовых аллей и усыпанных цветами полян молодые и остались проводить свой медовый месяц.
Перед тем как приехать в усадьбу, они на несколько дней остановились в Москве. Разумеется, вся московская знать и московский генерал-губернатор князь Владимир Андреевич Долгоруков торжественно встречали их и дали в честь молодоженов несколько балов.
Великий князь и Великая княгиня поселились в Кремле и часто оказывались на церковных службах. Елизавета ревностно отстаивала их, хотя и была еще протестанткой, целовала и крест, и иконы, и руки священникам, готовя себя к переходу в православие.
В Ильинском молодожены вели жизнь простых дачников: катались на лодке, ездили верхом и в дрожках, собирали цветы и ягоды.
Элла стала усердно изучать русский язык и православный катехизис, а во время прогулок заходила в избы крестьян, поражаясь окружающей их нищете. Здесь же началась и ее благотворительная деятельность, столь характерная для Великой княгини на протяжении всей ее жизни.
Впоследствии в Ильинском были построены больница и родильный дом, и многие мальчики и девочки стали крестными детьми хозяев имения.
Но, разумеется, большую часть времени – осень и зиму, а также и часть лета, когда шли лагерные сборы и Красносельские маневры, – молодые супруги проводили в Петербурге. И здесь, сколь бы ни была привлекательна и значима Великая княгиня Елизавета, первую роль все же играл ее муж – генерал-адъютант и Великий князь Сергей Александрович.
Справедливо будет заметить, что Сергею Александровичу в молодости не был чужд образ жизни его офицеров, хотя пьяницей он не был, а что же касается цесаревича Николая, проходившего в Преображенском полку два лагерных сбора, то он вообще никогда не преступал законов нравственности и максимум, на что был способен – это на участие в легкой пирушке в офицерском собрании.
26 февраля 1887 г. Сергей Александрович был произведен в генерал-майоры и в тот же день назначен командиром полка.
Великий князь Константин Константинович и его брак с герцогиней Елизаветой Саксен-Альтенбургской
Начнем этот раздел немного необычно, дав в начале характеристику нашему герою, которая, может быть, была бы более уместна где-нибудь в конце.
Вот что писал о нем уже неоднократно цитировавшийся прежде Александр Михайлович: «…Константин Константинович был талантливым поэтом и очень религиозным человеком, что до известной степени как бы суживало и одновременно расширяло его кругозор. Он был автором лучшего перевода шекспировского „Гамлета“ на русский язык и любил театр, выступая в главных ролях на любительских спектаклях в Эрмитажном театре Зимнего дворца. Он с большим тактом нес обязанности президента Императорской академии наук».
Согласитесь, поэт, ученый и актер – качества, не очень-то часто встречающиеся среди кавалерийских офицеров и генерал-адъютантов Романовых.
Константин Константинович родился 10 августа 1858 года в семье Великого князя Константина Николаевича – одного из сыновей Николая I – и Великой княгини Александры Иосифовны, в девичестве герцогини Александры Саксен-Альтенбургской. Родился он в Стрельне, на берегу Финского залива, рядом с Петергофом, и его отец – командующий Военно-морским флотом и министр Военно-морского флота – был самым последовательным сторонником реформ, проводимых Александром II. Когда Константин Константинович был еще ребенком, его отец сразу же после окончания Крымской войны решительно и последовательно преобразовал парусный флот в паровой, обновил Морской устав, отменил на флоте телесные наказания, деятельно участвовал в освобождении крестьян. Он был основателем специального журнала «Морской сборник», предназначенного для моряков. Он привлек к работе в журнале Н. А. Гончарова, А. Н. Островского, А. Ф. Писемского, В. И. Даля, Д. В. Григоровича. Великий князь так сформулировал главную задачу «Морского сборника»: «Цель наша не в том, чтобы извлекать денежные выгоды, но чтобы знакомить Россию с флотом, возбуждать к нему уважение и привязанность».
Мальчик был любознателен, любил читать, и, конечно, публикации в «Морском сборнике» способствовали укреплению в нем склонности к «изящной словесности».
В юности его учителями были выдающиеся историки – профессора С. М. Соловьев и К. Н. Бестужев-Рюмин. Собеседования по праву проводил с ним Ф. М. Достоевский.
Конечно же, мальчика с раннего детства готовили к морской службе. Двенадцати лет он ходил в учебной эскадре Морского училища на фрегате «Громобой» в Балтийском море, в 1867 году – девятнадцати лет, в чине мичмана, воевал на Дунае с турками и за храбрость получил орден Георгия 4-й степени. В двадцать лет стал лейтенантом флота и был пожалован во флигель-адъютанты по Министерству двора.
С сентября 1880 по январь 1882 года он ходил на корабле «Георг Эдинбургский» по Средиземному морю, посетив Грецию, где встретился со своей сестрой Ольгой Константиновной, а также побывал в Италии, Алжире, Египте и Палестине.
Пребывание в Святой земле сделало его еще более верующим, хотя глубокая религиозность была присуща Константину Константиновичу с детства.
В 1882—1883 годах он находился в отпуске и, посетив Альтенбург – родину своей матери, решил жениться на своей дальней родственнице принцессе Елизавете Саксен-Альтенбургской.
С апреля 1882 года Константин Константинович начал публиковать стихи, подписанные криптонимом «К. Р.» Под этим литературным именем он проработал до конца своих дней, написав множество стихотворений, рассказов, поэм и пьес. Его перу принадлежали и многочисленные рецензии, и литературно-критические очерки. До сих пор остаются высокими образцами переводы зарубежных пьес – особенно переводы Шекспира и Шиллера.
В 1884 году в Санкт-Петербург приехала невеста Константина Константиновича – Саксен-Альтенбургская принцесса Елизавета. После крещения по православному обряду она продолжала носить прежнее имя, получив отчество «Маврикиевна», и таким образом стала Великой княжной, а после венчания и Великой княгиней Елизаветой Маврикиевной.
После женитьбы, оставаясь в звании штабс-капитана, Константин Константинович семь лет был командиром роты в лейб-гвардии Измайловском полку.
Там проявился его яркий талант педагога и психолога. В полку он создал свои знаменитые «Измайловские досуги» и таким образом заменил обычные кутежи офицерских собраний интересными вечерами, посвященными современной русской литературе. Хорошо разбираясь в тайниках души русского простолюдина, он значительно преобразовал методы воспитания молодых солдат. Для него не было большего удовольствия, как провести утро в казармах, где он занимался с ними «словесностью». Будучи в течение многих лет, с 1900 до 1915 года, начальником Главного управления военно-учебных заведений, он сделал многое, чтобы смягчить суровые методы нашей военной педагогики… Казалось бы, что такой гуманный и просвещенный человек был бы неоценимым помощником государя в делах управления империей. Но, к сожалению, он ненавидел политику и чуждался всякого соприкосновения с политическими деятелями. Он искал прежде всего уединения в обществе книг, драматических произведений, ученых, солдат, кадетов и своей счастливой семьи, состоявшей из жены, шестерых сыновей и двух дочерей.
Конечно же, он не мог в течение семи лет оставаться только командиром роты. С мая 1889 года и до дня смерти, последовавшей 2 июня 1915 года, он на протяжении 26 лет был президентом Российской Императорской Академии наук. (Только граф С. С. Уваров занимал этот пост дольше, по воле Александра I и Николая I.)
Константин Константинович был на своем посту чрезвычайно деликатен и готов всегда поддержать новое полезное начинание, даже если оно казалось небесспорным. Так, например, он первым решительно признал гений Павлова, хотя далеко не все биологи разделяли концепцию Ивана Петровича.
Лишь 33 лет он был произведен в полковники, что для особы царской крови было довольно поздно, и еще через три года стал генерал-майором.
В 1900 году его назначили начальником военно-учебных заведений России, и через много лет сотни офицеров с теплотой и любовью вспоминали Константина Константиновича, отмечая его человечность и огромные знания.
Круг его друзей и почитателей говорит сам за себя: А. А. Фет, А. Н. и Л. Н. Майковы, Я. П. Полонский, Н. Н. Страхов, Ф. И. Тютчев.
На его стихи писали музыку П. И. Чайковский – шесть романсов, Р. М. Глиэр, Ц. А. Кюи, А. К. Глазунов.
Сам Великий князь был прекрасным пианистом и очень неплохим композитором, сочинившим несколько романсов на стихи Алексея Толстого, Аполлона Майкова, Виктора Гюго.
Константин Константинович был не только драматургом, но и режиссером и настоящим актером. Он играл главные роли в своих пьесах и различные – в пьесах других авторов.
Великий князь был отменным семьянином, часто навещал своих немецких родственников. Так и летом 1914 года он вместе с женой поехал в Германию, в Альтенбург. Но в августе началась Первая мировая война, и он был задержан как генерал вражеской армии. Не помогло ни то, что сам кайзер Вильгельм II был его родственником, ни то, что жена была по происхождению немецкой принцессой.
Их интернировали, и хотя и не долго, но все же подвергали непривычным для них унижениям. Наконец, они были отпущены из неволи, но на Великого князя пребывание в плену произвело весьма тяжелое впечатление. Приехав в Россию, он занемог, почувствовав боли в сердце.
А в начале октября 1914 года с фронта пришло извещение, что в Восточной Пруссии погиб его сын Олег – подававший надежды пушкинист, талантливый поэт, проживший всего 21 год.
После этого болезнь сердца усилилась, и через девять месяцев, 2 июня 1915 года, Константин Константинович умер.
Похоронили его в Петропавловском соборе – царской усыпальнице.
Елизавете Маврикиевне удалось эмигрировать.
Она скончалась 24 марта 1927 года.
Юность Цесаревича
Теперь мы снова вернемся к цесаревичу Николаю.
В семнадцать лет он закончил среднее образование и перешел к изучению серии дисциплин, предусмотренных программами академии Генерального штаба и двух факультетов университета – юридического и экономического. Высшее образование заняло у цесаревича еще пять лет. Руководителем всего учебного процесса был Победоносцев, читавший к тому же курсы законоведения, государственного, гражданского и уголовного права. Протоиерей И. Л. Янышев читал цикл лекций по истории религии, богословию и каноническому праву. Член-корреспондент Академии наук Е. Е. Замыслов-ский, видный специалист по истории России и истории международных отношений, читал курс политической истории. Академик Н. Х. Бунте, министр финансов, преподавал политэкономию и статистику.
Академик Н. Н. Бекетов, создатель физической химии как самостоятельной науки, преподавал химию. Николай продолжал совершенствоваться в языках, сделав особые успехи в английском.
Вторую половину всего обучения занимали военные науки. Курс стратегии и военной истории читал главный редактор «Энциклопедии военных и морских наук», начальник Академии Генерального штаба, член-корреспондент Академии наук, генерал от инфантерии Г. А. Леер. Фортификацию вел инженер-генерал Ц. А. Кюи, автор 14 опер и 250 романсов. Среди преподавателей военных наук были выдающиеся генералы М. И. Драгомиров, Н. Н. Обручев, А. К. Пузыревский, П. К. Гудима-Левкович, Н. А. Демьяненко и другие. Для изучения пехотной службы цесаревич провел два лагерных сбора в Преображенском полку, где командиром был его дядя – Великий князь Сергей Александрович. Первый год Николай исполнял обязанности взводного, а на второй год – ротного командира. Следующие два летних лагерных сбора провел он в лейб-гвардии Гусарском полку, приобщаясь к кавалерийской службе так же, как и перед тем – сначала младшим офицером, а потом командиром эскадрона. Девятнадцати лет получил он чин штабс-капитана, двадцати трех – капитана и наконец 6 августа 1892 года стал полковником и в этом звании оставался до конца своих дней, даже после того, как стал императором.
Следует сказать и о внешних сторонах службы Николая в гвардии. Глядя в глаза правде, надо признать, что нравственная сторона отношений господ офицеров вне строя была, мягко выражаясь, далека от идеала: характернейшей чертой их быта были бретерство, волокитство, игра в карты, склонность немалого числа офицеров к гомосексуализму и забубенное пьянство.
Дело врачей и психологов объяснить, почему именно так произошло, но факт остается фактом: в 80-х годах среди офицеров гвардии широко распространился гомосексуализм. Александр III, бывший эталоном нравственности, с омерзением относился к носителям этого порока, но изгонять со службы не мог, ибо их было слишком много, и ограничивался отставками офицеров, чьи похождения получали громкую скандальную огласку.
Особенно славился этим пороком Преображенский полк, где командиром был Сергей Александрович, показывавший своим однополчанам пример за примером извращенного мужеложства. Император вынужден был отставить от службы сразу двадцать офицеров-преображенцев, не предавая их суду только из-за того, что это бросило бы тень на его родного брата – их командира.
Племянник Сергея Александровича Великий князь Александр Михайлович, приводит в своих «Воспоминаниях» такой эпизод: «Некоторые генералы, которые как-то посетили офицерское собрание Преображенского полка, остолбенели от изумления, услыхав любимый цыганский романс Великого князя в исполнении молодых офицеров. Сам августейший командир полка иллюстрировал этот любезный романс, откинув назад тело и обводя всех блаженным взглядом!»
Зато Лейб-гусарский полк, где почти не было гомосексуалистов, славился патологическим пьянством. И здесь тон задавал командир полка – один из самых горьких пьяниц русской гвардии Великий князь Николай Николаевич. Его однополчане, собираясь в офицерском собрании, пили по неделям, допиваясь до чертиков и белой горячки.
Водку пили не рюмками, а «аршинами», и нужно было выпить не менее аршина рюмок, поставленных в ряд. А ведь аршин равнялся 71 сантиметру! Другой забавой была «лестница», когда следовало подняться на второй этаж, выпивая по одной рюмке на каждой ступеньке.
После этого офицеры-гусары начинали игру «в волков». Участники игры, раздевшись донага, становились на четвереньки и начинали выть. Тогда старик-буфетчик выносил лохань, наполнял ее шампанским или водкой, и вся «стая», стоя на четвереньках, с визгом отталкивая друг друга и кусаясь, лакала вино. И так же, как в Преображенском полку, здесь, в Лейб-гусарском, безусловным лидером в этом виде офицерского «спорта» был его командир, Великий князь Николай Николаевич. Бывало, что и сам командир раздетым залезал на крышу собственного дома и, как и его офицеры, тоже выл на луну, а то и пел серенады своей возлюбленной купчихе, невенчанной супруге, жившей с ним в Царском Селе, где квартировал Лейб-гусарский полк.
Однако, проходя службу в Преображенском полку, цесаревич Николай был совершенно непричастен к порочным наклонностям офицеров-гомосексуалистов, а служа в Лейб-гусарском, не позволял себе пьянства, хотя ханжой не был и иногда в офицерском собрании пропускал две-три рюмки водки или бокал-другой шампанского.
Здесь же выявилась и одна из симпатичных черт его характера – стремление помочь своим товарищам-однополчанам, если они женились на скомпрометированных ранее дамах.
По законам офицерской чести эти офицеры должны были оставлять Преображенский полк, и цесаревич всячески помогал им в их дальнейшей карьере – армейской, гражданской, а иногда даже духовной.
О его службе в Преображенском полку сохранилось свидетельство командира полка с 1891 года, Великого князя Константина Константиновича. Вот запись в его дневнике от 6 января 1894 года, когда цесаревич уже два года носил звание полковника и командовал первым батальоном преображенцев: «Ники держит себя в полку с удивительной ровностью; ни один офицер не может похвастаться, что был приближен к цесаревичу более другого. Ники со всеми одинаково учтив, любезен и приветлив; сдержанность, которая у него в нраве, выручает его».
Военная подготовка цесаревича не ограничилась знакомством с пехотной, кавалерийской и артиллерийской службой. Будучи атаманом всех казачьих войск, он знал и казачью службу, а кроме того, был приобщен и к службе на флоте.
И вообще, следует признать, что Николай, с учетом его возраста, был подготовлен к военной деятельности гораздо лучше, чем к какой-либо другой. А. П. Извольский, выдающийся русский дипломат, занимавший в 1906—1910 годах пост министра иностранных дел, писал в своих «Воспоминаниях»:
«Когда император Николай II взошел на престол… его природный ум был ограничен отсутствием достаточного образования. До сих пор я не могу понять, как наследник, предназначенный самой судьбой для управления одной из величайших империй мира, мог оказаться до такой степени неподготовленным к выполнению обязанностей величайшей трудности». И действительно, военная среда, окружавшая цесаревича и во дворце, и на занятиях военными науками, и в полевых лагерях на учениях, была ему гораздо более близка и понятна, чем, например, среда министерская, дипломатическая или придворная, так как отец-император не очень-то приобщал его к сфере государственного управления или внешней политики.
Александр III не любил придворных балов и празднеств, ограничив их до минимума, и, как мы уже знаем, практически не принимал по делам двора никого, кроме министра этого ведомства Воронцова-Данилова, да и то крайне редко.
И потому и цесаревич воспитан был в том же духе, что и отец: он не выносил излишеств ни в одежде, ни в еде, старался во многом подражать отцу, со временем полюбив то же, что любил и Александр: охоту в царских заповедниках – Ловиче, Спале, Беловежье, рыбалку в Финских шхерах, долгие прогулки в полях и лесах, физический труд и стремление к здоровой и чистой жизни.
Два чрезвычайных происшествия в царской семье
Каждый год 1 марта в Петропавловском соборе служили торжественный траурный молебен по убитому царю Александру II, где обязательно присутствовал Александр III и кто-то из членов семьи.
В 1886 году новые, молодые террористы решили воссоздать разгромленную «Народную волю», и на ее месте в Санкт-Петербурге возникла глубоко законспирированная организация – «Террористическая фракция Народной воли», организатором которой стал студент четвертого курса Петербургского университета Александр Ильич Ульянов – старший брат В. И. Ульянова, будущего Ленина, тогда еще гимназиста-выпускника. Александр Ульянов был скорее идейным руководителем и теоретиком группы, но, кроме того, принимал участие и в изготовлении метательных снарядов. В группе было около полутора десятков человек – преимущественно студенты университета, которые в начале 1887 года подготовили покушение на Александра III, наметив днем его убийства 1 марта. Расчет строился на том, что 1 марта царь непременно поедет в Петропавловский собор для участия в панихиде на могиле своего отца.
Все было подготовлено заблаговременно, и заговорщики вышли к Аничковому дворцу, где зимой жил Александр III, даже на день раньше намеченного срока, надеясь, что царь выедет на Невский и в этот день. Однако их ждала неудача: в конце февраля полицией было перлюстрировано письмо из Петербурга в Харьков студенту И. П. Никитину о красном терроре, что привело к установлению слежки за автором письма – членом группы Андреюшкиным, а затем и за некоторыми его товарищами и соучастниками. Причем Андреюшкин попал под наблюдение за день до покушения на царя. Полицейские филеры повели Андреюшкина и второго члена группы – Генералова – прямо с места их встречи на Невский проспект и стали свидетелями того, как они, держа под мышками свертки, – а это и были смертоносные заряды, изготовленные Ульяновым, – начали прогуливаться возле Аничкова дворца. Филеры засекли и еще трех соучастников готовящегося преступления и незаметно проводили их всех до их квартир, после того как они, ничего не предприняв, ушли с Невского.
То же повторилось и на следующий день – 1 марта.
Снова метальщики гуляли по Невскому, ожидая выезда Александра III из Аничкова дворца, но к полудню озябли и зашли в трактир, чтобы погреться и поесть. Следом за ними туда вошли и агенты-полицейские. А царя все не было…
* * *
В это утро Александр III приказал приготовить четырехместные открытые сани к 10 часам 45 минутам утра для поездки в Петропавловский собор. Должны были ехать Александр III, императрица и два старших сына – цесаревич Николай и Великий князь Георгий.
Вот что писала в своем дневнике три дня спустя фрейлина А. П. Арапова: «Его величество заказал заупокойную обедню к 11 часам и накануне сказал камердинеру иметь экипаж готовым к 11 часам без четверти. Камердинер передал распоряжение ездовому, который, по опрометчивости – чего никогда не случалось при дворе, – или потому, что не понял, не довел об этом до сведения унтер-шталмейстера. Государь спускается с лестницы – нет экипажа. Как ни торопились, он оказывается в досадном положении простых смертных, вынужденных ждать у швейцара, в шинели, в течение 25 минут. Не припомнят, чтобы его видели в таком гневе – из-за того, что по вине своего антуража он настолько запоздает на службу по своем отце, и унтер-шталмейстер был им так резко обруган, что со слезами на глазах
бросился к своим начальникам объяснять свою невиновность, говоря, что он в течение 12 лет находился на службе государя и решительно никогда не был замечен в провинности. Он был уверен в увольнении и не подозревал, что провидение избрало его служить нижайшим орудием своих решений. Государь покидает Аничков после того, как негодяи были отведены в участок, и только прибыв к брату (Великому князю Павлу Александровичу) в Зимний дворец, он узнал об опасности, которой он чудесным образом избежал».
А дело было в том, что, пока Александр III ругался на унтер-шталмейстера и ожидал выезда, полиция сработала необыкновенно оперативно и четко, успев устроить засады на квартирах заговорщиков и там, где они могли появиться.
Министр внутренних дел Д. А. Толстой докладывал Александру III, что утром 1 марта были задержаны: «1. Студент Петербургского университета, сын казака Медведницкой станицы, Кубанской области, Пахом Андреюшкин, 20 лет, задержан на углу Невского и Адмиралтейской площади, при обыске у Андреюшкина оказался заряженный револьвер и висевший через плечо метательный снаряд, 6 вершков вышины (27 см), вполне снаряженный. 2. Студент Петербургского университета, сын казака Потемкинской станицы, области Войска Донского, Василий Генералов, 22 лет, задержан вблизи Казанского собора, по обыску у Генералова в руках оказался такой же снаряд, как у Андреюшкина. 3. Студент Петербургского университета, томский мещанин Василий Осипанов, 26 лет, взят также вблизи Казанского собора; при нем отобрана вышеупомянутая толстая книга, листы которой снаружи оказались заклеенными, а внутренность наполнена динамитом».
Вслед за тем были арестованы еще три причастных к делу человека – Канчер, Горкун и Волохов. Канчер и Горкун, желая избавиться от виселицы, стали выдавать членов организации и навели полицию на Александра Ульянова, который был арестован 3 марта (а 1 марта была арестована и его сестра – Анна Ильинична, оказавшаяся в этот день у него на квартире). Он во всем признался и был признан, наряду с Говорухиным и Шевыревым, одним из руководителей террористической фракции, хотя на самом деле Ульянов, составивший программу террористической фракции «Народной воли», был в этом случае главным теоретиком партии. Когда началось следствие, Александру III последовательно представлялись все документы – от допросов обвиняемых и свидетелей до программных документов. Среди этих бумаг была и программа, написанная А. И. Ульяновым. Царь внимательно читал и ее, оставляя на полях свои весьма красноречивые замечания.
«Главные силы партии, – писал Ульянов, – должны идти на воспитание и организацию рабочего класса и улучшение народного хозяйства. Но при существующем политическом режиме в России невозможна никакая часть этой деятельности». Александр III отреагировал так: «Это утешительно». Далее в программе говорится: «Между правительством и интеллигенцией произошел разрыв уже давно, пропасть увеличивается с каждым днем. В борьбе с революционерами правительство пользуется крайними мерами устрашения, поэтому и интеллигенция вынуждена была прибегнуть к форме борьбы, указанной правительством, то есть к террору». «Ловко», – написал на полях царь. А общая резолюция, которую он оставил, прочитав программу, гласила: «Это записка даже не сумасшедшего, а чистого идиота».
Когда же он прочитал показания Ульянова, данные им на следствии, – совершенно чистосердечные, без какой-либо утайки, – то его реакция была иной: «Эта откровенность даже трогательна». И действительно, откровенность Александра Ульянова была трогательной. 21 марта он сказал следователю: «Если в одном из прежних показаний я выразился, что я не был инициатором и организатором этого дела, то только потому, что в этом деле не было одного определенного инициатора и руководителя; но мне одному из первых принадлежит мысль образовать террористическую группу, и я принимал самое деятельное участие в ее организации, в смысле доставания денег, подыскания людей, квартир и прочего.
Что же касается до моего нравственного и интеллектуального участия в этом деле, то оно было полное, то есть все то, которое дозволяли мне мои средства и сила моих знаний и убеждений».
(Когда Александра Ульянова допрашивали, его сестра находилась в доме предварительного заключения и была освобождена 11 мая 1887 года, через три дня после казни брата.)
* * *
В семье Ульяновых узнали о случившемся в Петербурге из письма их родственницы Е. И. Песковской, и мать арестованных – Мария Александровна – поехала в столицу.
28 марта она написала Александру III письмо, начинающееся так: «Горе и отчаяние матери дают мне смелость прибегнуть к вашему величеству, как единственной защите и помощи. Милости, государь, прошу! Пощады и милости для детей моих». Далее Мария Александровна писала: «Если у сына моего случайно отуманился рассудок и чувство, если в его душу закрались преступные замыслы, государь, я исправлю его: я вновь воскрешу в душе его те лучшие чувства и побуждения, которыми он так недавно еще жил!» Здесь император оставил такую ремарку: «А что же до сих пор она смотрела!» А в конце царь все же разрешил свидание, написав: «Мне кажется желательным дать ей свидание с сыном, чтобы она убедилась, что это за личность – ее милейший сынок, и показать ей показания ее сына, чтобы она видела, каких он убеждений».
Свидание было дано, причем Толстой хотел, чтобы Мария Александровна уговорила сына дать откровенные показания о тех, кто стоял за спиной их организации, ибо Толстой был уверен, что студенты были лишь орудием в чьих-то более страшных руках.
1 апреля в 10 часов утра свидание состоялось. Оно проходило не в камере, а в отдельной комнате, но в присутствии одного из офицеров, и продолжалось два часа. Потом было и еще несколько свиданий. Мать уговаривала его раскаяться и уверяла, что в этом случае ему сохранят жизнь, но он категорически заявил, что это невозможно и что он должен умереть. Уже на первом свидании Александр плакал и обнимал колени матери. Более того, он понимал, что грядущая кара – справедлива, сказав матери на одном из свиданий:
– Я хотел убить человека – значит, и меня могут убить.
* * *
1 апреля всем обвиняемым по делу о подготовке покушения на «жизнь священной особы государя императора» было вручено обвинительное заключение. Всего перед судом должны были предстать 14 человек, а еще одна обвиняемая – Анна Сердюкова – была выделена особо, так как ей вменялось в вину только то, что она, зная о готовящемся преступлении, не довела об этом до сведения полиции.
Вслед за тем дело было передано в Особое присутствие Правительствующего Сената, которое 15 апреля и вынесло приговор. Пятеро обвиняемых – Генералов, Андреюшкин, Осипанов, Шевырев и Ульянов – были приговорены к повешению и казнены в Шлиссельбурге 8 мая, остальные – к разным срокам каторги и ссылки, а Сердюкова – к двум годам тюрьмы. Одним из осужденных был член Виленской организации «Народной воли» поляк Юзеф Пилсудский, получивший 15 лет каторги. Впоследствии он стал основателем независимой Польши, отстоявшим ее свободу в боях с Красной Армией.
* * *
А через полтора года произошло еще одно чрезвычайное происшествие.
Одной из наиболее трагических страниц в жизни Александра III и его семьи оказался совершенно неожиданно день 17 октября 1888 года.
В этот день император, императрица и их дети возвращались в Петербург из поездки по югу России, и их поезд проходил в 47 верстах к югу от Харькова – между станциями Тарановка и Борки. Был полдень, и вся семья и свита собрались за завтраком в вагоне-столовой. Погода была холодная и дождливая. Состав, который тащили два мощных товарных паровоза, спускался с шестисаженной насыпи, пролегавшей через широкий и глубокий овраг. Как потом установили, скорость поезда была 64 версты в час.
И вдруг произошел сильный толчок, за ним – второй, раздался страшный треск, вагон сорвался с колес, пол растрескался, стены вагона разошлись и крыша съехала вперед, образовав косой навес над столом. Царь, вскочив, подставил плечи под тот край крыши, который еще не опустился вниз, и держал ее до тех пор, пока его жена, дети и свита не вылезли из-под остатков вагона.
К счастью, все сотрапезники остались невредимы, только сам царь получил настолько сильный удар в бедро, что находившийся в кармане его брюк серебряный портсигар оказался сплющенным. (Впоследствии этот удар способствовал развитию болезни почек, от которой царь и скончался через шесть лет.) Дочь Ольгу и сына Михаила выбросило на полотно, но и они отделались лишь ушибами. Зато все другие вагоны превратились в груду обломков.
Александр тут же возглавил работу по спасению людей и вместе со всеми разгребал куски железа и дерева, вытаскивал из-под руин убитых и раненых. А только убитых оказалось более двадцати. Мария Федоровна, в одном платье, с непокрытой головой, под холодным дождем перевязывала раненых, пока через несколько часов не подоспела помощь.
Весь дальнейший пятидневный путь в Петербург превратился в триумфальное шествие, во время которого не умолкали колокола всех церквей, воздававших хвалу Господу за чудесное избавление от смерти царской фамилии.
Потом этот день – 17 октября – в семье Романовых всегда отмечали как день проявления к ним милости Божьей, и отмечали его церковными службами и широкой благотворительностью.
Расследование возглавил знаменитый юрист, литератор и общественный деятель, о котором уже говорилось в этой книге, А. Ф. Кони. В случившемся он не обнаружил злого умысла, но выявил вопиющую халатность, техническую безграмотность и технологическую отсталость железнодорожного строительства. Оказалось, что царский поезд тянул не пассажирский паровоз, а два мощных товарных со скоростью, которая была недопустимо высокой для русской железной дороги с облегченными рельсами, деревянными шпалами и песочным балластом. (В Европе рельсы были тяжелее, шпалы делались из железа, а насыпи имели не песок, а щебенку.) Кони установил, что незадолго до этого управляющий юго-западными железными дорогами С. Ю. Витте обратил внимание министра путей сообщения адмирала К. Н. Посвета на недопустимость и опасность такого рода способов движения императорских поездов. Посвет на это письмо не отреагировал и вынужден был после катастрофы уйти в отставку, а Витте стал директором Департамента железных дорог в Министерстве финансов, начав свою блистательную карьеру, завершившуюся постом Председателя Совета Министров.
Женитьба младшего сына Александра III Павла на греческой принцессе Александре из династии Глюксбургов
В 1889 году состоялась свадьба дочери короля Греции Георгиоса I и Ольги Константиновны – принцессы Александры с младшим братом императора Александра III Великим князем Павлом.
Пятью годами раньше состоялась свадьба Великого князя Сергея Александровича с Елизаветой Гессенской, которая была на шесть лет старше принцессы Александры. В 1889 году им было по 19 и 25 лет, а разница в возрасте между братьями – Сергеем и Павлом – составляла менее трех лет.
Кроме того, братья были очень дружны, это повлияло на отношения между их женами, которые стали близкими подругами и буквально не разлучались друг с другом.
Едва ли есть основания еще раз повторять традиционный ход свадьбы. Так же гремели артиллерийские залпы, так же звенели сотни колоколов, рекой лилось вино, шумели балы и горели огни фейерверков.
Следует отметить, что после свадьбы Павла и Александры заметно улучшились взаимоотношения между Сергеем Александровичем и его женой Елизаветой Федоровной: супруги возобновили поездки в Ильинское, возвращаясь на время к простой жизни на природе, загорая, купаясь, собирая грибы и ягоды.
Правда, к близости Сергея и Елизавету Федоровну это не привело, а почему так случилось, отвечает Великий князь Александр Михайлович – тонкий психолог и умный наблюдатель, так характеризовавший Елизавету Федоровну: «Трудно было придумать больший контраст, чем между этими двумя супругами. Редкая красота, замечательный ум, тонкий юмор, ангельское терпение, благородное сердце – таковы были добродетели этой удивительной женщины. Было больно, что женщина ее качеств связала свою судьбу с таким человеком… Я отдал бы десять лет жизни, чтобы она не вошла в церковь к венцу об руку с высокомерным Сергеем». Их семейная жизнь не задалась, хотя Елизавета Федоровна тщательно скрывала это, не признаваясь даже своим гессен-дармштадтским родственникам.
Жизнь Павла и Александры Георгиевны, напротив, складывалась очень удачно. 6 апреля 1890 года Александра Георгиевна родила здоровую, хорошенькую девочку, которую назвали Марией. (Именно ее брак в 1908 году с герцогом Вильгельмом Зюдерманландским окажется последним в доме Романовых как правящей династии в России.)
6 сентября 1891 года Александра Георгиевна родила еще одного ребенка. Это был мальчик, названный Дмитрием.
К несчастью, он оказался причиной смерти матери: после родов Александра Георгиевна заболела родовой горячкой и спустя шесть суток умерла.
И Павел Александрович, и все родственники страшно переживали смерть веселой, жизнерадостной, доброжелательной, молодой и красивой женщины.
Елизавета Федоровна тут же удочерила и усыновила двух сирот. И Сергей Александрович сразу же поддержал свою жену.
Овдовевший Павел Александрович сам очень тяжело заболел, и врачи настоятели на его отъезде в Италию. Он уехал, не беспокоясь о судьбе Машеньки и Мити, оказавшихся на руках Елизаветы Федоровны.
…Впоследствии то, что эти дети оказались рядом с Елизаветой Федоровной, сыграет свою роль в одном из важных событий в истории.
Любовь Цесаревича
И вновь возвратимся к наследнику престола. Николай много занимался, любил верховую езду, гимнастику, катание на лодках, ходил на охоту, не чурался физической работы – убирал снег, колол и пилил дрова, сам чистил коня и потому был крепок, вынослив и силен.
К 20 годам он вполне сформировался, и немудрено, что его посетило и первое чувство, к сожалению, не к той девушке, которая могла бы стать его невестой.
Героиней стала семнадцатилетняя выпускница балетного класса Императорского театрального училища, в ближайшем будущем прима-балерина, чуть позже выдающаяся танцовщица, а затем и великая русская балерина – Матильда Кшесинская. Она родилась в балетной семье 19 августа 1872 года и таким образом была на четыре года младше Николая.
Ее полное имя при крещении по католическому обряду было – Матильда-Мария, но потом девочку стали звать просто Матильдой. В семье Кшесинских сохранилось романтическое предание о том, что их предок, прадед Матильды, был графом Красинским, но из-за крупной имущественной тяжбы, грозившей ему смертью, вынужден был тайно бежать в Париж и там, из предосторожности, скрыл свой титул и подлинное имя и стал называть себя простым дворянином Кшесинским.
Отцом Матильды-Марии был артист балета Адам-Феликс Кшесинский, но на русский лад ее именовали Матильдой Феликсовной. Когда девочке исполнилось восемь лет, она стала воспитанницей балетного класса Петербургского императорского театрального училища. Мать Матильды в свое время тоже закончила это училище.
Матильда была самым младшим – тринадцатым – ребенком в семье, но назвать ее жизнь несчастной едва ли возможно.
23 марта 1890 года состоялся выпускной экзамен, на котором присутствовала вся царская семья и сам Александр III с императрицей. Был на этом спектакле и цесаревич Николай.
После того как выпускной спектакль закончился, Александр с цесаревичем прошли в зал, где их ожидали преподаватели, выпускницы и выпускники, и царь, не дожидаясь официального представления, зычно спросил:
– А где же Кшесинская?
И когда ее подвели к нему, Александр пожал ей руку и сказал:
– Будьте украшением и славою нашего балета.
В своих «Воспоминаниях», законченных через семьдесят лет после этого, балерина писала: «Слова государя звучали для меня как приказ. Быть славой и украшением русского балета – вот то, что теперь волновало мое воображение. Оправдать доверие государя – было для меня новой задачей, которой я решила посвятить мои силы».
Когда после этого все педагоги и бывшие ученики, а ныне уже артисты Императорского балета, уселись за праздничный стол, Александр посадил Матильду между собой и цесаревичем и, улыбаясь, сказал:
– Смотрите только не флиртуйте слишком.
Кшесинская сразу же влюбилась в цесаревича и, когда прощалась с ним, то поняла это очень отчетливо. То же самое случилось и с Николаем, и он стал искать встречи с юной балериной, но у нее были строгие родители, а за цесаревичем неотступно следили, и таким образом встретиться им было весьма затруднительно.
Свой первый сезон Кшесинская начала выступлениями в большом деревянном Красносельском театре, построенном для офицеров гвардии, проводившей именно там летние лагерные сборы. Летом 1890 года на этих сборах был и Николай и не упускал случая увидеть прелестную восемнадцатилетнюю балерину.
С 10 июля по 1 августа в его дневнике пять раз упоминается Кшесинская, но ничего, кроме мимолетных разговоров и дразнящих воспоминаний, записи эти не содержат.
Николай попросил своего товарища по гусарскому полку Евгения Волкова сделать что-нибудь, чтобы Кшесинская встретилась с ним, но и тут, по тем же причинам, что и прежде, свидание не состоялось. А 23 октября 1890 года и Николай, и Волков уехали из Петербурга в большое, почти кругосветное путешествие, и цесаревич увиделся с Кшесинской только через девять месяцев – 4 августа 1891 года.
Почти «Кругосветка»
Образовательные путешествия стали в доме Романовых с давних пор стойкой и обязательной традицией, которой непременно завершалось обучение наследников престола.
Начиная с Павла I, каждый из цесаревичей направлялся за границу, для того чтобы «мир посмотреть и себя показать», для того чтобы лучше понять, каково отношение к России в других странах и что из увиденного можно с пользой для России использовать в своей стране по возвращении на Родину.
Разумеется, вместе с тем одно из первых мест занимало ознакомление с культурой разных стран, с их наукой, искусством, обычаями, традициями и бытом всех слоев общества.
Путешествие, которое предстояло совершить цесаревичу Николаю, было наиболее грандиозным из всех, когда-либо предпринимаемых в царской семье. Практически это было кругосветное путешествие по суше и по морю, которое сначала должно было идти от Санкт-Петербурга на Запад, а вернуться в столицу России цесаревич должен был с Востока – из Владивостока, проехав весь русский Дальний Восток, Сибирь и Зауралье.
Сюжет о путешествии цесаревича Николая очень интересен, но он никак не затрагивает главной темы этой книги, поэтому автор считает возможным обозначить его пунктиром, отослав заинтересовавшихся читателей к трехтомнику князя Э. Э. Ухтомского, «Путешествие на Восток», тт. 1 – 3, СПб., 1893—1897, к тому же содержащему сотни прекрасных иллюстраций.
Ограничимся тем, что перечислим основные вехи путешествия.
21 октября 1890 года Николай и пятеро членов его свиты отправились в Варшаву, затем проехали в Вену и оттуда в Триест, где на рейде их уже ждали три русских корабля во главе с фрегатом «Память Азова».
На фрегате дошли они до Греции и, осмотрев ее достопримечательности, взяли на борт троюродного брата Николая – греческого принца Георгиоса.
Из Греции корабли пошли в Египет, и после пребывания в Каире и плавания по Нилу с осмотром пирамид и множества храмов эскадра направилась к Индии.
11 декабря путешественники прибыли в Бомбей и отсюда отправились в поездку по Индии, которая заняла пятьдесят дней – до 30 января 1891 года. Они посетили Гуджерат, Ахмадабад, Джайпур, Лахор, «Рим индусов» – Бенарес и «индийский Петербург» – Калькутту.
Возвратившись поездом в Бомбей, цесаревич и его свита пошли морем на Цейлон, а оттуда – в Сингапур и на остров Яву.
После этого Николай побывал в королевстве Сиам, чью столицу – Бангкок – из-за обилия каналов называли «Венецией тропиков», и направился в столицу французской колонии Кохинхина – Сайгон. (Теперь Сиам называется Королевством Таиланд, а Кохинхина – Республикой Вьетнам. Название столицы Таиланда осталось прежним, а город Сайгон переименован в Хошимин.)
Вслед за тем путешественники нанесли непродолжительные визиты в Гонконг и Кантон – первый на их пути китайский город (ныне – Гуанчжоу).
3 апреля 1891 года эскадра бросила якоря неподалеку от Шанхая. Отсюда Николай прошел на ожидавшем его русском пароходе «Владивосток» 1200 миль по реке Янцзы, до города Ханькоу, где располагалась русская чаеторговая компания, закупавшая китайский чай ежегодно на 10 – 12 миллионов золотых рублей.
15 апреля русская эскадра пришла в японский порт Нагасаки, откуда и начался визит в Японию. Посетив древнюю столицу Японии – Киото, Николай решил проехать в соседний городок Оцу в колясках рикш.
…Когда кортеж колясок проезжал по улице, из толпы вдруг выскочил человек в форме полицейского и ударил Николая саблей по голове. Николай выпрыгнул из коляски и набросился на обидчика. На помощь к нему тут же кинулся греческий принц Георгиос, они свалили покушавшегося и с помощью еще двух рикш повязали его. Им оказался самурай Тсуда Само – фанатик-националист, действовавший по собственной инициативе.
Александр III тут же, по телеграфу, приказал прервать путешествие и плыть из Японии во Владивосток.
11 мая 1891 года цесаревич прибыл во Владивосток. 19 мая он высыпал первую тачку земли в полотно Великой Транссибирской магистрали, которая пошла на запад, и положил первый камень в фундамент будущего железнодорожного вокзала Владивостока.
21 мая Николай со свитой выехал на запад в пролетках, через три дня, доехав до Амура, погрузился на пароход и то плыл по реке, то ехал в колясках через Хабаровск, Читу, Иркутск, Красноярск, Томск, Сургут, Тобольск, Омск, Оренбург и Уральск.
От Владивостока до Уральска цесаревич проехал в экипажах и на пароходах 8486 верст.
1 августа Николай со свитой погрузился в пассажирский вагон только что построенной Оренбургской железной дороги и через Самару и Москву утром 4 августа 1891 года прибыл в Санкт-Петербург.
…Это путешествие дало цесаревичу очень много: он увидел мир и, что, пожалуй, особенно важно, не традиционную для его
предшественников – русских цесаревичей – Европу, а главные очаги древних цивилизаций – Грецию, Египет, Индию, Китай, Японию, а потом и всю собственную страну – мост между Европой и Азией, в которой переплавились, все же не слившись воедино, десятки народов, государств и цивилизаций.
Из этого он мог сделать сравнения и выводы. Однако если сравнения цесаревичу еще кое-как удавались, то правильных выводов, к глубокому сожалению, сделать он не смог, что весьма красноречиво подтвердила вся его последующая жизнь.
Николай Романов и Матильда Кшесинская
Итак, Николай приехал в Петербург утром 4 августа 1891 года и сразу же отправился в Красное село, где проводили лето его мать и отец. Ему было о чем рассказать родителям, но в тот же вечер он поехал в театр, где выступала Кшесинская. Однако осенью 1891 года они не встречались, потому что вскоре Николай вместе с родителями уехал в Данию и возвратился лишь в конце года.
За время его отсутствия в семье произошел один из редких скандалов, возникший из-за несогласия Александра III пойти навстречу своему двоюродному брату, Великому князю Михаилу Михайловичу, просившему разрешения жениться на английской графине Софии Торби. Михаилу Михайловичу было уже около тридцати, он занимал должность командира лейб-гвардии Егерского полка, был весел, остроумен и красив, великолепно танцевал и слыл любимцем большого света, где за ним прочно укрепилось прозвище «Миш-Миш».
Когда ему исполнилось двадцать лет, он по правилам, существовавшим в семье Романовых, стал получать ежегодно около 200 тысяч рублей и почти все эти деньги тратил на строительство собственного дворца, мечтая поселить в нем избранницу своего сердца, которую он постоянно искал, но никак не находил. Он влюблялся то в одну девушку, то в другую и всякий раз получал один и тот же ответ: «Она тебе не пара».
Наконец он остановил свой выбор – выбор сердца, а не ума – на английской графине Торби. Однако и на этот раз повторился стандартный отказ: происхождение графини по женской линии довольно сомнительно и потому недостаточно высоко для того, чтобы она могла войти в семью Романовых. Михаил Михайлович не соглашался с такой оценкой и настаивал на том, что София Торби достаточно благородна, хотя ее родословная по женской линии действительно не совсем обычна и, быть может, для царского дома даже неординарна, но именно в этой-то неординарности и состоит весь ее шарм. По женской линии графиня Торби была внучкой А. С. Пушкина. Ее мать Наталья Александровна Пушкина, дочь великого поэта, в первом браке была замужем за М. Л. Дубельтом – сыном преемника Бенкендорфа Л. В. Дубельта. Однако брак ее оказался неудачным, и Наталья Александровна, не добившись развода в России, уехала за границу. Там она довела дело до конца, получила развод и вышла замуж за герцога Нассауского, чей отец был женат на Великой княгине Елизавете Михайловне – внучке Николая I. Для того чтобы брак этот не считался мезальянсом, Наталья Александровна получила титул графини Меренберг. А ее дочь от брака с герцогом, известная как графиня София Торби, все же стала морганатической супругой внука Николая I – Великого князя Михаила Михайловича, пренебрегшего запретом императора и уехавшего в Англию, где он и прожил с Софией Торби до конца своих дней…
Вернувшись из Дании в Петербург и раз побывав в театре, Николай, вдруг понял, что его прежнее влечение к Матильде Кшесинской уже успело перерасти в нечто большее.
В январе 1892-го, совершенно неожиданно, Николай пришел в дом Кшесинских, объяснился, хотя и робко, но вполне определенно о своих чувствах к Матильде, попросил разрешения бывать у нее. С этих пор он стал часто проводить у Матильды вечера, а потом вместе с Николаем, а порой и без него, гостями Кшесинских стали и сыновья Великого князя Михаила Николаевича – Георгий, Александр и Сергей. «Михайловичи», хотя и доводились Николаю двоюродными дядьями, были, как уже упоминалось, почти одного с ним возраста, а Сергей даже на год младше своего племянника – и это делало вечера у Кшесинских равно интересными для всех.
Однажды Николай задержался у Матильды почти до утра. В эту ночь он сказал, что вскоре должен будет уехать в Германию для сватовства. Он назвал и имя невесты – Алиса Гессенская. И Николай, и Матильда понимали, что их любви придет конец, как только будет сыграна свадьба цесаревича с гессенской принцессой, ибо и Николай был однолюбом, и отец-император никогда не позволил бы своему старшему сыну впасть в распутство, имея жену. Кроме того, Николай был очень честен и прямодушен. Он ничего не скрывал от Матильды и привозил с собою дневники, позволял читать ей все, что писал он и о ней, и об Алисе. «Мною он был очень увлечен, ему нравилась обстановка наших встреч, и меня он, безусловно, любил, – писала Кшесинская. – Вначале он относился к принцессе как-то безразлично, к помолвке и браку – как к неизбежной необходимости. Но он от меня не скрыл затем, что из всех тех, кого ему прочили в невесты, он ее считал наиболее подходящей и что к ней его влекло все больше и больше, что она будет его избранницей, если на то последует родительское разрешение…
Известие о его сватовстве было для меня первым настоящим горем. После его ухода я долго сидела убитая и не могла потом сомкнуть глаз до утра. Следующие дни были ужасны. Я не знала, что дальше будет, а неведение ужасно.
Я мучилась безумно».
Первая попытка сватовства Николая к принцессе Гессенской кончилась ничем – Алиса отказалась перейти в православие, а это было непременным условием брака – и помолвка не состоялась.
По возвращении в Петербург все вернулось на круги своя – их любовь с Кшесинской вспыхнула с новой силой, и оба они старались не думать о неизбежной разлуке.
Так наступило лето 1892 года.
Кшесинские имели небольшую усадьбу Красницы, в 63 верстах от Петербурга, и лето обычно проводили там. Но в этом году Матильда приезжала в столицу гораздо чаще, чем раньше, – к тому вынуждали ее репетиции, а кроме того, в их городской квартире ждали ее письма от Николая, так как они условились, что вся корреспонденция будет посылаться им на квартиру.
Все письма и записочки от Николая Матильда собирала, по много раз перечитывала и берегла всю жизнь.
* * *
Тем же летом Николай снова уехал в Данию, а вернувшись, узнал, что Матильда вместе с сестрой, 27-летней Юлией, за которой решительно ухаживал барон Зедделер, сняли на Английской набережной двухэтажный особняк, в котором до них жил Великий князь Константин Николаевич с балериной Кузнецовой. Дом был прекрасно отделан, а мебель оставалась той же, что и при прежнем его хозяине.
Как только Николай вернулся из Дании, сестры Кшесинские устроили новоселье, пригласив множество гостей и получив массу подарков. Николай подарил ей восемь золотых чарок для водки, украшенных драгоценными камнями.
Их роман стал затухать летом 1893 года. Николай все больше влюблялся в Алису и не мог разделить себя на две части.
Алиса Гессенская
Младшая дочь Великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и герцогини Алисы, чьей матерью была английская королева Виктория, родилась 25 мая 1872 года. По обычаям лютеранской религии, в которой она была крещена, девочке дали имя Алиса-Виктория-Елена-Луиза-Беатриса, в семейном же обиходе ограничивались лишь первым именем из пяти – Алиса, или Аликс. Когда ей исполнилось девять лет, умерла ее мать, и девочку забрала к себе бабушка – королева Виктория. Английский двор и английская культура произвели на девочку неизгладимое впечатление и оставили глубочайший след в ее душе и интеллекте.
Когда Алисе было двенадцать лет, она впервые увидела Петербург, где на свадьбе своей старшей сестры Эллы с Великим князем Сергеем Александровичем познакомилась со старшим сыном императора – Николаем. Цесаревичу было тогда шестнадцать лет, и Алиса воспринимала его как человека намного более зрелого, чем она, о котором можно было лишь мечтать.
2 января 1916 года, вспоминая об этом, она написала Николаю: «32 года тому назад еще детское сердце уже стремилось к тебе с глубокой любовью». Но в 1894 году, когда Николай поехал в Дармштадт свататься к Алисе, дела обстояли не столь благоприятно. Объяснялось это тем, что принцесса с детства отличалась серьезностью, скромностью, а также глубокой религиозностью с весьма заметным уклоном в мистицизм. Кроме того, она была по-прусски традиционно консервативна и не хотела отказываться от конфессии, выпавшей ей на долю при рождении. Находясь в Вестминстере, при дворе королевы Виктории, Алиса углубилась в теологию и теософию и получила столь основательную богословскую подготовку, что позднее ей была присвоена степень доктора философии Кембриджского университета. Столь серьезное отношение к вопросам религии сильно мешало гессенской принцессе изменить вероисповедание. Это обстоятельство и было главным камнем преткновения на ее пути к императорской короне России.
И хотя Николай ей очень нравился, и Алиса самой себе признавалась, что любит его, вопрос перемены вероисповедания едва не погубил всего дела.
Удаче нового сватовства к Алисе немало способствовали Сергей Александрович и его жена Элла, а из зарубежных доброхотов Аликс – более прочих германский император Вильгельм.
В результате всего этого было решено отправить 25-летнего цесаревича в Кобург, надеясь на то, что сам он лучше всяких ходатаев сумеет добиться успеха.
Сватовство Николая было приурочено к свадьбе герцога Гессен-Дармштадтского Эрнста, брата Эллы и Алисы, и герцогини Саксен-Кобург-Готской Виктории, носившей в семье прозвище «Даки» – «уточка».
2 апреля 1894 года цесаревич со священником, духовником своих родителей, протопресвитером И. Л. Янышевым, двумя дядьями, Великими князьями Сергеем и Владимиром, и их женами выехали из Петербурга. 4 апреля они добрались до места назначения, были прекрасно встречены и размещены в богатых и уютных апартаментах кобургского замка.
На следующее утро, после кофе, в апартаменты Великой княгини Елизаветы Федоровны (Эллы) пришла ее сестра Аликс. Николай записал в этот вечер в своем дневнике: «Она замечательно похорошела, но выглядела чрезвычайно грустно. Нас оставили вдвоем, и тогда начался между нами тот разговор, которого я давно сильно желал и вместе очень боялся. Говорили до 12 часов, но безуспешно, она все противится перемене религии. Она, бедная, много плакала. Расстались более спокойно».
7 апреля состоялась свадьба Эрнста и «Даки». Николай записал в дневнике: «Пастор сказал отличную проповедь, содержание которой удивительно подходило к существу переживаемого мною вопроса. Мне в эту минуту страшно захотелось посмотреть в душу Аликс!»
И, кажется, если бы его желание осуществилось, то Николай прочитал бы в ее душе то, чего ему более всего хотелось – Аликс была готова сказать ему «да». Во всяком случае, на следующий день это произошло. «8-го апреля. Пятница. Чудный, незабвенный день в моей жизни, день моей помолвки с дорогой, ненаглядной моей Аликс, – записал счастливый жених у себя в дневнике. – После 10 часов она пришла к тете Михен (так звали в семье Великую княгиню Марию Павловну старшую. – В.Б.), и после разговора с ней мы объяснились между собой. Боже, какая гора свалилась с плеч; какою радостью удалось обрадовать дорогих Мама и Папа! Я целый день ходил, как в дурмане, не вполне сознавая, что, собственно, со мной приключилось! Вильгельм сидел в соседней комнате и ожидал окончания нашего разговора с дядями и тетями. Сейчас же пошел с Аликс к королеве (имеется в виду королева Англии Виктория, которая приехала в Кобург 5 апреля. – В. Б.) и затем к тете Мари (сестре императора Александра III, тетке Николая. – В. Б.), где все семейство долго на радостях лизалось. После завтрака пошли в церковь тети Мари и отслужили благодарственный молебен… Даже не верится, что у меня невеста. Вернулись домой в 6 1/4. Уже лежала куча телеграмм». Среди них было и поздравление от отца и матери Николая. А вслед за тем пришло и письмо от отца: «Мой милый, дорогой Ники! Ты можешь себе представить, с каким чувством радости и с какой благодарностью к Господу мы узнали о твоей помолвке! Признаюсь, что я не верил возможности такого исхода и был уверен в полной неудаче твоей поездки, но Господь наставил тебя, подкрепил и благословил. Великая Ему благодарность за Его милость… Теперь, я уверен, ты вдвойне наслаждаешься, и все пройденное хотя и забыто, но, уверен, принесло тебе пользу, доказавши, что не все достается так легко и даром, а в особенности такой великий шаг, который решает всю твою будущность и всю последующую семейную жизнь!… Передай твоей милейшей невесте от меня, как я благодарю ее, что она, наконец, согласилась, и как я желал бы ее расцеловать за эту радость, утешение и спокойствие, которые она нам дала, решившись согласиться быть твоей женой! Обнимаю и поздравляю тебя, милый, дорогой Ники, мы счастливы твоим счастьем и да благословит Господь вашу будущую жизнь, как благословил ее начало. Твой счастливый и крепко тебя любящий Папа».
Александр III очень любил своего первенца и не хотел хотя бы немного огорчать его малейшей тенью сомнений в правильности сделанного выбора. А сомнения – и очень серьезные – были.
Дело было в том, что семья Аликс, как и весь Гессенский род, с 1866 года ставший родом Великих герцогов, нес на себе проклятье тяжелой наследственной болезни – гемофилии. Больные гемофилией страдали повышенной кровоточивостью, которая передавалась по женской линии, но касалась только мужского потомства. Рожденные Гессенскими герцогинями сыновья страдали несвертываемостью крови, особенно остро переносимой в детстве и молодости – до 15 – 20 лет. У больного гемофилией даже легкие ушибы вызывают подкожные внутримышечные кровоизлияния, причем любой ушиб, удаление зуба и даже легкая царапина могут вызвать неостановимое кровотечение, грозящее смертью. В доме Гессенских герцогов насчитывали несколько таких случаев и прекрасно понимали, какую страшную ответственность берут они на себя, соглашаясь на брак принцессы Алисы с наследником российского престола.
20 апреля Аликс уехала вместе с Викторией в Англию, а Николай на следующий день отправился в Россию, поставив на стол в своем купе фотографию невесты, окруженную цветами…
* * *
После того как 7 апреля 1894 года было официально объявлено о помолвке, Николай больше ни разу не приехал к Матильде, но разрешил ей обращаться к нему в письмах на «ты» и обещал помогать, если у нее возникнет необходимость в его помощи.
Этому правилу он не изменил ни разу.
А далее произошло вот что: «В моем горе и отчаянии я не осталась одинокой, – вспоминает Матильда. – Великий князь Сергей Михайлович, с которым я подружилась с того дня, когда наследник впервые привез его ко мне, остался при мне и поддержал меня. Никогда я не испытывала к нему чувства, которое можно было бы сравнить с моим чувством к Ники, но всем своим отношением он завоевал мое сердце, и я искренне его полюбила».
Что же касается Николая, то он оказался таким же однолюбом, как и его отец. После помолвки и до самой смерти он сохранил своей жене совершеннейшую, ничем не запятнанную верность.
Вернувшись в Петербург, Николай не находил себе места из-за разлуки с Аликс. Он начал писать ей еще в поезде и по приезде продолжал писать каждый день. Невеста отвечала ему тем же.
С начала лета разлука оказывается для Николая совершенно невыносимой, и он просит у отца позволения поехать в Англию, где гостит у своей бабушки его любовь. Александр не может противиться и разрешает Николаю отправиться в Лондон на паровой императорской яхте «Полярная звезда». 3 июня яхта вышла из Кронштадта и на пятые сутки вошла в устье Темзы.
Встретившись в тот же день с Аликс и своими новыми английскими родственниками, Николай «снова испытал то счастье, с которым расстался в Кобурге». С каждым днем ощущение безграничного счастья становилось все сильнее: ведь оба они были молоды, здоровы, богаты; они любили друг друга, верили, что впереди их ждет безоблачная жизнь и большая, дружная семья, к которой оба они так стремились. И потому обыкновенные прогулки, катание на лодках, чтение книг на садовых скамейках, маленькие пикники, экскурсии по окрестным замкам – в общем-то, тот же самый круг удовольствий и развлечений, какой мог позволить себе любой состоятельный англичанин, – наполняли их радостью и счастьем. И даже обязательные из-за их статуса придворные церемонии не делали их менее счастливыми.
Все чаще и чаще засиживался Николай по вечерам у своей невесты и всякий раз мог бы написать в дневнике то, что написал лишь однажды – 5 июля: «Умираю от любви к ней!»
А теперь почитайте, что писала в дневнике своего жениха, по-немецки и по-английски, тоже умирающая от любви Аликс.
Первая запись была оставлена ею в дневнике жениха вечером 20 июня, когда Аликс расставалась с ним:
Чу, дорогой мой! Покойно дремли. Ангелы Святые охраняют твою постель. Благословения неба без числа Нежно спускаются на главу твою… Лучше, лучше с каждым днем…21 июня Аликс приписала: «С беззаветной преданностью, которую мне трудно выразить словами».
29 июня:
Есть нечто чудесное В любви двух душ, Которые сливаются воедино И ни единой мысли не таят друг от друга. Радость и страдания, счастье и нужду Переживают они вместе, И от первого поцелуя до последнего вздоха Они поют лишь о любви друг к другу.4 июля Аликс написала: «Мой бесценный, да благословит и хранит тебя Господь! Никогда не забывай ту, чьи самые горячие желания и молитвы – сделать тебя счастливым». А на следующий день – 5 июля – Аликс нарисовала сердце и написала: «Есть дни и минуты, бросающие свет на долгие годы. 20 апреля. Пасхальная ночь. Забудем ли мы это, о мой бесценный муженек?» И затем приписала: «Ты, ты, ты, ты». 6 июля появилась еще одна надпись: «Мне снилось, что я любима, и, проснувшись, убедилась в этом наяву и благодарила на коленях Господа. Истинная любовь – дар Божий – с каждым днем все сильней, глубже, полнее и чище».
Но 8 июля исполнился месяц, как Николай появился в Англии, и разлука неотвратимо приближалась. В этот день Аликс вписала необычно длинное обращение к своему жениху:
«Мой дорогой мальчик, никогда не меняющийся, всегда преданный. Верь и полагайся на твою девочку, которая не в силах выразить словами своей глубокой и преданной любви к тебе. Слова слишком слабы, чтобы выразить мою любовь, восхищение и уважение, – что прошло, то прошло и никогда не вернется, и мы можем спокойно оглянуться назад, – мы все на этом свете поддаемся искушениям и в юности нам трудно бывает бороться и противостоять им, но как только мы раскаиваемся и возвращаемся к добру и на путь истины, Господь прощает нас. „Если мы каемся в наших грехах, Он милостив и нас прощает“. Господь прощает кающихся. Прости, что я так много пишу, мне хотелось бы, чтобы ты был во мне вполне уверен и знал, что я люблю тебя еще больше после того, что ты мне рассказал. (Судя по контексту, Николай рассказал о своих немногочисленных привязанностях, случавшихся с ним до помолвки, как это почти всегда бывает с чистосердечными и глубоко порядочными молодыми людьми. – В.Б.) Твое доверие меня глубоко тронуло, и я молю Господа быть всегда его достойной. Да благослови тебя Господь, бесценный Ники!» Конечно же, Алиса вписывала в его дневник эти пылкие и нежные признания, зная, что он будет перечитывать их, когда вернется без нее в Россию, и они станут ее поддержкой и постоянным напоминанием о ней и ее любви.
До отхода «Полярной звезды» оставалось три дня.
И за эти дни Аликс написала: «Бьют часы на крепостной башне и напоминают нам о каждом преходящем часе, но время, вдаль уходящее, пусть не смущает нас, ибо время может уходить безвозвратно, но любовь остается; я ощущаю, как ее поцелуи горят на моем разгоряченном лбу. Если нам суждена разлука, о, зачем же сейчас? Не сон ли это? Тогда пробужденье будет страданьем, не буди меня, дай мне дальше дремать».
В последний вечер, перед предстоящей назавтра разлукой, 10 июля, Аликс написала: «Всегда верная и любящая, преданная, чистая и сильная, как смерть».
А когда 11 июля они в последний раз плыли через реку на пароме и Николай стал записывать о том, что случилось с ними в этот день, Аликс написала последние фразы: «Любовь поймана, я связала ее крылья. Она больше не улетит. В наших сердцах всегда будет петь любовь».
Потом, став уже женой и императрицей, Александрой Федоровной, она также будет вписывать в его дневник короткие признания в любви, а когда они будут в разлуке, то Николай станет вписывать в дневник слова из ее писем к нему. И так будет всю их жизнь.
Через три дня «Полярная звезда» пришла в Копенгаген, где Николая встретили дед и бабушка – родители его матери, и после трех дней, проведенных в объятиях датских родственников, тихим воскресным вечером, цесаревич отправился домой.
19 июля он высадился в Петергофе и поселился в уютном коттедже на берегу моря.
* * *
И в это же самое время в семье императора произошло еще одно событие: 19-летняя Великая княжна Ксения Александровна была выдана за своего двоюродного дядю – 28-летнего Великого князя Александра Михайловича…
Их любовная история началась за восемь лет перед тем.
…В 1886 году 20-летний мичман, Великий князь Александр Михайлович отправился в трехлетнее кругосветное плавание на корвете «Рында». Оказавшись впервые у себя в каюте, он достал из кармана маленький конверт и вынул из него фотографию 11-летней девочки. Полюбовавшись на ее изображение, он перевернул фото и прочел надпись: «Лучшие пожелания и скорейшее возвращение. Твой моряк Ксения». Это была дочь императора Александра III – его двоюродная племянница, которая, несмотря на весьма юный возраст, уже испытывала к нему очень нежные и настолько же чистые чувства. Дядя отвечал ей полной взаимностью. Когда он в 1889 году вернулся в Петербург, Ксении было уже 14 лет и ее чувство стало более осознанным и еще более прочным.
В это же время Александр Михайлович сделал и первые крупные успехи в службе – от командира миноносца «Ревель» до командира отряда в двенадцать миноносцев. Причем успехи его пришли к нему не в Гвардейском экипаже и не в Главном морском штабе, а на службе в открытом море.
В январе 1893 года один из самых современных русских крейсеров «Дмитрий Донской» должен был идти в Соединенные Штаты, – «страну моей мечты», как писал потом Александр Михайлович, – и Великий князь решил попросить у Александра III перевода на этот корабль. Во время этой аудиенции он заодно попросил у императора-отца и руки Ксении.
Александр III неожиданно быстро согласился, попросив только подождать еще один год, так как Ксении было всего 17 лет. Молодые были счастливы, и жених отправился в Америку со спокойным сердцем.
Возвратившись из США, где он провел около года, Великий князь получил согласие на женитьбу, и в июле 1894 года в Петергофском дворце молодые сыграли свадьбу.
А на третий день они поехали в Крым, где на мысе Ай-Тодор, неподалеку от Ялты, их ждал сверкающий чисто промытыми окнами, заново отреставрированный, вычищенный и вылизанный, забитый винами и яствами дворец Александра Михайловича, в котором им предстояло провести медовый месяц.
Болезнь и смерть Александра III
Первое, о чем очень хотел узнать Николай, вернувшись из Англии, было здоровье отца. Сначала он испугался, не увидев его среди встречавших, и подумал, что отец лежит в постели, но оказалось, что все не так страшно – император уехал на утиную охоту и успел вернуться к ужину. Однако вскоре состояние Александра III настолько ухудшилось, что из Москвы вызвали для консультации профессора Г. А. Захарьина – одного из лучших терапевтов-диагностов России, возглавлявшего клинику медицинского факультета Московского университета. На сей раз старик Захарьин оказался не на высоте – он сказал, что ничего серьезного нет и улучшению состояния поможет сухой климат Крыма.
Успокоенный император, к тому же никогда не придававший значения советам врачей, решил вместо Крыма отправиться в любимые свои охотничьи места – Беловежье и Спаду. Не трудно догадаться, что царские охоты отличались от санаторного режима Ливадии – и загонщики, и егеря, и свита, и августейшие охотники вставали ни свет ни заря и в любую погоду выходили в лес или в поле. Охота на зайцев сменялась охотой на оленей, а гон на кабанов и косуль перемежался засадами на куропаток, уток, фазанов и гусей. Обеды у костров, купание коней, многочасовые походы под солнцем и дождем требовали отличного здоровья.
15 сентября по настоянию родных в район охоты приехал знаменитый берлинский профессор Лейден и тотчас же констатировал у императора острое воспаление почек – нефрит. Лейден категорически настоял на перемене климата, и вся семья – а на охоте были и все женщины – отправилась в Крым.
21 сентября приехали в Севастополь и, перейдя на яхту «Орел», в тот же день высадились в Ялте. В Ливадии Александр сразу же занялся интенсивным лечением. Однако уже через неделю у больного появились сильные отеки на ногах, днем он подолгу спал, часто принимал соленые ванны, а когда процедуры прерывались, то у его постели появлялись все новые и новые доктора.
Вскоре их было уже полдюжины.
В начале октября царь уже не всегда выходил к завтраку, его все чаще одолевала сонливость, и он поручил чтение бумаг цесаревичу.
А цесаревич, окунувшись в государственные дела, более чем об этой, внезапно свалившейся на него докуке, думал о своей Аликс, с нетерпением ждал от нее писем и, хотя получал их почти каждый день а то и по два-три в сутки, разрывался между жалостью к больному отцу и непреоборимым страстным желанием видеть свою невесту.
8 октября в Ливадию прибыл отец Иоанн Кронштадтский – известнейший в России «молитвенник за больных», слывший чудотворцем-исцелителем. Приезд его дал понять, что дела Александра обстоят плохо и уповать на медицину уже нельзя – требуется вмешательство не земных сил, но небесных. Вместе с отцом Иоанном приехали братья царя – Сергей и Павел, Великие княгини Александра Иосифовна и Мария Георгиевна, сын Ольги Константиновны – греческий принц Христофор.
На следующий день протоиерей Янышев причастил больного, и тогда же в Ливадию пожаловали брат царя Владимир и Великая княгиня Мария Павловна младшая – жена шведского принца Вильгельма.
Все эти гости ни у кого из обитателей Ливадии не вызывали никакой радости. Не на праздник они ехали – на поминки. И хотя Александр был еще жив, но тень смерти уже витала над Ливадией.
Утром 10 октября Николай поехал в Алушту, куда вскоре же приехали из Симферополя его любимая тетка Элла и с нею Аликс. Ее приезд внес оживление и радость в печальную атмосферу Ливадии, а Николай почувствовал, что рядом появился человек, который готов разделить надвигающееся на него страшное горе.
15 октября Аликс написала ему в дневник: «Дорогое дитя! Молись Богу, Он поможет тебе не падать духом, Он утешит тебя в твоем горе. Твое Солнышко молится за тебя и за любимого больного». А чуть ниже, в тот же день, следовала другая запись: «Дорогой мальчик! Люблю тебя, о, так нежно и глубоко. Будь стойким и прикажи доктору Лейдену и другому – Г. (Имеется в виду еще один врач – Грубе. – В. Б.) приходить к тебе ежедневно и сообщать, в каком состоянии они его находят, а также все подробности относительно того, что они находят нужным для него сделать. Таким образом, ты обо всем всегда будешь знать первым. Ты тогда сможешь помочь убедить его делать то, что нужно. И если доктору что-либо нужно, пусть приходит прямо к тебе. Не позволяй другим быть первыми и обходить тебя. Ты – любимый сын Отца, и тебя должны спрашивать и тебе говорить обо всем. Выяви твою личную волю и не позволяй другим забывать, кто ты. Прости меня, дорогой!»
Эта запись в дневнике Николая не просто многозначительна. Она – символична. В ней – то направление, та тональность и та позиция, которая на долгие годы впредь будет характерной для их взаимоотношений: забота о нем и его делах и тревога за него будут постоянными спутниками жизни Аликс, главным смыслом и доминантой ее существования. Власти для себя она никогда не хотела, хотя и обладала достаточно сильным характером. Но не только сила характера была присуща Аликс. Появившись на свет в Дармштадтском захолустье и выросши в блистательном имперском Виндзоре, Аликс на всю жизнь сохранила двойственность натуры: она была до болезненности застенчива, но статус императрицы в целом ряде случаев не позволял ей выявлять это качество, принимаемое за робость и нерешительность, а то и трусость; она очень трудно сходилась с незнакомыми людьми, а придворные церемонии чуть ли не всякий раз обязывали ее представляться многочисленным визитерам – иноземным министрам, дипломатам, дальним и не очень дальним, но почему-либо еще незнакомым ей родственникам, знаменитостям разного рода – от выдающихся ученых до знаменитых гастролеров – и каждый из них мог расценивать это как чопорность, холодность или даже оскорбительное невнимание. Она была домоседка и истая затворница, и оттого круг ее друзей был очень узок, а при дворе воспринимали это как непомерную гордыню, чуть ли не манию самовлюбленности. Эти же качества превращали, – особенно на первых порах – ее будущего мужа не просто в самого близкого ей человека, но почти в единственного своего, по-настоящему родного, хотя рядом с ней была и любимая ею сестра Элла, тянувшаяся к младшей своей сестре еще и потому, что у нее не было детей, а отношения с мужем тоже были более чем своеобразными, ибо ее муж был гомосексуалистом.
Попадая на публику, Аликс из-за застенчивости внутренне подбиралась, холодела нравом, отчего и лицо ее, и взгляд становились холодными и отчужденными, что, конечно же, не располагало людей в ее пользу.
А между тем императору становилось все хуже и хуже. 17 октября он повторно причастился, на сей раз у отца Иоанна Кронштадтского, получил отпущение грехов. В этот печальный день Аликс записала в дневник Николая: «Говори мне обо всем, душка. Ты можешь мне вполне верить, смотри на меня как на частицу тебя самого. Пусть твои радости и печали будут моими, и это нас еще более сблизит. Мой единственный любимый, как я люблю тебя, дорогое сокровище, единственный мой! Душка, когда ты чувствуешь себя упавшим духом и печальным, приходи к Солнышку, она постарается тебя утешить и согреть своими лучами. Да поможет Бог!»
Они все еще надеялись, хотя Александр был уже совсем плох.
Иоанн Кронштадтский рассказывал потом, как встретился он с Александром III в его последние дни жизни. Царь встретил его, стоя в накинутой на плечи шинели, и сердечно поблагодарил за то, что отец Иоанн приехал к нему. Потом они вместе вошли в соседнюю комнату и встали на молитву. Царь молился с необычайно глубоким чувством. Столь же искренен был он и при причащении, и в последние часы жизни. Когда 20 октября Иоанн пришел к умирающему, сидевшему в глубоком кресле, поднялась буря, море стонало от волн, и Александру от всего этого было очень скверно. Он попросил отца Иоанна положить руки ему на голову, и когда священник сделал это, больному вроде бы полегчало, и он сказал:
– Мне очень легко, когда вы их держите. – А потом произнес: – Вас любит русский народ, любит, потому что знает, кто вы и что вы.
И вскоре после этих слов он откинул голову на спинку кресла и тихо, без агонии, умер. Смерть наступила в четверть третьего 20 октября 1894 года.
Императрица, наследник с невестой и все его дети стояли возле него на коленях и тихо плакали. Тем же вечером Николай записал: «Боже мой, Боже мой, что за день. Господь отозвал к себе нашего обожаемого, дорогого, горячо любимого Папа. Голова кругом идет, верить не хочется – кажется до того неправдоподобной ужасная действительность. Все утро мы провели около него. Дыхание его было затруднено, требовалось все время давать ему вдыхать кислород. Около половины 3-го он причастился Святых Тайн; вскоре начались легкие судороги… и конец быстро настал. Отец Иоанн больше часа стоял у его изголовья и держал за голову. Это была смерть святого! Господи, помоги нам в эти тяжелые дни! Бедная дорогая Мама! Вечером в 9 1/2 была панихида – в той же спальне! Чувствовал себя, как убитый. У дорогой Аликс опять заболели ноги».
И все же даже в день смерти отца последняя фраза – о «дорогой Аликс», у которой вдруг «заболели ноги»…
Однако еще один гораздо более многозначительный факт не записал наследник престола в свой дневник. Когда Александр III умер, то Николай, рыдая, обратился к другу детства и юности, Великому князю Александру Михайловичу: «Сандро, что я буду делать? Что будет теперь с Россией? Я еще не подготовлен быть царем! Я не могу управлять империей. Я даже не знаю, как разговаривать с министрами. Помоги мне, Сандро!»
Александр III умер 20 октября и пять дней лежал в Ливадийском дворце. 25 октября его тело перенесли в Большую Ливадийскую церковь, а оттуда через двое суток гроб императора перенесли на борт крейсера «Память Меркурия», который после полудня доставил его в Севастополь, где уже стоял траурный поезд. 30 октября поезд подошел к Москве, и гроб с телом Александра III под звон колоколов, мимо десятков тысяч стоящих на коленях москвичей, привезли в Архангельский собор Кремля, а на следующий день, после непрерывных служб, снова провезли на вокзал и оттуда – в Петербург.
Здесь, 1 ноября 1894 года, в 10 часов утра, от Николаевского вокзала к Петропавловской крепости двинулась необычайно пышная погребальная процессия. В официальном отчете указывалось, что эта процессия была разбита на 12 отделений, в каждом из которых было по 13 разрядов. Всего, таким образом, этих разрядов было 156. Впереди процессии несли 52 знамени и 12 гербов. А между знаменами и гербами двигались два латника. Один из них – светлый, в золотых латах, ехал на коне, опустив обнаженный меч, другой – в черных латах, в черном плаще, с черным тюльпаном шел пешком, символизируя бесконечную скорбь. Затем шли депутаты земель и городов, сановники и министры, за которыми несли государственные мечи, 57 иностранных, 13 русских орденов и 12 императорских регалий. А следом шла духовная процессия – в светлых облачениях, с хоругвями, крестами и иконами.
И лишь потом ехала погребальная колесница, за которой шли безмерно опечаленные жена, сын и невестка покойного. За ними следовали, строго по субординации, другие члены императорской фамилии. И, конечно же, взоры всех собравшихся были направлены прежде всего на нового императора и его невесту. Алиса шла бледная, с опущенными глазами, и черное траурное платье и черная косынка еще более подчеркивали ее бледность.
А люди, глядя на свою новую повелительницу-императрицу, которая в первый раз шла по улицам Петербурга, оказавшись сразу же у гроба, шептали друг другу, что это не к добру и невеста в черном принесет им всем несчастье.
Процессия останавливалась для совершения коротких служб у Знаменской церкви, у Аничкова дворца, у Казанского собора, у Немецкой и Голландской церквей и у Исаакиевского собора. Наконец в 2 часа дня гроб внесли в Петропавловский собор.
Похороны Александра III, вместе с тем, отличались великой сумятицей и неразберихой, когда депутации перепутали свои места в похоронной процессии, а участники ее напоминали не огорченных потерей государя верноподданных, а некое маскарадное шествие, в котором праздно болтающиеся бездельники идут, нарядившись в рясы священников, в военные мундиры и другие разнообразные одежды.
Оставив гроб в Петропавловском соборе, царская семья отправилась в Аничков дворец, где еще шесть дней провела в панихидах по умершему и подготовке погребения. Задержка объяснялась тем, что в Петербург приехали еще не все заграничные родственники, и когда они в конце концов собрались, 7 ноября состоялась архиерейская служба, завершившаяся отпеванием и погребением.
Так закончились последние в истории России царские похороны, и выходившие из собора вдовствующая императрица Мария Федоровна, Николай и Александра Федоровна никак не могли представить, что в этот день здесь в последний раз похоронен император, а их собственные могилы будут не рядом с ним, а в тысячах верст и от него и друг от друга…
Николай Второй Печальная свадьба
Приехавшие из разных стран многочисленные августейшие родственники, похоронив императора-отца, тут же стали перестраиваться на новый лад, ибо ровно через неделю после погребения должна была состояться свадьба императора-сына.
Николай, конечно же, как и всякий молодой влюбленный, сгорал от нетерпения поскорее соединиться с молодой, красивой и любящей его женой, но вместе с тем три траурных недели не могли не произвести на него самого удручающего впечатления, ибо он горячо и искренне любил своего отца и очень жалел мать, с которой при воспоминаниях о покойном случались даже обмороки.
Иноземные принцы и принцессы, ожидавшие свадебных торжеств, невольно раздражали Николая, ибо трудно было представить себе более нелепую ситуацию, когда в полном смятении чувств, сразу после смерти горячо любимого отца, нужно было заниматься приготовлениями к свадьбе. Николай – христианин, любящий сын и хорошо воспитанный человек – не мог не понимать нелепой противоречивости и одиозности создавшегося положения, и все же на седьмой день после похорон, в понедельник 14 ноября 1894 года, наступил день свадьбы.
Никто не думал тогда, что венчание будет последним высокоторжественным актом, когда российский император встанет под венец с российской императрицей.
Следует отметить, что за три века существования династии Романовых редко кто из царей и императоров шел под венец уже после того, как взошел на трон.
Впервые такое случилось с основателем династии Романовых – Михаилом Федоровичем, который, будучи уже коронован, дважды венчался – в 1624 году с княжной Марией Владимировной Долгорукой и в 1626 году – с Евдокией Лукьяновной Стрешневой.
Такая же история приключилась и с сыном Михаила – Алексеем, тоже дважды венчавшимся уже после того, как бармы Мономаха, царская корона, скипетр и держава принадлежали ему: в 1648 году женился он на Марии Ильиничне Милославской, а в 1671 году – на Наталии Кирилловне Нарышкиной.
И, наконец, еще два царя – братья Иван V и Петр I – женились, имея царский сан, в 1684 и в 1689 годах на барышнях Прасковье Федоровне Салтыковой и Евдокии Федоровне Лопухиной, однако следует иметь в виду, что Иван и Петр стали царями в 1682 году, когда Ивану было 16, а Петру всего 10 лет.
Свадьбу Николая II и Александры Федоровны пышной, богатой и веселой назвать никак нельзя.
Вот что написал об этом в дневнике Николай: «После общего кофе пошли одеваться: я надел гусарскую форму и в 11 1/2 поехал с Мишей (младшим братом. – В. Б.) в Зимний. По всему Невскому стояли войска для проезда Мама с Аликс. Пока совершался ее туалет в Малахитовой, мы все ждали в Арабской комнате. В 10 мин первого начался выход в Большую церковь, откуда я вернулся женатым человеком! Шаферами у меня были: Миша, Джоржи, Кирилл и Сергей (дядя Сергей, родной брат Михаил и двоюродные братья принц Греческий Георгий Георгиевич и Кирилл Владимирович. – В. Б.). В Малахитовой нам поднесли громадного серебряного лебедя от семейства. Переодевшись, Аликс села со мною в карету с русской упряжью с форейтором, и мы поехали в Казанский собор. Народу на улицах было пропасть – едва могли проехать! По приезде в Аничков на дворе встретил почетный караул от ее (Аликс. – В. Б.) лейб-гвардии Уланского полка. Мама ждала с хлебом-солью в наших комнатах. Сидели весь вечер и отвечали на телеграммы. Обедали в 8 часов. Завалились спать рано, так как у нее сильно разболелась голова».
Даже то, что для проведения свадебных торжеств был выбран не большой и помпезный Зимний дворец, а скромный Аничков, где жил Александр III – непритязательный и скромный в обиходе человек, – говорило само за себя.
А о чувствах своих, нахлынувших на него в день свадьбы, Николай чуть позже рассказал в письме к родному брату Георгию: «День свадьбы был ужасным мучением для нее и меня. Мысль о том, что дорогого, беззаветно любимого нашего Папа не было между нами и что ты далек от семьи и совсем один, не покидала меня во время венчания; нужно было напрячь все свои силы, чтобы не разреветься тут в церкви при всех. Теперь все немного успокоилось – жизнь пошла совсем новая для меня… Я не могу достаточно благодарить Бога за то сокровище, какое он мне послал в виде жены. Я неизмеримо счастлив с моей душкой Аликс и чувствую, что так же счастливо доживем мы до конца жизни нашей».
Через десять дней после свадьбы Николай записал: «Каждый день, что проходит, я благословляю Господа и благодарю его от глубины души за то счастье, каким он меня наградил! Большего или лучшего благополучия на этой земле человек не вправе желать. Моя любовь и почитание к дорогой Аликс растет постоянно».
Пройдет двадцать лет, и Николай напишет почти то же: «Не верится, что сегодня двадцатилетие нашей свадьбы! Редким семейным счастьем Господь благословил нас; лишь бы суметь в течение оставшейся жизни оказаться достойным столь великой Его милости».
Венчание на царство
Начало царствования Николая II ни у кого не вызывало волнений и страхов: положение в России было спокойнее и стабильнее, чем когда-либо. Здоровая финансовая система; самая большая в мире армия, правда, давно уже не воевавшая и почивающая на лаврах своих исторических побед, но все равно грозная и сильная; вырастающий прямо на глазах, огромный современный военно-морской флот; хотя и рутинное, но вполне дееспособное чиновничество; набирающая силу промышленность; признанные всем цивилизованным миром наука и искусство – вот что мог записать в свой актив молодой император.
И хотя у каждой из этих категорий были и свои оборотные стороны, более всего связанные с традиционной отсталостью России, доставшейся Николаю II в наследство, русские люди были преисполнены надежд, что их ожидает счастливое будущее, достойное великой страны.
…Спустя три года, когда в России была проведена первая всеобщая перепись населения, Николай узнал, что под его скипетром находится 128 миллионов подданных. Николай, как и все российские граждане, тоже отвечал на вопросы переписи и, когда прочитал вопрос шестой: «Сословие, состояние или звание», то ответил: «Хозяин земли русской». Но этот ответ он дал спустя полтора года после акта коронации, а в то время, о котором здесь идет речь – в начале 1895 года, – он еще не прошел коронации, и хотя уже чувствовал себя «хозяином земли русской», но ощущение это было неполным, ибо его союз с землей русской еще не был освящен Богом.
Последняя в истории России коронация стала самой пышной и самой дорогой. По смете, составленной комиссией по проведению коронационных торжеств, возглавляемой Великим князем Сергеем Александровичем, расходы предусматривались в сумме 110 миллионов рублей. Но истрачено было еще больше.
Казалось, что Николай II решил взять реванш за бедную свадьбу и продемонстрировать нечто грандиозное.
Торжества были рассчитаны на три недели и должны были проходить в Москве с 6 по 26 мая 1896 года. Еще до начала торжеств в разукрашенную, принаряженную, вычищенную, прибранную Москву стали съезжаться многие тысячи гостей. Здесь был и «весь Петербург», делегации из всех мест, по которым проехал Николай от Владивостока до Царского Села, делегаты из Средней Азии и с Кавказа, а также многочисленные представители из-за границы. На коронацию приехали королева Греции Ольга, три великих герцога, два владетельных князя, двенадцать наследных принцев, шестнадцать принцев и принцесс. Три православных патриарха – Антиохийский, Иерусалимский и Александрийский, а также папа Римский и архиепископ Кентерберийский послали своих епископов. Китайскую делегацию возглавлял старый знакомый Николая – генерал-губернатор Кантона, один из крупнейших политических деятелей страны Ли-хан Чжан. На торжествах коронации было аккредитовано рекордное для того времени число русских и иностранных репортеров – более двухсот. И здесь же впервые в истории России появились операторы-кинематографисты, присланные изобретателями кино французскими братьями Люмьер для того, чтобы снять документальный фильм о предстоящем событии.
Тверская улица, по которой должен был следовать в Кремль император, была украшена триумфальными арками, колоннами, обелисками, легкими павильонами, мачтами с развевающимися флагами. С балконов и из окон домов свисали ковры, шелковые и парчовые ткани. По стенам домов, по столбам и колоннам вились гирлянды зелени и цветов. К ночи вспыхивала грандиозная электрическая иллюминация, превращавшая Кремль в огромный сказочный сверкающий ковчег, будто парящий над Москвой-рекой. Иллюминован был и храм Христа Спасителя, и Исторический музей, и здание Верхних торговых рядов – нынешний ГУМ, – в которых тогда помещалось около тысячи магазинов.
Николай приехал в Москву 6 мая – в свой день рождения. По традиции он провел первых три дня в Петровском дворце, а 9 мая состоялся торжественный въезд в Кремль. Все пространство от Петровского парка до Кремля было заполнено сотнями тысяч людей, занявших места вдоль царской дороги с вечера 8 мая.
Под деревьями парка расположились живописные группы людей, а с раннего утра 9 мая по Тверской и по бульварам потекла непрерывная кавалькада экипажей и всадников, двигавшихся к Петровскому дворцу. В журнале «Всемирная иллюстрация» об этом сообщалось так: «Блестящие мундиры, сияющие каски, треугольные шляпы с плюмажем, роскошные халаты представителей Азии – все это очень эффектно выглядело при ярком освещении. Народ с видимым удовольствием и с выражением серьезного достоинства на лицах встречал и рассматривал съехавшихся в таком обилии иностранных гостей, гордясь таким проявлением уважения к нам со стороны всего света. К 12 часам все переулки, ведущие к Тверской, были затянуты канатами и запружены массой народа. Войска стали шпалерами по сторонам улицы. Из каждого окна дома московского генерал-губернатора, Великого князя Сергея Александровича, выглядывала масса зрителей; тут были и блестящие мундиры английских адмиралов, и испанцы, и японцы, и китайцы, и красивые французские кавалерийские офицеры в блестящих, золоченных, на манер древнегреческих шлемах с развевающимися позади конскими хвостами. Весь длинный балкон был занят множеством изящнейших дам высшего света в роскошных белых туалетах и шляпах».
В полдень грянули девять пушечных залпов, и навстречу императору из Кремля в Петровский дворец выехал со свитой Великий князь Владимир Александрович, и только в половине третьего новые залпы и сплошной колокольный звон известили, что царь выехал в Кремль. Около пяти часов на Красную площадь въехал сначала передовой взвод полевой жандармерии, за ним собственный его величества конвой, а затем последовательно: золотые кареты сенаторов, скороходы, арапы, кавалергарды, Бухарский эмир и Хивинский хан со свитами и телохранителями, и снова кавалергарды. И только после них, накатом, все приближаясь, загремело «ура!» стоявших вдоль Тверской полков, грянули оркестры и на белом арабском скакуне проехал император – молодой, торжественный и чуть уставший.
Следующие пять дней пролетели, как один сплошной праздник, когда приемы иностранных делегаций следовали с утра и до вечера. Наконец 14 мая наступил день Священного Коронования. Сановники и знать начали съезжаться в Кремль с семи часов утра. В девять часов, открывая церемониальный выход, первой появилась на Красном крыльце вдовствующая императрица Мария Федоровна. Она шла в пурпурной мантии с большим двуглавым орлом, вышитым на спине, и в сверкающей бриллиантовой короне, под большим золотым балдахином. За нею, широкой желтой рекой, хлынули придворные в расшитых золотом генеральских и камергерских мундирах.
Императрица прошла в Успенский собор, а еще через полчаса с Красного крыльца сошел взвод кавалергардов, зазвучали фанфары и трубы и под стотысячное «Ура!» заполнивших Кремль солдат, офицеров, горожан и гостей, сопровождаемые министрами, членами Государственного Совета и Сената вышли Николай II и Александра Федоровна и также под золотыми балдахинами пошли в собор.
На паперти их встретил митрополит Московский Сергий и, обращаясь к Николаю, в частности, сказал: «Благочестивый Государь! Как нет выше, так и нет труднее на земле царской власти, нет бремени тяжелее царского служения».
Вступив в собор, Николай, взяв в руки державу и скипетр, прочел коронационную молитву, выслушал ответную молитву митрополита Палладия, отстоял торжественную литургию, сняв с себя корону. Заключительным актом коронации был обряд миропомазания, когда освященным елеем – оливковым маслом – на лбу помазанника рисуется крест. Обряд миропомазания должен был совершаться в алтаре, куда следовало пройти через Царские врата. В этот миг снова ударили колокола и пушки, начиная салют в сто один залп. И только Николай двинулся к алтарю, чтобы принять миропомазание, неожиданно лопнула бриллиантовая цепь с орденом Андрея Первозванного и упала к его ногам. Это тут же расценили как весьма дурное предзнаменование. Немногие старые царедворцы, присутствовавшие на коронации деда Николая – Александра II, вспомнили, как здесь же, в Успенском соборе старик Горчаков выронил подушку, на которой лежала держава, что также было воспринято как плохое предвестие и нехорошая примета.
Николай чуть приостановился, цепь и орден подобрали и внесли в алтарь. Но примета оправдалась вскоре же – на 13-й день после начала коронационных торжеств – 18 мая.
Ходынка
Следует иметь в виду, что к моменту коронации генерал-губернатором Москвы и одновременно командующим Московским военным округом – самым большим и самым важным в Российской империи – вот уже пять лет был дядя царя Сергей Александрович.
Он был назначен на этот пост в 1891 году еще своим братом Александром III. Спустя пять лет, в 1896 году, Сергей Александрович вполне освоился на новой должности и считал, что блестяще справится с любой ситуацией, какая могла бы возникнуть в Москве.
Однако, как оказалось, он заблуждался. И это подтвердилось на сакраментальный тринадцатый день коронационных торжеств, начавшихся 6 мая.
Среди множества мероприятий, предусмотренных коронационной комиссией, была запланирована и раздача 400 тысяч царских гостинцев. Причем заранее известили и о дате, и о месте раздачи – 18 мая, Ходынское поле. «Гостинец» включал полфунта колбасы (200 граммов), сайку, кулек конфет, кулек орехов, пряник и памятную эмалированную кружку с царским вензелем, и все это было завернуто в яркий женский ситцевый платок. Так как подготовка к раздаче подарков происходила загодя, то москвичи, особенно беднота, с интересом следили за тем, что происходило на Ходынке, и внимательно прислушивались к циркулировавшим в городе слухам.
А на Ходынском поле, где в обычные дни проходили войсковые полевые учения, построили царский павильон и двадцать бараков-складов, куда свезли подарки и сотни бочек водки и вина.
Вдоль Петербургского шоссе в сторону Ваганькова построили 150 павильонов-буфетов, помосты для выступлений артистов цирка и театров. Зрители должны были увидеть сцены из оперы «Руслан и Людмила», спектакль «Конек-Горбунок», народное массовое действо «Ермак Тимофеевич». С группой дрессированных животных должен был выступить Владимир Дуров.
Было решено использовать и традиционные развлечения простонародья на ярмарках и гуляниях – в нескольких местах Ходынки врыли высокие гладко обструганные столбы, на макушках которых должны были появиться сапоги, самовары, шапки и иные призы для тех ловкачей, проворных и хватких, которые сумеют добраться до желанной награды.
Кроме того, по Москве гуляли и слухи, что в каждом тысячном подарке лежит ассигнация, – кто говорил в десять, а кто и в сто рублей.
Следует заметить, что поле, пригодное для учебных боев и пехотных маневров, было покрыто солдатскими окопами, стрелковыми ячейками и траншеями. Кроме того, там были природные овраги и множество ям, оставшихся после добычи песка и глины.
18 мая была суббота, ночь накануне оказалась очень теплой, и сотни тысяч москвичей – прежде всего бедняков – решили провести время с вечера до утра на свежем воздухе, под открытым небом, прямо на Ходынском поле, чтобы не опоздать к раздаче подарков. По разным источникам их было, – вместе с подошедшими утром, – от 500 тысяч до одного миллиона человек.
Около шести часов утра люди, отдыхавшие на поле, вдруг вскочили и бросились, как один человек, вперед. Со стороны Петербургского шоссе тоже скопилась огромная толпа. Известный московский репортер, впоследствии автор знаменитых книг о Москве и москвичах В. А. Гиляровский, единственный из газетчиков, оказавшийся на Ходынке, считал, что там собралось не менее миллиона человек. Эта гигантская масса была стеснена между линией павильонов-буфетов и все сильнее напирающими новыми толпами, подходившими из Москвы и боявшимися, что раздача подарков начнется раньше объявленного времени и им ничего не достанется.
Гиляровский писал о произошедшем так: «Над миллионной толпой начал подниматься пар, похожий на болотный туман… Давка была страшная. Со многими делалось дурно, некоторые теряли сознание, не имея возможности выбраться или даже упасть: лишенные чувств, с закрытыми глазами,
сжатые, как в тисках, они колыхались вместе с массой. Стоящий возле меня, через одного, высокий благообразный старик уже давно не дышал: он задохся молча, умер без звука, и похолодевший труп его колыхался с нами. Рядом со мной кого-то рвало. Он не мог даже опустить головы».
Другой свидетель ходынского ужаса, П. Шостаковский, вспоминал: «И до предела сжатая человеческая масса всей невообразимой тяжестью своей качнулась в сторону буфетов. Люди тысячами повалились в ров, прямо на головы стоявших на дне. Вслед за ними падали еще и еще, пока ров не был завален телами доверху. И по ним шли. Не могли не идти, не могли остановиться». Последствия катастрофы были ужасны – пожарные и военные врачи цепенели от вида множества страшно обезображенных мертвых тел. По официальным данным, погибло 1389 человек и 1301 был ранен. По данным современного французского историка Марка Ферро, число раненых было до 20 тысяч! И все это безумие продолжалось не более 15 минут, но когда толпа опомнилась, было уже поздно. Николаю доложили о катастрофе в половине одиннадцатого утра. От него требовалось принять решение – или отменить все празднества и объявить траур, или, сделав вид, что ничего особенного не произошло, продолжать торжества как ни в чем не бывало.
И здесь, впервые после смерти Александра III, царская семья решительно разделилась. Категоричнее всех настаивала на прекращении всяческих дальнейших празднеств императрица-мать. Мария Федоровна потребовала примерно наказать московского генерал-губернатора, Великого князя Сергея Александровича, несмотря на то что он был родным братом покойного императора. Она требовала создать следственную комиссию и выявить и всех других виновников катастрофы. Марию Федоровну поддержали двоюродный дед Николая II Великий князь Михаил Александрович и три его сына – Николай, Михаил и Сергей Михайловичи.
Однако в защиту виновника катастрофы выступили три его родных брата – Великие князья Владимир, Алексей и Павел Александровичи. Их союзницей оказалась и молодая императрица, которая никак не могла дать в обиду мужа своей любимой сестры Елизаветы Федоровны.
Николай, изрядно поколебавшись, принял, как и следовало ожидать, компромиссное решение: сегодняшний день закончить по старой программе, главным образом из-за того, что вечером должен был состояться бал у французского посла и по политическим соображениям отменять его не следовало, – а уж потом, если будет возможно, празднества свернуть, заменив их посещениями больниц, раздачей пособий и всего прочего, приличествующего произошедшему несчастью.
И, выполняя принятое решение, царь и царица отправились на Ходынку, где уже были убраны трупы и кровь засыпана песком.
В два часа дня их императорские величества появились на балконе Царского павильона, грянул пушечный залп, заиграли военные оркестры, сотни тысяч людей обнажили головы и стали смотреть, как мимо павильона в четком строю пошли парадным маршем войска.
После этого Николай принял в Петровском дворце делегации крестьян и дворян Варшавы, отобедал вместе с московскими дворянами, а вечером отправился на бал к французскому послу, графу Луи-Густаву Монтебелло.
В первой паре танцующих пошел Николай с красавицей графиней – женой посла, Монтебелло шел во второй паре с Александрой Федоровной, а главный виновник катастрофы – Сергей Александрович – шел следом за ними, словно демонстрируя безнаказанность и глубокую аморальность царской семьи.
На следующее утро Сергей Александрович узнал, что Москва одарила его новым титулом – «князь Ходынский».
А Николай и Александра Федоровна, понимая, что их пребывание на балу более чем двусмысленно, выполнив протокол, вскоре же уехали в Кремль.
19 мая утром, будто опомнившись, они присутствовали на панихиде по погибшим и поехали по больницам, навещая раненых. Под впечатлением увиденного царь приказал выдать каждой семье, где погиб кто-либо, по тысяче рублей за человека, оплатить похороны, а для осиротевших детей открыть особый приют.
Тогда же было начато следствие, но через два месяца виновным признали одного лишь московского обер-полицмейстера Власовского, обвинив его в нераспорядительности и служебной халатности, после чего отправили в отставку.
И все же вечером 19 мая состоялся еще один блестящий бал, правда, последний. Однако же он вызвал не меньшее возмущение, чем предыдущий, ибо этот бал давал не кто-нибудь, а сам «князь Ходынский».
И перед Россией вновь возник один из ее вечных вопросов: «А кто же нами правит?»
А и в самом деле, кто?
Жизнь царской семьи на рубеже веков: 1894—1904 годы
На рубеже веков Российский императорский дом состоял более чем из 60 полноправных членов, носивших титул «высочеств». Не все они оставили след в истории, и потому дальше мы познакомимся лишь с наиболее яркими членами царской фамилии, которым предстоит играть ту или иную роль в этом повествовании. Но прежде имеет смысл очень коротко сказать о трех четко отличавшихся друг от друга периодах 23-летнего царствования последнего императора.
Первый период, когда Николай II был неограниченным самодержавным монархом, продолжался десять лет, с 1894 по 1904 год; второй – 1904—1914 – это время русско-японской войны, первой революции 1905—1907 годов и превращения самодержавия в ограниченную парламентскую монархию; и наконец последний – 1914—1917 – период Первой мировой войны и крушения династии. В соответствии с такой периодизацией и пойдет дальнейший рассказ о последнем русском императоре и его семье.
…Как почтительный и любящий сын, Николай, конечно же, всегда признавал авторитет матери, советуясь с нею по семейным делам, но иногда, правда, крайне редко, принимал решения и сам. В день смерти Александра III Марии Федоровне шел 47-й год, а Николаю – 27-й.
По мужской линии на генеалогическом древе Романовых развивались шесть ветвей. Первой из них была ветвь прямых потомков Александра III – «Александровичи». Кроме Николая, их было только двое – Георгий и Михаил. Георгий скончался от туберкулеза в июне 1899 года в возрасте 28 лет, не оставив потомства. После его смерти у Николая остался лишь один родной брат – Михаил, считавшийся до 30 июля 1904 года – появления на свет у Николая сына Алексея – наследником престола. Две другие линии шли от сыновей Александра II, родных братьев Александра III – Великих князей Владимира и Павла. У Владимира было трое сыновей – Кирилл, Борис и Андрей, а у Павла только один сын – Дмитрий.
Еще три ветви шли от сыновей Николая I – Николая Николаевича (старшего), Константина Николаевича и Михаила Николаевича. Когда Николай II вступил на престол, Николай Николаевич и Константин Николаевич уже умерли, а в живых был лишь один сын грозного императора – Михаил. Однако старшинство в роду соблюдалось строго, и на семейной иерархической лестнице поближе к верхним ее ступенькам стояли три «Константиновича» – 44-летний Николай, 36-летний Константин и 34-летний Дмитрий. Следом шли два «Николаевича» – 38-летний Николай Николаевич (младший) и 30-летний Петр Николаевич. И, наконец, шли сыновья самого младшего сына Николая I – Михаила. Их было шестеро: 35-летний Николай, 33-летний Михаил, Георгий, которому шел 32-й год, 28-летний Александр, 25-летний Сергей и 19-летний Алексей.
Два родных брата Александра III – Алексей и Сергей – детей не имели. (У Алексея Александровича было несколько незаконных сыновей, но царская семья не могла их числить среди своих, а Сергей Александрович, в силу уже известного нам порока или, если угодно, недуга, детей иметь не мог.)
Приводимые ниже характеристики членов царской семьи заимствованы автором из «Книги воспоминаний», написанной Великим князем Александром Михайловичем в конце 20-х – начале 30-х годов, когда он находился в эмиграции. Напомним, что это тот самый Александр Михайлович – друг юности Николая II, – которого мы оставили в предыдущей главе во дворце, на мысе Ай-Тодор, сразу же после женитьбы на дочери Александра III – Ксении.
Его отец, Великий князь Михаил Николаевич, занимавший с 1881 года пост председателя Государственного Совета, приходился Николаю II двоюродным дедом.
Характеристики родственников – своих и Николая II – Александр Михайлович начинает со своего отца, которому в момент восшествия Николая II на престол исполнилось 62 года. «Он был бы идеальным советником молодого императора, если бы не был столь непреклонным сторонником строгой дисциплины. Ведь его внучатый племянник был его Государем, и, как таковому, ему надлежало оказывать беспрекословное повиновение…
Следующими по старшинству шли четыре дяди государя, четыре брата покойного императора. Великий князь Владимир Александрович – отец старшего по первородству из ныне здравствующих членов императорской семьи Великого князя Кирилла Владимировича – обладал несомненным художественным талантом. Он рисовал, интересовался балетом и первый финансировал заграничные балетные турне С. Дягилева. Собирал старинные иконы, посещал два раза в год Париж и очень любил давать сложные приемы в своем изумительном дворце в Царском Селе.
Он относился очень презрительно к молодым Великим князьям. С ним нельзя было говорить на другие темы, кроме искусства или тонкостей французской кухни… Он занимал, сообразно своему положению и возрасту, ответственный пост командира Гвардейского корпуса, хотя исполнение этих обязанностей и являлось для него большой помехой в его любви к искусству…
Его супруга, Великая княгиня Мария Павловна, принадлежала к царствовавшему дому герцогов Мекленбург-Шверинских. Ее брат Фридрих был мужем моей сестры Анастасии. Она была очаровательною хозяйкой, и ее приемы вполне заслужили репутацию блестящих…
Затем Великий князь Алексей Александрович, который пользовался репутацией самого красивого члена императорской семьи, хотя его колоссальный вес послужил бы значительным препятствием к успеху у современных женщин. Одна мысль о возможности провести год вдали от Парижа заставила бы его подать в отставку. Но он состоял на Государственной службе и занимал должность не более не менее, как Адмирала Российского флота (генерал-адмирал. – В. Б.). Трудно было бы себе представить более скромные познания, которые были по морским делам у этого адмирала могущественной державы. Одно только упоминание о современных преобразованиях в военном флоте вызывало болезненную гримасу на его красивом лице. Это беззаботное существование было омрачено, однако, трагедией: несмотря на все признаки приближающейся войны с Японией, генерал-адмирал продолжал свои празднества и, проснувшись в одно прекрасное утро, узнал, что наш флот потерпел позорное поражение в битве с современными дредноутами Микадо. После этого Великий князь подал в отставку и вскоре скончался».
Дальше Александр Михайлович дает в высшей степени нелестную характеристику «князю Ходынскому» Сергею Александровичу, повторяя то, о чем мы уже знаем, добавляя, что «упрямый, дерзкий, неприятный, он бравировал своими недостатками, точно бросая в лицо всем вызов и давая таким образом врагам богатую пищу для клеветы и злословия». Он называет его «очень посредственным офицером», «совершенно невежественным в вопросах внутреннего управления», сознаваясь: «При всем желании отыскать хотя бы одну положительную черту в его характере я не могу ее найти».
Совершенно противоположную характеристику дает он жене Сергея Александровича – старшей сестре императрицы Елизавете Федоровне: «Трудно было придумать больший контраст, чем между этими двумя супругами! – писал Александр Михайлович.
– Редкая красота, замечательный ум, тонкий юмор, ангельское терпение, благородное сердце – таковы были добродетели этой удивительной женщины. Было больно, что женщина ее качеств связала свою судьбу с таким человеком, как дядя Сергей. С того момента, как она прибыла в Санкт-Петербург из родного Гессен-Дармштадта, все влюбились в «тетю Эллу». Проведя вечер в ее обществе и вспоминая ее глаза, цвет лица, смех, ее способность создавать вокруг себя уют, мы приходили в отчаяние при мысли о ее близкой помолвке. Я отдал бы десять лет жизни, чтобы она не вошла в церковь к венцу с высокомерным Сергеем… Слишком гордая, чтобы жаловаться, она прожила с ним около двадцати лет. Не поза или рисовка, а истинное милосердие побудило ее навестить убийцу мужа в его камере перед казнью в московской тюрьме. (Речь идет о посещении Елизаветой Федоровной террориста-эсера Ивана Каляева, разорвавшего бомбой на куски Сергея Александровича 4 февраля 1905 года на территории Кремля. – В. Б.). Ее последовавший вслед за тем уход в монастырь, ее героические, хотя и безуспешные, попытки руководить царицей и, наконец, ее мученичество в плену большевиков – все это дает достаточно оснований, чтобы причислить Великую княгиню Елизавету Федоровну к лику святых… Нет более благородной женщины, которая оставила отпечаток своего облика на кровавых страницах русской истории».
(31 марта (14 апреля) 1992 года решением Архиерейского Собора, состоявшегося в Свято-Даниловом монастыре в Москве, Великая княгиня Елизавета Федоровна и инокиня Марфо-Мариинской обители Варвара были причислены к лику святых. День их памяти – 5 (18) июля.).
Младший сын Александра II – дядя Павел – был самым симпатичным из четырех дядей царя… Беззаботная жизнь кавалерийского офицера его вполне удовлетворяла, Великий князь Павел никогда не занимал ответственного поста. Он с юности пользовался успехом у женщин и потому женился лишь двадцати девяти лет – довольно поздно для традиционных ранних браков мужчин из дома Романовых. Его женой в 1889 году стала девятнадцатилетняя греческая принцесса Александра Георгиевна. Брак был удачен. Молодая жена отличалась добросердечием, веселым нравом и сохранила в характере детскую непосредственность. Вскоре у нее родилась дочь – Мария, а потом она забеременела снова. Самыми близкими друзьями молодых супругов были Сергей Александрович и Елизавета Федоровна. Когда же Сергея Александровича перевели служить в Москву, то друзья часто навещали их, останавливаясь в имении Ильинское. Приезжая в Ильинское, и хозяева, и гости начинали бесконечный праздник, состоящий из балов, пикников, выездов, катаний на лодках. Александра Георгиевна особенно любила кататься на лодке и из-за молодости, резвости и озорства начинала прогулки с того, что не сходила в лодку, как все, а прыгала в нее с крутого, но невысокого берега. Так поступила она и в начале сентября 1891 года, будучи беременной вторым ребенком. После катания был бал, и на нем молодая женщина потеряла сознание: у нее началась родовая горячка, и она, родив недоношенного мальчика, вскоре умерла. Павел Александрович страдал безмерно еще и из-за того, что новорожденный долго находился между жизнью и смертью, да и сам несчастный вдовец с горя заболел, а когда дела его пошли на поправку, врачи отправили его в Италию. Детей же забрала к себе Елизавета Федоровна, и они остались жить в Москве. Мальчика окрестили Дмитрием, и из-за его сиротства к нему особенно тепло относились и царь с царицей. А когда у Николая II появилась первая дочь, Ольга, Великий князь Дмитрий Павлович стал участником ее забав и игр.
Его отец довольно долго оставался вдовцом, ведя жизнь великосветского человека и проводя время, то в Италии, то на французской Ривьере, то в Париже, и женился только через пять лет после постигшего его несчастья.
История женитьбы Великого князя Павла Александровича была не лишена романтизма и строилась на искренней любви. Павел Александрович влюбился в Ольгу Валериановну Пистолькорс – урожденную Карнович – с первого взгляда, увидев ее за обедом, который ее муж давал у себя дома в честь Великого князя.
Осенью 1896 года Великий князь и мадам Пистолькорс посетили Париж, остановившись в одном отеле, но пока еще в разных номерах, а возвратившись в Петербург, уже и дня не могли провести друг без друга.
Летом 1897 года они уехали на морские купания на французскую Ривьеру, а затем надолго поселились в Берлине, где Павел Александрович лечился от экземы, вспыхнувшей у него на нервной почве, а его возлюбленная самоотверженно ухаживала за ним. Когда Великому князю стало легче, он твердо решил жениться, но его адъютанты не смогли найти православного священника, и влюбленные вернулись в Россию ни с чем. Из-за этой неудачи тело больного вновь покрылось язвами, и Пистолькорс даже переехала к нему в дом, чтобы и дальше ухаживать за ним. «У меня был очень серьезный разговор с дядей Павлом, который закончился моим предупреждением ему о всех последствиях, которые будут иметь место для него в результате его предполагаемой женитьбы, – писал Николай матери по этому поводу. – Однако это не имело воздействия… Как больно и печально все это, и как стыдно за него нашей семье перед всем светом. Где гарантии, что сейчас Кирилл не захочет завтра начать подобного рода вещи, а Борис и Сергей днем позже? А в конце концов, я боюсь, целая колония членов русской императорской фамилии обоснуется в Париже с их полузаконными и незаконными женами. Один Бог знает, что за время мы переживаем, когда неприкрытый эгоизм подавляет все чувства совести, долга или даже просто приличия».
Разумеется, в свете с удовольствием мыли кости всем героям этой истории, и тогда муж Ольги Валериановны, еще не получивший развода, сказал, что он «никому не позволит трепать свое честное имя по панели». (Муж ее – генерал-майор Эрик-Август – был немецким аристократом и очень гордым человеком). Это заставило Павла Александровича форсировать события, и он, поделив принадлежавшие ему шесть миллионов рублей золотом на две равные части, три миллиона взял себе, а три миллиона оставил детям – Марии и Дмитрию, а их опекуншей и воспитательницей стала бездетная Великая княгиня Елизавета Федоровна. Павел Александрович и Ольга Валериановна уехали во Флоренцию и там дождались официального извещения о получении мадам Пистолькорс развода, после чего они и обвенчались, избрав для этого родину Ромео и Джульетты – Верону и доставив Николаю II истинную горечь, ибо он понимал, что этот первый мезальянс лишь начало многих других подобных историй. (Правда, мягкосердечный племянник вскоре простил дядю и в 1904 году даровал его морганатической супруге титул графини Гогенфельзен, а в 1916 – титул княгини Палей. Последнее объяснялось тем, что в 1916 году Николаю II казался возможным брак между сыном Павла Александровича от первого брака – Дмитрием – и его старшей дочерью – Ольгой, и он хотел, чтобы и мачеха его будущего зятя была титулована по наивысшему разряду. Однако брак между Ольгой и Дмитрием не состоялся, – почему, мы узнаем в свое время, но Ольга Валериановна стала княгиней Палей).
Через три года Великий князь Кирилл Владимирович оправдал невеселый прогноз Николая, женившись на разведенной женщине. Причем женой Кирилла Владимировича стала Саксен-Кобург-Готская принцесса Виктория Мелита, бывшая замужем за родным братом императрицы Александры Федоровны – герцогом Эрнстом Гессенским, который Николаю II доводился шурином. Для Николая это было тем более горько, что именно на свадьбе Виктории и Эрнста Гессенского он сделал предложение своей будущей жене. Оскорблена была и Александра Федоровна, и, вероятно, не без ее влияния Николай отставил своего кузена от службы во флоте и приказал выслать его из России.
В ответ отец Кирилла, дядя царя Великий князь Владимир Александрович пригрозил отставкой со всех постов, и мягкосердечный Николай уступил и возвратил Кирилла в службу, отменив и высылку из России.
Что же касается Павла Александровича, то он из Флоренции вскоре же уехал в Париж и долгое время пребывал там, живя в свое удовольствие и не без пользы для себя. «Мне лично думается, – писал Александр Михайлович, – что Великий князь Павел, встречаясь в своем вынужденном изгнании с выдающимися людьми, от этого только выиграл. Это отразилось на складе его характера и обнаружило в нем человеческие черты, скрытые раньше под маской высокомерия».
* * *
Теперь настала очередь рассказать о двух родных братьях Николая II – Георгии и Михаиле. Первый после вступления на престол старшего брата стал цесаревичем.
По общему признанию, Георгий был самым одаренным из сыновей Александра III, но в 1899 году он умер от туберкулеза, проболев очень долго, и оставил о себе память, построив на собственные деньги астрономическую обсерваторию в горном поселке Абас-Туман, где он постоянно жил и лечился.
После его смерти цесаревичем стал младший брат Николая – Михаил. О Михаиле нужно рассказать более подробно, хотя бы потому, что он, пусть и формально, но все же был последним российским императором. Александр Михайлович так характеризовал Михаила: «Михаил был на одиннадцать лет моложе государя. Он очаровывал всех подкупающей простотой своих манер. Любимец родных, однополчан-офицеров и бесчисленных друзей, он обладал методическим умом и выдвинулся бы на любом посту, если бы не заключил своего морганатического брака».
Последний сын Александра III, Михаил был его слепой любовью и бесконечным баловнем. Почти все историки, занимавшиеся историей жизни Александра III, непременно упоминали следующий случай. Однажды царь прогуливался с пятилетним Мишей в саду. Было жарко, Миша расшалился, отец никак не мог угомонить его и, подняв шланг, окатил шалуна водой. Мальчика переодели и привели на завтрак, за которым собралась вся семья. Потом Мишу отвели в его комнату, окна которой находились над кабинетом царя.
Довольно долго проработав, Александр вышел на балкон, и тут на голову ему обрушился поток воды – это его баловень подкараулил отца и вылил на него целое ведро воды. Никто никогда не посмел бы так поступить с грозным императором, а Михаил сделал это, твердо зная, что отец простит его. И дело действительно кончилось тем, что Александр рассмеялся и пошел переодеваться.
Слава бонвивана и шалопая сопровождала Михаила всю жизнь. Самыми сильными его увлечениями были автомобили, женщины и лошади. В то же время у Михаила Александровича было много общего с его старшим братом Николаем. Он тоже обладал способностью очаровывать людей, был прост и неприхотлив, как и Николай, любил искусство, музыку, животных, цветы. Его страстью был конный спорт, к чему расположил его все тот же мистер Хетс, воспитывавший всех августейших братьев.
Михаил, как и Николай, любил физический труд, особенно пилку и колку дров, а благодаря своему наставнику стал и убежденным англоманом: в Англии ему нравилось все – от парламентских институтов до образа жизни.
Женитьба великого князя Георгия Михайловича на греческой принцессе Марии Георгиевне из династии Глюксбургов
После печальной свадьбы Николая II и Александры Федоровны в доме Романовых целых пять лет ни о каких свадебных торжествах не было и речи.
Однако жизнь продолжалась, о смерти предыдущего царя вспоминали все реже, хотя панихиды и литургии исправно служились в положенные для поминовения дни, потому что царская семья была богобоязненной и воистину православной.
В 1900 году между греческим королевским домом и домом Романовых был заключен договор о бракосочетании Великого князя Георгия Михайловича с принцессой Марией Георгиевной.
Напомним вкратце родословные жениха и невесты.
Великий князь Георгий Михайлович был сыном последнего, самого младшего сына Николая I – Михаила, женатого на принцессе Цецилии Баденской, ставшей в России Великой княгиней Ольгой Федоровной.
Ольга Федоровна родила семерых детей. Четвертым ребенком, появившимся на свет 11 августа 1863 года, был Георгий Михайлович, сосватанный в 1900 году за Марию Георгиевну.
Георгий Михайлович с детства испытывал нередкую в семье Романовых любовь к лошадям и должен был стать подающим надежды хорошим кавалерийским офицером. Он много занимался выездкой лошадей и однажды, упав с лошади, сильно ударил колено. Повреждение оказалось серьезным. Великий князь какое-то время даже хромал, и стало ясно, что военная карьера для него закрыта.
Однако, к счастью для него, у Георгия Михайловича была еще одна страсть – нумизматика. Он собирал коллекцию старинных монет, тратил на их приобретение большие деньги, одновременно становясь одним из самых признанных ученых-нумизматов в России.
Еще одним серьезным увлечением Великого князя были занятия живописью. Пытливый ум заставил его углубиться в историю искусства. Николай II знал об этом и, желая помочь своему родственнику, назначил Георгия Михайловича директором Императорского музея русского искусства имени Александра III, открывшегося в Михайловском дворце, купленном в 1895 году государственной казной у Великой княгини Елены Михайловны.
Георгий Михайлович окончательно погрузился в нумизматику, составляя каталоги, пополняя коллекции и углубленно изучая их. (Сегодня эти коллекции находятся в фондах Эрмитажа.)
Становиться семейным человеком Георгий Михайлович совсем не хотел, ибо это сковывало бы его, а он привык к свободе. И все же когда его заставили задуматься над неминуемой женитьбой, Великий князь отнесся к этому, как к обязательной плате за происхождение. К тому же его обязывали и традиционные семейные связи с новой королевской династией Греции, и родственники из династии Глюксбургов.
…Мария Георгиевна была на 13 лет младше своего жениха. Невзрачная, худощавая и близорукая, она тем не менее обладала страстным темпераментом и еще в Афинах влюбилась в юношу, любовь к которому сохранила в своем сердце и после приезда в Россию.
С нею поступили так же, как и с другими августейшими невестами, рассматривая ее брак с Великим князем как важный политический шаг, укрепляющий позиции России в Европе не меньше, чем выигранное сражение. И, может быть, потому свадьбы и военные триумфы во многом напоминали друг друга в своей парадной части: одинаково гремели пушки и гудели колокола, одинаково торжественно стояли шпалеры войск, а вечером горели огни фейерверка и в царском дворце шумел бал и задавался пир на весь мир.
И в этот раз все шло по отработанной схеме, но по окончании празднеств началась обыденная семейная жизнь, и молодая женщина поняла, что ее муж, человек в летах, откровенно предпочитает общению с нею коллекционирование монет и изучение ученых трудов. Поняла она также, что муж ничуть не волнует ее и вовсе ей не нравится. Однако, несмотря на взаимную холодность, у Марии и Георгия родились две дочери – 7 июня 1901 года Нина, а 9 августа 1903-го – Ксения.
Равнодушие Марии Георгиевны объяснялось, кроме прежнего афинского увлечения, еще и тем, что ей не нравилась холодная Россия, мокрый, пасмурный Санкт-Петербург и вообще все, что ее окружало.
Ее апатичность стала причиной того, что почти никто не сблизился с нею, а глядя на них, остались равнодушными и придворные.
Мария замкнулась в себе, почти все время проводила с дочерями, следя за их воспитанием, а когда девочки подросли – Нине было 13, а Ксении – 12 лет, весной 1914 года, накануне Первой мировой войны, уехала с ними в Англию.
Ее переезд английские родственники восприняли как бегство от нелюбимого мужа, но она для таких выводов не давала никакого повода, всегда отзываясь о муже с должным почтением.
Мария Георгиевна и ее дети больше не вернулись в Россию. Великая княгиня умерла за границей 14 декабря 1940 года.
…Да и куда ей было возвращаться? Ее мужа расстреляли большевики вместе с тремя другими Великими князьями – Николаем Михайловичем, Дмитрием Константиновичем и Павлом Александровичем – в ночь на 28 января 1919 года.
Их всех раздели до пояса и выгнали из каземата Петропавловской крепости на мороз, а потом поставили на край братской могилы, в которой уже лежали тела только что расстрелянных.
Свадьба сестры царя Ольги и принца Петра Ольденбургского
Следующей в семье Романовых состоялась свадьба Великой княжны Ольги Александровны и ее дальнего родственника – герцога Петра Ольденбургского, по происхождению и статусу находившегося на периферии династии.
Ольга родилась в Петергофе 1 июня 1882 года, когда Александр III уже был императором, и потому называлась «порфирородной». Она была последним ребенком Александра III и императрицы Марии Федоровны. Отец не очень любил дочь и воспитывал ее в обстановке строжайшей дисциплины. Единственным близким человеком стала Ольге ее няня – англичанка миссис Элизабет Франклин, по прозвищу Нана.
Ольга была более чем своеобразна и совсем не походила на «порфирородную». Она не любила веселья и ненавидела праздность, играла на скрипке, рисовала и занималась фотографией, которая в те годы считалась искусством, близким к живописи. Она с удовольствием училась всему этому у хороших мастеров своего дела, а потом и сама стала незаурядным мастером.
Отец дарил ей в детстве ручных животных – лисят, зайчат, медвежат, и девочка любила их гораздо больше придворных.
После смерти отца девочку увезли в ее имение Ольгино, где она провела детство и юность в окружении простых людей, с которыми очень сблизилась. Ольга основала начальную школу, а потом и местную больницу и научилась там у земских докторов началам медицины. Она стала неплохой медсестрой, получив разнообразные профессиональные навыки, весьма пригодившиеся ей в годы Первой мировой войны и во время эмиграции.
Ольга сильно отличалась от других членов августейшей семьи, совсем не придерживалась этикета, а вернувшись в Санкт-Петербург, одна бродила по городу, заходила в лавки, показывалась в театральном училище. Когда кто-нибудь выполнял какую-нибудь ее просьбу, Ольга сердечно и искренне благодарила за это, извиняясь за причиненное беспокойство.
В 1901 году, когда ей было 19 лет, она вышла замуж за принца Петра Александровича Ольденбургского, который был старше ее на 14 лет и мало обращал внимания на свою молодую жену, целиком предаваясь пагубной страсти – азартным карточным играм. Молодые жили в одном дворце с родителями Петра, которые постоянно устраивали сцены из-за вечных проигрышей сына. Подобная атмосфера была непривычной и невыносимой для царской дочери. И Ольга выработала свой стиль поведения: она надолго уходила из дома, гуляя в одиночестве по Петербургу, или же отправлялась в свое загородное имение, где на ее деньги содержалась школа, а иногда увлеченно рисовала на пленэре, достигнув в этом подлинного совершенства. Сенатор А. А. Половцов, бывший на ее свадьбе, оказался пророком, оставив такую запись в своем дневнике: «Великая княгиня некрасивая, ее вздернутый нос и вообще монгольский тип лица выкупается лишь прекрасными по выражению глазами, глазами добрыми и умными, прямо на вас смотрящими. Желая жить в России, она остановила свой выбор на сыне принца Александра Петровича Ольденбургского… Очевидно, соображения, чуждые успешности супружеского сожития, были поставлены здесь на первый план, о чем едва ли не придется со временем пожалеть».
Все свои привычки юности, все свои склонности Ольга сохранила и после свадьбы, тем более что муж совершенно не интересовался ею как женщиной, потому что давно уже был откровенным гомосексуалистом и даже первую брачную ночь провел за карточным столом. Более того, за 15 лет брака он ни разу не состоял с Ольгой в супружеских отношениях.
В 1902 году она поступила в студию талантливого пейзажиста Константина Яковлевича Крыжицкого и вскоре стала незаурядной акварелисткой. Она забиралась в самые глухие уголки парков Гатчины, Павловска и Петергофа и самозабвенно писала.
(В Копенгагене, у родственников ее подруги – княгини Татьяны Сергеевны Володановской-Ладыженской – сохранились ее акварели «Первый снег», «Дорожка», «Осень», «Закат», «В цветах», «Дача в саду», «Поле», «Остров в парке», «Осенний пейзаж».)
Навещая Ольгино, она с увлечением создавала живописные полотна маслом, посвященные сценам деревенской жизни.
Так продолжалось до 1903 года, пока брат Михаил не взял ее на кавалерийский парад. И здесь ей встретился молодой, красивый и статный капитан лейб-гвардейских «синих», или «Гатчинских», кирасир Николай Александрович Куликовский. Ольга влюбилась в него с первого взгляда. И капитан ответил ей взаимностью.
Верная себе, Великая княгиня тут же объявила мужу, что полюбила другого, и потребовала развода. Герцог предложил жене все случившееся сохранить в тайне и приказал перевести Куликовского к нему в адъютанты и поселить у себя во дворце.
Молодые влюбленные стали жить под одной крышей. Принц Петр не вмешивался в их дела, тщательно оберегая семейную тайну. Так продолжалось более 10 лет.
Когда их роман начался, Ольге было 21, а Куликовскому – 22 года. Ольга и дальше занималась живописью и добилась весьма значительных успехов. Ее рисунки и картины не только пользовались популярностью и большим спросом, но и часто репродуцировались, особенно успешно в виде почтовых открыток.
До 1917 года было выпущено более трех десятков открыток с репродукциями ее живописных работ.
В 1913 года в Санкт-Петербурге была открыта выставка произведений учеников Крыжицкого, и критики отметили несколько ее работ. Кстати, выставку эту организовала Ольга Александровна в память о своем учителе, незадолго перед тем покончившем самоубийством. Много картин с выставки было продано, и все деньги пошли в фонд имени Крыжицкого, основанный Ольгой Александровной.
В 1914 году, с началом Первой мировой войны, Куликовский ушел на фронт в составе Ахтырского гусарского полка.
Вскоре на фронт ушла и Ольга Александровна.
Уходя из дома, она сказала принцу Петру, что больше никогда не вернется к нему.
Ольга служила в госпитале, стоявшем в городе Проскурове. Однажды она узнала, что неподалеку, на линии боев, находится Ахтырский полк. Она уехала к месту дислокации полка, но попала под сильный артиллерийский обстрел. Оказавшись в боевой обстановке, Ольга стала выносить из-под огня раненых, проявляя самоотверженность и героизм. После прекращения обстрела ее представили начальнику 12-й кавалерийской дивизии генералу Маннергейму, и он наградил ее Георгиевской медалью. (Это был тот самый Маннергейм, который в декабре 1918 года стал регентом Финляндии.)
В одном из писем Ольга Александровна сообщала из госпиталя: «Меня доктор зовет всегда поласкать больного во время трудных перевязок, ибо во время сильной боли я их обнимаю, глажу и ласкаю, так что им совестно, вероятно, кричать, и ему легче перевязывать в это время».
В начале 1916 года Петр Ольденбургский официально расторг брак, и в ноябре того же года, в Киеве, Ольга обвенчалась с Куликовским в маленькой, старой и тихой Киево-Васильевской церкви. Свадьбу праздновали в госпитале. На ужине были императрица-мать Мария Федоровна, муж сестры Ольги – Ксении – Великий князь Александр Михайлович, несколько офицеров Ахтырского полка – друзей Николая Александровича, и несколько сестер милосердия – подруг Ольги Александровны.
Ольга Александровна писала брату-царю: «В дверях госпиталя нас встречали все сестры и врачи, которые бросали хмель и овес. На лестнице стояли все раненые, которые могли ходить. Мама и Сандро остались на ужин, и было ужасно мило и уютно. Заведующий хозяйством Андреевский и доктор сделали какую-то ужасную „наливку“, и очень скоро вся компания была навеселе. Один из докторов играл на пианино, а остальные танцевали (и я тоже)».
Вскоре история России резко изменилась: царь отрекся от престола, прошли одна за другой две революции – Февральская и Октябрьская.
Летом 1918 года погибла почти вся царская семья, о чем подробнее будет рассказано в конце книги.
После 1917 года принцу Петру удалось уехать во Францию, а молодожены вместе с матерью царя уехали в имение Великого князя Александра Михайловича – Ай-Тодор.
В 1917 году Ольга родила сына, в 1919-м – второго. Жизнь супругов проходила в голоде и нищете.
Когда в 1918 году англичане прислали за Марией Федоровной военный корабль «Мальборо», Куликовские могли бы уйти вместе с нею, но не захотели, надеясь на победу Белого движения, и остались в России.
Они перебрались на Кубань, но Гражданская война пришла и туда, и когда большевики подступили к станице Невинномысской, Ольга с мужем, двумя сыновьями, тремя верными ей женщинами и четырьмя казаками бежали в Ростов-на-Дону, где их укрыл датский посланник, а в феврале 1919 года посадил их в Новороссийске на пароход, на котором они и прибыли в Копенгаген, где уже жила вдовствующая императрица Мария Федоровна. Они покинули Россию, когда Белое движение окончательно рухнуло и нужно было спасать жизнь.
Оказавшись в Дании, Ольга Александровна почти сразу вошла в круги русской эмиграции. Но в первую очередь ее интересовали не политики, а люди искусства и литературы. Особенно близок ей по духу и взглядам оказался писатель Александр Иванович Куприн.
Ольга Александровна писала ему 4 (17) января 1922 года: «Я верю и надеюсь, что этот год принесет луч света всем разбросанным русским людям – и тем более всем томящимся в исстрадавшейся, милой и дорогой России.
Так туда тянет иногда – это ужас».
А 30 января (13 февраля) того же года продолжала, вспоминая детство и свою любимую няню – англичанку миссис Элизабет Франклин:
«У меня была любимая старая англичанка-няня, жившая у меня 32 года, и умерла она в 1913 году у меня в доме… Это был самый любимый и близкий мне человек, который всегда и везде со мною живет в душе.
Вот, когда я болею – ее недостает мне страшно – при ней все было всегда уютно – такая была вера и уверенность – во все ее поступки. Умерла она 77 лет, не увидев моих маленьких и наше счастливое маленькое семейство. Я очень рада, что она очень любила моего Николая Александровича и знала его – он, как сын родной, за ней ходил во время ея последней болезни, так как очень любил ее тоже».
После смерти Марии Федоровны в 1928 году супруги Куликовские стали жить в маленькой усадьбе Баллеруп, неподалеку от Копенгагена.
Сыновья их – Тихон и Гурий – окончили русскую гимназию в Париже и потом стали офицерами датской гвардии.
Усадьба Баллеруп – с домом и фермой – превратилась в датский центр русской эмиграции. Здесь Ольга Александровна продолжала заниматься живописью и начала осваивать искусство иконописи.
Она раздаривала сотни эскизов, рисунков, картин друзьям и знакомым, регулярно устраивала в Копенгагене выставки и выпустила большим тиражом несколько серий открыток со своими произведениями.
Ее художественный талант был высоко оценен критиками, и картины, акварели и рисунки Ольги Александровны стали демонстрировать в Лондоне, Париже и Берлине.
Во время Второй мировой войны в доме Куликовских часто бывало множество военных в немецкой военной форме, и местные жители считали их нацистскими прихвостнями.
На самом деле это были русские солдаты и офицеры, служившие в немецкой армии, и Куликовские принимали их как соотечественники соотечественников.
После окончания Второй мировой войны бывшие солдаты и офицеры германского вермахта стали еще более ненавистны датчанам. А немецкую военную форму – одинаковую для всех – носили не только немцы, но и люди других национальностей, не исключая русских.
По подсчетам историков, в гитлеровской армии – кроме власовцев, носивших собственную форму, служило около миллиона русских и украинцев, и все они очень боялись оказаться в плену у своих недругов, ибо это означало для них или смерть, или – Сибирь. Понимали это и супруги Куликовские. Они прятали беглецов, являвшихся к ним в дом, а потом отдавали знакомому полицейскому, а тот отправлял их в Копенгаген, на датские суда, шедшие в Южную Америку.
Вскоре Куликовским сообщили, что Сталин отдал распоряжение убить Ольгу Александровну, и она, очень испугавшись этого, в 1948 году со всем семейством уехала в Канаду.
Там, в 1958 году, на ферме Хэлтон, неподалеку от Торонто, в возрасте 77 лет скончался Н. А. Куликовский.
Бедную, одинокую, больную Великую княгиню приютил у себя дома, в Торонто, капитан Мартьянов. Там, лежа под иконами своего письма, она умерла 24 ноября 1960 года и была похоронена рядом с мужем на русском участке кладбища «Норс-Йорк».
При погребении военный оркестр играл марш Ахтырского полка.
Свадьба великой княжны Елены Владимировны и греческого принца Николая Георгиевича из династии Глюксбургов
Теперь из ноября 1960 года, с русского кладбища в Канаде, где мы попрощались с дочерью императора Александра III – Ольгой, нам предстоит снова вернуться в Санкт-Петербург начала XX века, где готовилась еще одна свадьба – племянница Александра II, дочь его брата Владимира, Великая княжна Елена должна была выйти замуж за третьего сына греческого короля Георгиоса I – принца Николая.
Великая княжна Елена Владимировна была пятым и последним ребенком в семье Владимира Александровича и Марии Павловны, в девичестве принцессы Марии Мекленбург-Шверинской, их единственной дочерью, родившейся 17 января 1882 года.
Ей было 20 лет, когда по заранее намеченному плану Ольга Константиновна – «королева эллинов» и король Георгиос I сосватали за нее своего третьего сына – принца Николая.
Таким образом, продолжительный династический союз в 1902 году получил свое дальнейшее развитие. Еще раз совершался политический акт дальнейшего сближения Греции с Россией, путем укрепления династических связей дома Романовых с Глюксбургами и, соответственно, с родственными им немецкими династиями.
Николай был на десять лет старше Елены Владимировны, и это сразу же дало себя знать – он держался, как многоопытный, повидавший жизнь человек, да и в самом деле, между двадцатилетней девушкой и тридцатилетним мужчиной разница была весьма значительной. Правда, впоследствии жизнь все рассудила по-своему и отвела каждому из них свой срок: Николай прожил 66 лет, скончавшись в 1938 году, Елена Владимировна прожила 75 лет, умерев в 1957 году.
Царская семья перед первой русской революцией в 1901—1904 годах
Этот раздел книги будет посвящен событиям, происходившим в августейшей семье в 1901—1904 годах.
Следуя схеме, по которой были построены воспоминания Александра Михайловича, расскажем об одиннадцати двоюродных дядьях императора. По старшинству первыми из них были три сына Великого князя Константина Николаевича – Константин, о котором рассказывалось в предыдущей главе в связи с его женитьбой в 1884 году на Елизавете Саксен-Альтенбургской, в России ставшей Великой княгиней Елизаветой Маврикиевной.
Кроме Константина Константиновича, у Константина Николаевича было еще два сына – Дмитрий и Николай. (Был еще и четвертый сын – Вячеслав, но он умер в 15-летнем возрасте в 1879 году.) Один из них – Николай – после небывало позорного происшествия – кражи в собственном доме, был отправлен в ссылку в Ташкент и пребывал там до конца своих дней. Второй сын – Дмитрий – был страстным кавалеристом и отдал этому роду войск всего себя: ни на что другое ни времени, ни желания у него не оставалось.
Из всех членов императорской фамилии самое большое влияние на государственные дела оказывал Великий князь Николай Николаевич (младший), сын Великого князя Николая Николаевича (старшего) и внук императора Николая I. Когда новый царь вступил на престол, он назначил двоюродного дядю и своего бывшего полкового командира генерал-инспектором кавалерии. Но, заняв этот высокий военный пост, новый генерал-инспектор нередко выходил за рамки своей компетенции, хотя ее не хватало Николаю Николаевичу и на то, чтобы хорошо руководить кавалерией, – он был признанным авторитетом в вопросах строя, подготовки парадов и смотров, но, обладая напором и упрямством, мог вынудить своего августейшего племянника сделать в большой политике то, чего тот не хотел, но зато хотел он – его дядя.
Его влияние объяснялось, в частности, также и тем, что жена Николая Николаевича – дочь князя Черногорского Анастасия (Стана) Николаевна, имела сильное влияние на императрицу Александру Федоровну. Не меньшее влияние оказывала на императрицу и родная сестра Станы – Великая княгиня Милица Николаевна, бывшая замужем за родным братом Николая Николаевича Петром. «Сестры-черногорки», как их прозвали, простодушные, суеверные, с холерическим, полуистерическим темпераментом, легко поддавались влиянию всяких сомнительных личностей – знахарей, ясновидцев, целителей, блаженных, играя на струнах души многих аристократов, склонных к мистицизму.
Муж Милицы – Великий князь Петр Николаевич – был полной противоположностью своему старшему брату. Он с детства болел туберкулезом легких и из-за этого долгое время жил в Египте. Он серьезно занялся архитектурой и таким образом стал белой вороной среди прочих Романовых.
Еще более одиозной фигурой считался в семье Романовых Великий князь Николай Михайлович – выдающийся историк, занимавшийся эпохой Александра I, автор нескольких многотомных монографий и публикатор множества документов конца XVIII – начала XIX веков. Следует заметить, что все «Михайловичи» выгодно отличались почти от всех прочих Романовых многочисленными и разнообразными талантами. Историк В. П. Обнинский связывал это с тем, что жена Великого князя Михаила Николаевича Ольга Федоровна – до принятия православия Цецилия Баденская – была дочерью еврейского банкира и наделила своей беспокойной кровью всех детей, отличавшихся от многочисленных кузенов и кузин умом, предприимчивостью и авантюризмом.
Когда Николай II вступил на престол, Николай Михайлович только еще готовился к деятельности историка, ибо с 1883 года, по окончании Академии Генерального штаба, как и все его родственники, состоял на военной службе. Он был командиром кавалергардского полка, но его интеллектуальный уровень был настолько выше, круг интересов настолько шире, чем у его однополчан, что общение с офицерами-кавалергардами не давало Николаю Михайловичу никакого удовлетворения. Все свободное время он проводил в архивах Санкт-Петербурга и Парижа, приводя в изумление парижан тем, что живет в скромном старом отеле «Вандом», а его излюбленными заведениями являются не «Фолибертер» и не «Максим», а Национальная библиотека, Национальный архив и Коллеж де Франс.
Будучи натурой незаурядной и цельной, обладая выдающимися способностями, он вызывал у множества высокопоставленных карьеристов чувства зависти и озлобления. Его младший брат, Александр Михайлович, писал о нем: «Я не знаю никого другого, кто мог бы с большим успехом нести обязанности русского посла во Франции или же в Великобритании. Его ясный ум, европейские взгляды, врожденное благородство, его понимание миросозерцания иностранцев, его широкая терпимость и искреннее миролюбие стяжали бы ему лишь любовь и уважение в любой мировой столице. Неизменная зависть и глупые предрассудки не позволили ему занять выдающегося положения в рядах русской дипломатии, и вместо того чтобы помочь России на том поприще, на котором она более всего нуждалась в его помощи, он был обречен на бездействие людьми, которые не могли ему простить его способностей ни забыть презрения к их невежеству».
Николай Михайлович оказался несчастлив и в личной жизни. В момент вступления на престол Николая II ему было 35 лет, но он был еще не женат и оставался холостым до дня своей трагической гибели.
В юности он влюбился в свою двоюродную сестру – принцессу Викторию Баденскую. Но православная церковь не допускала брака между двоюродными братьями и сестрами, а Николай Михайлович не смел и думать о перемене конфессии и, оставаясь однолюбом, предпочел вечное одиночество браку без любви. А его возлюбленная вышла замуж за шведского принца Оскара Густава-Адольфа из династии Бернадотов, который с 1907 до 1950 года был королем Швеции под именем Густава V.
Что же касается Николая Михайловича, то он, оставаясь холостяком, жил, окруженный книгами, рукописями и ботаническими коллекциями, сохраняя в сердце верность своей единственной возлюбленной.
О Михаиле Михайловиче уже упоминалось в конце предыдущей главы в связи с его женитьбой на внучке Пушкина, которая, между прочим, спасла ему жизнь, так как он навсегда поселился в Англии и его миновала участь большинства Романовых, убитых в 1918—1919 годах.
Третий из «Михайловичей» – Георгий – был печальным исключением среди своих ближайших сородичей. Его положительные качества ограничивались лишь тем, что он довольно хорошо рисовал, зато во всем прочем вполне соответствовал расхожему стереотипу Великого князя, проводя жизнь в конюшне, на манеже и в казарме. В 1900 году он женился на греческой принцессе Марии Георгиевне, которая родила ему двух дочерей – Нину и Ксению.
Четвертый «Михайлович» – Сергей – сделал карьеру артиллерийского генерала – энергичного, умного, прекрасно образованного, – став в конце концов генерал-инспектором этого рода войск. На протяжении сорока лет он был одним из самых близких друзей Николая II.
Когда цесаревич Николай оставил Кшесинскую, ее высоким патроном стал Сергей Михайлович. Он безгранично любил ее и столь же беспредельно был верен ей, не зная, кроме «божественной Матильды», ни одной другой женщины. Сергей Михайлович сблизился с Кшесинской сразу же после того, как Николай с нею расстался. Причем это сближение произошло по прямой и недвусмысленной просьбе самого Николая. Впоследствии великая балерина писала о
Сергее Михайловиче: «Всем своим отношением он завоевал мое сердце, и я искренне его полюбила. Тем верным другом, каким он показал себя в эти дни, он остался на всю жизнь: и в счастливые годы, и в дни революции и испытаний». Однако сердце артистки безраздельно принадлежало Сергею Михайловичу лишь первые шесть лет. Немалую роль при этом играло и то, что Сергей Михайлович в 1894 году был избран первым президентом Российского Театрального общества, и это делало Кшесинскую некоронованной королевой русской сцены. Директор Императорских театров князь С. М. Волконский полностью зависел от капризов и прихотей всесильной фаворитки, и когда однажды дело дошло до конфликта между ними, то князю не осталось ничего другого, как подать в отставку.
Сергей Михайлович был смиренным рабом Матильды Феликсовны, послушно выполняя все ее причуды. Он купил для нее в Стрельне на берегу Финского залива в 20 верстах от Петербурга великолепную дачу, а в 1904 году начал строительство знаменитого особняка, получившего имя его хозяйки и по праву считающегося шедевром архитектуры в стиле «модерн». Особняк представлял собою настоящий дворец с анфиладой парадных залов и большим зимним садом, только на отопление которого уходило до двух тысяч рублей в зиму. Ситуация с постройкой особняка была не лишена известной пикантности, ибо происходила после того, как Матильда Феликсовна родила сына, но не от Сергея Михайловича, а от его двоюродного племянника Великого князя Андрея Владимировича, который был на семь лет младше балерины.
Она познакомилась с двадцатилетним Андреем Владимировичем 13 февраля 1900 года, в день своего артистического десятилетнего юбилея, на большом праздничном ужине, данном в ее честь. «Великий князь Андрей Владимирович произвел на меня сразу в этот первый вечер, что я с ним познакомилась, громадное впечатление: он был удивительно красив и очень застенчив, – писала впоследствии Кшесинская. – С этого дня в мое сердце закралось сразу чувство, которого я давно не испытывала. Мы все чаще и чаще стали встречаться, и наши чувства друг к другу скоро перешли в сильное взаимное влечение. Я влюблялась все больше и больше». Когда Кшесинская писала о «чувстве, которого давно не испытывала», она имела в виду свою любовь к цесаревичу Николаю. Его она любила всю жизнь и хотела назвать своего сына Николаем, но так как холодная расчетливость всегда брала у нее верх над чувствами, то и на этот раз победил разум, и она назвала мальчика Владимиром в честь его деда – Великого князя Владимира Александровича. Когда 23 июля 1902 года мальчика принесли в дворцовую церковь на крестины, Владимир Александрович необычайно растрогался, заметив, что внук сильно похож на него. Он подарил ребенку крестик из темно-зеленого александрита на платиновой цепочке – свой родовой камень, который был открыт в день рождения Александра II и назван в его честь. А Владимир Александрович был сыном царя-освободителя. Сыну Кшесинской дали фамилию Красинского, чей графский польский род дал начало роду Кшесинских.
Своеобразие создавшейся ситуации состояло в том, что Матильда Феликсовна продолжала жить с Сергеем Михайловичем, сохраняя в тайне роман с его молодым племянником. Однако, оказавшись в положении, она должна была признаться в своей связи с Андреем Владимировичем. «У меня был тяжелый разговор с Великим князем Сергеем Михайловичем, – писала Кшесинская. – Он отлично знал, что не он отец моего ребенка, но он настолько меня любил и так был привязан ко мне, что простил меня и решился, несмотря на все, остаться при мне и ограждать меня, как добрый друг. Он боялся за мое будущее, за то, что может меня ожидать… Я так обожала Андрея, что не отдавала себе отчета, как я виновата была перед Сергеем Михайловичем». Любовь Сергея Михайловича к Матильде воистину не знала предела. Он не только простил ей роман со своим племянником, но и искренне полюбил ее сына, посвящая ему все свои досуги.
О том, что произошло со всеми нашими героями дальше, будет рассказано в свое время.
Самый младший из «Михайловичей» – Алексей – умер в 1895 году от туберкулеза, когда ему было всего 20 лет.
* * *
Автор «Книги воспоминаний», не раз цитируемой в этой главе, Великий князь Александр Михайлович после женитьбы на дочери Александра III Ксении не успел провести медовый месяц на южном берегу Крыма – умер Александр III, и молодожены вернулись в Петербург вместе с прахом императора. А после свадьбы Николая II и Александры Федоровны две пары молодоженов очень сдружились, и даже их спальни в Аничковом дворце располагались в смежных комнатах. Потом они вместе переехали в Зимний дворец, летом, не разлучаясь, жили то в Гатчине, то в Петергофе, а осенью то в Абас-Тумане, рядом с больным Георгием, то в Крыму.
В 1896 году Александр Михайлович написал по просьбе Николая II докладную записку о положении дел в русском военно-морском флоте, беспощадно раскритиковав дядю – Великого князя, генерал-адмирала Алексея Александровича и морского министра адмирала Н. М. Чихачева. Эту записку, размножив тиражом в сто экземпляров, разослали всем морским начальникам высшего ранга, которые стали свидетелями неслыханного скандала, когда капитан второго ранга подвергает публичному разносу главнокомандующего флотом и морского министра.
Оба адмирала на следующий же день потребовали от автора записки официальных извинений, грозясь в противном случае подать в отставку, а критикана, даже если он и извинится, отправить на Тихий океан командовать броненосцем «Император Николай I». Александр Михайлович от извинения отказался и был уволен в отставку. А Николай II не поддержал его, сказав, что для него превыше всего поддержание дисциплины, соблюдение субординации и сохранение мира в семье.
Кто более всех радовался такой перемене в судьбе Александра Михайловича, так это его жена Ксения, которой ничуть не улыбалось одиночество, тем более что у нее еще в июле 1895 года родилась первая дочь – Ирина, а в 1896 году она была снова беременна. Даже среди весьма плодовитых своих родственниц Ксения Александровна едва ли не была рекордсменкой: с 1895 до 1902 года, за семь лет, она родила дочь и пятерых сыновей – Андрея, Федора, Никиту, Дмитрия и Ростислава. Дети росли в Крыму, где Александр Михайлович из образцового морского офицера превратился в преуспевающего фермера, работавшего в розарии, на виноградниках, в садах, прикупавшего все новые и новые земли вокруг его имения Ай-Тодор. Самыми частыми гостями счастливых супругов были царь и царица, жившие в соседней Ливадии, и княгиня Зинаида Юсупова, навещавшая их вместе со своим десятилетним красавцем-сыном Феликсом Юсуповым. Кто мог знать тогда, что пройдет 18 лет и крохотная девочка Ирина станет его женой?
Так прошло три безмятежных года, а в 1899 году генерал-адмирал сменил гнев на милость и возвратил «кавказского мятежника», как называл он своего племянника – правдолюбца и бунтаря, – на службу во флоте. В 34 году Александр Михайлович стал капитаном первого ранга и командиром броненосца Черноморского флота «Ростислав», а еще через два года император назначил его начальником Главного управления торгового мореплавания в ранге министра и, присвоив Александру Михайловичу чин контр-адмирала, ввел его в Совет Министров, где он оказался самым молодым членом правительства.
* * *
В императорской семье Романовых было еще три ветви. Первая шла от дочери Николая I, Великой княгини Марии Николаевны, и ее мужа, герцога Максимилиана Лейхтенбергского; вторая – от герцога Ольденбургского Петра Георгиевича, женившегося на дочери императора Павла – Екатерине; и третья – от брака Великой княгини Екатерины Николаевны с герцогом Мекленбург-Стрелицким.
О герцоге Максимилиане Лейхтенбергском и его жене подробно говорилось в главе, посвященной Николаю I, теперь же расскажем об их детях – Евгении, Николае и Георгии. Евгений более всего был знаменит благодаря совершенно необыкновенной, воистину сказочной красоте его жены Зинаиды Дмитриевны Скобелевой, родной сестры знаменитого полководца. Выйдя замуж за герцога Евгения Лейхтенбергского, она получила титул графини Богарнэ. Великий князь Александр Михайлович писал о ней так: «Когда я упоминаю ее имя, я отдаю себе отчет в полной невозможности описать физические качества этой удивительной женщины. Я никогда не видел подобной ей во время всех моих путешествий по Европе, Азии, Америке и Австралии, что является большим счастьем, так как такие женщины не должны часто попадаться на глаза. Когда она входила, я не мог оставаться с нею в одной комнате. Я знал ее манеру подходить в разговоре очень близко к людям, и я сознавал, что в ее обществе я становлюсь не ответственным за свои поступки. Все молодые Великие князья мне в этом отношении вполне сочувствовали, так как каждый страдал при виде ее так же, как и я. Находясь в обществе очаровательной Зины, единственное, что оставалось сделать – это ее обнять, предоставив церемониймейстеру делать, что угодно, но мы, молодежь, никогда не могли собраться с духом, чтобы решиться на этот единственный логический поступок. Дело осложнялось тем, что Великий князь Алексей Александрович был неразлучным спутником четы Лейхтенбергских, и его любовь к герцогине уже давно была предметом скандала. В обществе эту троицу называли „царственный любовный треугольник“, и все усилия императора Николая II воздействовать на своего темпераментного дядю не имели никакого успеха. Я полагаю, что Великий князь Алексей пожертвовал бы всем русским флотом, только бы его не разлучали с Зиной». К великому огорчению, Зина умерла молодой от внезапной короткой болезни. Два брата герцога Евгения – Николай и Георгий – из-за слабого здоровья почти постоянно жили в Париже и потому имели в Санкт-Петербурге самое малое влияние.
Столь же малое влияние оказывали и принцы Мекленбург-Стрелицкие – Георгий и Михаил, так как детство и юность они провели в Германии, а в Россию приехали лишь после окончания немецких университетов.
Что же касается герцога Ольденбургского Петра Георгиевича, то он выдал свою старшую дочь за Великого князя Николая Николаевича Старшего и она стала Великой княгиней Александрой Петровной. Перед тем как обвенчаться, она приняла православие и стала столь ревностной поклонницей новой религии, что закончила свою жизнь монахиней. Она и умерла в монастыре в 1900 году, 62 лет.
Брат Александры Петровны – герцог Александр Петрович Ольденбургский – был командиром Гвардейского корпуса и отличался необыкновенной строгостью. Вместе с тем, он с глубочайшим уважением относился к ученым и к наукам вообще, субсидируя множество полезных начинаний, экспедиций, щедро помогая молодым талантам. О Петре Ольденбургском, муже родной сестры Николая II Ольги, мы уже упоминали.
Вот, пожалуй, и все Романовы, о которых следовало упомянуть, отвечая на вопрос, кто правил Россией на рубеже двух веков – XIX и XX. А в заключение этого раздела расскажем и о самих царе, царице и их пятерых детях – Ольге, Татьяне, Марии, Анастасии и появившемся в 1904 году, к несказанной радости родителей, их последыше – цесаревиче Алексее.
Александра Федоровна впервые забеременела в начале 1895 года. Молодые супруги с нетерпением ждали первенца и решили, что если будет мальчик, то его назовут Павлом, а если девочка, то – Ольгой. И вот 3 ноября в Царском Селе родилась девочка. «Вечно памятный для меня день, в течение которого я много, много выстрадал, – записал Николай. – Еще в час ночи у милой Аликс начались боли, которые не давали ей спать. Весь день она пролежала в кровати в сильных мучениях – бедная! Я не мог равнодушно смотреть на нее. Около 2 часов дорогая Мама приехала из Гатчины; втроем с ней и Эллой находились неотступно при Аликс. В 9 часов ровно услышали детский писк, и все мы вздохнули свободно! Богом нам посланную дочку при молитве мы назвали Ольгой. Когда все волнения прошли и ужасы кончились, началось просто блаженное состояние при сознании о случившемся! Слава Богу, Аликс пережила рождение хорошо и чувствовала себя бодрою».
После рождения Ольги у Николая и Александры Федоровны появились на свет еще три дочери: 29 мая 1897 года – Татьяна, 14 июня 1899 года – Мария и 5 июня 1901 года – Анастасия. Родители радовались девочкам, но с каждой новой дочерью им все больше хотелось мальчика – наследника трона. Изверившись в возможностях медицины, склонная к мистицизму Александра Федоровна все свое упование перенесла на оккультные силы. Когда в сентябре 1901 года царская чета еще раз оказалась в Париже, им был представлен маг и чародей, магистр оккультных наук месье Филипп, к услугам которого при лечении своего сына Романа прибегала Великая княгиня Милица Черногорская. Месье Филипп, прослывший магнетизером и шарлатаном, не имел медицинского образования, и тем не менее Николай дал ему чин действительного статского советника, что соответствовало генерал-майору, и зачислил его военным врачом. Месье Филипп производил на своих августейших пациентов самое благотворное влияние, всемерно успокаивая царя и царицу и внушая им, что все у них будет хорошо.
Одновременно во дворцах появляется косноязычный юродивый Митя Козельский, отчетливо произносивший лишь два слова: «папа» и «мама», и именно с этих пор в интимном кругу Романовых так стали называть царя и царицу. На смену Мите отыскивают и привозят припадочную прорицательницу Дарью Осипову, и рядом с ними мирно уживается еще одна надежда августейших родителей – авторитетнейший иерарх русской православной церкви – отец Иоанн Кронштадтский. Священник одерживает победу и склоняет императрицу поверить в чудодейственную силу Серафима Саровского – пророка, чудотворца и целителя, умершего семьдесят лет назад неподалеку от Арзамаса в Саровской пустыни и похороненного в Дивеевском монастыре.
В середине июля 1903 года Николай II и Александра Федоровна приехали в Саров. Трое суток молились они днем и ночью, прося чудотворца молиться за них перед престолом Всевышнего о даровании им сына. Особенно глубоко прониклась верой в святого Серафима императрица. Ей казалось, что он – рядом с ними, она даже слышала голос святого.
Уезжая из Сарова в Петербург, Александра Федоровна решила, что отныне небесным покровителем ее семьи будет святой старец Серафим. Приехав в Петербург, царица продолжала молиться о даровании ей сына и под Новый, 1904 год почувствовала, что она опять в положении. На сей раз никаких сомнений у нее не было – это, конечно, мальчик.
* * *
30 июля 1904 года в жизни царской семьи произошло событие, которого они ожидали десять лет – в четверть второго дня Александра Федоровна родила сына. Николай II в этот день оставил такую запись: «Незабвенный, великий день для нас, в который так явно посетила нас милость Божья. В 1 1/4 дня у Аликс родился сын, которого при молитве нарекли Алексеем… Нет слов, чтобы суметь отблагодарить Бога за ниспосланное Им утешение в эту годину трудных испытаний! Дорогая Аликс чувствовала себя очень хорошо. Мама приехала в 2 часа и долго просидела со мною, до первого свидания с новым внуком. В 5 часов поехал к молебну с детьми».
Однако радость отца и матери была безоблачной всего лишь полтора месяца: висевший над ними дамоклов меч дурной наследственности вскоре упал. Через шесть недель после рождения наследника Николай записал в дневнике: «8-го сентября. Среда…Аликс и я были очень обеспокоены кровотечением у маленького Алексея, которое продолжалось до вечера из пуповины! Пришлось выписать Коровина (лейб-медик, приставленный к Ольге. – В. Б.) и хирурга Федорова (лейб-хирург, профессор Военно-медицинской академии. – В. Б.); около 7 часов они наложили повязку. Маленький был удивительно спокоен и весел! Как тяжело переживать такие минуты беспокойства!… 9-го сентября. Четверг. Утром опять была на повязке кровь; с 12 часов до вечера ничего не было. Маленький спокойно провел день, почти не плакал и успокаивал нас своим здоровым видом».
Это был первый приступ гемофилии – роковой наследственной болезни гессенских герцогов, от которой в семье Александры Федоровны во многих поколениях многократно умирали ее мужские представители.
Но если судьба династии герцогов Гессен-Дармштадтских и была от этого непредсказуемой, то судьба династии Романовых становилась фатальной: по закону о престолонаследии царские дочери не имели права на трон, и будущее государства становилось весьма неопределенным. Николай с самого начала хорошо понимал это.
Автор одного из самых капитальных трудов по истории русской революции сэр Бернард Пэйрс писал в своей книге «Падение русской монархии», что 30 июля 1904 года произошло событие, которое более, чем что-либо иное, определило весь позднейший курс российской истории. Пэйрс имел в виду не только рождение наследника, но прежде всего его ужасную болезнь. Вторя ему, Великий князь Александр Михайлович утверждал: «Он (Николай II) потерял во все веру. Хорошие и дурные вести имели на него одинаковое действие: он оставался безразличным. Единственной целью его жизни было здоровье его сына. Французы нашли бы, что Николай II представлял собою тип человека, который страдал от его добродетелей, ибо государь обладал всеми качествами, которые были ценны для простого гражданина, но которые явились роковыми для монарха… Не его вина была в том, что рок превращал его хорошие качества в смертоносные орудия разрушения. Он никогда не мог понять, что правитель страны должен подавить в себе чисто человеческие чувства».
А американский биограф семьи Николая Роберт Мэсси, автор великолепной книги «Николай и Александра», возводил болезнь наследника в ранг судьбоносных факторов в истории XX века. Мэсси писал: «Это была ужасная гримаса Судьбы: счастливое рождение единственного сына оказалось смертельным ударом. Уже когда гремели салютующие пушки и развевались флаги, Судьба готовила ужасный сюжет. Вместе с проигранными битвами и потопленными кораблями, вместе с бомбами, революционерами и их заговорами, забастовками и бунтами царская Россия погибла от небольшого дефекта в организме маленького мальчика».
Последние события, описанные в этом разделе, относятся ко второй половине 1904 года. А это – та хронологическая граница, которую автор установил в своем повествовании для окончания первого периода царствования Николая II – 1894—1904 года.
Второй период его правления охватывает время с 1905 года до начала Первой мировой войны – лета 1914 года. Конечно же, Первая мировая война началась не на пустом месте – ей предшествовали определенные события, как внешнеполитические, так и внутренние дела России.
Изложим же ход событий, отметив самые важные из них хотя бы конспективно.
Россия и мир в 1896—1904 годах: Главные события
28 мая 1896 года в Нижнем Новгороде на левом берегу Оки открылась самая большая в истории России выставка, призванная продемонстрировать, по словам председателя ее организационного комитета, министра финансов С. Ю. Витте, «итоги того духовного и хозяйственного роста, которого достигло ныне наше Отечество со времени Московской выставки 1882 года».
Говоря о главных достижениях России в газете «Новое время» за последние 14 лет, Д. И. Менделеев в номере от 5 июля 1896 года привел такие цифры: за эти годы длина железных дорог увеличилась с 22 500 до 40 000 верст; добыча каменного угля с 230 до 500 миллионов пудов, нефти – с 50 до 350 миллионов, выплавка чугуна – с 28 до 75 миллионов.
Николай и Александра Федоровна приехали на выставку 17 июля и пробыли в Нижнем четыре дня. Осмотр выставки убедил императора в том, что Россия уверенно крепнет и выходит в первую пятерку наиболее развитых держав мира.
С этим ощущением царь и царица отправились в первое после коронации путешествие в Европу.
Царская чета проследовала через Киев в Бреслау и Герлиц, где проходили большие маневры германской армии.
Там произошла первая встреча двух последних императоров Германии и России Вильгельма II и Николая II. Уже тогда Вильгельм намеревался сделать своего кузена союзником, но Николай понимал, что это недопустимо, ибо впереди его ждал Париж, и его союзники находились именно там.
Раймон Пуанкаре, блистательный депутат парламента, произнося речь накануне прибытия во Францию русских монархов перед торгово-промышленными и финансовыми тузами страны, сказал: «Предстоящий приезд могущественного монарха, миролюбивого союзника Франции… покажет Европе, что Франция вышла из своей долгой изолированности и что она достойна дружбы и уважения». Французы готовились к приезду Николая, ненамного уступая в этом жителям России, когда ожидался приезд царя в ту или иную область.
Железнодорожные билеты в Париж ко дням торжества стоили всего 25 % против обычной цены; занятия в школах были отменены на неделю. Для тех, кто хотел наблюдать за проездом царской четы от вокзала Пасси до здания русского посольства на улице Гренель, владельцы домов сдавали места у окон, причем одно окно стоило 5000 франков.
23 сентября Николай и Александра Федоровна прибыли на пароходе, их встретил президент республики Феликс Фор. Восторг и искренняя любовь парижан к царю и России были совершенно неописуемыми и порой не поддавались объяснению – дело дошло до того, что во время богослужения в соборе Парижской Богоматери органист вдруг заиграл русский гимн.
Не желая раздражать «кузена Вилли», Николай почти все время осматривал достопримечательности великого города, всемерно воздерживаясь от политических речей. Царь и царица побывали в парламенте, в Большой опере, в соборе Парижской Богоматери, в Пантеоне, в Доме инвалидов, на могиле Наполеона, во Французской академии, в театре «Комеди Франсэз», на фарфоровой Севрской мануфактуре, на Монетном дворе и в Версале. В последний, пятый, день пребывания в Париже царская чета уехала в Шалон, где в их честь состоялся большой военный парад. Здесь Николай уже не мог молчать и на банкете, данном офицерами и генералами Франции, сказал: «Франция может гордиться своей армией… Наши страны связаны несокрушимой дружбой. Существует также между нашими армиями глубокое чувство братства и по оружию».
После этого царь и царица уехали на три недели в Дармштадт, к родителям Александры Федоровны. А в Париже долго еще вспоминали об этом визите, так как он, по всеобщему признанию, способствовал тому, что Франция вышла из оцепенения, в котором находилась четверть века после разгрома во франко-прусской войне, и снова почувствовала себя могучей и великой державой.
* * *
Возвратившись из Дармштадта в Петербург, Николай узнал, что за время его отсутствия развернулось и организовалось социалистическое движение, руководимое в столице петербургским «Союзом борьбы за освобождение рабочего класса», во главе которого стоял брат казненного Александра Ульянова – Владимир – с небольшой группой своих родственников и товарищей.
Царю докладывали, что Владимир Ульянов фанатично ненавидит дом Романовых и будет мстить династии за казнь своего брата. В это время одним из главных экономических требований руководимых социалистами рабочих было установление восьмичасового рабочего дня и обязательных ежегодных отпусков. Понимая законность этих требований, царская администрация пошла навстречу рабочим, и 2 июня 1897 года был издан закон, установивший шестьдесят шесть обязательных праздничных дней, а что касается праздников местных, то объявление их рабочими или нерабочими днями закон предоставил на усмотрение заводчиков и фабрикантов.
К этому же времени рабочий день снизили до десяти часов, и только наиболее отсталые рабочие соглашались трудиться до двенадцати часов в смену за мизерные сверхурочные надбавки.
Таким образом, борьба за восьмичасовой рабочий день и дополнительные дни отдыха отступила на второй план. Бурное экономическое развитие России продолжалось. Этому способствовало введение государственной винной монополии, когда все доходы от продажи алкоголя шли в казну; этому способствовало установление твердого курса рубля, получившего золотую основу; этому способствовали энергичное железнодорожное строительство, резкий рост флота, как торгового, так и военного, создание множества новых заводов и фабрик. При всей привлекательности такого хода развития возник опасный крен, при котором за бортом народнохозяйственного корабля оказалась деревня, пережившая к тому же два неурожайных года подряд – 1898-й и 1899-й.
Во внешней политике Николай II предложил всем странам всеобщее разоружение и всеобщий вечный мир, но собравшиеся на Всемирную конференцию в Гааге европейские политики боялись подвоха, подозревая друг друга в коварстве, которое приведет к ослаблению их военной мощи, да и другие страны – США, Япония – довольно прохладно отнеслись к этим предложениям, хотя три конвенции о мире были все же приняты.
Однако центр тяжести своей внешней политики царь перемещает на Восток.
Военный министр, генерал от инфантерии Алексей Николаевич Куропаткин записал в своем дневнике, что в голове у Николая II сформировался глобальный план захватить Маньчжурию, Корею и Тибет, а затем Иран, Босфор и Дарданеллы. Первым шагом в этом направлении стало создание русской лесной концессии на реке Ялу, в Корее. Инициатором ее создания стал полковник Александр Михайлович Безобразов, служивший в Восточной Сибири. В 1901 году, опираясь на поддержку статс-секретаря, а в скором будущем министра внутренних дел В. К. Плеве, князя Ф. Ф. Юсупова, князя И. И. Воронцова и группы крупных предпринимателей, он создал «Русское лесопромышленное товарищество», получив государственную субсидию в два миллиона рублей. Эта компания дельцов-авантюристов, получившая по фамилии ее руководителя название «Безобразовской клики», стала проводить откровенно агрессивную политику по отношению к Японии, что через три года привело к войне между двумя странами.
Безобразовское лобби в Петербурге добилось отставки своего главного противника – министра финансов С. Ю. Витте, окончательно развязав себе руки. Клика исходила из того, что маленькая победоносная война крайне необходима России для укрепления ее внутреннего положения. О том, что война с Японией не может быть иной, ни у одного из русских политиков не вызывало ни малейшего сомнения.
Японцы, зная это, стали усиленно готовиться к войне, ставшей к началу 1904 года неизбежной, и в конце января 1904 года нанесли внезапный удар по русской эскадре, стоявшей на внешнем рейде Порт-Артура. Война началась.
* * *
В ночь на 27 января десять японских эсминцев внезапно напали на внешний рейд Порт-Артура и торпедировали два лучших русских броненосца – «Цесаревич» и «Ретвизан» – и крейсер «Паллада». Причем «Ретвизан» не потонул только потому, что сел на мель.
Поврежденные корабли – кроме «Ретвизана», который сняли с мели через месяц, – отвели на внутренний рейд, а японские эсминцы ушли восвояси. На следующее утро перед городом появилась большая японская эскадра, но русский флот, уже оправившийся от первого удара, вышел в море и с помощью береговых батарей отогнал ее. В этот же день 6 японских крейсеров и 8 миноносцев напали в корейском порту Чемульпо (ныне Инчхон) на крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец». Чтобы не допустить захвата кораблей, экипажи взорвали «Кореец» и затопили «Варяг».
Наместник на Дальнем Востоке, адмирал Е. И. Алексеев 28 января был назначен Главнокомандующим всеми морскими и сухопутными силами России на Дальнем Востоке, сохранив за сбой пост наместника.
7 февраля в Порт-Артур приехал Куропаткин, назначенный командующим сухопутными силами на Дальнем Востоке. Алексеев и Куропаткин сразу же стали непримиримыми антагонистами. Алексеев предлагал немедленное наступление в Маньчжурии, Куропаткин – отступление с целью консолидации русских сухопутных сил.
Алексеев и Куропаткин отдавали противоречащие друг другу приказы и мешали генералам действовать правильно.
Командующим флотом был выдающийся флотоводец, вице-адмирал Степан Осипович Макаров, но он погиб 31 марта 1904 года, подорвавшись на мине и утонув вместе с броненосцем «Петропавловск».
31 марта Николай II записал в дневнике: «Утром пришло тяжелое и невыразимо грустное известие о том, что при возвращении нашей эскадры к Порт-Артуру броненосец „Петропавловск“ наткнулся на мину, взорвался и затонул, причем погибли – адмирал Макаров, большинство офицеров и команды. Кирилл легкораненый (Кирилл Владимирович, Великий князь, двоюродный брат Николая II. – В. Б.), Яковлев – командир, несколько офицеров и матросов – все раненные – были спасены. Целый день не мог опомниться от этого ужасного несчастья».
8 Манчжурии был еще один Романов – еще один «Владимирович» – Великий князь Борис, тоже вернувшийся с войны живым, но сама царская семья жила в страхе за их жизни, война в Маньчжурии не была для них абстракцией, и они могли каждый день ожидать сообщения о других «ужасных несчастьях».
И такие сообщения не заставили себя долго ждать: 18 апреля на реке Ялу японцы разбили отряд генерала Засулича, нанеся первое крупное поражение русским войскам на суше.
Вслед за тем беспрепятственно высадившаяся 2-я японская армия перерезала железную дорогу на Порт-Артур и в середине мая заняла город Дальний (ныне Далянь), полностью блокировав Порт-Артур с суши. Для его деблокады Николай II приказал двинуть на выручку Порт-Артуру 1-й Сибирский корпус генерал-лейтенанта Штакельберга, но в двухдневном бою под Вафангоу – 1 – 2 июля – он был разбит. Еще более серьезное поражение потерпели войска Куропаткина в Ляоянском сражении, длившемся десять дней – с 11 по 21 августа, в котором с обеих сторон действовало около 300 тысяч солдат и офицеров с небольшим перевесом сил у русских в пехоте и кавалерии и со значительным – в артиллерии. И все же из-за необоснованных отходов, плохой разведки, неиспользования в бою части сил и преувеличения сил противника русские снова отступили и перешли к обороне.
К 13 октября русские войска были переформированы, составив три отдельные армии, и заняли позиции на реке Шахэ, образовав почти сплошной фронт длиной в сто километров.
22 октября 1904 года, после проигрыша сражения при Шахэ, Алексеев сдал полномочия Главнокомандующего Куропаткину и вскоре был отозван в Петербург, удовольствовавшись там местом члена Государственного Совета.
В результате всех этих операций, основная масса русских войск отступила далеко на север от Порт-Артура, оставив крепость один на один с превосходящими силами японцев и на суше, и на море.
* * *
После нападения на Порт-Артур, гибели С. О. Макарова, высадки 2-й японской армии и поражения 1-го Сибирского корпуса Штакельберга крепость оказалась блокированной и с моря, и с суши. Ее оборону возглавлял генерал-лейтенант A. M. Стессель – самовлюбленный, невежественный, упрямый и лживый.
17 июля японцы вышли к главной линии обороны крепости и через неделю начали ее обстрел. К концу ноября японцы после исключительно тяжелых боев, длившихся около четырех месяцев, захватили господствовавшие над городом высоты и начали вести прицельный огонь по остаткам порт-артурской эскадры и уже полуразрушенным укреплениям крепости.
Душой обороны крепости и виновником того, что Порт-Артур продержался почти год, был генерал-лейтенант инженерных войск Р. И. Кондратенко. Под его руководством за очень короткий срок была модернизирована система укреплений крепости и отбиты четыре штурма неприятеля. Он тоже погиб, но это случилось в самом конце обороны – 2 декабря 1904 года.
16 декабря Стессель собрал Военный совет, на котором было постановлено: сражаться дальше. Однако, нарушив устав и проигнорировав мнение Военного совета, командующий через четыре дня своей властью подписал капитуляцию. 21 декабря к Николаю, находившемуся в очередной инспекционной поездке по западным военным округам, пришло сообщение о случившемся.
«Получил ночью потрясающее известие от Стесселя о сдаче Порт-Артура японцам ввиду громадных потерь и болезненности среди гарнизона и полного израсходования снарядов! – записал царь в дневнике. – Тяжело и больно, хотя оно и предвиделось, но хотелось верить, что армия выручит крепость. Защитники все герои и сделали более того, что можно было предполагать».
Россия воздала и героям, и трусам. Прах генерала Кондратенко был перевезен в Петербург и с воинскими почестями захоронен в Александро-Невской лавре. А генерала Стесселя в 1907 году отдали под военный суд, который признал его главным виновником сдачи крепости и приговорил к расстрелу. Правда, сердобольный царь заменил смертную казнь десятилетним тюремным заключением, а в 1909 году и вовсе помиловал его.
Война не закончилась с падением Порт-Артура. После взятия крепости японцы значительно улучшили свое положение, ибо смогли усилиться в Маньчжурии за счет войск, высвободившихся на Ляодунском полуострове. Не теряя времени, японцы перешли в наступление под Мукденом и во второй половине февраля 1905 года снова разбили русских, потерявших 89 тысяч солдат и офицеров, заставив отступить на 160 километров. Главные силы Куропаткина остановились на Сыпингайских позициях и оставались на них до конца войны.
28 февраля Николай II собрал совещание, на котором было решено заменить Куропаткина генералом от инфантерии Н. П. Маневичем, занимавшим должность командующего 1-й армией. Перемена главнокомандующих ничего не изменила в ходе войны на суше, а ее центр переместился на море.
Первый удар в этой войне японцы нанесли по русскому флоту и во все дальнейшее время систематически били его разрозненные эскадры и отряды, рассредоточенные в разных портах – Владивостоке, Порт-Артуре, Дальнем, Чемульпо. Блокировав главные силы Тихоокеанского флота в Порт-Артуре – 7 броненосцев, 9 крейсеров, 27 миноносцев и 4 канонерские лодки, – японцы сразу же стали полновластными хозяевами морских коммуникаций.
После падения Порт-Артура японцы уничтожили остатки 1-й Тихоокеанской эскадры и стали ждать появления еще двух русских эскадр – 2-й и 3-й, – которые шли в Тихий океан из портов Балтики. Они соединились 9 мая 1905 года и 27 мая вступили в бой с главными силами японского флота в Корейском проливе, у острова Цусима. В результате сражения, длившегося около двух суток, японцы одержали полную победу, утопив и взяв в плен почти весь русский Тихоокеанский флот.
7 июня 1905 года царь получил письмо от Президента США Теодора Рузвельта, предлагавшего свое посредничество в урегулировании конфликта между Россией и Японией.
8 июле-августе 1905 года в американском порту Портсмуте прошла конференция, завершившаяся подписанием договора, по которому Порт-Артур, Дальний, южная часть Сахалина и Южно-Маньчжурская железная дорога переходили к Японии.
* * *
Теперь познакомимся с некоторыми вопросами российской внутренней политики этого периода.
В конце 1901 – начале 1902 годов произошло объединение разрозненных народовольческих организаций, называвших себя теперь «социалистами-революционерами» и существовавших нелегально и в России, и за границей. В Берне, благодаря усилиям супругов Житловских, обосновалось руководство «Заграничного союза социалистов-революционеров», члены которого жили во многих странах Европы и Америки. В России до объединения существовало несколько не имевших единого центра, но все же связанных между собою организаций – «Южная партия социалистов-революционеров», «Северный Союз социалистов-революционеров», «Аграрно-социалистическая лига» и еще несколько более мелких (в аббревиатуре их члены именовали себя «эсерами»). Считая себя носителями традиций «Народной воли», члены этих организаций исповедовали и индивидуальный террор.
Первый выстрел, прозвучавший после долгого перерыва 14 февраля 1901 года, был направлен в министра народного просвещения, профессора римского права Н. П. Боголепова. Его смертельно ранил эсер Петр Карпович, двадцатисемилетний нигилист, недоучившийся студент, тот социальный элемент, о котором виленский генерал-губернатор князь П. Д. Святополк-Мирский сказал так: «В последние три-четыре года из добродушного русского парня выработался своеобразный тип полуграмотного интеллигента, почитающего своим долгом отрицать семью и религию, пренебрегать законом, не повиноваться власти и глумиться над ней». Боголепов умер 2 марта, а Карповича приговорили к 20 годам каторги, но уже в 1907 году он был переведен на поселение, откуда благополучно бежал за границу и, вскоре нелегально вернувшись в Россию, тотчас же принялся за прежнее дело – подготовку террористических актов.
После убийства Боголепова эсеры поняли, что эпоха смертных казней отошла в прошлое, и вплотную занялись созданием партии. Инициатором этого стал руководитель московской эсеровской партии А. А. Аргунов. Однажды у него на квартире появился приехавший из-за границы эсер Евно Азеф, пользовавшийся репутацией честного и стойкого революционера, на самом же деле – агент московского Охранного отделения. Полностью доверяя Азефу, Аргунов вскоре узнал, что его новый товарищ уезжает за границу, и тут же вручил ему все адреса, явки, пароли, фамилии и отрекомендовал Азефа с самой лучшей стороны, как представителя эсеров-москвичей. Одновременно поехал за границу с той же целью представитель эсеров-южан и северян Григорий Гершуни. Встретившись, Азеф и Гершуни быстро обо всем договорились и в дальнейших переговорах – в Берлине, Берне и Париже – держались вместе и выступали заодно.
Временным центром партии был объявлен Саратов, где находилась старая народоволка Е. К. Брешко-Брешковская, родившаяся в 1844 году, названная впоследствии «бабушкой русской революции», а главный печатный орган, газету «Революционная Россия», решено было выпускать в Швейцарии. Ее редакторами стали М. Р. Гоц и В. М. Чернов. Эти люди составили руководящее ядро новой партии, и Азеф оказался тесно связанным с каждым из них. (Может показаться излишним столь немалый перечень эсеров – основателей партии, однако здесь перечисляются только те, кто сыграет впоследствии важную роль в революции и в гибели династии Романовых.)
В конце января 1902 года Гершуни отправился в Россию для того, чтобы объехать все организации и договориться об их участии в предстоящем учредительном съезде. Разумеется, Азеф еще до его выезда уведомил Департамент полиции и о сроках, и о маршруте его поездки, решительно настаивая, чтобы жандармы ни в коем случае не арестовывали его, но неотступно следили за всеми, с кем он станет встречаться. Жандармы так и сделали и в конце поездки Гершуни надеялись досконально выявить весь будущий актив партии. Однако Гершуни с самого начала заметил слежку и ловко ушел от преследователей.
Первое, чем он занялся, стала подготовка покушения на министра внутренних дел Д. С. Сипягина. На это убийство вызвался киевский студент Степан Балмашев. В случае, если бы Сипягина убить не удалось, следующей его жертвой должен был стать Победоносцев. Приготовления к теракту велись в Финляндии. 2 апреля 1902 года Балмашев, одетый в форму офицера, приехал в Петербург и направился в Мариинский дворец, где вскоре должен был собраться Государственный Совет. Отрекомендовавшись адъютантом Великого князя Сергея Александровича, он был пропущен в приемную Сипягина, и когда тот вошел, Балмашев вручил ему конверт, в котором будто бы находилось письмо от Сергея Александровича, – на самом же деле там был приговор министру. И как только Сипягин разорвал конверт, Балмашев двумя выстрелами в упор сразил его.
По распоряжению Николая II Балмашева судил военный трибунал, а это означало, что его ждет смерть, ибо гражданские суды к смерти приговаривать не могли: потому-то Карпович и отделался каторгой.
Балмашева приговорили к повешению, и 3 мая в Шлиссельбурге он был казнен. Это была первая политическая казнь в царствование Николая II.
На место Сипягина уже через два дня после его смерти был назначен статс-секретарь по делам Финляндии, сторонник крутых мер в борьбе с терроризмом Вячеслав Константинович Плеве – сын калужского аптекаря, выучившийся на медные деньги в университете и в душе глубоко презиравший аристократию.
Плеве поставил перед собой задачу централизовать государственный аппарат, отождествляя степень централизации с мощью государства. Своими главными противниками он считал революционеров и земства, а затем и самого С. Ю. Витте, после того как в августе 1903 года Сергей Юльевич стал председателем Совета Министров.
Созданной эсерами Боевой организацией, чьим прототипом был Исполнительный комитет «Народной воли», с самого начала руководил Гершуни, полный самых смелых планов. После убийства Сипягина Гершуни стал готовить покушение на Плеве, параллельно прорабатывая и покушение на уфимского губернатора Н. М. Богдановича, виновного в расстреле рабочих-стачечников в Златоусте 13 марта 1903 года, и уже 6 мая, когда Богданович прогуливался в одной из укромных аллей Соборного сада, к нему подошли два молодых человека и, вручив ему приговор Боевой организации, расстреляли его из браунингов и скрылись. Поиски их оказались безрезультатными.
А вот Гершуни не повезло: по дороге из Уфы в Киев он был арестован, немедленно препровожден в Петербург и отдан под трибунал, который и приговорил его к смерти, однако по кассации смерть заменили ему вечной каторгой, после чего он повторил то, что сделал до него Карпович, – осенью 1906 года он бежал из Акатуйской тюрьмы и через Китай и США добрался до Европы. Правда, жить ему оставалось недолго – в 1908 году он умер в Цюрихе.
Главным же во всей истории с Гершуни было то, что на его месте во главе Боевой организации эсеров оказался Евно Азеф.
Когда он «принял дела», – а главным из них была подготовка убийства Плеве, – Россия переживала и негодовала из-за недавно произошедших в Кишиневе кровавых и широкомасштабных еврейских погромов, главным виновником и даже организатором которых называли Плеве. И, таким образом, убийство Плеве становилось не просто очередной задачей, но актуальной политической необходимостью. К тому же не следует забывать, что Азеф был евреем.
После долгой и тщательной подготовки покушение было назначено на 31 марта 1903 года, но потом перенесено на 14 апреля, а в ночь перед этим самым днем на собственной бомбе подорвался один из террористов – Покотилов. И, наконец, только 15 июля Плеве был убит.
Два года пожаров и крови: революция на подъеме
Террористическими эксцессами сотрясалась Россия в годы, предшествовавшие русско-японской войне. Но гораздо более серьезными, хотя и не столь романтическими, были дела другой радикальной партии – РСДРП, которая в эти же годы расшатывала Россию не индивидуальным террором, а планомерной организационной и пропагандистской работой, по далеко идущей программе, ставящей целью свержение самодержавия и установление своей собственной диктатуры, которую из конспиративных соображений вожди и теоретики этой партии называли «диктатурой пролетариата».
Сдерживающим началом в рабочем движении были лишь наиболее откровенные оппортунисты правого толка – легальные марксисты, экономисты и только что появившиеся на исторической сцене меньшевики, но их было мало, и на положение дел на заводах и фабриках они почти не влияли. Гораздо более эффективным средством борьбы с революцией были так называемые «зубатовские» организации, получившие название по фамилии их основателя – жандармского полковника Сергея Васильевича Зубатова, начальника Московского охранного отделения. Эти организации ориентировали рабочих на мирный диалог с предпринимателями и властями, отказываясь от забастовок и тем более политических требований, ставя во главу улучшение экономического состояния рабочих: повышение заработной платы, сокращение рабочего дня, улучшение условий труда, страхование и т. п. Из-за всего этого сущность «зубатовских» организаций левые радикалы называли «полицейским социализмом». Но для царского правительства даже и они были неприемлемы, ибо временами и их члены оказывались вовлеченными в стачки и забастовки и вместе с другими подрывали устои государства. Расшатыванию политической ситуации в России способствовали и меры либерализации режима, предпринятые Святополк-Мирским. Он добился от Николая II частичной амнистии, ослабил цензуру, разрешил проведение земских съездов. В ноябре 1904 года министр выступил с проектом реформ о включении в Государственный Совет выборных представителей от земств и городских дум, вернувшись к тому, чего почти четверть века назад добился от Александра II М. Л. Лорис-Меликов. 12 декабря 1904 года Николай II издал указ, обещавший ряд реформ. Радикальные элементы России воспринимали все это как очевидное доказательство слабости самодержавия и усиливали натиск на него на всех фронтах, в результате чего в стране создалась нестабильная, взрывоопасная обстановка.
И наиболее угрожающей оказалась она в столице империи – Санкт-Петербурге, где достаточно было одной искры, чтобы вспыхнул пожар революции. И она была высечена в цехах военного Путиловского завода в конце декабря 1904 года, когда там уволили четырех рабочих, состоявших в «зубатовской» организации, называвшейся «Собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга», организации, возглавляемой кандидатом богословия, священником Петербургской пересыльной тюрьмы Георгием Гапоном. Отец Георгий пытался договориться об их восстановлении на работе с администрацией завода, с чиновниками военных ведомств, ибо завод работал на войну, но его старания не увенчались успехом. Тогда Гапон призвал путиловцев к забастовке протеста, и 3 января огромный завод остановился. К пу-тиловцам присоединились рабочие и других петербургских заводов и фабрик, и стачка стала всеобщей.
Все происходящее в Петербурге разворачивалось на фоне других событий: 2 января пал Порт-Артур, 5-го в Баку стачечники столкнулись с войсками, тогда же в Риге произошла мощная демонстрация, и в тот же день в Екатеринославе было совершено покушение на полицмейстера. 7 января произошла демонстрация в польском городе Люблине, а стачечники Баку снова столкнулись с войсками – на этот раз с казаками. И, наконец, 8 января еще две политические демонстрации случились в Польше – в Ченстохове и Седлеце.
8 января Гапон отправил министру внутренних дел Святополк-Мирскому письмо, извещавшее, что 9 января в 2 часа дня на Дворцовую площадь явится мирная манифестация рабочих для вручения царю петиции. Текст петиции прилагался к письму. Свои чувства и просьбы завтрашние манифестанты изложили в самых миролюбивых и почтительных тонах, назвав свое обращение к царю «великим прошением». «Государь, – писали уполномоченные ими Гапон и рабочий Вассимов, – мы, рабочие и жители города Санкт-Петербурга разных сословий, наши жены, дети и беспомощные старцы-родители, пришли к тебе, Государь, искать правды и защиты…»
Главной просьбой рабочих был созыв Учредительного собрания, в котором были бы представители всех классов, сословий и профессий. А кроме того, они просили провести всеобщую амнистию для политических заключенных, прекратить войну, передать землю народу, снизить кредитные ставки, ввести 8-часовой рабочий день, установить нормальную заработную плату и государственное страхование рабочих. А заканчивалась петиция так: «Вот, Государь, наши главные нужды, с которыми мы пришли к тебе. Лишь при удовлетворении их возможно освобождение нашей родины от рабства и нищеты, возможно ее процветание, возможно рабочим организоваться для защиты своих интересов от эксплуатации капиталистов и грабящего и душащего народ чиновничьего правительства.
Повели и поклянись исполнить их, и ты сделаешь Россию и счастливой, и славной, а имя твое запечатлеешь в сердцах наших и наших потомков на вечные времена. А не повелишь, не отзовешься на нашу мольбу – мы умрем здесь, на этой площади, перед твоим дворцом. Нам некуда дальше идти и незачем. У нас только два пути: или к свободе и счастью, или в могилу. Пусть наша жизнь будет жертвой для исстрадавшейся России. Нам не жаль этой жертвы, мы охотно приносим ее».
Последние слова «великого прошения» оказались великим пророчеством: царь не отозвался на их просьбу, ответив ружейным огнем, и многие из них умерли здесь, на этой площади, перед его дворцом, и их жизни стали жертвой для исстрадавшейся России…
…В воскресенье, 9 января 1905 года, в 10 часов утра у Нарвского отдела гапоновского Общества собралось около 20 тысяч человек. К ним, в рясе, с обнаженной головой, с крестом в руке вышел отец Георгий. Напутственное слово произнес инженер-путиловец, эсер П. М. Рутенберг. Около 11 часов рабочие, празднично одетые, с разнаряженными по-праздничному женами и детьми спокойно и медленно двинулись к центру города, неся флаги, хоругви и портреты царя и царицы. Рабочие пели церковные гимны, и, увидев все это, первые полицейские пикеты, сняв шапки, примкнули к манифестантам, а два полицейских офицера пошли впереди колонны. Не доходя двух метров до Нарвских ворот, идущие увидели солдатские цепи и впереди них ряды кавалеристов с обнаженными саблями в руках. Толпа, не останавливаясь, шла вперед, как вдруг, без всякого предупреждения, конники сорвались с места и стали топтать и рубить людей. И тут же затрещали винтовочные залпы пехоты. Одними из первых пали полицейские офицеры, а вскоре, раненный в плечо и в руку, почти обезумевший Гапон бежал вместе с Рутенбергом, крича: «Нет у нас больше царя!» Рутенберг увел Гапона к одному из своих друзей и спрятал его там.
* * *
Манифестанты, кроме Нарвского отделения, собрались и еще в трех других – на Петербургской стороне, на Васильевском острове и на Шлиссельбургском тракте. И все они были так же расстреляны и порублены, как и манифестанты, шедшие к Нарвским воротам.
Всего было убито и ранено более четырех тысяч человек. К вечеру в разных местах города стали возникать баррикады, но войска и полиция быстро сносили их, расстреливая и арестовывая сопротивляющихся.
Через три дня в Петербурге наступило затишье, но это воистину было затишье перед бурей. А она уже началась, всколыхнув Великий, но отнюдь не Тихий океан, в который за один-два дня превратилась Россия.
* * *
А сейчас, немного забегая вперед, расскажем о судьбе вдохновенного вождя петербургских рабочих – отца Георгия, рыцаря без страха и упрека в глазах сотен тысяч его сторонников и приверженцев.
Эсер Рутенберг, спасший его 9 января, вскоре нелегально, под чужим именем переправил Гапона через русско-германскую границу в Тильзит. Оттуда отец Георгий добрался до Берлина и в конце концов оказался в Женеве. Вся радикальная и социалистическая Европа бурно чествовала его. И только известный австрийский социалист Виктор Адлер не в унисон со всеми сказал, что имя Гапона было бы лучше числить в списке погибших героев, как до сих пор, чем продолжать иметь с ним дело как с вождем. И вскоре все признали правоту Адлера, ибо отец Георгий внезапно превратился в кутилу, мота, бабника и игрока.
В ноябре 1905 года, после объявления амнистии, он вернулся в Петербург и попытался воссоздать свою старую организацию, но к нему никто не пошел, и он оказался генералом без армии, даже генералом в отставке, но без пенсии. А изменить образ жизни он уже не мог и охотно пошел в тайные полицейские осведомители. Гапон попытался вовлечь в свои сети Рутенберга, связанного с Боевой организацией своей партии, но тот сразу же почуял неладное и, для вида согласившись с Гапоном на сотрудничество, тут же все рассказал Азефу.
ЦК партии эсеров поручил Рутенбергу убить Гапона.
28 марта 1906 года Рутенберг привез Гапона на уединенную пустую дачу под Петербургом, в одной из комнат которой за тонкой дощатой перегородкой засела группа эсеров-боевиков. Они должны были стать свидетелями откровенного разговора Гапона с Рутенбергом.
Разговор начался с того, что Рутенберг назвал сумму – 25 тысяч рублей, – которую ему предложили жандармы за выдачу террористов. И тут же добавил, что это – ничтожно малая сумма.
– Чего ты ломаешься, 25 тысяч – хорошие деньги! – говорил Гапон.
– Но меня еще и совесть мучает, – сказал Рутенберг, – ведь если их арестуют, то обязательно всех и повесят.
– Ну, что же! Лес рубят – щепки летят. Когда разговор был закончен, Рутенберг
открыл дверь, и в комнату ворвались боевики. Среди них Гапон узнал и нескольких близких к нему рабочих-активистов.
Гапон, встав на колени, молил их простить его, но разъяренные боевики накинули ему на шею петлю и повесили на заранее вбитом крюке…
* * *
На пост генерал-губернатора Петербурга и губернии вместо Великого князя Владимира Александровича был назначен генерал-майор Дмитрий Трепов.
На место Московского генерал-губернатора – Великого князя Сергея Александровича – был назначен его помощник Сергей Булыгин.
Великий князь остался командующим Московским военным округом.
Главным виновником расстрела петербургских рабочих Москва, как и вся Россия, считала царя, его родственников и высшую бюрократию империи. Дядя царя воплощал собою обе эти напасти: он был членом семьи Романовых и главнокомандующим Московским военным округом. На Сергея Александровича, к тому же повинного в Ходынке, в охоте за революционерами и антисемитизме, в потворстве казнокрадам и взяточникам, стали готовить покушение московские террористы-эсеры – идейные наследники Халтурина и Желябова.
Покушение было поручено Каляеву и Куликовскому. Они, изучив маршруты, по которым ездил Сергей Александрович, устроили засады, причем Каляев ждал Великого князя на крыльце городской Думы. Было это вечером 2 февраля.
В 8 часов Каляев увидел, как из Никольских ворот Кремля выехала великокняжеская карета со множеством ярких белых фонарей, что отличало ее от других московских экипажей. Каляев бросился наперерез карете, но, подбежав, увидел, что внутри, кроме Великого князя, сидят Елизавета Федоровна и двое детей. (Это были их воспитанники Мария и Дмитрий – дети Павла Александровича.) Каляев тут же отошел в сторону – он не мог убить женщину и детей, но Великий князь получил лишь кратковременную отсрочку – не больше.
Во второй раз Каляев вышел на Сергея Александровича через день – 4 февраля. Это случилось в 3 часа дня прямо в Кремле, возле здания Сената. И на сей раз Великий князь ехал в карете, где, кроме кучера, больше никого не было. Каляев бросил бомбу с расстояния в четыре шага и тут же на несколько мгновений ослеп и оглох от страшного взрыва – карету разнесло в щепки, в окнах Сената вылетели все стекла. Карета превратилась в кучу обломков, перемешанных с окровавленными лохмотьями и кусками тела. Кучер, Андрей Рудинкин, был смертельно ранен и через несколько дней умер в Яузской больнице. Подбежавшие прохожие вытащили только руку и часть ноги – все остальное, в том числе и голова, было разорвано на куски.
Елизавета Федоровна, находившаяся в это время в Кремлевском дворце, видела все это. Она выбежала из дворца и бросилась к останкам мужа. Замерев как вкопанная, Елизавета Федоровна вдруг заметила, что столпившиеся вокруг зеваки стоят, откровенно любопытствуя и даже не сняв шапок.
– Как вам не стыдно! Что вы здесь смотрите! Уходите отсюда! – закричала она, но никто не пошевелился.
А Каляева, оглушенного, с окровавленным лицом, в обгорелой поддевке, схватили, усадили на извозчика и увезли в арестный дом на Якиманке…
5 февраля все московские газеты поместили на первой полосе траурные объявления о панихидах в разных церквах столицы по Сергею Александровичу. Главная панихида была назначена на 2 часа дня в Чудовом монастыре.
Отпевание и похороны прошли 10 февраля в Алексеевской церкви Чудова монастыря, а 12 февраля, на девятый день после смерти, состоялась заключительная траурная служба – панихида по «убиенном Сергии Александровиче».
Останки Сергея Александровича похоронили здесь же, в Кремле, под храмом святого патриарха Алексия, в Чудовом монастыре. Усыпальница князя была превращена в подземную церковь, освященную во имя Сергия Радонежского. Строил ее академик Р. И. Клейн. «Ее украшал замечательной работы резной белокаменный иконостас, множество икон для которого написал художник К. Г. Степанов. Из такого же белого мрамора изваяли надгробие, стоявшее в центре подземного храма. Это был и небольшой музей древностей, в котором находились ценные вещи из коллекции, собиравшейся Великим князем: иконы XVI и XVII веков, нательный крест XIV века в серебряном ковчеге, а также личные вещи его. В храме находились носилки, на которых переносились останки Сергея Александровича, и гренадерская шинель, укрывавшая их».
А на месте его гибели 4 сентября 1907 года заложили, а в 1908 г. воздвигли и 2 апреля освятили высокий бронзовый крест с эмалью, отлитый по проекту В. М. Васнецова. Над крестом под волнисто-изогнутой кровлей виднелась скорбно склоненная Богоматерь, в резном фонаре теплилась неугасимая лампада.
На кресте по просьбе Елизаветы Федоровны была выбита надпись: «Отче, отпусти им, не ведают бо, что творят».
Этот крест 1 мая 1918 года собственноручно стащил с постамента Ленин с группой сотрудников ВЦИК и Совнаркома, собравшихся в Кремле перед первомайской демонстрацией. Причем Ленин сам сделал на веревке петлю и набросил ее на крест. Его соратники последовали примеру вождя, опрокинули крест на булыжную мостовую, а потом сволокли его в Тайницкий сад.
Летом 1985 года, во время ремонтных работ на территории Кремля, неподалеку от Спасской башни, рядом со зданием Президиума Верховного Совета СССР, на том месте, где некогда стоял Чудов монастырь, вдруг стала проваливаться земля. Вскоре рабочие обнаружили склеп, где все находилось в том виде, в каком было при захоронении. Это была усыпальница Сергея Александровича…
17 сентября 1995 года гроб с его прахом перевезли в Новоспасский монастырь, а 17 сентября 1997 года похоронили в родовой усыпальнице дома Романовых в том же монастыре.
* * *
Но возвратимся ко дню его гибели и вновь окажемся в кровавом 1905 году.
…Смерть мужа окончательно утвердила Елизавету Федоровну в мысли, уже давно не дававшей ей покоя: оставив все, уйти в монастырь. И первым ее подвигом на пути к пострижению было великое смирение и всепрощение. На второй день после убийства мужа она пошла в тюрьму к Каляеву, чтобы простить его. Она встретилась с убийцей своего мужа и попросила у него разрешения предстать перед царем с ходатайством о сохранении ему жизни. Прежде чем идти к Каляеву, Великая княгиня уговорила Николая ограничиться для убийцы каторгой. Император согласился при одном условии: Каляев, соблюдая закон, должен был подать ему прошение о помиловании.
Каляев содержался в Серпуховском полицейском доме. Елизавету Федоровну сопровождали статс-дама Е. Н. Струкова и бывший адъютант убитого – В. А. Гадон. Они-то и сообщили потом, что Каляев принял из рук Елизаветы Федоровны иконку и поцеловал ей руку, но обещания подать просьбу о помиловании не дал.
А через несколько дней Каляев написал вдове убитого письмо, полное неуважения и упреков, где говорил, в частности, и о том, что считает высшим принципом волю своей партии и отношение этой партии ко всему дому Романовых.
5 апреля Особое присутствие правительствующего Сената при участии представителей всех сословий начало слушание дела об убийстве Сергея Александровича в здании Судебных установлений в Кремле. Суд длился около месяца, и лишь 10 мая 1905 года Каляев был повешен в Шлиссельбургской крепости.
А Елизавета Федоровна купила на Большой Ордынке большой участок земли и построила женский монастырь – Марфо-Мариинскую обитель сестер милосердия. Эта обитель стала центром благотворительности, сострадания и самоотвержения, ибо главным делом монахинь была опека самых тяжелых больных Москвы, умалишенных, сифилитиков, впавших в старческое слабоумие. И когда кто-нибудь из сестер отказывался идти к трудному больному, к нему шла сама игуменья обители.
Таким великим служением была заполнена ее прекрасная жизнь.
* * *
А теперь вновь нарушим хронологию и из 1905 года перенесемся в 1918, когда закончилась жизнь Елизаветы Федоровны.
…В ночь на 18 июля 1918 года – на следующий день после расстрела царской семьи – Елизавету Федоровну и содержащихся вместе с ней узников – Великого князя Сергея Михайловича, князей императорской крови Игоря Константиновича, Константина Константиновича и Иоанна Константиновича, а также последовавшую за своей игуменьей монахиню Варвару Яковлеву и слугу Федора Ремеза чекисты привезли к шахте Нижняя Селимская в 18 верстах от города Алапаевска (в 180 верстах к северо-востоку от города Екатеринбурга) и сбросили живыми на глубину шестьдесят метров. Только Великий князь Сергей Михайлович упал на дно мертвым, потому что стал драться с чекистами и они убили его еще до того, как сбросили в шахту.
Все упавшие на дно шахты умирали в страшных мучениях: их кости были переломаны, тела покрыты многочисленными рваными ранами и кровоподтеками. Елизавета Федоровна упала на выступ, находившийся в пятнадцати метрах от поверхности.
Чекисты ушли, сбросив перед уходом две гранаты и кучу подожженного хвороста.
Свидетель – крестьянин, случайно оказавшийся на месте зверского убийства, – рассказывал, что, когда чекисты уехали, из шахты долго доносилось пение молитвы «Спаси, Господи, люди твоя»…
…Колчаковская следственная комиссия установила, после того как место смерти Елизаветы Федоровны было точно определено, что она умерла последней из всех от потери крови, жажды и голода, изорвав перед тем на бинты всю свою одежду и перевязывая умирающих.
Тело ее вывезли в Читу, затем в Китай, а в 1920 году прах ее морем был перевезен в
Палестину. В феврале 1921 года останки Елизаветы Федоровны были преданы земле в Иерусалиме, в православном храме Святой Марии Магдалины.
В 1981 году Елизавета Федоровна была причислена к лику святых Собором Русской православной церкви за рубежом, а в 1990 году Русской православной церковью.
Тогда же известный московский скульптор В. В. Клыков изваял во дворе Марфо-Мариинской обители памятник святой игуменье этого монастыря, Великой княгине Елизавете Федоровне Романовой.
Начало контрнаступления на революцию
Так случилось, что убийство Сергея Александровича произошло за две недели до того, как были обнародованы два самых значительных документа, положивших начало глубокому расколу в рядах участников революции.
18 февраля был опубликован Высочайший манифест, которым «все русские люди, верные заветам старины», призывались сплотиться вокруг престола, и Высочайший рескрипт на имя Булыгина, в котором провозглашалось намерение привлечь «достойнейших, доверием народа облеченных, избранных от населения людей к участию в предварительной разработке и обсуждении законодательных предположений». Для противовеса вскоре же Трепов, оставаясь на прежней должности, стал товарищем Булыгина по Министерству внутренних дел, сосредоточив в своих руках и Департамент полиции, и корпус жандармов. Но уже никакие тактические маневры не могли спасти положения, ибо революция продолжала нарастать.
В июне восстал экипаж броненосца «Потемкин». В октябре забастовало 2 миллиона заводских и фабричных рабочих, железнодорожников, служащих почты и телеграфа.
17 октября Николай II вынужден был издать манифест, написанный С. Ю. Витте. Этим манифестом народу даровались «незыблемые основы гражданской свободы» – неприкосновенность личности, свобода совести, свобода слова, собраний и союзов, всеобщие выборы в Государственную думу, которая объявлялась законодательным органом, и без ее одобрения не мог войти в силу ни один закон.
Манифест был встречен с небывалым энтузиазмом и ликованием, по всей стране прошли митинги в его поддержку и одобрение. На этой волне председателем Совета Министров стал Витте, а Булыгин и Трепов ушли в отставку. Правительство объявило амнистию политическим заключенным и приступило к разработке нового избирательного закона. (27 апреля 1906 года начала работать 1-я Государственная дума, но она была распущена царем 8 июля, та же участь постигла и 2-ю Думу, просуществовавшую с 20 февраля по 2 июня 1907 года, а с июля 1906 по февраль 1907 года Дума и вовсе не функционировала. Да и вообще, Дума заседала или не заседала, а жизнь в стране шла сама по себе.)
Осенью 1905 года в одной трети уездов начались аграрные беспорядки. 9 декабря в Москве произошло вооруженное восстание, продолжавшееся девять суток и стоившее жизни более чем тысяче повстанцев. Восстания вспыхнули и в других городах – в Ростове-на-Дону, в Новороссийске, Екатеринославе, Александровске. В 1906 году восставали солдаты и матросы Кронштадта и Свеаборга, все еще продолжали бастовать рабочие, но революция уже пошла на убыль и в 1907 году утихла.
Ничто не происходит само по себе, всему есть свои причины. Были они и у революции – от возникновения и до окончания. И одной из причин того, что пожар ее в конце концов все же угас, было то, что с апреля 1906 года министром внутренних дел стал волевой, умный и энергичный 44-летний Петр Аркадьевич Столыпин. Сохраняя за собою этот важный пост, 8 июля того же года он стал и председателем Совета Министров.
Родней ему по отцу были знатнейшие фамилии России, а женат он был на правнучке А. В. Суворова. После окончания Петербургского университета Столыпин стал образцовым сельским хозяином, но в 1902 году был назначен губернатором в Гродно, а через год губернатором же в Смоленск, и занятия сельским хозяйством пришлось оставить.
Николай II назначил Столыпина министром внутренних дел за день до открытия 1-й Государственной думы – 26 апреля. А на следующий день, когда Дума должна была открыться, Николай II отошел на императорской яхте из Петергофа в Петербург, взяв с собою мать и жену. Яхта подошла к Петропавловской крепости, Николай направился в собор и там долго молился у могилы своего отца. Затем яхта подошла к Зимнему дворцу, где в Георгиевском зале должна была состояться встреча императора и обеих императриц с членами Думы и Государственного Совета.
После непродолжительного молебна Николай пошел к трону, не спеша поднялся по ступеням и сел, накинув на плечи порфиру. Зал замер в ожидании. Николай встал, сбросил порфиру на трон и взял протянутый ему министром двора текст речи.
Он сказал, что попечение о благе Отечества побудило его призвать на помощь себе выборных от народа, которые должны сплотиться для трудной и сложной работы на благо России, помня, что для духовного величия и благоденствия государства необходима не одна свобода – необходим порядок на основе права. И закончил свою речь словами: «Бог в помощь мне и вам».
Когда Николай замолчал, с обеих сторон зала раздалось: «Ура!» Справа – громче, слева – потише, но все же и с той, и с другой стороны.
А когда депутаты Думы отправились на пароходе по Неве к Таврическому дворцу, отданному им для заседаний, их путь лежал мимо тюрьмы «Кресты», из окон которой им махали красными платками арестанты, крича: «Амнистии! Амнистии!» И этот крик поддерживали многочисленные толпы петербуржцев, стоявшие на набережных.
И когда после еще одного молебна – уже в Таврическом дворце – Дума приступила к работе, то единогласно избранный председателем Думы кадет С. А. Муромцев, профессор римского права Московского университета, первое слово дал депутату И. И. Петрункевичу, редактору кадетской газеты «Речь», который сказал: «Долг чести, долг совести требует, чтобы первое свободное слово, сказанное с этой трибуны, было посвящено тем, кто свою жизнь и свободу пожертвовал делу завоевания русских политических свобод. Свободная Россия требует освобождения всех, кто пострадал за свободу».
Это привело к тому, что Дума первым делом стала обсуждать вопрос об амнистии всем политическим заключенным, в том числе и террористам. И хотя такое решение было вынесено, но правом амнистии был наделен только царь, и он отказался сделать это. Началась борьба между властью законодательной – Думой – и властью исполнительной – правительством. Тотчас же разгорелась дискуссия вокруг вопроса об отмене смертной казни, ибо по поводу каждого смертного приговора в заседаниях выносился запрос, и Дума приостанавливала исполнение приговора. А между тем революционный террор продолжался. С начала 1906 года было убито 288 и ранено 338 человек, главным образом рядовых полицейских и солдат. 14 мая на Соборной площади в Севастополе, при покушении на коменданта города генерала Неплюева, взрывом бомбы было убито восемь человек, в том числе двое детей. В это же время в деревнях жгли помещичьи усадьбы – только в мае только в одной Саратовской губернии сожгли 150 помещичьих усадеб. И все же Дума приняла решение об отмене смертной казни, а вслед за тем выступила за принудительный раздел помещичьих земель. Эта угроза задевала опору самодержавия – помещиков, и царь приказал Думу распустить.
11 июля Столыпин издал свой первый циркуляр. В нем говорилось: «Открытые беспорядки должны встречать неослабный отпор». Однако революция немедленно ответила мятежом артиллерийского полка в Свеаборге и восстанием на крейсере «Память Азова», том самом, на котором Николай II совершал свое путешествие на Восток.
12 августа 1906 года эсеры добрались и до Столыпина. К нему на дачу на Аптекарском острове вошли трое террористов-самоубийц, одетых в мундиры жандармских офицеров. В это время премьер-министр вел прием посетителей, и на даче, кроме его домашних, было более 60 просителей. Однако это террористов не остановило – они заранее решили, что принесут в жертву и себя, и всех других, лишь бы погиб Столыпин. Каждый из террористов держал в руках портфель со снарядом весом в 16 фунтов (6 кг 400 г). Когда они вошли в приемную, у одного из них съехала набок накладная фальшивая борода, и заметившие это охранники тут же бросились к нему и стали вырывать портфель. И тогда все трое с криками: «Да здравствует свобода! Да здравствует анархия!» враз бросили портфели перед собой. Произошедший взрыв превосходил все предыдущие, уступая, быть может, диверсии, учиненной Халтуриным в Зимнем дворце: рухнула стена дома, обвалился балкон, на котором были трехлетний сын Столыпина и четырнадцатилетняя дочь, покалеченные обломками камней. От покушавшихся не осталось ничего, но рядом с ними, в приемной, погибли 27 человек, 32 были ранены, 6 из них вскоре скончались. Сам Столыпин остался невредим.
На следующий день пятью выстрелами из револьвера на Петергофской платформе эсеркой З. В. Коноплянниковой был убит генерал А. Г. Мин, усмиритель Декабрьского вооруженного восстания на Красной Пресне и Казанской железной дороге.
Николай очень тяжело пережил смерть Мина. На следующий день он поехал к нему на дачу, отстоял там панихиду, а потом был и на его похоронах.
Затем Николай принял Столыпина и, выразив ему свое сочувствие, предложил переехать с семьей в Зимний дворец.
25 августа, по настоянию Столыпина, была опубликована программа реформ, развивавшая положения Манифеста 17 октября, и одновременно – Закон о военно-полевых судах – офицерских судах, в ведение которых поступали только совершенно очевидные дела об убийствах и вооруженных грабежах, когда преступники брались с поличным. Разбор дела не должен был занимать более двух суток, и приговор – только расстрел – производился немедленно.
Однако и это не остановило террор. Во второй половине 1906 года убийства совершались беспрерывно – убивали уже не за какую-то конкретную вину, а за должность. Случилось, что на адмирала Ф. В. Дубасова, заместившего на посту Московского генерал-губернатора убитого Сергея Александровича, в 1906 году покушались дважды, но оба раза неудачно. В ответ на просьбу Дубасова помиловать покушавшегося Николай II ответил: «Полевой суд действует помимо вас и помимо меня; пусть он действует по всей строгости закона. С озверевшими людьми другого способа борьбы нет и быть не может. Вы меня знаете, я незлоблив: пишу вам, совершенно убежденный в правоте моего мнения. Это больно и тяжко, но верно, что, к горю и сраму нашему, лишь казнь немногих предотвратит моря крови и уже предотвратила».
Революция захлебнулась в крови как жертв, так и палачей, ибо трудно было провести между ними какую-либо грань: вчерашние жертвы становились палачами, а палачи – жертвами. Борьба стала казаться бесперспективной и потому бессмысленной.
9 ноября 1906 года был издан Указ о раскрепощении крестьянской общины. Он предоставлял любому члену общины право свободного выхода из нее в любое время и открывал наиболее энергичным, предприимчивым и трудолюбивым крестьянам путь к созданию богатых и крепких хозяйств – основы их личного благосостояния. Для того чтобы большинство крестьян стали состоятельными хозяевами, превратившись в опору существующего в России строя, нужно было приложить немалые усилия.
На пути к разрешению поставленной задачи были проведены выборы во 2-ю Государственную думу. Избирательная кампания началась одновременно с выходом Указа от 9 ноября 1906 года и продолжалась до февраля 1907 года. 20 февраля новая Дума начала свою работу. Открылась она без помпезности, буднично и тихо. Состав ее был очень пестрым, но главное отличие от 1-й Думы состояло в том, что основную массу составляли полуграмотные крестьяне и полуинтеллигенты. Граф В. А. Бобринский – депутат Думы, деятель земского движения, крупный помещик и умеренный либерал – назвал ее «Думой народного невежества», и все же Столыпин – по общему признанию лучший оратор во 2-й Думе – сумел увлечь ее на путь поддержки правительственного курса.
Выступая 10 мая 1907 года, Столыпин сказал: «Пробыв около 10 лет у дела земельного устройства, я пришел к глубокому убеждению, что в деле этом нужен упорный труд, нужна продолжительная черная работа. Разрешить этого вопроса нельзя, его надо разрешать. В западных государствах на это потребовались десятилетия. Мы предлагаем вам скромный, но верный путь. Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия».
«Великое потрясение» не заставило себя ждать: 4 мая на квартире рижского депутата, социал-демократа Озоля, было арестовано несколько членов Военной организации РСДРП. 1 июня Столыпин на закрытом заседании Думы объявил, что члены Военной организации готовили заговор, и потребовал лишить всех социал-демократов депутатской неприкосновенности. 2 июня стало известно, что многие депутаты социал-демократы перешли на нелегальное положение и скрылись.
3 июня Николай распустил Думу, издав новый избирательный закон, который предусматривал созыв новой, 3-й Думы, где большинство мест занимали депутаты-монархисты и близкие им по ориентации представители правых партий.
3-я Дума начала заседать 1 ноября 1907 года и, проведя пять сессий, завершила свою деятельность 9 июня 1912 года. За эти исключительно сложные пять лет своим законотворчеством Дума превратила Россию из абсолютистской, самодержавной, в парламентарную, думскую монархию.
Свадьба и семейная жизнь великого князя Кирилла Владимировича и герцогини Саксен-Кобург-Готской Виктории
Великий князь Кирилл Владимирович был вторым сыном Владимира Александровича – брата императора Александра III – и Великой княгини Марии Павловны, в девичестве – герцогини Марии Мекленбург-Шверинской, дочери Великого герцога Фридриха-Франца III Мекленбург-Шверинского.
Супруги имели собственный двор и были самыми авторитетными членами дома Романовых после императорских величеств.
Кирилл родился 30 августа 1876 года и сразу же после крещения получил первый офицерский чин и был записан в несколько полков, в том числе и в Преображенский.
В детстве Кирилла и его братьев и сестер возили к родственникам в Мекленбург; побывал он во Франции, Швейцарии и Испании. С пятнадцати лет он начал заниматься по программе Морского кадетского корпуса и с самого же начала отец направил его на учебные суда, где с утра до ночи стоял изощренный мат, откровенная грубость, но зато юноша получил такую жизненную закалку, которая в дальнейшем оказалась ему необычайно полезной.
Затем каждый год до окончания Академии, перемежая занятия дома с выдающимися педагогами и мореплавателями, Кирилл ходил на разных кораблях – и парусных, и паровых, старых и современных. Весной 1895 года он сдал экзамены и получил звание старшины (лейтенантом он стал в 1900 году, находясь на Дальнем Востоке, где ему довелось служить в Порт-Артуре под началом вице-адмирала Ф. В. Дубасова).
В 1899—1900 годах Великий князь дважды выезжал в Дармштадт, к тетке, единственной дочери Александра II – Великой княгине Марии Александровне, матери четырех красавиц-дочерей. Среди них была и двадцатилетняя Виктория, которую, как уже упоминалось, в семье называли «Даки», что по-английски значит «уточка». Она была на два месяца младше Кирилла, любила живопись и музыку, много читала, даже для дамы высшего света была исключительно модна и элегантна, очень женственна и мягка, но характер имела твердый и независимый – в бабушку по отцовской линии, английскую королеву Викторию, в честь которой она и была названа. По рождению Виктория носила еще и титулы принцессы Великобританской и Ирландской.
(Так как девочка родилась на острове Мальта, ей в честь этого дали второе имя – Мелита, то есть «Мальта».)
В первый же приезд Кирилла Виктория-Мелита, сама того не желая, вскружила голову своему кузену, и между ними начался роман, беспрецедентный в истории дома Романовых.
Вернувшись из Дармштадта, Кирилл уехал на Дальний Восток и в 1901—1902 годах совершил кругосветное плавание, выполняя некоторые дипломатические поручения своего двоюродного брата – императора Николая II.
1 января 1904 года Кирилл получил чин капитана 2-го ранга, а 9 февраля началась русско-японская война. В эти дни он жил в Санкт-Петербурге и немедленно выехал в Порт-Артур, поступив в штаб адмирала Макарова, находившийся на борту броненосца «Петропавловск».
31 марта 1904 года «Петропавловск» подорвался на японской мине и утонул. Из 711 офицеров и матросов спаслось лишь 80. Среди них был и Кирилл Владимирович – его, сильно обожженного, с поврежденной спиной, вытащили из холодной воды через сорок минут.
Через Харбин он выехал в Россию, а затем был отправлен на лечение за границу.
Конечно же, первым делом Кирилл поехал к Виктории и ее матери, доводившейся ему теткой.
На сей раз и Кирилл, и Виктория решили отбросить колебания и поступить смело и энергично.
26 сентября 1905 года в Тегернзее, в Баварии, в православной церкви, в присутствии Великой княгини Марии Александровны, герцогини Эдинбургской, матери невесты, состоялось бракосочетание Великого князя Кирилла Владимировича с бывшей супругой Великого герцога Эрнеста Гессен-Дармштадтского – Викторией-Мелитой.
Брак был заключен без разрешения Николая II, более того, император требовал прекратить отношения Виктории и Кирилла, потому что они, как уже говорилось, были двоюродными братом и сестрой. Кроме того, первым мужем Виктории был родной брат императрицы Александры Федоровны. Однако кузен и кузина любили друг друга и сознательно ослушались императора.
Кирилл Владимирович вскоре отправился в Санкт-Петербург просить Николая II признать заключенный брак. Однако император даже не разрешил Кириллу въехать в столицу и приказал покинуть Россию, а решения своей судьбы ждать за границей.
Императрица Александра Федоровна просила царя лишить Кирилла великокняжеского достоинства, ибо была глубоко оскорблена за своего единственного брата Эрнеста.
5 октября 1905 года Николай II писал своей матери:
«Милая, дорогая Мама. На этой неделе случилась драма в семействе по поводу несчастной свадьбы Кирилла. Ты, наверное, помнишь о моих разговорах с ним, а также о тех последствиях, которым он должен был подвергнуться, если он женится: 1) исключению из службы; 2) запрещению приезда в Россию; 3) лишению всех удельных денег; и 4) потере звания Великого князя.
На прошлой неделе я узнал от Ники (принца Николая Греческого. – В. Б.), что он женился 25 сентября в Тегернзее. В пятницу на охоте Ники сказал мне, что Кирилл приезжает на следующий день! Я должен сознаться, что это нахальство меня ужасно рассердило, потому что он отлично знал, что не имел никакого права приезжать после свадьбы…»
Кириллу было разрешено только повидаться со своими товарищами из Гвардейского экипажа и проститься с офицерами в кают-компании своего корабля.
Кирилл уехал и продолжал жить за границей. Николай же со временем все более успокаивался, и когда 20 января 1907 года в семье опального кузена родилась дочь Мария, ей был дарован титул Светлейшей княжны, присвоена фамилия «Кирилловской» и отпущено 12 500 рублей в год на обучение. Было постановлено, что если у супругов появятся новые дети, то и на них будут распространяться те же права.
Еще через пять месяцев Именным указом от 15 июля 1907 года постановлялось:
«Супругу Его Императорского Высочества Великого князя Кирилла Владимировича именовать Великою княгинею Викторией Федоровной с титулом Императорского Высочества, а родившуюся от брака Великого князя Кирилла Владимировича с Великою княгинею Викториею Федоровной дочь, нареченную при Святом крещении Мариею, признавать Княжною Крови Императорской, с принадлежащим правнукам императора титулом Высочества».
А когда в 1908 году скончался Великий князь Алексей Александрович, приходившийся Кириллу дядей, то Николай II разрешил кузену приехать в Царское Село на панихиду по покойному и возвел его снова в звание своего флигель-адъютанта.
Кирилл Владимирович после этого вернулся в Россию, и инцидент был исчерпан.
Супруги получили в свое распоряжение небольшой дворец в Царском Селе.
Кирилл, имевший в 1910 году чин капитана 1-го ранга, в 1912 году был назначен капитаном крейсера «Олег».
Однако он не смог преодолеть чувство страха перед морем, все время ощущая ужас, который испытал при гибели «Петропавловска». И 17 декабря 1913 года он был освобожден от командования кораблем…
Явление «Старца Григория»
1 ноября 1905 года Николай записал в дневнике: «В 4 часа поехали на Сергиевку. Пили чай с Милицей и Станой. Познакомились с человеком Божиим – Григорием из Тобольской губернии…» – это первое упоминание о Распутине в дневнике царя, с которым он и царица познакомились у сестер-черногорок.
Сестры встретились с Распутиным на богомолье в Михайловском монастыре, где у них зашла речь о разных болезнях и они упомянули и гемофилию, на что Распутин ответил, что он лечит все болезни, и ее тоже. Милица Николаевна, конечно же, не без умысла спросила о гемофилии и вскоре после этого представила странника Николаю и Александре Федоровне.
Это знакомство оказалось воистину судьбоносным. О Распутине написаны десятки книг и сотни статей. В свое время иеромонах Илиодор, в миру Сергей Труфанов, – сначала друг, а потом непримиримый враг Распутина, – написал о нем книгу «Святой черт». В названии книги Илиодор точно отразил весь диапазон определений, которые применялись по отношению к Распутину: многочисленные его почитатели (и особенно фанатичные почитательницы) считали его святым, а не менее многочисленные враги – исчадием ада.
С момента появления Распутина в Петербурге о нем распространялись самые невероятные слухи. И сегодня мало кто знает всю правду об этом человеке. Отбрасывая домыслы и слухи, расскажем о нем то, что известно.
Родился Григорий Ефимович в 1869 году в Тюменском уезде Тобольской губернии, в слободе Покровской, в семье, как говорили тогда, крестьянина-середняка. В начале жизни никто не замечал за ним ничего особенного, за исключением, быть может, лишь огромной физической силы. Отличался он любовью к выпивке и прекрасному полу, но в сибирских селах это было не в диковину. Да и фамилия его никого не смущала – Распутиными называлась едва ли не половина его односельчан.
В двадцать с небольшим лет он женился на скромной и незлобивой девушке, которая родила ему двух дочерей – Матрену и Варвару – и сына Дмитрия. Отец Распутина, по данному однажды обету, каждый год ходил в Верхотурье, в Николаевский монастырь, но как-то заболел и попросил сходить туда Григория. Проделав неблизкий путь – за Уральский хребет, сотни верст по Сибири, – Григорий вернулся преображенным. Встретившие его по возвращении односельчане решили, что он сошел с ума – Распутин пел, размахивал руками, дико озирался и в церкви пел исступленным голосом. Он бросил пить и курить, перестал есть мясо, стал истязать себя жесточайшими постами, по многу часов стоял на молитве. А потом ушел из дома и долго странствовал, обойдя многие святыни России.
Возвратившись в Покровское, он устроил под своим домом моленную и подолгу молился там и пел псалмы в окружении появившихся у него поклонников и поклонниц. Они-то и стали первыми его трубадурами, распространив славу о великом чудотворце и праведнике старце Григории далеко за пределы уезда, а потом и губернии.
(Слово «старец» не следует производить от слова «старик». «Старцами» на Руси называли странников, нищих, независимо от их возраста; так же называли и монахов. Но и для мирян, и для иноков прозвание «старец» непременно предполагало, что человек, его носящий, имеет высокий моральный авторитет, истинную праведность, глубокий ум и постижение Христова Учения. Их называли «божественной свечой». «Старец, – писал Ф. М. Достоевский, – это берущий вашу душу, вашу волю в свою душу и в свою волю. Избрав старца, вы от своей воли отрешаетесь и отдаете ее ему в полное послушание, с полным самоотрешением… Обязанности к старцу не то, что обыкновенное послушание, всегда бывшее в наших русских монастырях. Тут признается вечная исповедь всех подвизающихся старцу и неразрушимая связь между связавшим и связанным».)
Вскоре в Петербурге о старце Григории узнали многие иерархи церкви. Узнал о нем и духовник Великого князя Петра Николаевича и его жены Великой княгини Милицы Николаевны отец Феофан.
Милица была одной из наиболее убежденных и знаменитых оккультисток и теософов Петербурга, а ее имение Званка, расположенное неподалеку от Петергофа, стало центром, где собирались «избранные» и «посвященные» – провидцы и маги, чародеи и прорицатели, блаженные и кликуши.
Распутин, приведенный Феофаном в Званку, произвел на великокняжескую чету, особенно на Милицу, очень сильное впечатление. Распутин сразу же поражал воображение своей неординарной внешностью и особенно своими глазами. Вот какое описание его внешности оставил французский посол в России Морис Палеолог: «Темные, длинные и плохо расчесанные волосы; черная густая борода; высокий лоб; широкий, выдающийся вперед нос, мускулистый рот. Но все выражение лица сосредоточено в глазах льняно-голубого цвета, блестящих, глубоких, странно притягательных. Взгляд одновременно пронзительный и ласкающий, наивный и лукавый, пристальный и далекий. Когда речь его оживляется, зрачки его как будто заряжаются магнетизмом».
А вот как описывала Распутина одна из светских дам Е. Ф. Джанумова: «Он был в белой вышитой рубашке, навыпуск. Темная борода, удлиненное лицо с глубоко сидящими серыми глазами. Они поразили меня. Они впиваются в вас, как будто сразу до самого дна хотят прощупать, так настойчиво, проницательно смотрят, что даже как-то не по себе делается».
В это полугипнотическое состояние впадали почти все, кто соприкасался с Распутиным. По-видимому, не была исключением и Милица Николаевна. И она, конечно, вскоре же сообщила об этом царице, которая всем ходом событий, особенно же неизлечимой болезнью сына, была подготовлена к тому, чтобы весьма благожелательно отнестись к чудотворцу. Однако первая встреча ни на царя, ни на царицу особого впечатления не произвела, хотя оставила благоприятное воспоминание.
За два последующих года у них были две-три случайных встречи, и только с конца 1907 года Григорий и августейшая чета стали встречаться почти регулярно. Виновницей этого стала фрейлина императрицы Анна Вырубова, в чей дом в Царском Селе часто наведывался старец Григорий. Вечером 12 марта 1908 года, когда Распутин и ставший его другом Феофан в очередной раз сидели у Вырубовой, к ней заехали Николай и Александра Федоровна и с удовольствием провели время, беседуя со старцем. Вскоре беседы и встречи стали повторяться все чаще и чаще, а однажды старец впервые пришел во дворец, но впечатление, произведенное им на тех, кто его видел, было столь неблагоприятным, что царственные супруги решили к себе старца не водить, а встречаться с ним у Вырубовой, тем более что Распутина нельзя было показывать в застолье, потому что он оставался неотесанным лесовиком, которого не коснулась внешне сторона цивилизации. Его секретарь Арон Симанович писал, что, сидя за столом, старец редко пользовался ножом и вилкой, а брал еду с тарелок своими костлявыми и сухими пальцами, правда, непременно чистыми. Большие куски он, как зверь, разрывал на части и запихивал в большой рот, где у него вместо зубов торчали черные корешки. Остатки еды и крошки застревали у него в бороде, и многие не могли смотреть на все это без отвращения.
Возможно, что, находясь за одним столом с царем и царицей, Распутин вел себя более цивилизованно, но все же приглашать его во дворец августейшая чета не рискнула. И потому было решено видеться со старцем у Аннушки, куда они приезжали не только вдвоем, но и с детьми, которые, кстати сказать, сразу же безоглядно полюбили старца: дети росли глубоко религиозными, и их восхищала святость Распутина и его любовь к Богу, проявлявшаяся во время бесед с ними.
Эти отношения, получившие развитие через несколько лет, хранились и Распутиным, и царской семьей, и Вырубовой в глубокой тайне. Однако уже в самом начале знакомства с Распутиным связь царской семьи с неграмотным мужиком оценивалась как некий нонсенс и монарший каприз, могущий привести к нежелательным скандальным последствиям. И потому дворцовый комендант В. А. Дедюлин, обеспокоенный появлением в царской семье неизвестного мужика, который мог оказаться и переодетым революционером, сообщил о Распутине начальнику петербургского охранного отделения генерал-майору А. В. Герасимову. Охранка быстро установила, что опасных политических связей у Распутина нет, но наблюдение за ним установила, и, таким образом, полиции стало известно о другой стороне его жизни – чудовищном разврате, бесконечных оргиях и непомерном пьянстве. Причем сведения, полученные Герасимовым, привели и его самого, и высших чинов петербургской полиции, в общем-то, неплохо знавших жизнь с изнанки и неспособных волноваться по поводу утраченных добродетелей, в неподдельное глубокое изумление.
Они не могли поверить, что простой смертный мог обладать такими воистину нечеловеческими, а прямо-таки космическими силами в служении что Венере, что Бахусу.
До поры до времени сведения эти охранка придержала у себя, но потом, весной 1911 года, довела их до самого премьера П. А. Столыпина.
Столыпин пришел к царю и откровенно выложил все, что узнал, желая раскрыть Николаю II глаза на человека, который представлял серьезную угрозу репутации императора и его семьи. Николай II внимательно выслушал Петра Аркадьевича, поблагодарил за то, что тот искренне ему предан, но в заключение сказал: «Быть может, все, что вы мне говорите, – правда. Но я прошу вас никогда больше мне о Распутине не говорить. Я все равно сделать ничего не могу».
Не один Столыпин сообщал Николаю II и императрице о темных делах старца, но и царь, и царица в этом отношении были глухи и слепы. Одной из первых зимой 1910—1911 годов попробовала разоблачить Распутина воспитательница царских дочерей, фрейлина С. И. Тютчева, но она добилась лишь того, что Распутина на некоторое время перестали пускать к ее воспитанницам, сама же фрейлина вскоре после этого разговора получила отставку. Старец же, узнав о случившемся и догадавшись, что общение его с Великими княжнами связано с раскрытием его второй жизни, решил на время исчезнуть из Петербурга и дать улечься начинающейся буре. Он ушел паломником в Грецию на Афон – Святую гору, где располагались два десятка православных мужских монастырей, а оттуда еще дальше – в Святую землю, в Иерусалим.
Осенью 1911 года, вернувшись в Петербург, старец встретил радушный прием в царской семье и совершенно противоположную реакцию у многочисленных своих недругов – епископа Гермогена, архимандрита Феофана, Великих князей – Николая Николаевича и Петра Николаевича – и стародавних поклонниц, ставших его ненавистницами, – сестер-черногорок.
Феофана отправили в Крым, Гермогена – в Жировицкий монастырь под Гродно. Однако на сцену выступил преемник Столыпина на посту председателя Совета Министров В. Н. Коковцов и переговорил с Николаем, представив множество неопровержимых фактов. Царь решил уступить, чтобы не дискредитировать себя и императрицу, и летом 1912 года старец уехал в Сибирь, в свое родное село.
Однако влияние Распутина на царя и царицу осталось непоколебимым и их подчинение ему таким же, как и прежде.
Почему же всемогущий повелитель 150 миллионов подданных не имел никакой власти над одним из них? Что связывало высокообразованного и нравственного императора с неграмотным и развратным сибирским мужиком? Чем «взял» Распутин царя и царицу, повязав их с собою нерасторжимыми узами?
Ответ этому дала Вырубова: «Царь и царица, – говорила она, – верили ему, как отцу Иоанну Кронштадтскому; страшно ему верили; и когда у них горе было, когда, например, наследник был болен, обращались к нему с просьбою помолиться».
А что значил наследник для несчастных родителей, любивших его больше всего на свете, мы уже знаем. А между тем ни один врач в мире не мог принести мальчику такого облегчения, как старец Григорий.
С конца 1907 года, когда царица впервые попросила его помочь больному сыну, Распутин много раз снимал боли, останавливал кровотечение и усыплял многострадального цесаревича. Несомненно, старец был выдающимся экстрасенсом, гипнотизером и психотерапевтом. Совершенствуясь в своей практике, он брал уроки у известного в Петербурге врача, пользовавшего больных по рецептам тибетской медицины, Петра Александровича Бадмаева. Все это в совокупности приносило удивительные результаты – старец мог прерывать ход болезни не только пассами и внушением, непосредственно находясь возле больного, но и разговаривая с Алексеем по телефону. Более того, на больного ребенка оказывали исцеляющее воздействие даже посланные Распутиным телеграммы. И тому есть множество неопровержимых доказательств.
Брак великой княжны Марии Павловны и принца Вильгельма Шведского, герцога Зюдерманландского
Летом 1907 года царское правительство, возглавляемое П. А. Столыпиным, предприняло ряд решительных мер к разгрому революции.
1 июня в закрытом заседании 2-й Государственной думы председатель Совета Министров П. А. Столыпин сделал следующее заявление: «Имея в виду, что в настоящее время, в связи с обыском в квартире члена Государственной думы Озола (И. П. Озоль – социал-демократ, избран в Риге. – В. Б.), предварительное следствие выяснило главнейшие данные по делу об организации преступного сообщества, в состав которого вошли некоторые члены Государственной думы, и представляется необходимым немедленное принятие мер к обеспечению правильного хода правосудия, я прошу Государственную думу выслушать представителя судебного ведомства, прокурора Санкт-Петербургской судебной палаты, который ознакомит Государственную думу с постановлением судебного следователя о привлечении нескольких ее членов в качестве обвиняемых».
«Несколько членов Госдумы» – это 55 из 65 депутатов-социалистов, причем 16 из них были арестованы немедленно. Причем почти все они предстали перед судом как виновники подготовки государственного переворота и были сосланы в Сибирь.
Еще до суда над заговорщиками 3 июня 1907 года царским манифестом Дума была распущена. В новую, третью Государственную думу выборы прошли осенью, и победили на них правые партии – октябристы, националисты и др. Третья дума работала под лозунгом: «Сначала успокоение, потом реформы».
И вот, когда в России наступило время успокоения, в царской семье сочли возможным решить одну из брачных проблем, выдав дочь младшего сына Александра II Павла – восемнадцатилетнюю красавицу Великую княжну Марию Павловну за шведского принца, герцога Зюдерманландского Вильгельма, который был чуть старше своей невесты и тоже весьма хорош собой.
После смерти матери, греческой принцессы Александры Георгиевны, и отъезда отца за границу Мария с братом Дмитрием воспитывались в семье бездетных Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны.
Брат и сестра были неразлучны до тех пор, пока в 1901 году Дмитрий не перешел от мамок и нянек к полковнику Лаймингу, начавшему готовить мальчика в офицеры. Именно Мария и Дмитрий были теми детьми, присутствие которых в карете генерал-губернатора Сергея Александровича не позволило эсеру Каляеву 2 февраля 1905 года бросить бомбу. На следующий день, однако, задуманный теракт был осуществлен, Мария Павловна была свидетельницей того, как ее опекунша прибежала во дворец, испачканная кровью, как она металась по комнатам и потом страдала, не желая смертной казни Каляеву.
Убийство Сергея Александровича сразу же сделало детей серьезнее и старше. Вскоре после смерти приемного отца Мария начала задумываться о замужестве.
В это же время над сближением с российским императорским домом задумались и в соседней Швеции. Потенциальным женихом для русской принцессы в шведской королевской семье считали принца Вильгельма, герцога Зюдерманландского, сына кронпринца Швеции Густава.
Идея женитьбы Вильгельма на Марии Павловне возникла в 1906 году, когда девушке было всего 16 лет. Тогда в Санкт-Петербург на неофициальные смотрины приезжал Вильгельм, и Великая княжна понравилась ему, но она была слишком молода для брака, и августейшие стороны условились, что брак может состояться, когда Марии Павловне исполнится 18 лет.
Принц приехал на следующий год, но здесь дал знать себя очень непростой характер своенравной и нередко взбалмошной девушки: Вильгельм не понравился Великой княжне, и она часто намеренно вела себя с ним задиристо, не скрывая своего крутого нрава.
Может быть, как раз это и расположило к ней Вильгельма, ибо другие девушки так с ним себя не вели.
Мария была настоящая сорвиголова: лихо ездила верхом, любила шалости и проказы, была остра на язык и общество слуг и простолюдинов предпочитала светским дамам и кавалерам, которых откровенно недолюбливала.
Когда 6 апреля 1908 года ей исполнилось 18 лет, в Санкт-Петербург снова приехал Вильгельм. Он сделал официальное предложение и получил согласие невесты. Свадьба была назначена на 20 апреля.
Вскоре в Санкт-Петербург прибыл и отец жениха, – шведский король Густав V Бернадот, занявший трон всего полгода назад после смерти своего дяди – Оскара II.
Напомним кратко историю брачных связей между Санкт-Петербургом и Стокгольмом.
Первым шведским королем, претендовавшим на руку принцессы из дома Романовых, был семнадцатилетний Густав IV Ваза, приехавший на смотрины тринадцатилетней внучки Екатерины Великой Александры Павловны.
Короля сопровождал его дядя – регент шведского престола, герцог Зюдерманландский Карл. Их приезд в Санкт-Петербург произошел 13 августа 1796 года. Густав и Карл были приняты с большими почестями, и почти месяц весь сановный город давал в их честь бал за балом и прием за приемом. Смотрины прошли с успехом: жених и невеста понравились друг другу, и во изменение протокола поездки было решено 10 сентября устроить помолвку.
В назначенный день в Зимнем дворце собрались все министры, сенаторы и генералы высших четырех классов, все резиденты и придворные.
Императрица в короне, мантии, со скипетром и державой восседала на троне, а на соседнем с нею – малом троне – сидела невеста.
Жених не появлялся более часа, а затем заявил, что решительно настаивает на переходе Александры Павловны в протестантство, в противном же случае свадьба не состоится.
Императрица, услышав столь неожиданное предложение, потеряла сознание и упала с трона: с нею случился апоплексический удар.
Свадьба не состоялась, а через два месяца Екатерина умерла. И многие считали причиной ее смерти предшествующий удар.
А в 1809 году шведская армия свергла Густава IV с престола, и он бежал из страны.
В августе 1810 года королем Швеции стал сорокалетний маршал Франции Жан-Батист Бернадот, один из лучших полководцев Наполеона Бонапарта. Он вступил на шведский престол под именем Карла XIV Юхана, и с этих пор Швецией стала править династия Бернадотов.
В 1908 году, когда начались переговоры о свадьбе Великой княжны Марии Павловны и шведского кронпринца Вильгельма, Швецией правил король Густав V, правнук Бернадота, а его женой была правнучка Густава IV Вазы, Великая герцогиня Баденская Виктория.
Шведский король Густав V родился в 1858 году, и когда он приехал в Санкт-Петербург на свадьбу к своему сыну и Марии Павловне, ему шел пятидесятый год. Однако на трон он вступил, как уже говорилось, лишь за год перед тем – в 1907 году, потому что, когда в 1872 году умер его отец – король Карл XV, Густаву было всего тринадцать лет.
Карлу XV наследовал его 43-летний брат, вступивший на трон под именем Оскара II и правивший 35 лет – до 1907 года, и только после его смерти королем стал Густав.
Все короли из дома Бернадотов отличались завидным долголетием. Не был исключением и Густав V. Он прожил 92 года и скончался в 1950 году. Забегая вперед, скажем, что Густав V пережил на троне Швеции и Первую, и Вторую мировые войны, придерживаясь нейтралитета и не входя ни в одну из воюющих группировок.
Густав V вошел в историю Швеции как покровитель спорта. Он активно участвовал в Олимпийском движении, добившись того, что V Олимпийские игры в 1912 году проходили в Стокгольме. Король и сам входил в сборную Швеции по теннису и играл в теннис до 90 лет. Густав способствовал развитию в Швеции всех видов спорта, но особое внимание уделял футболу.
Приехав на свадьбу сына в 1908 году, Густав принял участие в подписании двух деклараций о сохранении на Балтике и в Средиземном море статус-кво всеми прибрежными государствами этих морей.
20 апреля 1908 года в Царском Селе была сыграна свадьба Вильгельма с Марией Павловной, более скромная, чем предыдущие бракосочетания в доме Романовых.
Следует подчеркнуть, что эта свадьба была последней в доме Романовых, как правящей династии России.
Все последующие браки членов царской семьи были заключены уже в эмиграции – в Европе и Северной Америке.
Молодые венчались по русскому православному обряду и по протестантскому. Священников, венчавших жениха и невесту, было принято обязательно приглашать к столу. Так поступили и на сей раз. За столом, конечно же, говорили на разных языках, среди присутствующих оказался один, не знавший никакого из языков, на которых говорили приглашенные. Это был шведский епископ Готтфрид Биллинг. К счастью, рядом с ним оказался Великий князь Константин Константинович – Президент Академии наук, отлично знавший «язык науки» – латынь, что дало ему возможность свободно общаться с епископом.
В начале мая молодые уехали в Стокгольм и поселились в новом дворце Оук Хилл, на острове Юргорден, в центре Стокгольма, построенном специально для молодоженов, кстати на царские деньги.
Мария Павловна, став шведской кронпринцессой и герцогиней Зюдерманландской, ничуть не изменила своего прежнего характера: она скатывалась по широким перилам на серебряном подносе, как и у себя дома в Санкт-Петербурге или в Ильинском под Москвой. Она полюбила ездить вместе со своим тестем-королем на охоту и подолгу играла с ним в теннис. Мария по-прежнему любила конные скачки, и ей нравилось, когда ее сопровождали шведские офицеры-кавалеристы.
Ко всеобщему удивлению, Мария Павловна поступила на общих основаниях в Академию прикладных искусств и успешно училась там.
В 1909 году у супругов родился сын, которого назвали Ленартом.
Через 40 лет – после очень долгой разлуки – Мария Павловна призналась сыну, что Вильгельм, его отец, был плохим любовником и часто избегал ее. Это обстоятельство бросалось в глаза многим, и чтобы добавить Вильгельму страсти, супругов отправили в длительное морское путешествие в Сиам (ныне Таиланд), в его столицу Бангкок, для участия в коронации нового короля Рамы II.
Рама влюбился в Марию Павловну, но она предпочла французского герцога Монпансье, оказавшегося пылким любовником. И тогда она поняла, как много потеряла в скучном браке с Вильгельмом.
Вернувшись в Стокгольм, Мария Павловна под предлогом болезни почек отправилась на остров Капри, но долго там не прожила: в 1913 году она уехала в Россию на празднование 300-летия дома Романовых, а оттуда, вместе с братом Дмитрием, в Париж к отцу – Великому князю Павлу Александровичу, которому было тогда 52 года. Павел Александрович после смерти их матери, греческой принцессы Александры, был женат еще дважды и слыл докой в бракоразводных делах. Он горячо посоветовал дочери развестись с Вильгельмом, и в декабре 1913 года Мария Павловна легко добилась развода.
Вильгельм больше не женился. Он стал историком рода Бернадотов, оставшись жить в Стокгольме. С ним же жил и его сын – принц Ленарт.
А Мария Павловна поступила в Париже в Школу живописи и много времени проводила в Италии и Греции.
Летом 1914 года она оказалась в России и сразу же ушла на фронт сестрой милосердия. Работая в санитарных поездах и в лазаретах, она никогда не говорила, что является двоюродной сестрой императора. Это позволило ей узнать истинное отношение простых русских людей к царю, к их семье, к войне и к монархии в целом.
Со временем она стала хирургической сестрой – вынимала пули, производила ампутации пальцев и другие несложные операции.
С конца 1915 и до начала 1917 года она, по приказу генерала Ренненкампфа, служила в одном из лазаретов Пскова, навсегда распрощавшись с иллюзиями, которые питала ее династия по отношению к русскому народу.
Сразу же после отречения Николая II от престола Мария Павловна уехала из Пскова в Петроград. Ей было тогда 26 лет.
В сентябре она скоропалительно, но по любви, еще раз вышла замуж. Ее избранником оказался сын дворцового коменданта в Царском Селе – князь Сергей Путятин. Он происходил из старинного княжеского рода, ведущего родословную от князя Михаила Черниговского, жившего в конце XII – первой половине XIII века и канонизированного церковью.
В июле 1918 года у них родился сын, названный Романом.
Они бежали через Киев в Румынию, где их приняла королевская семья – Фердинанд Гогенцоллерн-Зигмаринен и его жена Мария, принцесса Саксен-Кобург-Готская. Однако вскоре по политическим соображениям румынский король вынужден был отказать князю Путятину и его жене в гостеприимстве, и супруги уехали в Лондон, где жил брат Марии Павловны Дмитрий (кстати, он был одним из убийц Распутина).
Сюда же, в Лондон, приехал новый шведский кронпринц Густав-Адольф и привез с собою сохранившиеся в Стокгольме драгоценности Марии Павловны. Это была ее последняя радость.
Вскоре умер ее годовалый сын Роман. Пришли известия о гибели царской семьи в Екатеринбурге, о казнях в Алапаевске, в Петропавловской крепости и убийствах ее многочисленных родственников по всей России.
Деньги вскоре кончились, Мария Павловна стала портнихой, затем – фотографом. Сергей Путятин устроился клерком в банк.
Мария Павловна пробовала заниматься различными видами бизнеса – организовала мастерскую, где полсотни русских эмигрантов вышивали блузки, владела парфюмерным магазином, писала мемуары. Сергей Путятин чаще всего не работал и, увлекаясь автомобилями, разбивал их один за другим.
Постепенно Мария Павловна совершенно охладела к князю Путятину и развелась с ним.
В 1930 году, взяв с собою пишущую машинку и гитару, она села на пароход и уехала в США.
Сначала она работала консультантом в фирме модной одежды, затем стала заниматься журналистикой и цветной фотографией, которая тогда делала свои первые шаги. Ее успехи были очевидны, и Рандольф Херст послал ее своим корреспондентом в Германию.
В 1937 году король Швеции вернул ей подданство, утраченное четверть века назад, но сразу после окончания Второй мировой войны Мария Павловна уехала в Аргентину, заявив, что не может оставаться в стране, которая признала Советский Союз.
В 1947 году к ней в Буэнос-Айрес приехал принц Ленарт, отказавшийся от всех титулов из-за женитьбы на женщине низкого происхождения. Вот тогда-то мать и рассказала сыну о его детстве и своих взаимоотношениях с его отцом, герцогом Вильгельмом.
Мария Павловна умерла в декабре 1958 года, принц Вильгельм в 1965 году в Швеции, Сергей Путятин – в феврале 1966 года в Чарльстоне, штат Южная Каролина, США.
Накануне Первой мировой войны
Из важнейших внутриполитических событий этого периода следует упомянуть как минимум два: убийство Столыпина и празднование трехсотлетия дома Романовых.
Столыпин был смертельно ранен двумя выстрелами из браунинга 1 сентября 1911 года агентом «охранки» Богровым, который состоял в киевской группе анархистов-коммунистов.
Спустя два дня после покушения премьер-министр умер, а Богров предстал перед судом и через две недели был повешен. Сразу же появились две версии убийства: первая – Богров совершил террористический акт как революционер, вторая – убийство было совершено по заданию «охранки», руководители которой давно ненавидели Столыпина.
Сам Столыпин незадолго до смерти говорил: «Меня убьют, и убьют члены охраны».
21 февраля 1913 года исполнилось 300 лет со дня призвания на царство первого царя из дома Романовых – Михаила Федоровича. Этот юбилей праздновался необычайно широко и пышно. В Москве состоялся крестный ход, несли самые ценные святыни России – иконы Владимирской, Иверской и Казанской Богоматери. На Красной площади состоялся большой военный парад.
Тогда же в Александровском саду открыли памятник в честь юбилея – на четырехгранном шпиле из серого гранита были выбиты имена восемнадцати царей и цариц, от Михаила Федоровича до Николая II с надписью «300 лет Дому Романовых» и гербом России – двуглавым орлом.
(7 ноября 1918 года этот обелиск согласно так называемому «Ленинскому плану монументальной пропаганды» был кардинально переделан. Оставив нетронутым сам обелиск, архитектор Н. А. Всеволжский поместил на основании обелиска аббревиатуру «РСФСР» и лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», а вместо 18 царских имен были выбиты имена 19 социалистов – от Томаса Мора до Плеханова.)
15 мая 1913 года Николай с женой и детьми отправился в путешествие по России. Из Царского Села августейшее семейство через Гатчину и Тосно двинулось к Москве. Предстояло проехать на поезде, на пароходе, в автомобилях и экипажах по тем губерниям и уездам, градам и весям Суздальской и Московской Руси, где три века назад происходили самые главные события, благодаря которым на опустевшем московском троне появилась новая династия – Романовы.
16 мая царское семейство побывало в Московском Кремле, в Успенском соборе и в тот же день посетило Суздаль и три его монастыря, а затем Боголюбово.
17 мая доехали до Нижнего Новгорода, посетили кремль и главные святыни города и провели официальную часть визита по заранее разработанной программе, которая была типичной для всех городов, лежавших на пути следования Николая II.
В чем же состояла эта программа? Обязательными ее пунктами были: церемониальный марш лучших полков, расквартированных в городе; торжественный молебен в самом почитаемом храме; праздничное убранство города; радостная встреча царя народом; прием в губернаторском дворце высших чинов местной администрации; встреча дворян губернии или города в местном Дворянском собрании; прием и встреча с купечеством, банкирами и промышленниками; непременное присутствие при закладке памятников. В зависимости от местных условий все это дополнялось встречами с волостными старшинами, богатыми крестьянами, с учащимися разных учебных заведений и руководителями разнообразных малых народов, этнических групп и т. п.
Из Нижнего Новгорода Романовы пошли вверх по Волге на пароходе и 20 мая прибыли в Кострому, в Ипатьевский монастырь, в котором и произошло призвание на царство первого царя из дома Романовых – Михаила Федоровича.
21 мая пришли в Ярославль, а затем сухим путем, через Ростов Великий, Переславль и старинные монастыри, лежащие по дороге, 24 мая утром приехали в Троице-Сергиеву лавру, а днем – в половине четвертого – пожаловали в Москву.
В Москве царскую семью ждали с нетерпением. Царский поезд еще шел от Троице-Сергиевой лавры к Москве, а уже тысячи горожан толпились вдоль Первой Тверской-Ямской и Тверской и на всех площадях, мимо которых с вокзала в Кремль должны были проследовать августейшая фамилия, свита Его Величества, встречающие государя московские его родственники, столичные сановники и конный государев конвой.
К Александровскому вокзалу (ныне Белорусский) уже прошел в почетный караул любимый государев полк – Астраханский гренадерский, уже по одну сторону царской дороги встали шпалеры войск из других полков московского гарнизона, а по другую – всякая партикулярная публика и простой народ, отделенные от дороги частой цепочкой городовых и полицейских, уже вышли на паперти храмов, стоявших по пути к Кремлю, архиереи, попы и монахи с иконами и хоругвями, и промчался в пролетке – в который уж раз! – московский градоначальник, сновавший по главной столичной улице чуть ли не с самого утра, но на этот раз – все заметили – как-то особенно взволнованно и поспешно – именно в ту сторону, откуда и должна была появиться процессия.
Несколько раз волнение охватывало собравшихся, но тут же оказывалось, что понапрасну, что еще не едут.
Стало уже два, а потом и три пополудни, солнце стояло в зените, а государь все не объявлялся.
Наконец в три четверти четвертого со стороны Триумфальной площади донеслось долгожданное «ура!» – гренадеры-астраханцы отвечали на приветствие государя. Эхо солдатского «ура» еще висело в воздухе, как тут же у Александра Невского, что на Миуссах, ударили колокола. И вслед за тем над Первой Тверской-Ямской, с запада на восток, поплыл по небу колокольный звон. Грянули звонницы Страстного монастыря, тотчас же откликнулся соседний с ним Петровский монастырь, и от церкви к церкви, от колокольни к колокольне, все нарастая и усиливаясь, разносился над Первопрестольной торжественный и веселый праздничный благовест, пока наконец не вплелся в него низкий и густой бас тысячепудового Полиелейного колокола с Ивана Великого, будто хор мальчиков-певчих вдруг перекрыл глубокий бас протодиакона.
А меж тем царь, обойдя почетный караул, подошел к встречавшим его сановникам, генералам, тузам промышленности и торговли, городским думцам, к московским своим родственникам и, ласково улыбаясь, стал пожимать руки, глядя каждому в глаза, будто знает любого из них.
Затем царь помог усесться в один из экипажей императрице Александре Федоровне с наследником, одетым в его любимый наряд – матроску и бескозырку, посмотрел, как в другой экипаж впорхнули одна за другой четыре его дочери, и пошел в голову выстраивавшейся кавалькады, где двое лейб-конвойцев держали в поводу приготовленного для него белого коня редчайшей красоты и стати.
Сев в седло, Николай пропустил половину конвоя вперед и, легонько тронув коня шенкелями, направился к Триумфальной арке.
В белой офицерской гимнастерке с полковничьими погонами, без регалий и орденов он не выглядел владыкой великой империи, а казался обыкновенным армейским полковником, направлявшимся в летние лагеря или на маневры.
А колокольный звон все продолжался, войска держали «на караул», тысячи москвичей улыбались ему, поднимали на плечи детей, махали платками и шляпами, и ему подумалось, что этот его въезд в Москву такой же торжественный, как и коронационный в 1896 году.
Так проехал он до Иверской, пересек Красную площадь и возле Спасских ворот, сойдя с коня, перекрестился на узорчатые купола храма Покрова, на златоглавые кремлевские соборы и, отдав повод подбежавшему казаку-конвойцу, пешком пошел в Кремль, за крестным ходом, направлявшимся к Архангельскому собору, где предстояло возжечь лампаду и отстоять литию у гробницы первого русского царя Михаила Федоровича Романова.
Мог ли кто-нибудь подумать, что всего через пять лет вся эта семья будет убита и даже не похоронена…
А семья, пробыв в Москве до 27 мая, после обеда тронулась в Санкт-Петербург, завершив десятидневное путешествие по России.
Первая мировая война
15 июля 1914 года началась Первая мировая война – Австро-Венгрия, воспользовавшись тем, что студент-националист Гаврила Принцип застрелил наследника престола эрцгерцога Франца Фердинанда, объявила Сербии войну. За братскую православную Сербию вступилась Россия, а 19 июля, вступившись за союзную Австро-Венгрию, России объявила войну Германия, и наконец 24 июля к Германии присоединилась и Австро-Венгрия – война стала общеевропейской, а вскоре и мировой, в которой участвовало 38 государств с населением в полтора миллиарда человек.
20 июля Николай II назначил Великого князя Николая Николаевича Верховным Главнокомандующим, который все внимание уделял быстрейшей мобилизации. И все же прошло целых 40 дней, пока русская армия была полностью отмобилизована, однако уже осенью оказалось, что в огромной армии не хватает 870 тысяч винтовок, нет достаточного числа патронов, слаба артиллерия. Царская семья отнеслась к войне как своему собственному кровному и семейному делу: их фамильная психология, заставлявшая всех Романовых считать себя хозяевами Земли Русской, не позволяла оставить родину в беде, укрываясь в тылу. И потому все Великие князья и князья крови, способные носить оружие, пошли на фронт.
О Николае Николаевиче мы уже упоминали. Вместе с ним в ставке находился и его родной брат Петр Николаевич. Великий князь Борис Владимирович – августейший походный атаман всех казачьих войск – тоже почти всегда был на фронте. В штабе Юго-Западного фронта служил и Великий князь Николай Михайлович, который из-за своего ума, скептицизма и огромной исторической эрудиции с самого начала не верил в успех войны, слишком хорошо зная царя и всех своих родственников. Более всего критиковал он своего двоюродного брата – Верховного Главнокомандующего – за его авантюристическую тактику стремительных, неподготовленных наступательных операций в Галиции и Восточной Пруссии. Однако его взгляды разделял лишь один член семьи – Великий князь Александр Михайлович, выступивший на фронте в новой роли – уйдя с морской службы не по своей воле, он стал руководителем и организатором русской военной авиации и, превратившись в хорошего летчика, возглавил авиацию Юго-Западного фронта, а потом и всю военную авиацию страны.
В действующей армии, разумеется в гвардейских полках, служили офицерами и другие Романовы: тогда еще совсем молодые офицеры – сыновья Великого князя, президента Академии наук, поэта «К. Р.» Константина Романова – Гавриил, Константин, Олег и Игорь. Старшему из «Константиновичей» – Гавриилу – было 27, самому младшему, Игорю – 20.
А 29 сентября 1914 года, через два месяца после начала войны, в семье Романовых погиб один из самых молодых ее участников, князь Олег Константинович. Ему шел двадцать второй год. Это случилось в Восточной Пруссии, когда его эскадрон отступал к русской границе по топким болотам под градом вражеских снарядов. Он был ранен в живот и умер на второй день после ранения.
* * *
Война, начавшаяся летом, когда многие Романовы по обыкновению отдыхали и лечились на европейских курортах, застигла их врасплох. Но все же они сумели благополучно и быстро вернуться в Россию. С приключениями и трудностями добралась до Петрограда лишь вдовствующая императрица.
Весть о начале войны застала Марию Федоровну в Англии, в гостях у сестры, королевы Александры. 2 августа императрица переправилась через Ла-Манш, тотчас же пересела на поезд и двинулась в Россию. Однако в Берлине Марии Федоровне объявили, что сообщения с Россией нет и дальше ей ехать нельзя.
Немцы обращались с нею грубо и даже отказались продать императрице и ее спутникам продовольствие. Для удовлетворения просьб Марии Федоровне предложили обратиться к германскому императору, но она категорически отказалась.
Тем временем на вокзале собрались русские, не успевшие выехать из Германии, и императрица-мать на свой страх и риск всех их приютила в своем вагоне. Наконец появился немецкий чиновник из министерства иностранных дел и приказал поезду следовать в Данию. Вагон заперли, поставили на площадки часовых и отправили в Копенгаген. Отсюда, не задерживаясь ни на один день, Мария Федоровна приказала следовать через Швецию в Россию.
В 1914—1917 годах она вся ушла в работу по руководству «Красным Крестом»: формировала санитарные отряды и санитарные поезда, организовывала госпитали и, как могла, помогала раненым.
* * *
Вскоре после начала войны в Петроград приехал и брат царя, Великий князь Михаил Александрович со своей морганатической женой графиней Натальей Сергеевной Брасовой и двухлетним сыном Георгием.
В 1908 году, когда Михаил Александрович командовал эскадроном лейб-гвардии Кирасирского полка, шефом которого была его мать – вдовствующая императрица Мария Федоровна, полк стоял в Гатчине, и там, на одном из полковых праздников, Михаилу Александровичу была представлена Наталья Сергеевна Вульферт – жена ротмистра-кирасира Вульферта. Михаил Александрович влюбился в нее и просил у Николая II официального разрешения на брак.
Одно то, что Великий князь уводит у своего однополчанина жену, не могло рассматриваться иначе, как низкий и бесчестный поступок. Но дело осложнялось еще и тем, что жена Вульферта – дочь московского адвоката Шереметьевского, поверенного братьев-мультимиллионеров Рябушинских – до брака с Вульфертом три года была женой знаменитого предпринимателя Мамонтова. Николай писал матери: «Три дня назад Миша написал, прося разрешения жениться… Я никогда не дам моего согласия. Бог запрещает, чтобы это печальное дело стало причиной недоразумений в нашей семье».
Желая избежать скандала, Николай II назначил Михаила командиром полка черниговских гусар, стоявших в Орле, и Великий князь вынужден был уехать к месту их дислокации. Однако роман продолжался, и ротмистр Вульферт вынужден был дать жене развод.
Тонкий ценитель женской красоты, французский посол в России Морис Палеолог так описал ее внешность: «Я увидел стройную молодую женщину. Смотреть на нее было удовольствием. Весь ее облик обнаруживал большую личную привлекательность и благородный вкус. Ее шиншилловый мех, открытый на шее, давал возможность увидеть платье из серебристо-серой тафты, отделанное кружевом. Светлая меховая шапка гармонировала с ее прекрасными волосами. Ее чистое и аристократическое лицо было очаровательно вылеплено, у нее были светлые бархатистые глаза. Вокруг шеи искрилось на свету ожерелье из крупного жемчуга. От каждого ее движения веяло величественной, мягкой грациозностью».
Михаил не мог отказаться от такой женщины и уехал с нею за границу. Там Наталья родила сына, которого назвали Георгием. В октябре они приехали в Вену, крестили там в православной церкви новорожденного и обвенчались сами.
При заключении брака в Вене Михаил постарался предупредить какие бы то ни было осложнения. Он обезопасил свой брак даже тем, что венчался в православной церкви, находившейся под юрисдикцией Сербского патриарха, чтобы Святейший Синод не мог расторгнуть их брак, если бы и вздумал предпринять такую попытку.
Из Вены молодожены переехали в курортный баварский городок Берхтесгаден и сообщили Николаю и о своем браке, и о рождении сына.
Николай получил телеграмму, находясь в охотничьем заповеднике Спале. Случилось так, что накануне получения известия от Михаила о счастливом браке и рождении у него сына у Алексея был сильный приступ болезни, и Николай воспринял телеграмму как откровенное посягательство на трон, ибо Михаил стал бы наследником престола, если бы цесаревич умер. А следующим цесаревичем был бы сын Михаила – Георгий.
Прочитав телеграмму, император сказал сопровождавшей их семью близкой подруге императрицы Вырубовой: «Он нарушил свое слово, слово чести. Как в момент болезни мальчика и всех наших тревог они могли сделать такую вещь?»
Николай писал матери 7 ноября 1912 года: «Я собирался написать тебе по поводу нового горя, случившегося в нашей семье, вот ты уже узнала об этой отвратительной новости… Между мною и им сейчас все кончено, потому что он нарушил свое слово. Сколько раз он сам мне говорил, не я его просил, а он сам давал слово, что на ней не женится. И я ему безгранично верил! Ему дела нет ни до твоего горя, ни до нашего горя, ни до скандала, который это событие произведет в России. И в то же время, когда все говорят о войне, за несколько месяцев до юбилея дома Романовых!!! Стыдно становится и тяжело. Ужасный удар… Он должен сохраняться в абсолютной тайне».
Опасения Николая, что эта история станет всеобщим достоянием, вскоре оправдались, и тогда он лишил Михаила права регентства над Алексеем, если бы Николай скончался раньше Михаила, а Алексей еще не достиг совершеннолетия; он установил над имуществом Михаила опеку, как будто тот был сумасшедшим или малолетним, и, кроме того, лишил его права возвращения в Россию.
Правда, через какое-то время, узнав, что у Михаила не было никаких умыслов относительно изменения существующего порядка престолонаследия, Николай пожаловал жене Михаила титул графини Брасовой – по названию принадлежавшего ей имения, признав право на этот титул и за своим племянником Георгием Михайловичем Брасовым.
Михаил и Наталья остались жить за границей как частные лица. В 1913 году они переехали в Англию и поселились в замке Небворт, неподалеку от Лондона.
Когда началась Первая мировая война, Михаил глубоко переживал, что не может возвратиться в Россию. Он знал, что путь на родину ему закрыт, пока его старший брат-император не изменит своего решения. Тогда Михаил обратился за помощью к отцу своего друга детства, графу И. Н. Воронцову-Дашкову, бывшему долгие годы генерал-адъютантом и наместником на Кавказе. Старый граф написал письмо на имя царя, а молодой граф И. И. Воронцов-Дашков передал его Николаю II, и тот разрешил брату вернуться с женой в Россию.
По прибытии в Петербург (уже переименованный в Петроград) Михаил с семьей остановились в «Европейской» гостинице. На первой же аудиенции он попросил Николая дать ему какой-нибудь кавалерийский полк в действующей армии, но Николай приказал ему остаться в городе. Михаил ехал на родину для того, чтобы сражаться с немцами, а вместо этого оказался в некоем вакууме – двор он не любил, тем более что и Наталью Сергеевну там не принимали, а на фронт ехать ему запрещали, и он вынужден был томиться в совершеннейшем бездействии, сознавая полное бессилие изменить что-либо. И вновь ему на помощь пришел наместник на Кавказе. И. Н. Воронцов-Дашков задумал сформировать кавалерийскую дивизию, в которую вошли бы конники-мусульмане всех народов Кавказа, а ее начальником предложил назначить Великого князя Михаила Александровича. В конце концов, царь дал свое согласие.
В сентябре 1914 года Михаил вместе с женой и сыном выехал в Винницу, где эта дивизия, получившая неофициальное имя «Дикой дивизии» и вошедшая под этим именем в историю, заканчивала формирование. Официально же она называлась «Кавказская туземная конная дивизия». Ее особенностью было то, что она состояла из добровольцев, горцев-мусульман, которые в мирное время были освобождены от воинской повинности. Дивизия состояла из шести полков – Кабардинского, Дагестанского, Татарского, Чеченского, Ингушского и Черкесского; кроме того, в ее состав входили пешая Осетинская бригада и 8-й Донской казачий артиллерийский дивизион. В дивизии рядовых называли не нижними чинами, а «всадниками» и «воинами»; они получали высокое жалованье – 25 рублей в месяц – и обращались к офицерам на «ты».
Половина офицеров дивизии были русские гвардейцы, вторая половина – выходцы из аристократических фамилий Кавказа, и потому Михаил Александрович с особым удовольствием принял это назначение.
Вместе с Михаилом поехал в Винницу и молодой граф Воронцов-Дашков, чтобы служить под началом Великого князя. Друзей детства сближало и то, что у Воронцова-Дашкова как раз в это время происходила столь же одиозная матримониальная история, что и у его начальника: он тоже собрался жениться на даме, которая еще не получила развод, но уже давно жила с ним.
В Виннице эти две семьи сдружились и часто проводили время вместе.
(Графиня Л. Н. Воронцова-Дашкова, находясь в эмиграции в Париже, продиктовала свои воспоминания писателю Р. Б. Гулю. Из этих воспоминаний, опубликованных в рижском журнале «Даугава» № 5 – 6 в 1991 году, автор и получил возможность узнать о жизни Михаила Александровича в 1914—1917 годах.)
В октябре 1914 года жена Воронцова-Дашкова, ставшего командиром Кабардинского полка, получив после венчания его фамилию и графский титул, уехала в Петроград и поселилась в доме мужа на Английской набережной. Время от времени она выезжала к мужу на фронт и от него, а также от командира Дагестанского полка князя Амилахвари, от командира Татарского полка князя Бековича-Черкасского, от адъютанта Великого князя – хана Эриванского, узнавала и о Михаиле Александровиче.
Так она узнала, что уже в начале 1915 года командир кавалерийского корпуса, в который входила Дикая дивизия, хан Гуссейн Нахичеванский представил Михаила Александровича к ордену Георгия за то, что Дикая дивизия под Перемышлем остановила немецких кирасир и Великий князь, находясь под огнем, проявил и воинское мастерство, и личное мужество. Однако Николай II оставил это представление без внимания. За бои на реке Сан хан Нахичеванский еще раз представил Михаила к тому же ордену и снова был проигнорирован императором.
Наконец за новое успешное дело Великий князь был еще раз представлен к «Георгию» командующим 8-й армией А. А. Брусиловым. Старый генерал был поопытнее своих подчиненных и, прежде чем посылать бумаги царю, провел награждение через Георгиевскую думу своей армии. Георгиевские кавалеры единогласно высказались за награждение начальника «Дикой дивизии» орденом Георгия IV степени, и Николай на этот раз не мог отказать в награде своему младшему брату.
Императорская семья накануне и в годы Первой мировой войны
К началу войны дети Николая II и Александры Федоровны представляли собою прелестное сообщество из четырех сестер и брата в возрасте от 10 до 19 лет. Мы расстались с ними, когда Алексей Николаевич только родился, а старшей его сестре – Ольге – было всего 9 лет.
В любой многодетной семье близкие по годам дети всегда тянутся друг к другу, образуя маленькие группки по интересам. Так было и в царской семье: две старшие дочери – Ольга и Татьяна – составляли одну пару, две младшие – Мария и Анастасия – другую. И немного особняком стоял единственный мальчик, их брат Алексей, которого все очень любили и жалели. Цесаревич Алексей был тихий, необыкновенно красивый ребенок – настоящий сказочный принц с длинными вьющимися светло-каштановыми волосами, ясными большими серо-голубыми глазами и необыкновенно нежной кожей. Воспитатель цесаревича, учивший его французскому языку, Пьер Жильяр, так писал о своем воспитаннике, когда Алексею шел десятый год: «Он был довольно крупен для своего возраста. Он вполне наслаждался жизнью, когда мог, как резвый и жизнерадостный мальчик. Вкусы его были очень скромны. Он совсем не кичился тем, что был наследником Престола, об этом он меньше всего помышлял. Его самым большим счастьем было играть с двумя сыновьями матроса Деревенко, которые оба были несколько моложе его.
У него была большая живость ума и суждения и много вдумчивости. Он поражал иногда вопросами выше своего возраста, которые свидетельствовали о деликатной и чуткой душе… В маленьком капризном существе, каким он казался вначале, я открыл ребенка с сердцем, от природы любящим и чувствительным к страданиям, потому что сам он уже много страдал».
Девочки были дружны, помогали друг другу и чаще всего бывали вместе. Возле них были одни и те же учителя, воспитатели и воспитательницы, они жили сначала в одной большой комнате, став старше, разделились на две пары, и только будучи уже взрослыми, стали жить каждая в своей комнате. Они не были избалованы роскошью, и как в семьях среднего достатка, младшие сестры донашивали платья, юбки, кофты, пальто и даже обувь старших. По воспоминаниям царского камердинера А. А. Волкова, дети с 8 часов утра и до обеда занимались уроками. При них постоянно жили Гиббс и Жильяр, преподаватели английского и французского языков, а остальные учителя были приходящими. Иногда занятия ненадолго прерывались, и детей брала с собою на прогулку Александра Федоровна, катая их в экипаже по Царскосельскому парку. При детях состоял доктор Е. С. Боткин, а Алексея, кроме того, опекал доктор В. Деревенько, когда же у цесаревича случались сильные приступы болезни, то его носил на руках высокий и сильный моряк, бывший боцман императорской яхты «Штандарт», почти однофамилец доктора – Деревенко. Вскоре в помощь ему был привлечен еще один дядька – матрос Нагорный.
Начальник канцелярии министерства двора, генерал-лейтенант А. А. Мосолов, тоже оставивший воспоминания, писал, что сначала девочки росли без надзора воспитательниц, а только под опекой нянек. Когда же сестры выбегали из своих комнат, то только мать присматривала за ними. Постепенно надзор за Великими княжнами перешел к Екатерине Адольфовне Шнейдер, которая учила Елизавету Федоровну после того, как она приехала в Россию, русскому языку. Шнейдер получила придворную должность гофлектрисы и учила принцесс, пока они были маленькими, по всем предметам. Она любила девочек, как своих родных детей, и была им бесконечно предана. Она доказала свою верность им, отправившись в 1918 году в Сибирь и разделив с ними их ужасную общую участь. Та же судьба постигла и двух нянь девочек – Анну Александровну Теглеву и Елизавету Николаевну Эроберг.
Следует заметить, что принцессы, во многом отличаясь друг от друга, имели и много общего. Они были веселы, незлобивы, любили мать и отца, отличались искренней набожностью, не пропуская церковных служб и исполняя все предписания религии: постясь, исповедуясь, причащаясь, раздавая милостыню бедным и облегчая участь попавших в беду.
О детстве девочек-принцесс сохранилось очень немного сведений. Отдельную небольшую книжку о старшей из них – Ольге – написал в эмиграции П. Савченко, издав ее в 1986 году в Джорданвилле. В этой книжке были по крупицам собраны свидетельства учителей, фрейлин, придворных – всех, кто когда-то сталкивался с царскими дочерями.
Фрейлина Танеева свидетельствовала: «Дети их величеств были горячие патриоты; они обожали Россию и все русское; между собой говорили только по-русски, хотя учили их трем иностранным языкам: английскому, французскому и немецкому».
Довольно рано всех девочек научили плавать, ходить на веслах на шлюпках, танцевать и ездить верхом. Сестры были «прелестными девочками, скромно и просто воспитанными, относившимися ко всем с ласковостью и вежливостью, а зачастую и с строгой заботливостью», – вспоминал флигель-адъютант Фабрицкий.
В 1914 году старшая из сестер, девятнадцатилетняя Ольга, стала уже невестой. Летом она отправилась в Румынию, где ее ждал потенциальный жених – принц Кароль. Однако принц не приглянулся Ольге, и решение о помолвке отложили. Сопровождавшие же ее знали, что решающим оказалось то, что Ольга не захотела оставаться в Румынии, потому что не мыслила себе жизни вне России.
Разразившаяся вскоре после ее возвращения на родину война заставила детей быстро повзрослеть: в их дом пришла беда, а ничто так не способствует возмужанию, как борьба с несчастьем, которое сплачивает всех и выявляет такие высокие качества, как сила воли, самоотверженность, стремление идти на помощь другим. Их бабушка и мать, их тетки и старшие двоюродные сестры с первых же дней войны стали сестрами милосердия в санитарных поездах и лазаретах.
Лазареты были развернуты во всех их дворцах, они почти сразу же увидели страшную изнанку войны – увечья, смерти, кровь и страдания своих «милых и родных солдатиков», с любовью и нежностью глядевших на них, скрывая боль и муки, о которых добрые девочки-христианки все равно догадывались и не по-детски глубоко и серьезно сострадали. Ольга и Татьяна почти сразу же ушли в «Красный Крест», младшие потянулись за ними через два-три года.
Война сразу же коснулась и их, когда они узнали о смерти двоюродного дяди Олега Константиновича, который был старше Ольги всего на три года. А когда их маленький брат стал вместе с отцом ездить в ставку, на фронт, то к беспокойству об отце прибавилась и постоянная тревога о брате.
Некоторые фрагменты из истории войны
С первых же дней войны начались тяжелые бои, и в них русская армия сразу же стала нести такие потери, каких никто не мог предположить даже в самых мрачных, апокалипсических прогнозах. По мобилизации в армии оказалось более пяти миллионов солдат и офицеров, а за все годы войны под ружье было поставлено более пятнадцати миллионов.
Серьезнейшим изъяном было и то, что армией командовали два человека, ненавидевшие друг друга – Великий князь Николай Николаевич и военный министр Владимир Александрович Сухомлинов.
Великий князь – двухметровый великан, со сверкающими синими глазами – был самым уважаемым человеком в армии. «Вся его натура, – писал Морис Палеолог, – источала неистовую энергию. Его язвительная, обдуманная речь, быстрые, нервные движения, жесткий, крепко сжатый рот и гигантская фигура олицетворяли властную и пылкую храбрость».
Сухомлинов во всем был полной противоположностью Великому князю – маленький и толстый, сибарит и лентяй, он постоянно врал, и о нем говорили, что больше его самоуверенности было присущее ему беспредельное невежество.
В этой ситуации Николай II вынужден был исполнять роль верховного арбитра, чаще, правда, склоняясь на сторону своего министра.
В первые месяцы войны немцы навязали Антанте свой план действий: они ворвались во Францию и вскоре остановились у ворот Парижа. Спасая союзников, две русские армии – П. К. Ренненкампфа и А. В. Самсонова – начали самоубийственное наступление в Восточной Пруссии, но были разбиты. Тем не менее, немцы вынуждены были снять с Западного фронта более двух корпусов, и их наступление на Париж сорвалось. Это дало возможность французам в пограничных сражениях измотать немецкие войска и остановить их на реке Марне. А на Восточном – русском – фронте главные сражения 1914 года развернулись в Польше и Галиции.
* * *
Ставка Николая Николаевича располагалась возле станции Барановичи, почти на стыке двух фронтов – германского и австро-венгерского, в густом смешанном лесу, в двух десятках вагончиков, между которыми были настланы деревянные тротуары. Туда часто приезжал царь, а уже в конце октября 1914 года, возвращаясь из ставки в Петроград, Николай II побывали на переднем крае, в Иван-городе. В ноябре он проехал на Турецкий фронт, а через год, снова приехав в ставку, привез с собою и одиннадцатилетнего цесаревича, одетого в длинную серую шинель рядового пехотинца.
Жильяр, сопровождавший наследника, писал: «Алексей Николаевич следовал по пятам за отцом, боясь пропустить слово в рассказах этих мужественных воинов, часто смотревших смерти в лицо. Черты лица его, которые всегда были выразительными, становились совсем напряженными от усилия не пропустить ни единого слова из рассказов этих героев. Его присутствие возле царя особенно интересовало солдат… Но главное, что производило величайшее впечатление на них, было то, что цесаревич одет в форму рядового».
К середине 1915 года русская артиллерия замолчала – на 300 немецких выстрелов она могла ответить одним снарядом. Неудачи не заставили себя ждать: русская армия начала отступление из Польши, из Галиции, из Литвы, из Курляндии. Отход армии сопровождался уходом на восток сотен тысяч беженцев. Отступление и неудачи в войне связывали со шпионажем в российских верхах в пользу немцев.
В феврале 1915 года был арестован находящийся на службе в армии жандармский полковник Мясоедов. Вместе с ним арестовали и несколько друзей и сослуживцев Сухомлинова. Особый военно-полевой суд приговорил Мясоедова к смертной казни, и его казнили 19 марта того же года. Вслед за тем стали утверждать, что и военный министр, и его красавица-жена, бывшая на тридцать лет младше его и часто посещавшая немецкие курорты, тоже – шпионы Германии.
Николаю ничего не оставалось, как попросить своего министра об отставке. 13 июня 1915 года военным министром стал генерал от инфантерии А. А. Поливанов – либерал, редактор военных изданий, закончивший свой путь в 1920 году на посту члена Особого совещания при Главкоме Красной Армии С. С. Каменеве, тоже бывшем офицере русской армии.
Впрочем, военным министром Поливанов был лишь до 15 марта 1916 года, менее чем за два года – до отречения Николая II от престола – на этом посту побывало еще три человека, и средний срок пребывания их равнялся семи месяцам, – стало быть, не в людях было дело, а в системе.
Почти одновременно с Сухомлиновым подали в отставку еще три министра, и не только в России, но и за границей создалось впечатление о слабости и шаткости царского режима. Отставки происходили на фоне сдачи немцам многих городов и целых губерний, и тогда Николай II принял решение стать во главе армии, заменив Николая Николаевича. Однако многие пришли от этого в смятение. А. А. Поливанов говорил: «Подумать жутко, какое впечатление произведет на страну, если государю императору пришлось бы от своего имени отдать приказ об эвакуации (т. е. сдаче. – В. Б.) Петрограда или, не дай Бог, Москвы». А один из главных врагов Сухомлинова, член Государственного совета А. В. Кривошеий, во всеуслышание заявил: «Народ давно, со времен Ходынки и японской кампании, считает государя царем несчастливым, незадачливым».
Но это были голоса людей, стоявших у руля государства, а народ считал, что царя подтолкнул к принятию должности Верховного Главнокомандующего не кто иной, как Гришка Распутин.
Феномен Распутина
Мы расстались со старцем Григорием, когда летом 1912 года после паломничества в Святую Землю он под влиянием лавины слухов о его оргиях и бесчинствах уехал к себе в Покровское. Потом он то наезжал в Петербург и Москву, то снова жил у себя дома в Тобольской губернии. Однако независимо от того, где он жил, волна ненависти к нему не стихала, и по всей России упорно распространялись грязные и нелепые слухи о его тайном сожительстве с императрицей, которую эти же «обличители» без малейшей тени сомнения считали немецкой шпионкой.
Осенью 1914 года Распутин приехал в Петроград и не покидал его до конца своей жизни, окружив себя сонмом фанатичных поклонниц из всех слоев общества, которые верили в то, что он – Господь Саваоф, пили воду, оставшуюся после того, как они же омывали его в бане.
Несомненно, Распутин являл собою редчайший пример некоего феномена, в котором соединялись невероятные по своей силе гипнотические способности с невообразимой сексуальной силой и сверхъестественными способностями целителя.
…В романе «Хождение по мукам», сравнивая фаворитов XVIII века с Распутиным, Алексей Толстой писал: «Как сон, прошли два столетия: Петербург, стоящий на краю земли, в болотах и пусторослях, грезил безграничной славой и властью; бредовыми виденьями мелькали дворцовые перевороты, убийства императоров, триумфы и кровавые казни; слабые женщины принимали полубожественную власть; из горячих, измятых постелей решались судьбы народов; приходили разные парни с могучим сложением и черными от земли руками и смело поднимались к трону, чтобы разделить власть, ложе и византийскую роскошь. С ужасом оглядывались соседи на эти бешеные взрывы фантазии. С унынием и страхом внимали русские люди бреду столицы. Страна питала и никогда не могла напитать кровью свои петербургские призраки.
…И вот во дворец, до императорского трона, дошел и, глумясь и издеваясь, стал шельмовать над Россией неграмотный мужик с сумасшедшими глазами и могучей мужской силой…»
Многие из фанатичных поклонниц Распутина были связаны с двором, правительством, генералитетом, банкирами и иерархами церкви. Один из примеров – фрейлина Лидия Владимировна Никитина – любовница старика Б. В. Штюрмера, который при настоятельнейшей поддержке Распутина 20 января 1916 года стал председателем Совета Министров. Другой – Ольга Валерьевна Пистолькорс, жена Великого князя Павла Александровича, просившая протекции у царя и царицы о даровании ей княжеского титула. Дело это успешно завершилось, благодаря протекции Распутина, и она из графини Гогенфельзен стала княгиней Палей.
К этому времени вокруг старца возник тесный кружок «распутинцев», объединенный личной приверженностью к нему и стремлением сделать карьеру или же получить материальные выгоды для себя и своих ближних.
Когда 22 августа 1916 года Николай II выехал в ставку, переместившуюся вследствие отступления из Барановичей в Могилев на Днепре, наступило серьезное изменение внутриполитической обстановки – царь уже не мог уделять такого внимания многообразным государственным делам, ибо большую часть времени должен был отдавать делам военным. Кроме того, он немалое время проводил в пути между Могилевом и Петроградом, и из-за его частого отсутствия сильно возросла роль Александры Федоровны, а следовательно, Распутина и «распутинцев». По утверждению Мориса Палеолога, пристально следившего через своих агентов за Распутиным и его окружением более всего из-за того, что старец все чаще стал говорить о сепаратном выходе России из войны, что поставило бы Францию перед катастрофой, подлинными демиургами политики, стоявшими за спиной временщика, были следующие «кукловоды»: банкир Манус, князь Мещерский, сенатор Белецкий, председатель Государственного Совета Щегловитов и петроградский митрополит Питирим. Все эти люди стали творцами политики, поскольку, по словам министра внутренних дел А. Д. Протопопова, занявшего этот пост при активнейшем содействии Распутина, «всюду было будто бы начальство, которое распоряжалось, и этого начальства было много. Но общей воли, плана, системы не было и быть не могло при общей розни среди исполнительной власти и при отсутствии законодательной работы и действительного контроля за работой министров».
Кризис власти был налицо. Особенно ярко проявилось это, когда 20 января 1916 года премьер-министром стал Б. В. Штюрмер. И, конечно же, эта перемена не дала ровным счетом ничего, ибо в начале 1916 года измотанная, истекающая кровью армия, потерявшая убитыми, ранеными и пленными около четырех миллионов человек, отступившая на сотни верст в глубь страны, перестала верить в победу и не понимала, почему и за что идет эта война. В равной мере ненавистной становилась война и для всего общества.
Историк, литературовед и издатель М. К. Лемке, ушедший на фронт в звании штабс-капитана и волею судьбы оказавшийся в ставке, писал в своем дневнике 27 января 1916 года: «Когда сидишь в ставке, веришь, что армия воюет, как умеет и может; когда бываешь в Петрограде, в Москве, вообще в тылу, видишь, что вся страна ворует. „Черт с ними со всеми, лишь бы сейчас урвать“, – вот девиз нашего массового и государственного вора.
Страна, в которой можно открыто проситься в тыл, где официально можно хлопотать о зачислении на фабрику или завод вместо отправки в армию, где можно подавать рапорты о перечислении из строя в рабочие роты и обозы, – такая страна не увидит светлого в близком будущем… такая страна обречена на глубокое падение. Страна, где каждый видит в другом источник материальной эксплуатации, где никто не может заставить власть быть сколько-нибудь честной, – такая страна не смеет мечтать о почетном существовании.
Вот к чему привели Россию Романовы! Что они погибнут, и притом очень скоро, – это ясно».
«Так что же делать?» – спрашивал Лемке. И отвечал: «Надо мужественно вступать в борьбу за спасение страны от самой себя и нести крест ради молодого поколения».
Что дела обстоят именно так, понимали многие – и будущие «белые», и будущие «красные», – да только ответ на вопрос: «Кого и как спасать в этой стране?», давали они совершенно по-разному.
То же самое – «мужественно вступать в борьбу за спасение страны от самой себя» – исповедовали и другие русские патриоты. И у многих из них спасение России напрямую связывалось с уничтожением главного «демона зла» – Распутина. Против него, против группировавшихся вокруг него министров, против императрицы, изображавшейся немецкой шпионкой на русском троне, сплотились почти все оппозиционные самодержавию силы. 1 ноября 1916 года на заседании Государственной думы лидер кадетской партии и так называемого «прогрессивного блока», состоявшего из трехсот депутатов правого крыла, приват-доцент по русской истории П. Н. Милюков открыто обвинил Штюрмера в пособничестве неприятелю и был поддержан всей Думой. Николай II пошел на уступки и уволил Штюрмера, как человека, не способного отстоять не только линию правительства, но и самого себя. Премьер-министром был назначен А. Ф. Трепов, доказавший еще в 1905 году, что чего другого, а твердости ему не занимать. Но оказалось, что одной твердости недостаточно, а других необходимых качеств у Трепова не было. Довольно неожиданно для царя союзниками Думы стали некоторые из его собственных родственников. Богобоязненная и милосердная Елизавета Федоровна, никогда не остававшаяся в стороне, если видела какую-нибудь несправедливость, в начале декабря 1916 года сказала Николаю II: «Распутин раздражает общество и, компрометируя царскую семью, ведет династию к гибели». Присутствовавшая при сем Александра Федоровна решительно попросила сестру никогда более этого вопроса не касаться. Эта встреча оказалась последней в их жизни.
И уж совсем непредвиденным оказалось для Николая письмо из Лондона, от Великого князя Михаила Михайловича, мужа внучки Пушкина, графини Меренберг: «Я только что возвратился из Букингемского дворца. Жоржи (король Англии Георг V, двоюродный брат Николая II. – В. Б.) очень огорчен политическим положением в России. Агенты Интеллидженс Сервис, обычно очень хорошо осведомленные, предсказывают в России революцию. Я искренне надеюсь, Ники, что ты найдешь возможным удовлетворить справедливые требования народа, пока еще не поздно».
Великий князь Николай Михайлович, по просьбе Марии Федоровны и сестер императора Ольги и Ксении, тоже обратился к царю с письмом. «Ты находишься накануне эры новых волнений, скажу больше – накануне эры покушений. Поверь мне, если я так напираю на твое собственное освобождение от создавшихся оков, то я это делаю не из личных побуждений, а только ради надежды и упования спасти тебя, твой престол и нашу дорогую Родину от самых тяжких и непоправимых последствий».
Из письма следует, что и мать Николая II, и его сестры Ольга и Ксения, и единомышленник Ксении, ее муж Великий князь Александр Михайлович, а значит, и все другие «Михайловичи» – дружный и сплоченный многочисленный и могущественный клан – также разделяли эту озабоченность.
Не остался в стороне и брат Николая II Михаил, который в 1916 году вернулся с фронта в Гатчину и занял должность генерал-инспектора кавалерии, сдав свою дивизию князю Д. П. Багратиону. И Михаил, и его жена, теперь уже принятая при дворе, тоже были противниками Распутина. Однако Николай II, как и прежде, все эти просьбы, наставления, заклинания и поучения оставил без внимания. Тогда среди его родственников нашлись смелые молодые люди, которые решились на убийство Распутина.
Убийство «Святого черта»
В главе о Николае I уже рассказывалось о внебрачном сыне внучки Кутузова Елизаветы Федоровны Тизенгаузен и прусского короля Фридриха-Вильгельма III, дочь которого была русской императрицей, женой Николая I. Мальчик, привезенный в Россию под именем Феликса Форгача, приходился императрице единокровным братом. Разумеется, что это не афишировалось, и когда в 1836 году Феликса определили в артиллерийское училище, ему дали фамилию Эльстон.
При покровительстве двух императоров – Николая I и Александра II – служба его шла весьма успешно, может быть, еще и потому что он довольно долго не был женат и отыскал себе невесту на тридцатом году, будучи уже полковником артиллерии. Его невестой стала дочь генерала от артиллерии, члена Государственного Совета Сергея Павловича Сумарокова – Елена Сергеевна. Генерал был внучатый племянник знаменитого драматурга А. П. Сумарокова, род которого традиционно роднился с аристократической российской и европейской элитой.
Когда Феликс Эльстон получил согласие на брак, две старшие дочери генерала уже были замужем. Зоя Сергеевна была княгиней Оболенской, а Мария Сергеевна – княгиней Голицыной. Как только в царской семье узнали о предстоящей свадьбе, генерала С. П. Сумарокова сразу возвели в графское достоинство, а еще через двенадцать дней указом передали этот титул и Феликсу Николаевичу, повелев ему впредь именоваться – «графом Сумароковым-Эльстон». Вскоре у молодых супругов родился сын, названный Феликсом. Это имя стало затем традиционным в семье. Когда Феликс Феликсович в 1882 году женился на княжне Зинаиде Николаевне Юсуповой, в роде Юсуповых не было ни одного представителя по мужской линии. И потому мужу З. Н. Юсуповой, Феликсу Феликсовичу Сумарокову-Эльстон, императорским указом, изданным в 1891 году, было велено именоваться «князем Юсуповым, графом Сумароковым-Эльстон». Соответственно, право на этот двойной титул получали и их дети.
11 марта 1887 года у Зинаиды Николаевны и Феликса Феликсовича родился сын, которого назвали, конечно же, Феликсом, именуя его, чуть-чуть в шутку, но и с очевидным подтекстом, «Феликсом III». И, нужно сказать, Феликс III с малых лет почитал себя особой царской крови, как мы теперь знаем, не без достаточных к тому оснований. Из-за своего более чем неординарного происхождения он с малых лет был близок к царской семье и дружил с детьми Николая II и многих Великих князей. Феликс Юсупов получил прекрасное образование, завершив курс наук в Оксфорде.
Возвратившись из Англии, Феликс III, очень красивый, молодой, баснословно богатый князь, стал добиваться руки Великой княжны Ирины Александровны – дочери Великого князя Александра Михайловича и родной сестры Николая II Ксении. Свадьба 18-летней Ирины и Феликса, которому шел 27-й год, состоялась 9 февраля 1914 года в Аничковом дворце и была последним большим семейным праздником в доме Романовых.
В дневнике Николая II осталась об этой свадьбе такая запись: «В 2 часа Аликс и я с детьми поехали в город в Аничков на свадьбу Ирины и Феликса Юсупова. Все прошло очень хорошо. Народу было множество. Все проходили через зимний сад мимо Мама и новобрачных и так поздравляли их».
Мать и отец Ирины были решительными противниками Распутина, из-за чего отношения между ними и царской четой сильно испортились. Случилось так, что ярая поклонница старца Муня Головина в юности была влюблена в Феликса Юсупова и познакомила молодого, тогда еще не женатого князя, с Распутиным. Оба они со временем стали проявлять друг к другу взаимный интерес: Распутин хотел улучшить свое сильно пошатнувшееся положение в великокняжеских кругах, а Юсупов – разобраться в этом непонятном ему феномене. Несколько раз они встречались, демонстрируя один другому дружеское расположение, – Юсупов, играя на гитаре, пел романсы, а старец пытался расположить князя душевными откровениями. Мало-помалу Феликс убедился, что многолетние разговоры о Распутине, которого резко осуждали его родители, абсолютно справедливы.
В конце 1916 года Феликс особенно близко сошелся с двоюродным братом Николая II Великим князем Дмитрием Павловичем, который был одним из любимцев царя. Затем в курс дела был введен В. М. Пуришкевич – один из главных основателей черносотенных организаций – «Союз русского народа» и «Союз Михаила Архангела». Друзья-заговорщики вовлекли его в свой заговор после того, как 19 ноября 1916 года Пуришкевич сказал: «В былые годы, в былые столетия Гришка Отрепьев колебал основы русской державы. Гришка Отрепьев воскрес в Гришке Распутине, но этот Гришка, живущий при других условиях, опаснее Гришки Отрепьева».
Заговорщики решили убить Распутина в ночь с 16 на 17 декабря, заманив его в дом Юсупова и отравив цианистым калием, положенным в пирожные. Кроме трех главных заговорщиков, в деле участвовали еще двое – поручик С. М. Сухотин и военный врач С. С. Лазаверт.
15 декабря Юсупов пригласил Распутина к себе во дворец, сказав, что с ним очень хочет познакомиться его жена – красавица Ирина, якобы только что приехавшая из Крыма. На самом же деле ни Ирины, ни какой-либо другой женщины во дворце не было и не должно было быть. Юсупов сказал, что он заедет за Распутиным к нему домой «на моторе», на следующий вечер около 11 часов, объясняя столь поздний час тем, что у Ирины будет гостить ее мать, долго ее не видевшая, и потому женщины могут разъехаться очень поздно.
К 11 часам вечера все заговорщики собрались в доме Юсупова, и он поехал за Распутиным.
– Я за тобой, отец, как было условлено. Моя машина внизу, – демонстрируя особое расположение, произнес Юсупов и даже обнял и поцеловал старца.
– Ну, целуешь же ты, меня, маленький! – столь же сердечно ответил Распутин, зная, что так, «маленьким», звали его царь и царица и что это будет приятно Юсупову. – Да уж, не Иудин ли это поцелуй?
Через десять минут они приехали в дом князя. На втором этаже горели окна и слышались звуки граммофона.
– Это Ирэн и Ксения Александровна, а с ними еще несколько молодых людей – сказал Юсупов. – Скоро, кажется, теща поедет к себе, а мы пока посидим внизу.
Он провел Распутина в одну из комнат первого этажа и предложил сесть в кресло рядом со столиком, на котором стояли две тарелочки с пирожными и бутылка с любимой Распутиным мадерой. В пирожных и в вине содержалась доза цианистого калия, в десять раз превосходящая смертельную. Четверо заговорщиков ждали наверху.
Юсупов предложил вино и пирожные, но старец отказался и от того, и от другого.
Когда часы пробили час ночи, а Ирина все не появлялась, Распутин начал нервничать и крикнул Юсупову:
– Где твоя жена? Меня и мама не заставляет ждать! Иди за ней и веди сюда!
Юсупов, успокаивая старца, попросил подождать еще несколько минут и снова предложил ему выпить.
Разволновавшийся Распутин согласился, вино ему понравилось, и он выпил два бокала и съел два пирожных. Затем выпил еще – каждый бокал вина содержал не меньшую, чем пирожные, дозу яда, но на Распутина ничего не действовало. Испуганный хозяин дома выскочил из комнаты, сказав, что идет звать Ирину. Феликс взбежал на второй этаж и сообщил заговорщикам, что яд не оказывает действия. И тогда Великий князь Дмитрий Павлович дал ему револьвер. Юсупов спустился вниз и дважды выстрелил в гостя. Распутин мгновенно рухнул на пол. На выстрелы тут же явились сообщники и, увидев, что Распутин мертв, выбежали во двор, чтобы подогнать автомобиль Дмитрия Павловича и отвезти труп к проруби на реке.
Юсупов остался в комнате с жертвой, и вскоре Пуришкевич услышал его дикий крик:
– Он жив!
Пуришкевич вернулся в комнату, но Распутина в ней не было. Выскочив за дверь, Пуришкевич увидел, как Распутин, шатаясь, бежит к воротам. Пуришкевич – отличный стрелок – посылает ему вдогонку несколько пуль. С четвертого выстрела он попал Распутину в голову. На упавшего старца набросился Юсупов и нанес ему несколько ударов по голове тяжелым бронзовым канделябром.
Заговорщики бросили бездыханного, как им казалось, Распутина в автомобиль и полным ходом помчались к Крестовскому острову.
Там они столкнули тело в воду. Они не заметили, как с ноги Распутина упала галоша и осталась на льду.
…Через три дня полиция, обнаружив галошу, отыскала и тело Распутина.
* * *
А на следующий день после убийства, еще не зная о том, что произошло, Александра Федоровна писала мужу: «Мы сидим все вместе – ты можешь представить наши чувства – наш Друг исчез. Вчера А. (Вырубова. – В. Б.) видела его, и он ей сказал, что Феликс просит его приехать к нему ночью, что за ним приедет автомобиль, чтоб он мог повидать Ирину… Я не могу и не хочу верить, что его убили. Да сжалится над нами Бог!»
19 декабря Николай II, бросив все, приехал из ставки в Петроград. Выслушав доклад министра внутренних дел Протопопова о результатах расследования, царь отдал приказ поместить Юсупова и Дмитрия Павловича под домашний арест.
Морис Палеолог записал в дневнике 2 января 1917 года (по ст. стилю это было 20 декабря 1916 года): «Тело Распутина нашли вчера во льдах Малой Невки у Крестовского острова, возле дворца Белосельского… Узнав позавчера о смерти Распутина, многие обнимали друг друга на улицах, шли ставить свечи в Казанский собор! Когда стало известно, что Великий князь Дмитрий был в числе убийц, стали толпиться у иконы Святого Дмитрия, чтобы поставить свечу.
Убийство Григория – единственный предмет разговоров в бесконечных «хвостах» женщин, ожидающих в дождь и ветер у дверей мясных и бакалейных лавок распределения мяса, чая, сахара и пр.
Они рассказывают друг другу, что Распутин был живым брошен в Невку, одобряя это пословицей: «Собаке – собачья смерть».
Другая народная версия: «Распутин еще дышал, когда его бросили под лед. Это очень важно, потому что он, таким образом, никогда не будет святым». В русском народе существует поверье, что утопленники не могут быть канонизированы.
* * *
Тело Распутина, как только вытащили из-подо льда, немедленно, не привлекая ничьего внимания, повезли через весь город в Чесменскую военную богадельню, стоявшую по дороге в Царское Село. Труп Распутина осмотрел профессор Косоротов, составил акт и ввел в зал молодую послушницу Акилину, некогда одержимую бесом и исцеленную от этого недуга старцем Григорием. Из сонма поклонниц, рвавшихся омыть тело отца Григория, удостоена была она одна. Ее, по совету Вырубовой, назначила сама императрица. Так, во всяком случае, утверждал Морис Палеолог. Акилина была призвана в Чесменскую богадельню для того, чтобы омыть покойного и обрядить во все новое и чистое. Ей помогал в этом больничный служитель – мужчина, состоявший при лазарете Чесменской богадельни.
Жена Распутина, его дочери и сын были в это время в Петрограде, но никого из них и ни одной его поклонницы проститься с покойным не допустили.
Полночи Акилина омывала тело старца, наполняла благовониями и ароматическими маслами его раны, а потом обрядила в новые одежды и положила в гроб. Затем она возложила ему на грудь крест, а в руки – записочку от Александры Федоровны: «Мой дорогой мученик, дай мне твое благословение, чтобы оно постоянно сопровождало меня на скорбном пути, который мне остается пройти здесь, на земле. И вспоминай о нас на небесах в твоих святых молитвах.
Александра».
Одежду, которая была на убитом, Акилина отдала императрице, и та, веря в ее чудодейственную силу, оставила все себе, надеясь, что окровавленная сорочка «мученика Григория» спасет династию. Императрица забрала вещи на следующий после омовения день, когда вместе с Вырубовой приехала к гробу старца, покрыла его цветами и долго молилась и плакала. Около полуночи гроб увезли в Царское Село, где и оставили до утра в часовне Царскосельского парка.
21 декабря Николай II записал в дневнике: «В 9 часов поехали всей семьей мимо здания фотографии и направо к полю, где присутствовали при грустной картине: гроб с телом незабвенного Григория, убитого в ночь на 17 декабря извергами в доме Ф. Юсупова, который стоял уже опущенным в могилу. Отец Александр Васильев отслужил литию, после чего мы вернулись домой. Погода была серая при 12° мороза…»
Гроб был закопан под алтарем будущего храма при лазарете, который построила на свои деньги Вырубова.
Юсупов в «Мемуарах» писал, что царь, узнав об убийстве Распутина, стал весел, каким ни разу не был во время войны. Он почувствовал, что «тяжкие цепи сняты».
После того как нашли тело Распутина, Дмитрия заключили под домашний арест. Сестра Дмитрия – Мария Павловна – приехала к нему из Пскова, где стоял штаб Северного фронта.
Она рассказала, что армия ликует, узнав об убийстве Распутина. Дмитрия, по приказу царя, отправили на турецкий фронт, в Персию, а Юсупову велено было ехать в одно из его имений – село Ракитное, где он пережил отречение царя от престола и в конце марта 1917 года через бурлящий Петроград поехал в Москву.
Там встретился он с Елизаветой Федоровной, все рассказал ей и получил полное одобрение содеянному.
А 23 марта 1917 года (по ст. стилю – 10 марта), через неделю после отречения Николая II от престола, французский посол в России Морис Палеолог записал: «Вчера вечером гроб Распутина был тайно перевезен из Царскосельской часовни в Парголовский лес, в пятнадцати верстах от Петрограда. Там на проталине несколько солдат под командой саперного офицера соорудили большой костер из сосновых ветвей. Отбив крышку гроба, они палками вытащили труп, так как не решались коснуться его руками вследствие его разложения, и не без труда втащили его на костер. Затем все полили керосином и зажгли. Сожжение продолжалось больше шести часов, вплоть до зари. Несмотря на ледяной ветер, на томительную длительность операции, несмотря на клубы едкого, зловонного дыма, исходившего от костра, несколько сот мужиков всю ночь толпами стояли вокруг костра, боязливые, неподвижные, с оцепенением растерянности наблюдая святотатственное пламя, медленно пожиравшее мученика старца, друга царя и царицы, божьего человека. Когда пламя сделало свое дело, солдаты собрали пепел и погребли его под снегом…»
…Через два года то же самое произошло со всей царской семьей.
* * *
Секретарь Распутина Арон Симанович в 1921 году, находясь в эмиграции в Риге, опубликовал «Завещание», отданное ему старцем незадолго до смерти.
Вот оно: «Дух Григория Ефимовича Распутина-Новых из села Покровского.
Я пишу и оставляю это письмо в Петербурге. Я предчувствую, что еще до первого января (1917 года. – В. Б.) я уйду из жизни. Я хочу русскому народу, ныне, русской маме, детям и русской земле наказать, что им предпринять.
Если меня убьют нанятые убийцы, русские крестьяне, мои братья, то тебе, русский царь, некого опасаться. Оставайся на троне и царствуй. И ты, русский царь, не беспокойся о своих детях. Они еще сотни лет будут править Россией.
Если же меня убьют бояре и дворяне, и они прольют мою кровь, то их руки останутся замаранными моей кровью, и двадцать пять лет они не смогут отмыть свои руки. Они оставят Россию. Братья восстанут против братьев и будут убивать друг друга, и в течение двадцати пяти лет не будет в стране дворянства.
Русской земли царь, когда ты услышишь звон колоколов, сообщающий тебе о смерти Григория, то знай: если убийство совершили родственники, то ни один из твоей семьи, то есть детей и родных, не проживет дольше двух лет. Их убьет русский народ.
Я ухожу и чувствую в себе божеское указание сказать русскому царю, как он должен жить после моего исчезновения. Ты должен подумать, все учесть и осторожно действовать. Ты должен заботиться о твоем спасении и сказать твоим родным, что я заплатил моей жизнью. Меня убьют. Я уже не в живых. Молись, молись. Будь сильным. Заботься о твоем избранном роде».
* * *
Феликс Юсупов и Дмитрий Павлович недолго находились под домашним арестом – царь приказал до окончания следствия первому из них жить в имении Ракитное в Курской губернии, а второму – отправляться в Персию, где находился русский экспедиционный корпус.
Однако и это решение в отношении Дмитрия было оспорено многими родственниками царя. Мария Федоровна, четыре «Михайловича» и три «Владимировича» считали пребывание в Персии молодого и слабого здоровьем Дмитрия «равносильным его гибели» и просили заменить это наказание ссылкой в подмосковное Ильинское.
Царь, прочитав письмо, наложил резолюцию: «Никому не дано право заниматься убийством, знаю, что совесть многим не дает покоя, так как не один Дмитрий Павлович в этом замешан. Удивляюсь Вашему обращению ко мне.
Николай».
Серьезных выводов не сделал никто – ни царь, ни Великие князья. Полагая, что все дело в людях, Николай II за четыре дня до Нового, 1917-го года сменил премьер-министра, назначив на место А. Ф. Трепова тихого и покорного монаршей воле старика Н. Д. Голицына, занимавшего перед тем пост председателя Комиссии по оказанию помощи русским военнопленным. Перед Голицыным царь поставил две задачи: улучшить продовольственное положение страны и наладить работу транспорта.
Задачи-то были поставлены верно, да не было сил их решить, и начинающийся в столице голод через два месяца привел к голодному бунту, переросшему затем в Февральскую революцию.
Последние дни династии
Новый, 1917-й год Николай и Александра встретили на молитве в церкви. 31 декабря Николай записал в дневнике: «В 6 часов поехали ко всенощной. Вечером занимался. Без 10 минут полночь пошли к молебну. Горячо помолились, чтобы Господь умилостивился над Россией!»
После этих слов Николай нарисовал на странице крест.
Новый год в царской семье словно перенял у старого года эстафету несчастий: болела Александра Федоровна, болел Алексей, злоба и раздражение поселились в великокняжеских семьях, из рук вон плохо работал новый Кабинет министров, продовольственные пайки все уменьшались, роптала армия и, несмотря на войну, нарастала волна забастовок.
9 января, в день 12-й годовщины Кровавого воскресенья, по всей России прошли демонстрации и политические стачки. Только в Петрограде бастовало около 150 тысяч человек.
22 февраля, оставив дома больных корью Ольгу и Алексея, да и сам сильно простуженный, отстояв с императрицей службу в церкви Знамения, Николай в два часа дня уехал в ставку.
…Через десять дней он вернулся в Царское Село уже не императором, а «гражданином Романовым»…
* * *
Николай еще ехал в ставку, а уже вслед ему летели два письма: одно от жены, второе – от сына. «Мой драгоценный! – писала Александра Федоровна. – С тоской и глубокой тревогой я отпустила тебя одного, без нашего милого, нежного Бэби. Какое ужасное время мы теперь переживаем! Еще тяжелее переносить его в разлуке – нельзя приласкать тебя, когда ты выглядишь таким усталым, измученным. Бог послал тебе воистину страшно тяжелый крест. Мне так страстно хотелось бы помочь тебе нести это бремя! Ты мужествен и терпелив – я всей душой чувствую и страдаю с тобой, гораздо больше, чем могу выразить словами. Что я могу сделать? Только молиться и молиться. Наш дорогой Друг в ином мире тоже молится за тебя – так Он еще ближе к нам. Но все же как хочется услышать Его утешающий и ободряющий голос! Бог поможет, я верю, и ниспошлет великую награду за все, что ты терпишь. Но как долго еще ждать…
О, Боже, как я тебя люблю! Все больше и больше, глубоко, как море, с безмерной нежностью. Спи спокойно, не кашляй – пусть перемена воздуха поможет тебе совсем оправиться. Да хранят тебя светлые ангелы. Христос да будет с тобой, и Пречистая Дева да не оставит тебя… Вся наша горячая, пылкая любовь окружает тебя, мой муженек, мой единственный, мое все, свет моей жизни, сокровище, посланное мне всемогущим Богом! Чувствуй мои руки, обвивающие тебя, мои губы, нежно прижатые к твоим – вечно вместе, всегда неразлучны. Прощай, моя любовь, возвращайся скорее к твоему старому Солнышку».
А заболевший корью, с первыми признаками нового приступа гемофилии Алексей послал отцу такое письмо: «Дорогой мой, милый папа! Приезжай скорей. Спи хорошо. Не скучай. Пишу тебе самостоятельно. Надеюсь, что кори у нас не будет, и я скоро встану. Целую 10 000 000 раз. Будь Богом храним! А. Романов».
Однако надежды цесаревича не сбылись. Одна за другой заболели все его сестры и даже ухаживавшая за ними Вырубова. В их комнатах с занавешенными окнами ходила от одной кровати к другой одетая в платье сестры милосердия заплаканная императрица. Она почти не спала и все время молилась.
23 февраля Николай II приехал в ставку, и в тот же самый день в Петрограде начались массовые волнения, тут же переросшие в грандиозные политические манифестации, митинги, собрания, а через два дня в городе началась всеобщая стачка, парализовавшая жизнь столицы.
27 февраля Николай записал в дневнике: «В Петрограде начались беспорядки несколько дней тому назад; к прискорбию, в них стали принимать участие и войска. Отвратительное чувство быть так далеко и получать отрывочные нехорошие известия!… После обеда решил ехать в Царское Село поскорее и в час ночи перебрался в поезд».
А в те часы, когда он это писал, в Петрограде солдаты слились с рабочими и пошли к Таврическому дворцу, где заседала Дума, а Павловский лейб-гвардейский полк без выстрела вошел в Зимний дворец, и вскоре собравшиеся на Дворцовой площади люди увидели, как с флагштока пополз вниз черно-золотой императорский штандарт, а через несколько минут вместо него над крышей взмыло красное полотнище.
В это же время 20 тысяч демонстрантов ворвались в сад Таврического дворца, и насмерть перепуганные депутаты не знали, чего им ждать: то ли гибели, то ли триумфа. Положение спас трудовик Александр Федорович Керенский. Он кинулся навстречу демонстрантам и приветствовал их от имени Думы, решительно объявив, что депутаты идут в одних рядах с демонстрантами. Тут же были образованы две организации: Временный комитет Государственной думы и Петроградский Совет. Во главе Комитета Думы оказался ее бывший председатель, октябрист Михаил Владимирович Родзянко, во главе Петроградского Совета – меньшевик Николай Семенович Чхеидзе, а его товарищем был избран А. Ф. Керенский.
А в это время Николай II, еще не зная обо всем происшедшем, до трех часов ночи беседует с генералом от инфантерии Н. И. Ивановым и поручает ему подавить восстание, возглавив батальон георгиевских кавалеров. Командующий Гвардейским корпусом Великий князь Павел Александрович отлично понимает, что у него нет сил противостоять революции, а царь и Иванов надеются прекратить беспорядки силами одного батальона…
Следующий день принес Николаю прозрение: его царский поезд, дойдя до Малой Вишеры, повернул назад, так как станции Любань и Тосно оказались занятыми восставшими. Не оставалось ничего иного, кроме как доехать до Пскова, где находился штаб командующего армиями двух фронтов – Северного и Северо-Западного – генерала от инфантерии Н. А. Рузского.
В штабе Рузского Николая ждали телеграммы о восстаниях в Москве, на Балтийском флоте и в Кронштадте, а потом в течение нескольких часов пришли телеграммы от всех командующих фронтами, и все они, кроме генерала А. Е. Эверта, командующего Западным фронтом, высказались за отречение Николая от трона. Это произошло после того, как начальник штаба Верховного Главнокомандующего, генерал М. В. Алексеев, получил от Рузского телеграмму, что Петроградский Совет и Временный комитет Государственной думы требуют отречения царя от престола, и он просит сообщить мнение об этом командующих фронтами. Среди этих телеграмм оказалась и депеша от командующего Закавказским фронтом Великого князя Николая Николаевича… Прочитав телеграмму «дяди Николаши», царь сказал:
– Я принял решение. Я отрекусь в пользу Алексея.
А потом, после долгой паузы спросил своего врача – долго ли проживет Алексей? И когда тот ответил отрицательно, Николай решил передать права на трон своему брату Михаилу.
Вечером 2 марта в Псков приехали председатель Военно-промышленного комитета А. И. Гучков и член Временного комитета Государственной думы В. В. Шульгин, уполномоченные принять из рук Николая II документ об отречении от престола.
Сохранились воспоминания Шульгина о том, как проходило отречение. «Государь сидел, оперевшись слегка о шелковую стену, и смотрел перед собой. Лицо его было совершенно спокойно и непроницаемо. Я не спускал с него глаз… Гучков говорил о том, что происходит в Петрограде. Он не смотрел на государя, а говорил, как бы обращаясь к какому-то внутреннему лицу, в нем же, в Гучкове, сидящему. Как будто бы совести своей говорил.
Когда Гучков кончил, заговорил царь. Совершенно спокойно, как о самом обыкновенном деле, он сказал: «Я вчера и сегодня целый день обдумывал и принял решение отречься от престола. До 3 часов дня я готов был пойти на отречение в пользу моего сына, но затем я понял, что расстаться с моим сыном я не способен…Вы это, надеюсь, поймете. Поэтому я решил отречься в пользу брата». Затем он сказал:
– Наконец я смогу поехать в Ливадию.
…Он отрекся, как командование эскадроном сдал».
Николай II отрекся от престола и за себя, и за цесаревича в пользу своего брата Михаила, записав в эту ночь в дневнике: «В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена, и трусость, и обман!»
3 марта он приехал в Могилев и здесь узнал, что Михаил не принял корону и отрекся от царского сана.
* * *
4 марта к Николаю в Могилев из Киева приехала его мать, вдовствующая императрица Мария Федоровна. Последующие три дня прошли в долгих беседах и чаепитиях. 8 марта Николай подписал последний приказ по армии, тепло простился со всеми чинами ставки, с офицерами и казаками лейб-конвоя и Сводного казачьего полка, с матерью, которая должна была после отъезда сына вернуться в Киев, с Великими князьями, оказавшимися в то время в ставке, и уехал в Царское Село.
9 марта он записал в дневнике: «Скоро и благополучно прибыл в Царское Село – в 11 1/2 ч. Но, Боже, какая разница – на улице и кругом дворца внутри парка часовые, а внутри подъезда какие-то прапорщики! Пошел наверх и там увидел душку Аликс и дорогих детей. Она выглядела бодрой и здоровой, а они все лежали в темной комнате…
Погулял с Валей Долгоруковым (гофмаршалом двора. – В.Б.) и поработал с ним в садике, так как дальше выходить нельзя!»
…И с этой самой поры и до близкой уже смерти «дальше выходить нельзя» стало для всех них обязательным и нерушимым каноном, ибо с этого самого дня они стали арестантами…
На этом закончилась 305-летняя история Российского императорского дома, а дальше для одних начался путь на Голгофу, а для других на чужбину. Но это уже совсем другая история…
* * *
Как сложилась судьба членов царской семьи, выживших после падения монархии в страшные дни Октябрьского переворота и годы Гражданской войны?
Вдовствующая императрица Мария Федоровна с дочерями Ксенией и Ольгой Александровнами и Великим князем Александром Михайловичем благополучно добрались из Крыма до Копенгагена.
Кириллу Владимировичу с семьей с немалым трудом удалось получить разрешение на выезд в Финляндию.
Его мать – Великая княгиня Мария Павловна Младшая – с сыновьями Борисом и Андреем до 1920 года жили в Кисловодске. Они счастливо избежали расстрела и весной 1920 года были эвакуированы на итальянском корабле.
В том же году Кирилл и его семья уехали из Финляндии во Францию, потом перебрались в Кобург, а с 1925 года поселились в Бретани на скромной вилле, возле курорта Сен-Мало.
С этого времени оказавшиеся в эмиграции монархисты объявили Кирилла Владимировича «императором в изгнании», борясь с еще одним претендентом на уже несуществующий престол – Великим князем Николаем Николаевичем Младшим.
Эта борьба самолюбия и нервов в немалой степени способствовала ухудшению здоровья «императрицы в изгнании» Виктории Федоровны, которая в конце 1935 года окончательно слегла и спустя два месяца умерла. 2 марта 1936 года ее отпели в православном соборе Парижа на рю Дарю. И сразу же перевезли в семейную усыпальницу в Кобург.
Смерть любимой жены явилась большим ударом для Кирилла Владимировича, что, впрочем, не помешало ему продолжать борьбу, отстаивая свои права на престол.
12 октября 1938 года он умер в Париже, а 19 октября был погребен в Кобурге, в склепе Великих герцогов Саксен-Кобург-Готских рядом со своей любимой Даки. И почти через 60 лет, в 1995 году, их останки перевезли в Санкт-Петербург, в Петропавловский собор, в родовую усыпальницу дома Романовых…
* * *
Закончить эту книгу хотелось бы стихами, найденными в доме Ипатьева, в подвале которого убили царскую семью. Эту молитву в стихах написала Великая княжна Ольга Николаевна незадолго до расстрела:
Пошли нам, Господи, терпенье В годину бурных мрачных дней Сносить народное гоненье И пытки наших палачей. Дай крепость нам, о Боже правый, Злодейство ближнего прощать И Крест тяжелый и кровавый С Твоею кротостью встречать. И в дни мятежного волненья, Когда ограбят нас враги, Терпеть позор и оскорбленье, Христос Спаситель, помоги. Владыка Мира, Бог вселенной, Благослови молитвой нас… И дай покой душе смиренной В невыносимый страшный час. И у преддверия могилы Вдохни в уста Твоих рабов Нечеловеческие силы — Молиться кротко за врагов…Давайте же и мы помолимся за всех, о ком написано в этой книге, ибо история семьи Романовых была полна и обычных человеческих грехов, и великих мучений и страданий.
Послесловие Как появилась эта книга
Наша семья в ноябре 1945 года приехала из Сибири в Кенигсберг, где служил в 11-й гвардейской армии мой отец. Мне было тогда 14 лет.
Я сразу же – навсегда и безоговорочно – влюбился в этот город, почти полностью уничтоженный войной. О былом его величии свидетельствовали лишь руины прекрасных домов, дворцов и церквей, контрастирующих с вечной красотой прудов и великолепных парков.
Окончив исторический факультет в местном университете, я начал работать в краеведческом музее и серьезно увлекся историей Восточной Пруссии.
В 1963 году я защитил диссертацию о Тевтонском ордене и с тех пор написал десяток книг и немало статей о русско-германских отношениях в самых разных аспектах. Одним из таких аспектов в последние десять лет стали для меня династические русско-немецкие связи, о которых всегда умалчивали советские историки, да и в досоветское время им уделялось очень мало внимания. А уж о цельной картине этих связей как о стойкой исторической традиции, сохранявшейся на протяжении более двух веков, вопрос вообще не ставился.
Между тем такая традиция не только существовала, но и была чрезвычайно интересной, крайне плодотворной и многосторонней, о чем я попытался рассказать в своей книге в надежде, что мой труд послужит укреплению дружеских отношений между Россией и Германией, любовь и уважение к которой я испытываю всю жизнь.
Примечания
1
О судьбе Мекленбург-Стрелицкой династии после 1917 года можно прочитать в журнале «Историческая генеалогия». № 3. М. С. 37 – 43.
(обратно)
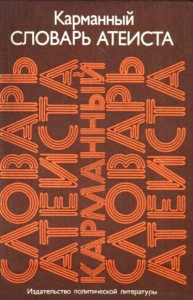

Комментарии к книге «Тайны дома Романовых», Вольдемар Николаевич Балязин
Всего 0 комментариев