Михаил Леонидович Серяков Великий закон славян
© Серяков М.Л., 2012
© ООО «Издательство „Вече“», 2012
© ООО «Издательство „Вече“», электронная версия, 2017
Введение
Наверное, у каждого из нас есть неосознанное стремление найти некий наивысший закон, универсальный принцип. Эта бессознательная тяга к Запредельному, лежащему в самой сути мироздания, далеко за пределами того, что может быть адекватно выражено человеческим словом, была присуща и нашим далеким предкам, жившим за много тысячелетий до нынешнего времени. Некогда, современные индоевропейские народы жили еще вместе, произошел великий духовный прорыв, когда человек впервые смог если не понять, то, по крайней мере, интуитивно прочувствовать этот всеобъемлющий закон, управляющий всей Вселенной. Мы не знаем, как звали тех гениев, которым впервые открылись совершенство и беспредельная красота этого закона и которым оказалось по силам передать это мирочувствование своим соплеменникам. Прикоснувшись к Наивысшему, огнем своего духа они смогли осветить путь вселенского закона для индоевропейцев.
Осознав весь окружающий его мир как стройную систему (что, собственно, и означает введенный Пифагором термин «Космос», ставший для нас таким привычным), древний человек начал сознательно определять в нем место, как для себя, так и для своего общества. Это была поворотная точка в восприятии мира и в нем самого себя. Восприняв Вселенную как некий порядок, противоположный хаосу, древние индоевропейцы вслед за тем с неизбежностью пришли к выводу, что этот порядок по необходимости управляется одним общим законом. Согласно этому закону движется все мироздание и существует всё и вся в этом мире – от всемогущих богов до последней пылинки, не говоря уже о человеке. Не следует обманываться кажущейся простотой картины языческого мироздания, которая была много сложнее и богаче навязанной нам впоследствии ветхозаветной традиции. За внешней, видимой стороной природного и социального космоса древний человек открыл невидимый универсальный космический закон. Мало что может сравниться по своей значимости с этим Великим Открытием. Во многом уже забыв об этом космическом прорыве, человечество на протяжении последующих тысячелетий многократно открывало для себя многие законы, по которым было устроено как оно само, так и окружающая его Вселенная. Однако все это были частные, локальные законы, ни один из которых даже отдаленно не может сравниться по своей значимости со Вселенским Законом. Необходимо помнить, что само его открытие было сделано в незапамятные времена индоевропейского единства, о чем убедительно свидетельствуют, за неимением других доказательств, данные различных языков этой семьи, сохранившие название вселенского закона, – все они происходят от одного корня. Распад же индоевропейской общности специалисты в области лингвистики еще недавно датировали рубежом III–II тысячелетий до н. э., однако в последнее время появились данные в пользу более ранней датировки данного события: «Все вышеизложенное определяет на основании древнейших ареальных данных период существования общеиндоевропейской языковой системы временем не позднее V–IV тысячелетий до н. э., к которому и следует отнести начало диалектного членение общеиндоевропейского языка»[1].
Современному человеку, отстоящему от этого события более чем на шесть-семь тысячелетий, да к тому же воспитанному в совершенно иной, иудохристианской традиции, чрезвычайно трудно представить себе этот языческий вселенский закон. Этот великий духовный порыв был настолько велик, что свет Высшей Истины продолжал сиять на протяжении многих веков и после распада индоевропейского единства, когда отдельные народы этой великой языковой семьи расселились по доброй половине Евразии и на своих новых исторических родинах создали свои национальные культуры. Как мы увидим ниже, память о вселенском законе, хоть и в разной степени, продолжала жить на громадных пространствах от Ирландии до Индии и от Руси до Греции уже в историческую эпоху, от которой до нас дошли священные гимны, героический эпос и памятники письменности. Под воздействием неумолимой силы времени, закона неизбежной деградации и худших сторон человеческой натуры с течением веков память об этом судьбоносном событии постепенно исчезала из последующих поколений людей, многим из которых кривые тропинки беззакония казались легче и удобнее прямой дороги закона. В силу этого представления об этом основополагающем принципе мироздания стали постепенно ослабевать. Однако, как мы увидим на примере отечественной истории, самый страшный удар по осознанию вселенского закона нанесли даже не худшие стороны человеческой натуры, а христианство, сделавшее все от него зависящее для того, чтобы принявшие его народы отреклись от этого основополагающего принципа космического бытия и окончательно позабыли о самом его существовании. Память о великом законе на Руси (как, впрочем, и во всех остальных странах, подвергшихся насильственной христианизации или исламизации) старательно вытравлялась церковниками, стремившимися любой ценой расчистить место для своих христианских заповедей. Делалось это так активно, что в результате от единого понятия космологического характера остались только жалкие фрагменты, свидетельствующие лишь о его существовании на нашей земле. О степени его принижения говорит хотя бы такой факт: если к «Голубиной книге» на протяжении двух последних столетий неоднократно обращались десятки различных исследователей, то о вселенском законе, известном на Руси под именем роты, практически нет никаких работ (за исключением одной статьи), и сам факт его существования как бы выпал из поля зрения ученых. Как и в случае с «Голубиной книгой», реконструкция представлений о нем оказалась возможной лишь путем сравнения с другими индоевропейскими традициями. Сравнение это подчинялось жестким критериям: мифологические представления других родственных народов не переносились на русскую почву произвольно (в подобном случае отечественная традиция ничем бы не отличалась от индоевропейской, утратила бы свою специфику и была бы просто-напросто подменена произвольно выбранными кусками), а изпользовались лишь те их фрагменты, которые имеют свое соответствие в русской традиции и следы которых в той или иной форме независимо прослеживаются на Руси.
Тем не менее, новая религия смогла, да и то лишь частично, стереть знание о вселенском законе из человеческой памяти. Однако от этого сам закон никуда не исчез из природы, в том числе и из природы самого человека. Если со Вселенной в целом от того, что люди предали забвению управляющий ею закон ничего не произошло, то этого нельзя сказать о человеке. Восприятие вселенского закона в меру своих ограниченных способностей и осознанное следование ему в жизни составляло одну из главных, если не самую главную основу мирочувствования индоевропейцев, формировавшую их уникальную духовную природу. С забвением этого универсального космического первопринципа духовная природа наших предков утратила свою целостность и начала разрушаться, и разрушение это человек неизбежно понес и в окружающий его мир. Баланс гармоничного отношения человека с человеком, человеком и обществом, человеком и природой был утрачен, а степень разрушительной деятельности вовне и внутри человека с течением времени продолжает неуклонно возрастать. Об опасности подобного развития событий догадывались наши предки, которые знали, что когда место Закона занимает Беззаконие, то порядок на любом уровне неизбежно сменяется разрушением и хаосом.
К теме вселенского закона я впервые пришел при изучении одного из аспектов деятельности древнерусского верховного бога Перуна, особенно в свете сравнения его с индийским богом Варуной. В своем пантеоне каждый из этих богов являлся хранителем этого универсального принципа, и данное обстоятельство стало одним из важных доказательств генетической близости обоих этих мифологических персонажей. В этом качестве она была включена в качестве III части в изданное в 2001 году исследование «„Голубиная книга“ – священное сказание русского народа». Если духовный стих о «Голубиной книге» нес в себе бесценную информацию о внешней стороне возникновения Вселенной и человеческого общества, то тема вселенского закона раскрывала внутреннюю сторону сущности мироздания. Чрезвычайно важно, что как «Голубиная книга», так и представление о вселенском законе в Древней Руси своими корнями уходят в эпоху индоевропейской общности. С тех пор данные о вселенском законе у других индоевропейских народов продолжали накапливаться и осмысляться. В результате, когда встал вопрос о переиздании моего исследования о «Голубиной книге», тему универсального принципа, определяющего собой существование Вселенной, было решено выделить в качестве отдельной книги, которая теперь и предлагается вниманию читателя.
Глава 1. Верховные боги – хранители закона
В книге о рождении Вселенной мы привели ряд текстов различных индоевропейских народов, которые показывают, что представление о возникновении всего многообразия окружающего человека мира в результате расчленения Первобога возникло у них еще в период индоевропейской общности. Индийские веды называют это Первосущество Пурушей (буквально «человек») и описывают возникновение Вселенной так:
Луна из (его) духа рождена, Из глаза солнце родилось, Из уст – Индра и Агни, Из дыхания родился ветер. Из пупа возникло воздушное пространство, Из головы развилось небо, Из ног – земля, стороны света – из уха. Так они устроили миры[2]. (РВ Х, 13–14)В Скандинавии оно было известно под именем Имира, и «Старшая Эдда» сообщает следующее об образовании мироздания:
Имира плоть стала землей, кровь его – морем, кости – горами, череп стал небом, а волосы – лесом. Из ресниц его Мидгард людям был создан богами благими; из мозга его созданы были темные тучи[3].На Руси его первоначальное имя не сохранилось, и в духовном стихе о «Голубиной книге» он фигурирует под именем библейского Саваофа, отождествляемого с Иисусом Христом:
В Голубиной Книге есть написано: Оттого зачался наш белый свет — От Святаго Духа Сагаофова; Солнце красное от лица Божья, Самого Христа царя небеснаго; Млад-светел месяц от грудей Божьих; Звезды цястыя от риз Божьих; Утрення заря, заря вецерняя От очей Божьих, Христа царя небеснаго; Оттого у нас в земле ветры пошли — От Святаго Духа Сагаофова. От здыхания от Господняго; Оттого у нас в земле громы пошли — От глагол пошли от Господниих…[4]Поскольку в результате расчленения Первобога на части образуется не Хаос, а Космос, то есть та упорядоченная Вселенная, в которой мы живем, это по необходимости предполагает наличие в ней некоего глобального закона. Присутствие в ней какого-то универсального принципа, поддерживающего необходимый порядок, как в отдельных частях мироздания, так и в их отношениях друг с другом, с очевидностью следует из того, что Космос не превратился в Хаос уже в следующий миг своего бытия и не превратился до сих пор. Если человеческое общество, этот социальный космос, является подобием Вселенной, макрокосмоса, то этот вселенский закон автоматически распространяется и на него. Хотя данный принцип, безусловно, должен был играть одну из важнейших ролей в мирочувствовании древних индоевропейцев, тем не менее, он ни разу не упоминается ни в одном из пяти космогонических текстов индоевропейских народов, проанализированных в книге «„Голубиная книга“ – священное сказание русского народа». Однако эта их общая черта, кажущаяся на современный взгляд совершенно нелогичной, легко объяснима: все эти священные (за исключением греческого) тексты повествуют о внешней стороне возникновения Вселенной, тогда как упорядочивающий ее закон относится к внутренней, неявной и потому более сокровенной ее стороне. «Законом сокрыт закон» – так говорит по этому поводу индийская традиция. Понятно, что воссоздаваемая картина мировосприятия и наших далеких языческих предков, и индоевропейцев будет весьма неполной, если мы упустим из виду эту чрезвычайно важную ее деталь.
Однако реконструкция древних представлений о вселенском законе в более или менее точном виде является задачей исключительной по своей сложности. Дело даже не в том, что на Руси не сохранилось до нашего времени сколько-нибудь целостного текста о нем, – после многих веков упорных и целенаправленных усилий христианства по уничтожению всего, что имело отношение к исконной духовной сокровищнице нашего народа, это как раз неудивительно. Дело в том, что подобного текста, скорее всего, вообще не было – даже в Индии и Греции, чьи духовные богатства сохранились для человечества в сотни раз лучше, чем русское язычество, единого текста о вселенском законе не зафиксировано, а различные намеки и упоминания о нем рассыпаны по многочисленным произведениям. Тот факт, что индоевропейцы ни во время своего единства, ни после его распада не пытались как-то кодифицировать свои представления о всемирном законе и связно их описать, объясняется, по всей видимости, не только тем, что они великолепно понимали, что «мысль изреченная есть ложь» и что человеческий язык вряд ли способен адекватно отразить вселенский универсальный принцип.
Можно высказать предположение, что первоначально люди воспринимали этот закон не на логическом, а на интуитивном уровне. С точки зрения рассмотренных выше их космогонических представлений это было вполне естественно: люди возникли из тела Первобога и, наряду со всей остальной Вселенной, составляли неотъемлемую его часть. Поскольку вселенский закон внутренне присутствует во всем мироздании, он изначально присутствует и в людях, которым поэтому нет нужды логически формулировать свои неизбежно неполные представления о нем. Они существуют в этом мире благодаря этому универсальному закону и в соотнесении с ним, интуитивно чувствуя любое отклонение от него. Он является врожденной и неотъемлемой частью каждого из потомков Первобога, вне зависимости от того, на каком – небесном или земном – уровне они существуют. Следовать ему для людей должно быть так же естественно, как и дышать.
Современная психология лишь в начале XX века благодаря работам К.Г. Юнга открыла, что помимо индивидуального бессознательного в человеческой психике лежит более глубокий слой – коллективное бессознательное. Его содержание составляет набор различных архетипов (первообразы Матери-Земли, героя, мудрого старца и т. д.), которые недоступны непосредственному человеческому восприятию и осознаются через их проекцию на внешние объекты. «Архетип составляет, по всей видимости, базовую структуру эстетической памяти, сохраняющей „опыт биологического вида, накопленный в процессе эволюции. Эта память связана с врожденным механизмом поведения, закодирована в носителях наследственности – генах“ и генетически восходит к мифологическому мировосприятию, к магическому образу мышления, к символизму как способу познания действительности»[5]. В индоевропейской традиции вселенский закон предопределял должную деятельность богов, героев и природы в самом широком смысле этого слова, которые прямо или косвенно легли в основу этих первообразов. Соответственно с этим и на уровне человеческой психики вселенский закон лежит гораздо глубже слоя архетипов и тем более не может быть непосредственно воспринят логическим мышлением. Если коллективное бессознательное, присутствующее в каждом человеке, хранит опыт человечества как биологического вида, то сфера космического закона гораздо шире этих рамок, и, хотя бы в качестве гипотезы, можно высказать предположение, что ей должен соответствовать уровень вселенского бессознательного.
Чтобы составить себе более или менее адекватное представление о том, как этот великий закон виделся нашим предкам, нам, в силу вышеуказанных причин, предстоит проанализировать следы представлений о нем у различных индоевропейских народов. Начинать это исследование непосредственно с русской языческой традиции не представляется возможным. Хоть христианству и не удалось окончательно ее уничтожить, все-таки за тысячу лет ему удалось добиться достаточно многого. В своем первоначальном виде до нас не дошло ни одного языческого мифа, и в этом отношении от Руси выгодно отличаются не только античная Греция, которой посчастливилось в полной мере запечатлеть свои духовные достижения задолго до расцвета церковной цензуры, но даже находившиеся примерно в таких же условиях Ирландия и Скандинавия. В результате ученые располагают крайне узким кругом данных о язычестве наших предков: несколько строчек в летописи, где упоминаются в основном имена богов, отрывочные и туманные заметки иностранных путешественников, ряд поучений против язычества, дающих информации немногим больше летописной, несколько намеков в «Слове о полку Игореве» да редкие археологические находки, относящиеся к интересующей нас тематике. Помимо этих первичных данных, есть достаточно широкий круг данных вторичных, представляемых фольклором и этнографией, однако все они несут на себе более или менее явную печать христианских верований и без предварительного тщательного анализа не могут быть использованы для реконструкции русского язычества. Поскольку для осуществления этой задачи в распоряжении специалистов имеются лишь разрозненные и весьма малочисленные фрагменты мозаики, то неудивительно, что их выводы зачастую различаются, а порой и просто взаимоисключают друг друга.
Исследователи достаточно давно поняли, что в случае существенного уничтожения той или иной традиции единственной возможностью расположить оставшиеся фрагменты в правильном порядке и на их основании воссоздать былые контуры является сравнение с родственными традициями. Однако это сравнение должно быть тщательным и корректным. Ни механический перенос, ни произвольные аналогии в этом деле абсолютно недопустимы, и материал сохранившейся традиции может привлекаться для восстановления разрушенной лишь в том случае, если в последней зафиксированы следы аналогичных представлений. Для избежания возможных ошибок следует брать не какую-либо одну сторону мифологического образа или персонажа в сохранившейся традиции, а весь комплекс связанных с ним представлений и, по возможности, искать в разрушенной традиции следы не одной черты, а всего комплекса представлений. Лишь такой подход дает гарантию необходимой точности реконструкции и позволяет избежать произвольной субъективной интерпретации сохранившихся фрагментов.
Проиллюстрируем эти теоретические рассуждения конкретным примером. Специалистам хорошо известно, что в Индии понятие вселенского закона обозначалось словом puma (rta). Согласно выводам немецкого индолога Г. Людерса, дополненным и уточненным Я. Гондой, в нем следует видеть некий универсальный принцип, частное и повсеместное проявление которого способствует сохранению определенного (соответствующего должному положению вещей) статуса ведийской вселенной и ее элементов. Поскольку данный порядок совпадал с истиной, то и рита понималась как истина в самом широком смысле этого слова. Индийская мифологическая традиция сохранилась гораздо лучше русской и была зафиксирована в гимнах «Ригведы» достаточно рано, поэтому в свете данного исследования наиболее разумным будет взять ведийский вселенский закон риту в качестве эталона для сравнения. Этот шаг является тем более оправданным, что индийская традиция не только родственна русской, но, как было показано в книге «„Голубиная книга“ – священное сказание русского народа», в ряде ключевых моментов стоит к ней гораздо ближе, чем какая-либо другая индоевропейская традиция. Коль индийская традиция родственна славянской, а последняя из индоевропейской эпохи должна была унаследовать понятие всемирного закона, то в русском языке должен был присутствовать термин для его обозначения. Шедшие примерно таким же путем логических рассуждений В.В. Иванов и В.Н. Топоров заявили по этому поводу: «По совокупности значений др.-инд. rta – ближе всего слав. zаkоnъ, слово, используемое и для обозначения свода юридических правил, обычаев»[6]. На наш взгляд, уважаемые исследователи допустили здесь ошибку и индийской рите ближе всего славянский термин рота, родственный ей к тому же и этимологически.
Для того чтобы определить, какое из этих двух мнений правильно, следует рассмотреть ведийскую риту в более общем мифологическом контексте, а затем установить, имеется ли ему аналогия в сохранившихся фрагментах русского язычества. В первую очередь необходимо определить, с каким именно мифологическим персонажем или персонажами рита наиболее прочно связана в РВ. Для специалистов по ведийской мифологии ответ на этот вопрос не составит труда: «Rta, как известно, связывается наиболее часто с Варуной. В связи с этим уместно отметить, что Земля и Небо называются „установленные дхармой (благодаря дхарме) Варуны“ – VI.70.1»[7]. Еще точнее по этому поводу высказался выдающийся французский ученый Ж. Дюмезиль в своем фундаментальном исследовании об общих законах мифотворчества индоевропейских народов, восходящих ко времени их единства. На богатом фактическом материале он доказал, что для языческого пантеона целого ряда индоевропейских народов было характерно существование двух верховных богов, носящих неантагонистический характер. На различных этапах развития существование двух верховных богов прослеживается в мифологии Индии, Ирана, Греции, Рима и Скандинавии. В силу различных исторических обстоятельств первоначальная индоевропейская схема сохранилась в Индии, мифологические представления которой и в этом отношении можно считать как бы эталоном при анализе положения и взаимоотношений верховных богов других индоевропейских народов.
В силу значимости для нашего исследования следует вкратце воспроизвести основные выводы Ж. Дюмезиля об арийских богах Древней Индии Варуне и Митре. Задавшись вопросом о том, какой логической необходимостью поддерживается их объединение, он отмечает, что различия между ними в «Ригведе» встречаются довольно редко. Сохранение же на протяжении многих веков двух богов первого ранга было возможно лишь в том случае, если нет риска, что они дублируют друг друга, то есть их сосуществование было основано на полном и прочном различии, но таком, что наличие одного члена требовало присутствия другого. Результаты своего анализа Ж. Дюмезиль оформил в виде следующей схемы.
Дополнительное распределение и единство обоих богов:
1. Противопоставление Митры и Варуны никогда не было враждой или соперничеством, но лишь дополнительным распределением. Оба бога вместе с представленными ими понятиями и действиями равно необходимы для жизни человека и космоса. Будучи противопоставлены, они не располагаются один в поле «хорошего», а другой – в поле «плохого».
2. И в плане человека, и в плане космоса существует общая деятельность обоих богов, а индивидуальные особенности каждого из них менее интересны, чем их связь между собой. Главным объединяющим Митру и Варуну моментом является то, что они выступают в качестве хранителей вселенского закона риты, силой которого поддерживается всеобщий космический порядок. Ученый подчеркивает: «…Митра и Варуна являются по преимуществу хранителями rta, буквально „I,ajuste“, строгого Порядка во всех его проявлениях, так же как и всей совокупности понятий, центром которых является rta…»[8].
3. В РВ наблюдается явное количественное неравенство в упоминании этих богов. Только Варуне посвящено восемь гимнов, а только Митре – один, где он благосклонен и благодетелен по отношению к людям, без тени того угрожающего аспекта, который характеризует Варуну.
Французский исследователь так определяет суть проблемы: в чем состоит разная ориентация каждого из двух богов внутри их единой деятельности? Ответом, по его мнению, может быть только описание, сделанное на основе таких точек отсчета, которые в любом случае могут в наибольшей степени раскрыть сущность каждого бога. Митра и Варуна различаются по признакам, способам и образу действия, по отношениям с космосом и человеком, по своим социальным и теологическим свойствам. Итогом исследования Ж. Дюмезиля стала схема различий между двумя богами:
а) Признаки. «Оба они связаны с rta и обеспечивают его соблюдение, но в этой контролирующей деятельности Митра предстает благосклонным, дружественным и доброжелательным, успокаивающим, тогда как Варуна имеет репутацию карающего, грозного, опасного»[9]. Человек боится Варуны и доверяет Митре. Варуна – это бог, который движет мировые воды или находится в них. Данный вывод Дюмезиля подтверждается исследованиями и других видных специалистов в этой области: «Самые глубокие недоразумения относительно ведийской мифологии возникли из того факта, что не было ясно сказано о мифологической идентичности ночного неба и нижнего мира… Нижний мир (т. е. подземные воды и ночное небо) – царство Варуны, и здесь находится сиденье рита, которое „спрятано там, где они распрягают коней солнцу“ (РВ V.62.1)»[10]. Эта очень существенная черта Варуны подтверждается тем, что в поздней индуистской мифологии он трансформировался в бога моря по преимуществу, а также тем, что у хеттов бог моря назывался Аруной. Кроме того, Варуна владеет путами, захватывающими живые существа, а Митра никогда не причиняет им зла.
б) Способы действия. Варуна владеет путами, петлями, которыми он захватывает того, кого хочет наказать за нарушение закона. Еще одним, правда весьма редким, средством наказания является водянка, которую этот бог наслал на Васиштху. «Кроме пут важным оружием Варуны является „майя“ – способность изменять и создавать новые формы. С ее помощью были установлены rta и его основные материальные опоры: с помощью maya Варуны была натянута нить rta (PB IX.73.6). Рождение утренней зари, восход солнца, равновесие неба и земли, моря и рек, чередование дня и ночи (или солнца и луны), творение огня и благодетельное излияние дождя – короче говоря, динамические аспекты rta, вызывающие движение в широком смысле или быстрое изменение, обязаны своим возникновением этой высшей майя»[11]. Митра же в одиночку не владеет майя, его средства юридические, договорные, а само имя Митра переводится как «друг» или «договор».
в) Образ действия. В конкретных проявлениях действия Варуны неистовы, внезапны, а Митры – мягки и ненасильственны. В области нравственной Варуна – карающий, а Митра – благожелательный.
г) Космические связи. Взятые вместе, оба бога выступают недифференцированно: вместе управляют небом и землей, солнцем и луной и т. д. Исходя из их природы, они будут так распределены по разным членам этих пар: 1) материально или духовно наиболее близкое к человеку (земное, видимое, обычное) будет тяготеть к Митре, а наиболее удаленное от человека (небесное, невидимое, таинственное) – к Варуне; 2) наиболее светлое связано с Митрой, темное – с Варуной. От себя отметим, что верх идентичен низу не вообще, а только в случае ночного неба, которое прочно связано с последним богом. Если Митра день, то Варуна – ночь. Он также следит за внешней опасностью в человеческом обществе, а Митра – за внутренней.
д) Социальные и теологические связи. Как и другие боги, Митра и Варуна часто называются «царями», но из них двоих в большей степени «царем» является Варуна, так как только он один является покровителем и моделью царя в церемонии посвящения. Митра отождествляется с брахманами (жрецами), а Варуна – с кшатриями (царями и воинами), властью в более профанических аспектах, зиждящейся на силе. Митра всегда с людьми, а Варуна может владеть и потусторонним миром Гандхарвов, и царством мертвых. Митра связан с землей, а Варуна – с водой в виде океана и небесных вод: «В противоположность Митре, столь привязанному к земле людей, к твердой почве, Варуна соотнесен с гораздо более подвижным и таинственным элементом – водой, в особенности с огромными массами воды, обволакивающими землю…»[12].
Чтобы точнее определить сущность этих богов, французский ученый применяет к Варуне и Митре следующие эпитеты: «ужасный верховный бог» и «доброжелательный верховный бог», а также «верховный бог-маг» и «верховный бог-законник». Именно эту модель Дюмезиль считает характерной для древнейшего пласта верований индоевропейцев.
В связи с темой данного исследования особый интерес для нас представляет та связь Митры и Варуны со вселенским законом, какой ее видели ведийские арии во II тысячелетии до н. э. В их гимнах многократно подчеркивается, что они провозгласили риту: «О два бога, связанных с законом, вы провозгласили высокий закон» (РВ I.151.4), или же в другом месте:
Великие Митра-Варуна, Вседержители, два бога-асуры, Преданные закону, громко провозглашают закон. (РВ VIII.25.4)Подобная их функция имеет два аспекта. С одной стороны, древние индийцы считали, что всякое высказывание истины (это другой термин, с помощью которого переводится на русский язык понятие puma) даст силу и благополучие тому, кто ее высказывает. С другой стороны, всякое высказывание богом или человеком истины усиливает и умножает саму истину. Данное положение относится не только к одной рите, но и к любому священному знанию. Миф, отмечает по этому поводу П.А. Гринцер, с точки зрения его рассказчиков, призван воздействовать на богов и природу, служа средством утверждения должного порядка вещей. Показательна в этом отношении кельтская традиция: «Саги, хранимые поэтами, которые были наделены магическим могуществом и авторитетом, играли религиозно-магическую роль. И их исполнение было приурочено к определенным моментам в жизни человека или общины. С.В. Шкунаев отмечает, что тексты саг пестрят указаниями на то, что исполненные при определенных обстоятельствах, сходных с сюжетами саг, они могут даровать удачу. Поэтому „Путешествия“ декламировались, когда собирались отправиться в путешествие по морю, „Сватовство“ – на свадьбах, „Битвы“ декламировались королям перед началом войны и т. д. Вообще в средневековой Ирландии существовало поверье, что слушанье саг приносит удачу, процветание, потомство»[13]. Как видим, изложенные в преданиях истории являлись как бы первыми, и потому наиболее значимыми прецедентами, а, с другой стороны, само их произнесение и восприятие магическим образом обеспечивало благополучие людям. Помимо других причин, речь о которых шла выше, это обстоятельство также во многом обусловило периодическое повторение «Голубиной книги» в языческие времена. Во втором гимне I мандалы РВ по этому поводу говорится:
Истиной, о Митра-Варуна, Умножающие истину, лелеющие истину, Вы достигли высокой силы духа. Эта идея неоднократно повторяется: Кто истиной умножает истину, Двоих повелителей света истины, Этих Митру-Варуну я зову. (РВ I.23.5)В другом месте, обращаясь к этим богам, поэт так говорит о них: «Преданные закону, рожденные законом, усиливающиеся от закона, грозные, ненавидящие беззаконие» (РВ VII.66.13). Показательно, однако, что верховные боги не устанавливают или создают закон, а, наоборот, лишь благодаря закону и, очевидно, своему следованию ему занимают господствующее положение:
По своему установлению, о Митра-Варуна прозорливые, Вы охраняете заветы (богов), волшебной силой Асуры. Благодаря закону вы царствуете во всей вселенной. (РВ V.63.7)Варуна называется «хранитель закона богов» (РВ V.2.8), и вместе с тем, обращаясь одновременно к обоим богам, поэт подчеркивает великую, практически непостижимую для человеческого разума тайну риты:
Законом сокрыт ваш крепкий закон (Там), где распрягают коней солнца. (РВ V.62.1)Французский исследователь Рену истолковывает это место как указание на то, что космический закон Митры-Варуны скрыт от людей на высшем небе, а их глазам открыт лишь закон круговращения солнца. Однако, с учетом исследований Ф.Б.Я. Кейпера, мы знаем, что это место говорит о подвластных Варуне глубинах мировых вод, что отождествляет риту с глубинной мудростью. Забегая немного вперед, скажем, что аналогичный взгляд на непостижимость вселенского закона существовал и в Иране, где он был известен как Арта. Напомним, что в уже приведенном выше фрагменте «Авесты» Заратуштра, избранный самим Ахура-Маздой в качестве посредника между ним и людьми, говорит о том, что постижение (по всей видимости, в данном контексте подразумевается полное постижение) Арты выше его сил:
Арта-Правда, Дух огня, разве в силах я постичь, понять Boxy Ману и тебя, хоть и ведаю, где к Мазде путь.Эти красноречивые свидетельства из двух индоевропейских традиций подтверждают высказанное в начале главы мнение о причинах отсутствия у народов данной языковой семьи специальных произведений о вселенском законе.
В РВ отмечается и следующее общее космогоническое деяние обоих богов:
С тех самых пор, о Митра-Варуна, когда за пределы Закона Вы поместили Беззаконие – своим рвением… (РВ I.1392)Данное противопоставление вполне соответствует другой хорошо известной мифологической оппозиции – Космос и Хаос. Из этого деяния вытекает и их следующая общая функция:
Они ведь каратели за многие беззакония — Митра, Арьяман, Варуна. Они возросли в обители закона, Мощные сыновья Адити, не поддающиеся обману. (РВ VII.60.5)Тема подавления беззакония обоими верховными богами поднимается в самом начале другого посвященного им гимна:
Вы оба одеваетесь в одежды из жира. Ваши непрерывные мысли – непрерывные потоки. Вы подавили все беззакония. О Митра-Варуна, вы следуете закону. (РВ I.152.1)Аналогичные представления о богах, карающих за нарушение законе, существовали и у скандинавов, как это следует из «Саги об Эгиле»: «Тогда Эгиль обернулся и сказал:
– Я беру в свидетели тебя, Аринбьярн, и тебя, Торд, и всех, кто теперь слышит мои слова, и лендрмянов, и знатоков законов, и весь народ. Я запрещаю заселять и использовать земли, которые принадлежали Бьярну. Я запрещаю это и тебе, Берганунд, и всем другим, как жителям нашей страны, так и чужеземцам, как знатным, так и незнатным. Всякого, кто это сделает, я обвиняю в нарушении законов и порядков страны и призываю на него гнев богов»[14].
Еще один ведийский гимн рассматривает Варуну, вооруженного петлями (в данном гимне они приписываются обоим богам), как преграду для беззакония, но вместе с тем отмечает, что эти боги помогают людям (очевидно, следующим рите) пересекать трудности:
Они, имеющие много петель, – это две преграды для беззакония, Через которые трудно проникнуть обманщику-смертному. О Митра-Варуна, (идя) путем закона, пусть благодаря вам Мы пересечем трудности, словно воды, на лодке! (РВ VII.65.3)Варуна называется «вождем закона» (РВ VII.40.4), и закон является его украшением (РВ V.66.1). Однако это грозное божество было не только карающим по отношению к вершащим беззаконие, но и направляющим и поддерживающим по отношению к соблюдающим закон людям. Арии обращались к нему как
К соблюдающему закон Адитье, поддерживающему народы, К царю, поддерживающему народы! (PB IV.12) В другом гимне они призывают: Самых лучших из всех существ, Митру-Варуну, мы хотим усилить для вас хвалебными песнями (Тех двоих) несравненных, правящих лучше всех, Что вместе правили народами, словно уздой, своими руками. ‹…› Даруйте нам, о Митра-Варуна, неодолимую Защиту, (все) заслоняющую собой, которая (есть) у вас, о (боги) с прекрасными дарами! (РВ IV.67.1–2)Тема защиты была весьма актуальной для ведущих непрерывные войны ариев, и она неоднократно повторяется в их обращениях к божествам:
Даруйте нам безошибочную, О Митра-Арьяман, мужественную, О Варуна, достойную хвалы тройную защиту, о Маруты! (РВ VIII.1821)Или:
Мощной пусть будет поддержка троих (богов): Пребывающая на небе (поддержка) Митры, Арьямана, Трудноодолимая – Варуны! (РВ X. 185.1)Как видим, хотя функция защиты и поддержки принадлежала многим богам, но, как и карающая функция, в первую очередь она соотносится именно с Варуной. Из его собственных слов следует, что именно этому богу принадлежит владычество над продолжительностью жизни человека:
Мне изначально принадлежит царство, владыке Всех сроков жизни – как (знают) о нас все бессмертные. Боги следуют решению Варуны. Я правлю народом, чье тело наилучшего вида. (PB IV.42.1)Эта же тема с констатацией того, что Варуна царь как над людьми, так и над богами, звучит и в другом гимне:
Ты Варуна – царь для всех, И для тех, кто боги, о Асура, и для тех, кто смертные. Даруй нам увидеть сто осеней! Мы хотим достигнуть хорошо установленных, прежних жизненных сроков! (РВ 11.27.10)Относительно людей гимны подчеркивают следующую роль обоих богов:
Вы двое, о Митра (и Варуна), объединяете Этот народ и ведете его вместе. (РВ V.65.6)Поскольку прямой путь соотносился с правдой, законом и истиной еще в индоевропейские времена, именно по нему боги и вели объединенный и возглавляемый ими народ ариев:
Прямо ведущий Варуна, Митра-знаток пусть поведет нас, (А также) Арьяман вместе с богами! (РВ 1.90.1) В другом месте особо подчеркивается: Ведь они истинные, соприкасающиеся с законом, Творящие закон в отношении каждого человека, Добрые поводыри, добрые дарители, Создающие широкий простор даже из узости. (РВ V.67.4)Или:
Они два истинных повелителя, усиливающих закон, Действующих по закону в отношении каждого человека. (РВ V.65.2)При этом именно Варуна позволяет смертным достичь источника закона, соприкоснуться с ним. Певец молит его:
Ослабь грех на мне, словно пояс! Пусть будет нам удача (в том, чтобы достигнуть) источника твоего закона, о Варуна! (РВ 1128.5)Опять-таки одному ему приписывается создание молитвы – средства общения между людьми и богами:
Варуна создает молитву. К нему, ведающему путь, мы обращаемся. Он открывает сердцем мысль! (I.105.15)В другом гимне отмечается, что во время жертвоприношения уже оба бога способствуют поэтическому творчеству риши:
Волосатые жены криками приветствуют закон, Когда вы, о Митра, о Варуна, воспеваете путь (жертвы к богам). Сами выпустите на волю, сделайте набухшими поэтические мысли! Вы двое управляете мыслями вдохновенного. (РВ I.151.6)В развитие этой темы другой поэт говорит:
Дорогое священное слово, которое установлено богами, Я (получаю его) у Митры, у Варуны (то), которое оберегает. (РВ V.422)Следует отметить, что с певцами связаны оба верховных бога. Так, Варуна своей силой даровал прозрение Васиштхе и сделал из него божественного певца и провидца, как об этом от имени самого Васиштхи рассказывается в одном из гимнов Ригведы:
Когда мы двое восходим на корабль: Варуна и (я), Когда выводим (корабль) на середину океана, Когда движемся по поверхности вод, Мы будем вдвоем качаться на качелях – для блеска. В самом деле, Васиштху Варуна посадил на корабль, (Он), мастер, сделал (его) риши (своими чудесными) силами, Певцом, (он), вдохновенный, в счастливейший из дней, Пока продлятся небеса, пока – зори. (РВ VII.88.3–4)Как уже отмечалось в книге «„Голубиная книга“ – священное сказание русского народа», Варуна был богом изначальных космических вод, и, посадив человека на корабль, он показывает ему сокровенное чудо – смену дня и ночи (VII.88.2). Воочию узрев одну из тайн мироздания, недоступную взорам простых смертных, Васиштха обретает мудрость и поэтический дар. Показательно, что чудо прозрения происходит не где-нибудь, а именно в середине океана – родной стихии Варуны. Анализировавший это место Ф.Б.Я. Кейпер отмечал, что провидец не может получить последнего видения до тех пор, пока бог не сажает его на корабль. С другой стороны, и Митра «приводит в порядок людей, благосклонен к певцу» (РВ III.59.5). Даруемое ими духовное богатство очень рано стали соотносить и с богатством материальным. Называемый вместе с землей Митра получает эпитет «щедрый» (РВ IV.3.5), а относительно второго верховного бога, упоминаемого вместе с Индрой, который частично взял себе его функции, говорится:
Ведь эти Индра и Варуна лучше всех наделяют сокровищем Мужей, которые так трудятся при обряде. (РВ IV.41.3)В послеведийский период, когда Варуна окончательно превратился в простого бога моря, он изображался с петлей, раковиной, лотосом и коробкой с драгоценностями. Однако основа этих представлений была заложена еще в ведийский период, когда арии молили Индру, к которому перешла функция верховного божества, даровать им мощное богатство, описываемое ими так:
Дающее хорошее оружие, хорошую помощь, хорошее руководство, Исходящее из четырех морей, основу богатств, Заслуживающее воспевания (и) восхваления, многожеланное — Нам даруй яркое, мощное богатство! (РВ Х.472)Если море было стихией Варуны, то и число четыре не было случайным – ниже мы увидим, что на Руси оно соотносилось с Морским Царем Перуном.
С одним этим богом Веды связывают и космогонические деяния. Сам о себе Варуна говорит:
Я сделал набухшими текучие воды, Я поддержал небо в сидении закона. По закону сын Адити, хранитель закона, Трояко распластал землю. (РВ IV.42.4)Другой гимн констатирует:
Среди деревьев протянул он воздух, Волю к победе Варуна (вложил) в скакунов, молоко – в коров, Вдохновение – в сердца, Агни – в воды, Солнце поместил на небо, сому – на гору. (РВ V.85.2)Вновь ему одному приписываются следующие действия:
Варуна проложил пути солнцу. Он вы(пустил) потоки рек, впадающие в море. Словно скаковых кобылиц, (чей) бег отпущен, (он), соблюдающий закон. Он создал могучие русла для течения дней. (РВ VII.87.1)Солнце воспринималось как глаз Митры, Варуны, Агни (РВ I.115.1), однако только от двух верховных богов оно получает свой цвет:
Сурья принимает этот цвет Митры (и) Варуны, Чтобы быть видимым в лоне неба. (РВ I.115.5)Это утверждение следует понимать в том смысле, что светлый облик солнца во время его дневного пути связан с Митрой, а его темный облик во время ночного пути – соответственно с Варуной. В 8-м и 10-м четверостишиях гимна 24 мандалы I РВ отмечаются такие деяния этого божества:
Ведь широкий сделал Варуна Путь для солнца, чтобы следовать (ему). ‹…› Вон те звезды, что вверху укреплены, — Ночью они видны. Куда же днем уходят? Непреложны обеты Варуны: Озирая (все вокруг), бродит ночью луна.Движения солнца, луны и звезд здесь изображаются как частные проявления вселенского закона рита, охраняемого Варуной. Отдельно подчеркивается, что «реки движутся по (вселенскому) закону Варуны» (РВ II.28.4). В гимне, посвященном Агни, космический закон приравнивается к воде, стихии Варуны: «кто достиг потока, вселенского закона» (РВ I.67.7–8).
Как уже отмечалось, теснее всего этот бог был связан с водами, и в одном месте (РВ VIII.41.8) он даже называется «тайным океаном, мощным». Там же (шестистишия 2-е и 9-е) постулируется его связь с реками:
(Он тот), кто (живет) у истока рек; Окруженный семью сестрами, он (находится) посредине. ‹…› Прочно сиденье Варуны, Он правит семью (потоками).Ведийские риши периодически обращались к этому образу:
Надзирает за местом этих рек Варуна, грозный, тысячеокий. (Он) царь царств, украшение рек. Непоколебима его власть, длящаяся весь век. (РВ VII.34.10–11)«Воплощающий блеск власти» Варуна находится в водах, откуда и надзирает за всем:
Варуна, чей завет крепок, Расположился в водах Для безраздельной власти, (он) очень умный. Оттуда все сокрытое Наблюдает внимательный, Сотворенное и что будет сотворено. (РВ I.25.10–11) Именно оттуда он следит за поступками людей: Среди кого движется посредине царь Варуна, Взирая на правду и ложь у людей, (Те), что медом сочатся, прозрачные, чистые, Эти божественные воды пусть мне здесь помогут! (РВ VII.49.3)Обращаясь к русскому язычеству, мы, в первую очередь, должны ответить на вопрос, существовали ли и там два верховных бога, типологически сходных с индийскими Варуной и Митрой. Ответ нам дают русские летописи. Единственной божественной парой, устойчиво фиксируемой ими, являются Перун и Волос. То, что они были не просто богами, а верховными богами языческой Руси, явствует из того, что совместно они выступают небесными гарантами соблюдения русскими договоров с Византией, в то время как с греческой стороны гарантом является христианский бог. Одно это наглядно свидетельствует о месте Перуна и Волоса в древнерусском языческом пантеоне. Именно своими главными и наиболее почитаемыми богами клянутся стороны при заключении важнейших международных договоров, определяющих на будущее взаимоотношения обоих народов.
Повествуя о славном завершении похода Вещего Олега на Константинополь в 907 году, летописец пишет: «Царь же Леонъ со Олександромъ миръ сотвориста со Олгом, имшеся по дань и ротѣ заходивше межы собою, цѣловавше сами крестъ, а Олга водивше на роту, а мужи его по Рускому закону кляшася оружьемъ своимъ, и Перуном, богомъ своимъ, и Волосомъ, скотьемъ богомъ, и утвердиша миръ»[15]. Итак, мы видим, что при заключении мира византийские императоры целуют крест, а Олег идет на роту, причем его люди клянутся оружием, Перуном и Волосом. Вполне логично будет предположить, что между обоими языческими божествами и ротой существовала какая-то связь, и притом достаточно тесная, поскольку в противном случае в роли ее гарантов выступили бы другие боги.
Второй раз эта ситуация повторяется в договоре Святослава с Византией в 971 г., в тексте которого опять фигурирует эта загадочная рота: «Азъ Святославъ, князь руский, якоже кляхъся, и утверждаю на свѣщаньѣ семь роту свою…»[16]. В этом договоре предусматриваются следующие последствия его несоблюдения: «Аще ли от тѣхъ самѣхъ прежереченыхъ не съхранимъ, азъ же и со мною и подо мною, да имѣемъ клятву от бога, въ его же вѣруемъ в Перуна и въ Волоса, скотья бога, и да будем золоти, яко золото, и своим оружьем да исѣчени будемъ»[17]. – «Если же не соблюдем мы чего-либо из сказанного раньше, пусть я и те, кто со мною и подо мною, будем прокляты от бога, в которого веруем, – от Перуна и Волоса, скотья бога, и да будем желты как золото, и своим оружием иссечены будем». Помимо того, что здесь вновь обозначается роль пары Перун – Волос как гарантов договора, здесь также обрисовываются те последствия, которые ожидают русов в случае нарушения ими клятвы и роты: они пожелтеют, как золото, и будут иссечены своим оружием. Последнее наказание будет подробнее рассмотрено ниже, а о первом следует отметить, что корни представлений о подобной каре как о божественном наказании были настолько древними, что нашли отражение даже на лексическом уровне: «В вологодских говорах сыпь от золотухи на лице называется божье: Вишь, как у него божье-то выступило»[18].
В тексте договора 944 г. Волос отсутствует, однако объясняется это, по всей видимости, не какими-то глобальными причинами, а личным характером Игоря. Все остальные компоненты предшествовавшего и последующего договоров с Византией (рота, Перун и клятва на оружии) там присутствуют. Летописец отмечает, что когда послы привезут договор с Византией Игорю и его людям «и ти, принимающе харатью, на роту идуть хранити истину, яко (же) мы свещахом (и) написахом харатью сию, на нем же суть имена наши написаны. Мы же, елико нас хрестился есмы, кляхомъся церковью святаго Ильи… А некрещении Русь (да) полагаютъ щиты своя и мечи своя наги (и) обручи свои и (прочаа) оружья, (и) да кленутся о всемь, яже суть написана на харатьи сей…»[19]. Однако текст и этого договора подчеркивает связь, существовавшую между Перуном и обрядом роты: «Заутра призва Игорь слы, и приде на холмъ, кде стояше Перунъ, и покладоша оружье свое, и щиты, и золото, и ходи Игорь ротѣ и люди его, елико поганыхъ Руси…»[20]. – «Утром призвал Игорь (византийских) послов и пришел на холм, где стоял Перун; и сложили оружие свое, и щиты, и золото, и ходил Игорь по роте и люди его – столько было язычников на Руси…». Следовательно, особо торжественный обряд хождения по роте при заключении важнейших международных договоров совершался князем и его дружиной у идола Перуна, выступавшего верховным гарантом соблюдения роты и в случае ее нарушения обрекавшего преступившего ее на смерть. В самом тексте договора 944 г. вновь подчеркивается, что нарушитель его с русской стороны «…будеть достоинъ своимъ оружьемъ умрети, и да будеть клятъ от бога и от Перуна, яко преступи свою клятву»[21]. Имеются некоторые следы того, что не только Перун, но и Волос в одиночку был связан с заключением договора. В летописи он именуется «скотьем богом», из-за чего Волоса некоторое время считали богом – покровителем скота. Однако казна на Руси до XVI в. называлась «скотницей», и в настоящее время в науке прочно утвердилось мнение, рассматривающее Волоса как бога богатства вообще. В условиях Древней Руси богатство можно было добыть либо путем войны, либо путем торговли. Поскольку патроном военной сферы был Перун, можно предположить, что торговле покровительствовал Волос. Но торговля автоматически предполагает договор между продавцом и покупателем. Этимология происхождения имени Волос окончательно не выяснена, но можно предположить его связь с человеческим волосом. Последнее слово, по мнению В.В. Мартынова, является заимствованием в славянском языке из иранского[22]. Если имя бога и название волос действительно связано, то любопытную аналогию мы находим у западных славян, теснейшая связь которых с северной частью восточных славян в различных областях была показана в части I. Рассказывая о верованиях лютичей-волотов, Титмар, епископ Мерзебургский, отмечает: «Мир заключают они, отрезывая на голове несколько волос, смешивая их с травою и подавая правую руку»[23]. Как видим, обряд заключения мира у западных славян своими корнями опять-таки восходил к зафиксированным «Голубиной книгой» представлениям об антропоморфном Первобоге и подобии ему человека: наряду с деревьями трава вполне могла восприниматься как волосы Первобожества. Мир в буквальном смысле «связывался» смешанными между собой божественными и человеческими волосами. Близкородственные представления мы видим и у восточных славян. Автор поучения против русского язычества «Беседа Григория Богослова об испытании града» пишет: «А инъ градъ чьтетъ; овъ же дрьнъ въскроущь на главе покладая, присягоу творить. Овъ присягы костьми человечами творить»[24]. Согласно этому свидетельству, присягу на Руси совершали, либо положив на голову вырезанный кусок земли с травой, либо на человеческих костях. В первом случае параллелизм между травой на куске земли (божественными волосами) и волосами на голове человека налицо. Что касается человеческих костей, то они, согласно духовному стиху, произошли от камней, которые, в свою очередь, исходя из реконструкции утраченной части «Голубиной книги», воспринимались как кости Первобога. Соответствующий параллелизм в клятве на них мы вновь видим у западных славян: «И удерживаемы были славяне… от того, чтобы клясться на деревьях, источниках и камнях…»[25]. Отмеченный устойчивый параллелизм языческих клятв на частях человеческого тела и объектах природы, воспринимаемых мифопоэтическим сознанием как части Первобога, позволяет нам понять их сущность. Как было отмечено выше, разделенные части Первобога пребывают в порядке благодаря вселенскому закону, изначально присутствующему в них. Человеческие клятвы являются частным проявлением этого космического принципа, которому они должны соответствовать. Торжественно подтверждая это, как восточные, так и западные славяне смешивали или просто соприкасали человеческие части тела с аналогичными частями тела Первобожества, представленными на земном уровне. Соответственно, если человек нарушал свою клятву, он совершал преступление не только против своего партнера по договору, но и против бога. Посягнувший не только на земной, но и на вселенский порядок обеспечивал себе соответствующую реакцию разгневанного божества: «Да будеть клятъ от бога… яко преступи свою клятву».
С учетом данной особенности становится возможным понять некоторые странные черты, отмечаемые у различных славянских народов. Рассказывая о храме Святовита на Рюгене у руян, Гельмольд отмечает почтение к божеству и его взаимосвязь с принесением клятвы: «С удивительным почтением относятся славяне к своему божеству, ибо они не легко приносят клятвы и не терпят, чтобы достоинство его храма нарушалось даже во время неприятельских нашествий»[26]. В другом месте немецкий писатель вновь возвращается к этой теме и подчеркивает: «Клятву они с большой неохотой приносят, боясь навлечь на себя гнев богов, ибо клятва у славян равносильна ее нарушению»[27]. Если осмотрительный и ответственный подход западных славян к принесению клятвы, равно как и гнев богов, следующий за ее нарушением, был подмечен Гельмольдом правильно, то в последнее утверждение вкралась ошибка. Тем не менее, указание-предупреждение на то, к чему может привести нарушение клятвы, сохранилось у болгар, принадлежащих к южной группе славянства, даже на языковом уровне: «Проклятие соотносится и с клятвой (болг. клетва – и „проклятие“, и „клятва“)»[28]. Наличие подобных близкородственных воззрений у представителей всех трех групп славянства однозначно свидетельствует об их присутствии еще в общеславянскую эпоху.
Аналогичные представления засвидетельствованы и у многих других индоевропейских народов. Описывая Орка, божество, персонифицирующее понятие клятвы в греческой мифологии, Гесиод дает ему такую показательную характеристику:
И, наиболее горя несущий мужам земнородным, Орк, наказующий тех, кто солжет добровольно при клятве[29].Э. Бенвенист приводит еще другие этимологические параллели к данной идее: «В латыни… понятие предания проклятию (sacramentum) (откуда фр. serment „клятва, присяга“) подразумевает sacer наделение свойством sacer [„обреченный подземным богам, проклятый, мерзкий, неприкасаемый“]. Клятва соотносится со свойством „быть проклятым“, – самым страшным, что может ожидать человека. Клятва, sacramentum, осознается, таким образом, как условие стать „sacer“, если обещание не будет выполнено. Напомним, что проклятого вправе был убить любой.
Такое же „посвящение себя“ вновь обнаруживается в скр. sapatha „клятва“, восходящем к sap – „проклинаю“, в ст.-слав. kleti (то же), русск. клясться. Подобные выражения приоткрывают обстоятельства клятвы. Присягающий предавал себя проклятию в случае нарушения присяги и свой акт освящал прикосновением к предмету или субстанции, обладающим такой карающей силой»[30]. Таким образом, данные древнерусские представления явно восходят еще к эпохе индоевропейской общности.
Возвращаясь к Волосу, следует отметить, что его связь с договором прослеживается и в «Сказании о построении града Ярославля». Восходя, по мнению исследователей, к старинному первоисточнику, «Сказание» неоднократно редактировалось и, что хуже всего, в конце XIX века подверглось литературной обработке. Все это, по всей видимости, привело к потере в тексте многих древних терминов. Тем не менее, там отмечается, что церковь Св. Власия была поставлена на месте старого капища Волоса в окрестностях будущего города Ярославля, а о жившем там языческом населении сказано: «И людии они клятвою у Волоса обеще Князю жити в согласии и оброци ему дати…». Ярослав позднее, укоряя их, говорит: «…Кто убо вы, не суть литии людии, кои клятвою уверяше пред вашим Волосом служити мне, Князю вашему?»[31]. Следовательно, клятву, а возможно и роту, местные язычники давали перед идолом Волоса точно так же, как и язычники в Киеве перед идолом Перуна. Кроме того, стоит вспомнить, что и имя Митры, второго члена ведийской пары верховных богов, также переводится как «договор».
Исходя из всего вышеперечисленного, можно утверждать, что как по отдельности, так и вместе (что особенно важно) Перун и Волос были тесно связаны с ротой, являясь ее гарантами и хранителями и обрекая преступивших ее на смерть. Подобная совместная деятельность Перуна и Волоса очень напоминает главную функцию Варуны и Митры по охранению риты. Сходство тем более усиливается, если учесть, что никакой другой пары верховных богов, за исключением Сварога и Дажьбога, в русском языческом пантеоне не было. Однако пару Сварог – Дажьбог можно исключить из числа вероятных аналогий как по полному несовпадению функций с ведийскими богами, так и по различию в родственных отношениях (Дажьбог был сыном Сварога, а Варуна и Митра были братьями). Рассмотрим теперь остальные функции Перуна и Волоса, чтобы оценить, насколько они соответствуют схеме Ж. Дюмезиля.
Сразу обращает на себя внимание общий корень «рун» в именах Перуна и Варуны. Корень этот также имеет индоевропейское происхождение и был распространен от Атлантического до Индийского океанов. Византийский историк VI в. Агафий Миринейский упоминает славянского воина по имени Сваруна. Как было показано в главе 5 части I, этим же именем назывался Первобог в эпоху славянского единства. Повествуя о сильнейшем славянском племени ругов или ран, обитавших на острове Рюген, немецкий автор XI в. Адам Бременский отмечает, что они также назывались рунами. Иордан пишет, что колдуньи у готов назывались галиуруннами, чему соответствует древневерхненемецкое альруна – ведьма, колдунья, прорицательница. Священные знаки письменности, с помощью которых гадали и совершали разнообразные магические действия, у скандинавов назывались рунами, само же слово в германских языках означало «тайна» или «заклятие». В Индии родственным словом является прана – мистическая животворящая энергия, разлитая по всей Вселенной.
Само слово перун означало огонь или молнию. Еще в XVII в. Адам Олеарий отмечал, что русские огонь называют перуном, в это же время в белорусском языке это слово означало гром, а в украинском языке до XIX в. – молнию. Эти связи не ограничивались восточнославянским ареалом: в Болгарии в XVIII в. о. Спиридон объясняет слово «молний или Перун», а в древнегреческом языке κεραυνος обозначало громовой удар, молнию. Гераклит, один из знаменитейших мыслителей Древней Греции, даже возвел его в руководящий принцип. Ипполит так описывает его учение: «Он считает этот огонь обладающим сознанием и причиной управления Вселенной, о чем говорит так: „Всем этим-вот правит Перун“. („Правит“), т. е. „управляет“; „Перуном“ же он называет вечный огонь»[32]. Все это указывает на славянского Перуна как на бога-громовержца. По представлениям белорусов, этот грозный всепобеждающий и карающий бог мчался по небу в грозу в пылающей колеснице и стрелами из лука убивал нечестивцев. Гром воспринимался как грохот его колесницы, а молнии – как его стрелы.
С принятием христианства этот образ почти целиком был перенесен на Илью-пророка, связь которого с грозой была известна у всех восточнославянских народов. Так, например, в одном из народных «плачей» Илья-пророк жалуется богу на нечестивого крестьянина, не соблюдающего религиозных заповедей и пашущего в запретный для работы божий праздник, а затем поражает его стрелой-молнией:
Пресвятой Илья-пророк свет преподобной Пролетал он ко престолу ко господнему, И проречет Илья владыке многомилостливу: «Уж я дам да эту тучу неспособную Уж я на это на чистое на полюшко, Я стрелу спущу в крестьянина могучего, Заражу да я грудь-то его белую!» ‹…› Заразил-побил Илья – свет преподобной Да он славного крестьянина могучего. Бела грудь его стрелой этой прострелена…[33]Наложение христианских образов на исходные языческие представления у южных славян дало такой же результат. В сербских песнях Илья-пророк называется «громовитым» и получает молнию и стрелы:
Стаде Муне даре диjелити: даде Богу небесне висине, святом Петру петровске врутине, а Iовану леда и сниjега, а Николи на воду слободу, а Илiи мунiiе и стриjеле[34].Следует отметить, что представление о разъезжающем по небе на колеснице Илье-пророке, вооруженном стрелами-молниями, было чисто народным и представляло собой очередной пример «двоеверия», то есть наложения верхнего слоя новой религии на старую языческую основу. Наиболее принципиальные христиане решительно осуждали подобный синкретизм, и в одном средневековом сочинении мы читаем: «Епифаний рече: по праву ли сие глаголють, яко Илья пророкъ есть на колесницѣ ѣздя гремитъ, молнiя пущаегь по облакамъ и гонитъ змiя? Святый же рече: не буди то чадо, ему тако быти, велико бо безумие есть, еже слухомъ прiимати: человѣци бо умовредни суть, да по своему безумию написали. Илья по на небеса не взыде, ни на колесницѣ сидитъ благодать имѣя на дожди, да ся молить Богу, да въ годину бездождiя дабы Богъ далъ на землю дождь. А на небо не вшелъ есть никтоже, но единъ сынъ человѣчь, иже есть на небеси. Илья живъ есть, и есть на земли во плоти своей, и никто же его не знаетъ»[35]. Итак, образ небесного Громовержца на колеснице, смертью пресекающего беззакония (в частности, в крестьянской среде широко распространено поверье, что в Ильин день нельзя косить и убирать сено, так как за это Илья может убить человека громом и сжечь сено молнией), однозначно является наследием языческой эпохи, расцениваемым наиболее последовательными христианами как безумие, и первоначально принадлежал Перуну.
Если функция пресечения беззаконий у ведийского Варуны выражена совершенно отчетливо, то колесница с молниями-стрелами ему в целом чужда. Однако объясняется это тем, что функция громовержца в ведийском пантеоне стала принадлежать уже не ему, а Индре, который также стал восприниматься как небесный царь. Исследователи отмечают глухие отзвуки противоречий между Индрой и Варуной, каждый из которых претендует на верховенство. Мы видим, что в некоторых аспектах индийская мифология уже в эпоху «Ригведы» успела в своем развитии дальше уйти от исходных индоевропейских представлений по сравнению со славянской. В русской мифологии Индра так и остался на уровне зверя, что и обусловило сохранение функций громовержца за Перуном. В Индии же он приобрел антропоморфный облик, стал главой пантеона и отобрал роль громовержца у Варуны. Впрочем, некоторые отголоски в РВ свидетельствуют, что этот свойственный Перуну образ был первоначально присущ и Варуне. Один гимн так определяет любимый атрибут этого бога:
Ты (же), о Варуна, – царь надо всеми (существами). Глава (всему), ты любишь колесницу. (РВ Х.132.4)Колесница эта была небесной, судя по пожеланию поэта в другом посвященном ему гимне: «Вот бы мне увидеть (его) колесницу (, спускающуюся) на землю!» (РВ I.25.18). Если Перун поражал чертей и другую нечистую силу стрелами-молниями, то и Варуна убивает демона-ракшаса дротиком. В гимне это деяние относится к обоим верховным богам, однако очевидно, что оно более подходит грозному Варуне, чем Митре:
Кто правит в соответствии с порядком, (а именно), два царя: Митра (или) Варуна, (и) озирает воздушный простор — Пусть швырнет он дротик в затаившегося в глубине ракшаса… (РВ VI.62.9)Как видим, в некоторых случаях отечественное язычество бережнее сохранило более древние индоевропейские представления даже по сравнению с индийской «Ригведой», в которой исходные образы были зафиксированы уже на следующей стадии развития и дальнейшего переосмысления.
Возвращаясь к русскому «двоеверному» образу Ильи-пророка, следует отметить, что, помимо обязанности пресечения частных случаев беззакония, народное мировоззрение наделило его общей функцией защиты божественного закона, отсутствующей и у этого персонажа в Библии. В одной популярной старообрядческой песне о нем поется:
У нас было на сырой земле Претворилися такие чудеса: Растворилися седьмые небеса, Сокатилися златые колеса, Золотые, еще огненныя. Уж на той колеснице огненной Над пророками пророк сударь гремит, Наш батюшка покатывает, Утверждает он святой божий закон, Под ним белый храбрый конь, Хорошо его конь убран Золотыми подковами подкован[36].О грозном и зачастую опасном для человека характере Перуна говорит многое. Это и опасность быть убитым во время грозы ударом молнии, и показательное украинское выражение еще XIX в. «Шобъ тебе перун убивъ!», и отмеченный Адамом Олеарием новгородский обычай казнить тех жрецов, по чьей вине гас неугасимый огонь, горевший у идола Перуна. У южных славян языческому богу посвящался цветок, называемый в народе «перуник» или «богища» – «божий цветок», причем нецветение его считалось предвестником смерти. Как уже было показано в первой части, священным деревом Перуна был дуб, и в этой связи становится понятным происхождение выражения «дать дуба» в смысле «умереть».
Этот опасный для человека аспект Перуна усиливался еще и тем, что он был, насколько нам позволяют судить имеющиеся источники, единственным русским богом, которому регулярно приносились человеческие жертвы. Византийский историк X века Лев Диакон, описывая болгарские войны Святослава, так рассказывает о действиях русов в ночь с 20 на 21 июля 971 г.: «И вот, когда наступила ночь и засиял полный круг луны, скифы вышли на равнину и начали подбирать своих мертвецов. Они нагромоздили их перед стеной, разложили много костров и сожгли, заколов при этом по обычаю предков множество пленных, мужчин и женщин. Совершив эту кровавую жертву, они задушили (несколько) грудных младенцев и петухов, топя их в водах Истра»[37]. Итак, массовое жертвоприношение было совершено в ночь после 20 июля – дня, который в языческой Руси посвящался богу Перуну, а с принятием христианства был, соответственно, приурочен к Илье-пророку. Выбор этой даты однозначно указывает на то, какому именно богу дружинники Святослава посвятили эту жертву. Важными моментами является связь посвященных Перуну человеческих жертвоприношений с похоронами (в первой части уже отмечалось, что и они рассматривались И.И. Срезневским, с которым солидаризуется В.В. Седов, как своеобразная «жертва» этому же божеству) и потоплением жертв в реке. То, что жертвоприношение произошло ночью, заставляет вспомнить, что в Индии Варуне принадлежала ночь, в то время как Митре – день. Ниже будет показано, что Перун был властелином загробного мира, однако с ним тесно соотносилось и ночное светило. Если в большинстве русских диалектов слово «луна» означает «небесный свод», то в смоленском оно значило «смерть», а в македонском языке, кроме того, – «гроза»[38]. В русском заговоре от зубной боли месяц посещает тот свет и видит там мертвецов: «Князь молодой, рог золотой, был ли ты на том свете?» – «Был». – «Видал ли ты мертвых?» – «Видал». Все эти данные позволяют констатировать связь с Перуном месяца, соотносимого одновременно и с морской глубиной (загробным миром), и с небесной высотой (в аспекте именно ночного неба).
Опасность стать жертвой Перуна для человека усиливалась еще и непредсказуемым характером этого бога. Непредсказуемость эта выражалась в том, что жертва Перуну не была установлена раз и навсегда, а каждый раз определялась метанием жребия. Это опять-таки специфическая черта Перуна, не присущая каким-либо другим богам. Рассказывая о первых на Руси мучениках-христианах, Нестор пишет: «В лѣто 6491 (983) иде Володимеръ на ятвагы, и побѣди людми своими. И рѣша старци и боляре: „Мечемъ жребий на отрока и дѣвицю; на кого же падеть, того зарѣжемъ богомъ“»[39]. Жребий пал на сына варяга-христианина. Когда посланные от киевлян пришли к нему, он отказался отдать им сына да вдобавок посмеялся над славянскими богами, за что и был убит. Хотя имя бога, которому предназначалась эта жертва, в летописи не упоминается, речь идет о Перуне. Как установил А.А. Шахматов, память варягов-мучеников отмечается православной церковью 12 июля, то есть всего за восемь дней до Перунова дня. Можно предположить, что человеческие жертвоприношения регулярно совершались и ранее, но поскольку проходили без каких-либо событий, не интересовали летописца, зафиксировавшего только рассказ о христианах-мучениках.
Вспомним и описанный византийским императором Константином Багрянородным остров Хортица, на котором отправляющиеся в Константинополь русы у священного дуба бросали «жребий о петухах: или зарезать их, или съесть, или отпустить их живыми»[40]. О том, что на этом острове русы молились Перуну, говорит рассмотренное выше его положение на торговом пути, дуб, бывший деревом громовержца, и стрелы, бывшие его оружием. Этот участок Днепра назывался «Перуня рень», поскольку туда, по преданию, доплыл киевский идол Перуна, сброшенный по приказу Владимира в реку. Вполне возможно, что топоним этот, как предполагает Ю.Г. Ивакин, более раннего времени, чем введение христианства, и был лишь приурочен летописцем к событиям 988 г. После этого острова русов ждало «мучительное и страшное, невыносимое и тяжкое плаванье» по Черному морю, завершавшееся в болгарской области Месемврии. Предпоследним пунктом их путешествия являлась Дичина, а между ней и Месемврией было село Волос, где в древности находилось святилище Волоса. Таким образом, святилища двух верховных языческих богов находились на противоположных концах этого чрезвычайно важного для Древней Руси торгового пути, что еще раз подчеркивает их неразрывную связь. Следует отметить, что капища Перуна и Волоса стояли вместе и в двух основных центрах Древней Руси – Новгороде и Киеве.
Данное описание Константина Багрянородного подводит нас к еще одной ипостаси Перуна как владыки мировых вод. Если в данном контексте от него зависело успешное плаванье по морю, то как бог грозы он одновременно являлся и богом дождя, поскольку в его власти находилось послать или не послать живительную влагу на поля земледельцев. Магический ритуал вызывания дождя в Сербии и Хорватии назывался прпоруша, а в Болгарии – пеперуна или папаруна. Примечательно, что в последней стране еще в XVIII в. народ во время засухи призывал языческого бога: «И сего Перуна болгары почитают: во время бездождия, собираются юноши и девицы и избирают единого, или от девиц, или от юношей, и облачают его в мрежу, аки в багряницу, и сплетут ему венец от бурянов в образ краля Перуна, и ходят по домам, играюще и спевающе часто поминающе беса того, и поливающе водами и Перуна того, и сами себя; людие же безумнии дают им милость»[41]. После насильственной христианизации Руси эта чрезвычайно важная функция закономерно перешла от языческого бога к Илье-пророку, о котором в народной молитве говорится: «Илия словом дождь держит на земли, и паки словом с небеси низводит»[42]. Народные заговоры рисуют более красочную картину: «На море на окияне, на острове на Буяне гонит Илья-пророк в колеснице гром с великим дождем. Над тучею туча взойдет, молния осияет, дождь пойдет». Соловецкий сборник фиксирует представления, согласно которым дождевая вода была связана с морской, которая, следовательно, также находилась в распоряжении громовержца: «Богословъ, съ небеси жъ страсти, громи и тресканiе з мол (молния?). Егда громъ гремитъ, высокiи царь ходяй по земли въ грому, обладая молнiями и призывая воду морскую, проливая на лице всея земли дождь, – о великiй и страшный Боже, самъ суди врагу дiаволу!»[43]. Об этой же неразрывной связи между земными и небесными водами говорит и более ранняя «Беседа Григория Богослова об испытании града»: «Овъ въ требоу створина стоуденьци, дъжда искы отъ него, забывъ яко Богь съ небесе дъждь даеть; овъ не сущимъ богомъ жьреть и бога створышаго небо и землю раздражаеть»[44]. Как видим, желая получить дождь, славяне умилоствляли земную воду, что воспринималось проповедником как жертва несуществующему (с христианской точки зрения) богу. И тем, и другим полноправно распоряжался Перун, владыка мировых вод.
Чрезвычайно ценное свидетельство содержится в старинном апокрифе «Хождение Богородицы по мукам», где говорится: «Нъ забыша Бога и вероваше, юже бе тварь Богь на работоу створилъ; то то они все богы прозваша: солнце и месяц, землю и водоу, звери и гады; тосетьнее и человчьска (и) мена то оутрия Троюна, Хърса, Велеса, Пероуна на боги обратиша, бесомъ злышимъ вероваша; да и доселе мракъмь злышмъ одьржими соуть; того ради сде тако моучаться»[45]. Острие критики автора обращено против людей, обоготворивших созданные христианским богом природные стихии и давших им имена, за что они и мучаются в аду. Солнце здесь соотнесено с Трояном, месяц – с Хорсом, земля – с Велесом, а вода – с Перуном. Ценность этого отрывка определяется не только тем, что Перун и Велес здесь поставлены рядом, но и тем, что они соотнесены с водой и землей, что в точности соответствует соотношению ведийского Варуны и Митры. Подобное распределение объясняется тем, что вода была более переменчива и непредсказуема, более далека от древнего человека, чем земля. Путешествуя по морю, он мог в любой момент погибнуть, утонуть, и поэтому человек в своем сознании отождествлял воду с грозным Перуном на Руси и не менее грозным Варуной в Индии. Отнести возникновение связи между водой и этими божествами к эпохе индоевропейской общности позволяет не только генетическое родство русско-индийских мифологических сюжетов, но и то, что следы этого зафиксированы в языке тех индоевропейских народов, в мифологии которых не сохранились эти или похожие имена божеств. В ирландском языке вода называется словом dobrun, а одна из главных рек недавних афганских язычников-кафиров, по имени которой названа целая группа их племен, носит имя Парун (левый исток реки Пич, Восточный Нуристан). Когда персы завоевали Египет, они назвали Нил – самую великую из виденных ими рек – Пираном, как гласит надпись Дария из Суэцкого канала[46]. Возвращаясь к соотнесению Перуна и Волоса с водой и землей, следует отметить, что противопоставление-характеристика обеих стихий сохранилось у восточных славян даже тогда, когда память о языческих богах уже исчезла. Следы весьма архаических представлений всплывают в приуроченных к вербному воскресенью народных обрядах, о которых исследователи говорят так: «…Смысл обряда заключался не в этих поздних напластованиях, возникших под церковным воздействием, а в прикосновениях вербой к людям и скоту. Древнее дохристианское происхождение этого обычая несомненно. Ясен и его смысл – здоровое, расцветающее дерево должно было как бы передать здоровье, силу и красоту человеку или животному. ‹…› Смысл наносимых вербой ударов ясно раскрывается в украинских приговорах, окончание которых звучит как заклинание:
…Будь великий, як верба, А здоровый, як вода, А богатый, як земля.Сходные приговоры были и у белорусов…»[47]. Как видим, вода соотносится здесь с понятием здоровья (а именно от Перуна зависела продолжительность человеческой жизни), а земля – с богатством (вспомним характеристику Волоса как «скотья бога»). Их противопоставление в данном контексте явно не носит антагонистического характера; наоборот, обе стихии и символизируемые ими жизненные блага в равной степени нужны для благополучия и процветания человека.
Связь Перуна с водой подтверждается и археологическими данными. Его святилище в виде восьмилепесткового цветка стояло близ Новгорода, на берегу реки Волхов, у ее истока из озера Ильмень, и почти до XX века дошел древний обычай бросать в воду монету (так называемую жертву Перуну), проплывая мимо этого места. Первоначально это совершалось для обеспечения безопасного плаванья. Косвенным подтверждением данной связи является и тот факт, что при крещении Руси и в Киеве, и в Новгороде идолы Перуна были низвергнуты в реку, в то время как идолы других богов были «овые иссещи, а иныя ижжеши». В Киеве, согласно «Житию Владимира», кроме Перуна единственное исключение составил идол Волоса, который также был сброшен в реку. Данный факт в очередной раз подтверждает тесную связь, существовавшую между двумя верховными богами русского языческого пантеона. О связи какого-то языческого бога с морской стихией свидетельствуют и верования западных славян. Титмар Мерзебургский так рассказывает о деятельности колобжегского епископа Рейнберна в польском Поморье: «Он разрушил и сжег языческие капища, а море, почитавшееся из-за демонов, очистил, сбросив (туда) четыре камня, помазанных святым елеем, и (окропив его) святой водой»[48]. Указание на то, что Балтийское море почиталось язычниками из-за демонов (то есть славянских богов), позволяет предположить, что они там и обитали. Немецкий автор не потрудился назвать их имена, однако об одном из них косвенно говорят упомянутые четыре камня. Славяне на Эльбе называли четверг perundan и считали его посвященным этому великому богу. Именно четыре кабаньи челюсти были врезаны в священный дуб под Киевом. С Перуном связываются и производные от четверки числа: 8 (восемь костров около его идола в Перыни; число дней, отделявших выбор человека в жертву от заклания его в Перунов день; остров Хортица, на котором русы приносили жертвы, описанные Константином Багрянородным, также является восьмым по счету после семи порогов); 12 (12 июля в Киеве метали жребий о том, кого принести в жертву; киевское святилище Владимира, в котором Перун был главной фигурой, было окружено 12 кольями; а когда его идол влачили в реку, 12 специально приставленных мужей били его жезлами); 20 (на это число в июле падал Перунов день). Ниже будет показана связь Перуна с княжеской властью, в связи с чем можно вспомнить сорок наложниц и четыреста дружинников киевского князя, упоминаемых арабскими авторами. Все эти данные свидетельствуют о том, что четверка была священным числом громовержца, и именно он, по польским представлениям, обитал в море.
О правильности подобной интерпретации говорит фольклор той части восточного славянства, которая теснее других была связана с Балтийским морем. Речь идет об уже упоминавшейся в книге «„Голубиная книга“ – священное сказание русского народа» новгородской былине о Садко, в которой под незначительными христианскими напластованиями сохранился древний языческий миф, восходящий своими корнями еще к индоевропейской общности. Морской царь в былине обладает целым рядом черт, характерных именно для Перуна. Он может быть благосклонен к человеку и дарит бедному гусляру Садко, угодившему ему своей игрой около Ильмень-озера (близ которого стояло святилище Перуна в Перыни; сама игра на гуслях у воды, представленная в былине как случайная, является отголоском культового служения этому божеству), три чудесные рыбины с золотыми перьями, научив при этом, как с их помощью разбогатеть: пойти на пир к новгородским купцам и побиться с ними об заклад, что в Ильмене водится небывалая рыба с золотыми перьями. В обеспечение правдивости своего утверждения Садко поставил на кон свою буйну голову, а купцы – шесть лавок с товарами. Царь морской не подвел и послал в сети Садко трех чудесных рыб. Став купцом, Садко отправился торговать в далекие заморские страны и преумножил свое богатство. Но вот однажды на корабли Садко в открытом море обрушилась буря, не давая им плыть дальше. Гусляр-купец сразу понял причину бури:
Ай да ты, дружина хоробрая! А и как сколько ни по морю ездили, А мы морскому царю дани да не плачивали. А топерь-то дани требует царь морской-то в синем море.Чтобы умилостивить морского царя, в море кидают бочку с золотом, бочку с серебром и бочку жемчуга, но буря не стихает. Данный обряд напоминает об обычае бросать монету в жертву Перуну, проплывая мимо его святилища на Волхове. Увидев, что богатства не удовлетворяют морского царя, Садко понимает, что он требует человеческой жертвы. Суть воззрений славян по этому вопросу, опять-таки связанных с Перуном, точно описал византийский историк VI века Прокопий Кесарийский: «Они считают, что один только бог, творец молний, является владыкой над всеми, и ему приносят в жертву быков и совершают другие священные обряды. Судьбы они не знают и вообще не признают, что она по отношению к людям имеет какую-либо силу, и когда им вот-вот грозит смерть, охваченным ли болезнью или на войне попавшим в опасное положение, то они дают обещание, если спасутся, принести богу жертву за свою душу; избегнув смерти, они приносят в жертву то, что обещали, и думают, что спасение ими куплено ценою этой жертвы. Они почитают реки, и нимф, и всякие другие божества, приносят жертвы всем им и при помощи этих жертв производят гадания»[49]. Бог-творец молний Прокопия – это Перун, и, таким образом, данный отрывок является первым упоминанием о нем. Показательно, что вслед за почитанием громовержца византийский автор упоминает о почитании рек, равно как и отмечает связь жертвоприношения с гаданием.
Оказавшись на краю гибели, новгородские мореходы ведут себя не как правоверные христиане, которым надлежит смиренно молиться о спасении, а точь-в-точь как язычники VI века и решают принести в жертву одного человека, чтобы ценой его жизни спасти всех остальных (нисколько при этом не сомневаясь в действенности этого метода и его отношении к новой религии). О тесной связи Перуна именно с человеческими жертвоприношениями было сказано выше. Вновь мы видим, что за обликом властелина вод явственно проглядывает облик Перуна, могущего как облагодетельствовать человека, так и убить его. Чтобы определить, кто из людей угоден в жертву Морскому царю, мореходы прибегают к одной ритуальной черте, опять-таки свойственной только для Перуна, – бросают жребий. Все на корабле делают себе деревянные жребии из таволги и пишут на них свои имена, а Садко делает себе жребий из красна золота, причем все решают единогласно:
А и как спустим жеребья топерь мы на сине море: А и как чей у нас жеребий топерь да ко дну пойдет, А тому идти как у нас да в сине море.Тонет, естественно, жребий Садко, который после этого предлагает дружинникам сделать себе жребии из золота, а свой делает из дуба – еще одна черта, характерная для бога-громовержца. Второе, а также третье метание жребия дают все тот же результат: Морской царь однозначно указывает на Садко. Он пишет завещание, после чего
А и как сам потом заплакал он, Говорил он как дружинушке хоробрыей: «Ай же ты, дружина хоробрая да любезная! А и полагайте вы доску дубовую на сине море. А что мне свалиться, Садку, мне-ка на доску, А не то как страшно мне принять смерть во синем море». А и как тут он еще взимал с собой свои гуселка яровчаты, А и заплакал горько, прощался он с дружинушкой хороброю, А и прощался он теперичку со всим да со белым светом, А и прощался он как теперичку ведь А со своим он со Новым со городом. А потом свалился он на доску он на дубовую, А и понесло как Садка на доски да по синю морю[50].Нет никакого сомнения, что эту красочную зарисовку составитель былины сделал прямо с натуры, описывая языческий обряд жертвоприношения на море, свидетелем которого он был. Получив желанную жертву, бог моря прекратил бурю, освобожденные корабли поплыли дальше, а оставшийся в море Садко от страха заснул на дубовой доске – в былине трижды подчеркивается, что она была именно дубовая, и эта характерная деталь в очередной раз указывает, какому богу предназначалась эта жертва. Сон Садко служит как бы переходной ступенью для его перемещения в потусторонний мир. Проснувшись, он обнаруживает себя на дне Океан-моря в белокаменных палатах морского царя. В одном из вариантов былины есть чрезвычайно важное место, где, упрекая Садко за то, что он по морю плавал, а дани не платил, Морской царь говорит:
Да хошь ли, Садко, я тебя живьем зглотну? Да хошь ли, Садко, тебя огнем сожгу? Да хошь ли, Садко, да я тебя жаню?[51]Если потопление или поглощение человека было для Морского царя вполне естественно, то угроза сжечь Садко огнем является для владыки вод абсолютно противоестественной, но зато совершенно закономерно звучит в устах Перуна как владыки грома и молнии – небесного огня. Следовательно, и эта угроза, необъяснимая с других позиций, является еще одним доказательством тождественности Перуна и былинного морского царя.
Затем он приказывает Садко играть на гуслях и начинает плясать под его игру, в результате чего на море начинается сильная буря, топящая многие корабли. Так в глубине вод гусляр обретает прозрение истинной сути этого явления, что, по всей видимости, в первоначальной версии мифа и являлось главной целью героя. Дальше в былине Садко является Никола Можайский, велящий ему порвать струны на гуслях. Гусляр так и делает, царь перестает плясать, и море успокаивается. После этого царь морской решает женить Садко и предлагает ему на выбор от 30 до 900 (в различных вариантах) своих дочерей, олицетворяющих земные реки. Эта черта опять-таки напоминает семь сестер-рек в окружении Варуны. С помощью святого гусляр делает правильный выбор, ложится спать, а проснувшись, оказывается на земле около Новгорода. Первоначальный конец былины заслонен от нас более поздними христианскими напластованиями. Понятно, что в христианские времена в ней не мог открыто упоминаться Перун, который поэтому был заменен на более нейтрального Морского царя. Впрочем, подобная эволюция была свойственна и его индийскому собрату, который из верховного бога мироздания на поздней стадии развития индуизма также превращается в бога моря по преимуществу. В главе 1 части I книги «„Голубиная книга“ – священное сказание русского народа» был разобран зафиксированный еще «Ригведой» миф о Варуне и его некогда любимом певце и мудреце Васиштхе, на которого бог, разгневавшись, наслал водянку. Очевидно, что ядро мифа о боге и сначала обласканном, а затем наказанном им певце восходит к периоду индоевропейской общности, но получило в Индии и на Руси свое оригинальное развитие. Общность этого достаточно редкого сюжета еще раз доказывает генетическое родство богов Варуны и Перуна, восходящих к единому прообразу.
Совершенно независимо от былины о тождестве языческого громовержца и Морского царя свидетельствует один заговор, содержащий в себе звуковой намек на имя бога: «Морской глубины царь, пронеси ретиво сердце раба (имя рек) от песков сыпучих, от камней горючиих, заведись в нем гнездо оперунное»[52]. Звуковой намек на имя бога, которому посвящен тот или иной священный текст, был не редкостью в индоевропейской традиции и периодически встречается в РВ. Так составитель заговора совершенно недвусмысленно намекнул, что Морским царем является Перун. Если ведийские гимны говорят о поддержке и защите Варуны, но не конкретизируют, в чем она выражалась, то русские заговоры более подробны в отношении защиты Морским царем снискавшего его благосклонность человека: «И пойду я, раб Божий (имя рек), ко святому морю-Акияну, помолюсь и поклонюсь царю морскому. Отворяется морская пучина, выходит царь морской к рабу Божию (имя рек) на помощь и на пособь, на Божию милость точно. И ставит царь морской железныя тыны от земли до неба, от неба до земли: и около меня, раба Божия (имя рек) ставит и тынит железные тыны от земли до неба, от неба до земли; меня, раба Божия (имя рек) в те же тыны тынит; ёй Божий, и подите вы всякие порчи, всякие прикосы… в морскую пучину, под бел камень, под белой остров, а тамо выходу нень»[53]. Таким образом, защита Перуна мыслилась физически, зримо как огромная железная стена, надежно отгораживающая человека от всех напастей со всех сторон.
Тесная связь Перуна с водой, ассоциировавшейся у многих народов с загробным, потусторонним миром или средством переправы туда, логически подводит нас к связи Перуна и с этой областью мироздания, подтверждаемой и другими источниками. Этот аспект Перуна объективно усиливался также тем, что он был громовержцем, мог убить человека молнией, в его власти было не дать дождя и обречь земледельца на голодную смерть, как бог войны он мог послать поражение и смерть в битве, как морской царь мог утопить человека, и, наконец, он был связан с человеческими жертвоприношениями. Связь воды с загробным миром на Руси следует из различных примеров отечественной традиции. На Русском Севере был распространен обычай «караулить душу»: когда кто-нибудь умирал, рядом с ним ставили чашку с водой, за которой смотрел кто-нибудь из родственников для определения точного момента смерти – считалось, что, когда душа выйдет из тела, вода в сосуде заколышется. Связь душ умерших с водой прослеживается и в ритуальном запрете у русских: «плевать и мочиться в воду – все равно, что матери в глаза», фиксирующемся также и на Волыни: «не можно мочиться у воду, бо батьковi очи засс…». Связь эта, как показывают данные сравнительного языкознания восходит к эпохе индоевропейской общности: и.-е. vel/ver – «вода», но хет. uellu – «загробный мир»; др.-инд. паг – «вода», но др.-инд. naraka – «загробный мир»; и.-е. sei – «лить(ся)», но ирл. sid – «рай»; алб. det – «море», но англ. death – «смерть»; лат. таге – «море», но лат. mors – «смерть»; др.-англ. wael – «река, море», но лит. veliones – «мертвец» и т. д. Следующей после морского царя и завершающей стадией трансформации Перуна в христианский период стал образ водяного. Прежний громовержец даже в сниженном образе низшей демонологии сохранил свой опасный для человека характер. На Руси считалось, что, утопив человека, водяной отрешает душу от тела и берет ее себе на службу, а тело бросает, и оно потом всплывает на поверхности воды. Перун был связан с темной половиной суток, и поэтому широко распространено было поверье, что нельзя купаться после захода солнца, ибо на ночь приходилось усиление деятельности водяного. Наравне с ночью и вся неделя, на которую приходился праздник Ильи-пророка, считалась особо опасной для купания, поскольку именно в это время водяной ищет себе жертвы. Как видим, память о периодических жертвоприношениях Перуну после уничтожения этого обычая перешла в народном сознании на водяного.
У других славянских народов мы также можем видеть следы аналогичной трансформации. В чешских поверьях вода воспринималась как место пребывания душ людей до и после их земной жизни. До рождения души детей сидят в каменных горах или плавают в прудах, реках и источниках, словно рыбки, а когда ребенку приходит время появиться на свет, какая-нибудь птица берет его в клюв и приносит его в дом через открытое окно или дымовую трубу. Души утопших, по чешским поверьям, оказываются во власти водяного, который держит их под водой в перевернутых горшках, а когда душе утопшего удается ускользнуть, то она выходит из воды в виде пузыря. Последнее представление было обусловлено особенностями славянского погребального обряда в языческие времена, также связанного с Перуном. Вот каким он предстает археологам по результатам раскопок в Псковско-новгородском регионе: «Могильники с длинными курганами почти всегда находятся на берегах рек и озер. ‹…› В длинных курганах встречаются как урновые, так и безурновые захоронения. В первом случае сожженные кости или помещались в глиняную урну, или прикрывались горшком, опрокинутым вверх дном. Иногда захоронения сопровождаются двумя сосудами, при этом обычно большим горшком прикрыт меньший, наполненный остатками трупосожжения»[54]. Обычай располагать места захоронений у воды и покрывать остатки кремации перевернутым вверх дном горшком объясняет причину возникновения чешского поверья.
В тексте договора 945 г. было записано, что в случае его нарушения русам-христианам грядет смерть от бога и осуждение на погибель в загробной жизни, а русы-язычники «…да не имуть помощи от бога ни от Перуна, да не ущитятся щиты своими, и да посѣчени будуть мечи своими, от стрѣлъ и от иного оружья своего, и да будут раби въ весь вѣкъ в будущий»[55]. Подобная формула нам уже встречалась в цитированном договоре Святослава 971 г., где говорилось, что в случае нарушения договора и роты русы навлекут на себя проклятие Перуна и Волоса, пожелтеют, как золото, и будут иссечены своим оружием. Сопоставление двух договоров позволяет нам пролить свет на взаимоотношения Перуна и воинов: в обычное время бог помогает людям, дает им защиту, а в случае нарушения ими договора и роты, гарантом которой выступает Перун, они не только лишаются его помощи, но и навлекают на себя его гнев и проклятие. Далее, человеческое оружие находится в полном ведении Перуна как бога войны, и в случае нарушения клятвы, подрывающей мировой порядок, оно немедленно обратится против клятвопреступников. Очевидно, обратить мечи и стрелы против их хозяев русский громовержец мог с помощью своей колдовской силы, что напоминает нам майю индийского Варуны. О тесной связи последнего с оружием свидетельствует то, что в санскрите слово varana или varuпа означало «особое магическое заклятие, произносимое над оружием»[56].Однако, как отмечает В.Н. Топоров, с клятвой оказывается связан и ведийский вселенский закон: «Сакральный аспект rta тем более не вызывает сомнений, и, опуская многое важное, здесь уместно сослаться на связь rta с клятвой как выражение верности (соответствия) соединяемым элементам и, следовательно, как образом и самой rta и управляемого ею Космоса, а также на исключительно широкое использование элемента rta – в сакральном именослове. Архаичность этой традиции подтверждается, по меньшей мере, индо-иранскими ее истоками»[57].
Образ стрелы, поражающей своего владельца, глубоко укоренен в русском и, беря шире, славянском фольклоре. В отечественных заговорах он неоднократно встречается даже после внедрения в военное дело огнестрельного оружия: «…Воротитеся, желесца (железные наконечники стрел), к тому, кто вами стреляет, а к рабу божию имярек не ходите. Подите ушима и боком…» (сибирский воинский заговор XVIII в.); «Воротитесь вы, желесца, острием на старого государя, а к тому рабу божию имярек – ушима…» (Великоустюжский сборник XVII в.); «Полети ты, костяная стрела, к старом хозяину, к колдуну и ведуну. Отколе пришло, тамо и поди» (текст начала XIX в.)[58]. Заговорные тексты не содержат ответа на вопрос, почему стрела должна поразить своего хозяина, однако договор с Византией раскрывает эту причину – нарушение стрелком роты. Поскольку молнии являлись стрелами Перуна и именно он выступал небесным гарантом договора 945 г., становится очевидным, что именно этот бог в конечном итоге стоит за данным представлением и своей волшебной силой изменяет направление полета стрелы. Рассматриваемый образ был настолько устойчивым в народном сознании, что вновь возникает во время Второй мировой войны в песне болгарских партизан о гибели Гитлера под Москвой:
Ступил Гитлер, ступил Гитлер На русскую землю. Целил прямо, целил прямо В Кремлевские звезды. Не попал он, не попал он В Кремлевские звезды, А попал он, а попал он Прямо себе в сердце[59].Судя по всему, подобный образ в партизанском фольклоре появляется не случайно: Гитлер вероломно нарушил заключенный с Кремлем договор о ненападении и поэтому, согласно славянским представлениям о высшей справедливости, при выстреле в обманутую сторону должен был погибнуть от собственной руки. Поскольку мифологический образ, впервые зафиксированный в 40-х годах X в., благополучно доживает до 40-х годов XX века, подобная тысячелетняя устойчивость предполагает чрезвычайно архаичные истоки. И действительно, у индоевропейцев в эпоху их единства изо всего оружия, насколько мы можем судить, именно лук был в наибольшей степени связан с вселенским законом. Во всяком случае, РВ утверждает, что именно рита направляет его тетиву:
Со (своим) быстрым луком с тетивой, (направляемой) вселенским законом, Брахманаспати достигает того, что он хочет. У этого взирающего на людей (бога) стрелы, которыми он стреляет, Прямо попадают в цель… (РВ II.24.8)Само имя Брахманаспати означает «господин молитвы», а молитва, как показано выше, была создана именно Варуной. Генетическое сходство между обоими персонажами еще более усиливается, если учесть, что вооруженный луком со стрелами, дубиной грома и топором Брихаспати восходит «на сверкающую колесницу (вселенского) закона» (РВ II.23.2), громом разгоняет тьму, испепеляет врагов и является «сокрушителем зла при поддержании великого (вселенского) закона» (РВ II.23.17). Именно его ведийские арии призывают «как хранителя (наших) тел» (РВ II.23.8) и просят: «Самым жарким пламенем спали ракшасов» (РВ II.23.14). Очевидно, что после того, как Индра оттеснил Варуну на второй план, часть атрибутов и функций бывшего громовержца отошли к Брахманаспати.
Возвращаясь вновь к договору 945 г., остается отметить, что слова «и да будут рабами всю свою загробную жизнь», стоящие в перечне наказаний Перуна клятвопреступникам, и их отсутствие в договоре 971 г., где вновь фигурирует пара Перун – Волос, указывает нам, что на загробный мир распространяется власть только одного Перуна, а не Волоса. Сам вид этого наказания не мог быть включен в договор по аналогии с перечнем наказаний для клятвопреступников-христиан, для которых была предусмотрена погибель на том свете. Само понятие рабства в загробной жизни в христианстве отсутствует и, безусловно, является влиянием языческой мифологии, пережитки которой отразились в рассмотренных выше славянских поверьях о водяном.
Кроме того, у нас есть независимые свидетельства, подтверждающие широкое бытование этого языческого представления в русской дружинной среде: «О тавроскифах (русских. – М.С.) рассказывают еще и то, что они вплоть до нынешних времен никогда не сдаются врагам даже побежденные, – когда нет уже надежды на спасение, они пронзают себе мечами внутренности и таким образом сами себя убивают. Они поступают так, основываясь на следующем убеждении: убитые в сражении неприятелем, считают они, становятся после смерти и отлучения души от тела рабами его в подземном мире. Страшась такого служения, гнушаясь служить своим убийцам, они сами причиняют себе смерть. Вот какое убеждение владеет ими»[60]. Эти данные византийского историка полностью перекликаются со сведениями мусульманского писателя Ибн Мискавейха, описавшего поход русов на Бердаа в 943–944 гг.: «…Слышал я от многих, что пять людей русов собрались в одном из садов Бердаа; среди них был безбородый юноша, чистый лицом, сын одного из начальников, а с ними несколько женщин-пленниц. Узнав об их присутствии, мусульмане окружили сад. Собралось большое число Делеймитов и других, чтобы сразиться с этими пятью людьми.
Они старались получить хотя бы одного пленного из них, но не было к нему подступа, ибо не сдавался ни один из них. И до тех пор не могли они быть убиты, пока не убивали в несколько раз большее число мусульман.
Безбородый юноша был последним, оставшимся в живых. Когда он заметил, что будет взят в плен, он влез на дерево, которое было близко от него, и наносил сам себе удары кинжалом своим в смертельные места до тех пор, пока не упал мертвым»[61].
Итак, мы видим, что выбор смерти, а не постыдного плена или гибели от рук неприятелей, который неоднократно делали русские воины, восходит к языческой эпохе. В основе этого лежит образ Перуна, карающего трусов, неумелых воинов и клятвопреступников не только в этой, но и в той жизни и делающего их рабами в загробном мире. С другой стороны, отважным воинам, почтившим его жертвоприношениями, Перун для свершения славных подвигов даровал сверхчеловеческие силы. В этом отношении показателен заключительный эпизод балканских войн Святослава.
Поредевшая в боях и насчитывающая всего лишь несколько тысяч человек (на момент прибытия в Болгарию численность ее равнялась десяти тысячам), русская дружина была осажена в Доростоле стотысячным византийским войском, руководимым самим императором и поэтому включающим в себя лучшие силы ромеев. Осада была длительная, и русы ослабевали от голода и непрерывных приступов, в то время как к византийскому войску, по словам их историка Скилицы, «каждый день притекали, как из неисчерпаемого источника, всевозможные блага и постоянно присоединялись конные и пешие силы». Теряя воинов в стычках и страдая от действия осадных машин, русы выдержали более чем 66-дневную осаду и в ночь с 20 на 21 июля отпраздновали праздник Перуна, описание которого, сделанное Львом Диаконом, было приведено выше. На следующий день после жертвоприношений в честь фомовержца русская дружина вышла из города, закрыла за собой ворота и яростно бросилась на превосходящее ее по численности в 10–20 раз византийское войско. И случилось невероятное: ромеи дрогнули и начали отступать. Видя, что сражение вот-вот будет проиграно, сам император со своей отборной гвардией бросился в битву и принял на себя главный удар. Специально приставленные носильщики обнесли утомленное греческое воинство водой и вином. Но и это не спасло положения: русы продолжали теснить врага, и гордые наследники римлян были вынуждены отходить. Неизвестно, чем бы все это кончилось, но внезапно разразившийся ураган, забивавший глаза воинов пылью, заставил противников прекратить битву и разойтись. Все византийские историки – очевидцы этого сражения отмечают необычайно высокий духовный порыв, охвативший русов в тот день: Лев Диакон пишет о «необыкновенном воодушевлении» и «чудовищном натиске» русских дружинников, а Скилица констатирует их небывалую отвагу, равно как и то, что в этой битве они «сражались с большим жаром, нежели ранее». Именно из-за огромных потерь в этом бою император Иоанн Цимисхий и был вынужден заключить со Святославом почетный мир, несмотря на свое многократное превосходство. Очевидно, что колоссальный всплеск героического духа дружинников русского князя в битве 21 июля, придавший им силы для этой титанической борьбы, исходил от отпразднованного ими в предыдущую ночь праздника Перуна.
Следует также отметить и социальный аспект Перуна, бывшего, как уже давно установлено исследователями, богом войны и покровителем князя и его дружины. Об этом свидетельствуют многие данные, часть из которых была приведена выше. Русские князья и их дружины клянутся прежде всего им, а в договоре Игоря – только им одним из всего сонма языческих божеств. Это отчетливо указывает на тот социальный слой, с которым Перун был в первую очередь связан. Связь со своим небесным патроном Игорь пытался подчеркнуть с помощью числовой магии. Четверка была священным числом громовержца, и в свете этого становится понятной описанная Ибн Фадланом картина: «Из обычаев русского царя есть то, что во дворце с ним находится четыреста человек из храбрых сподвижников его и верных ему людей, они умирают при его смерти и подвергают себя смерти за него. ‹…› Эти четыреста человек сидят под его престолом; престол же его велик и украшен драгоценными камнями. На престоле с ним сидят сорок девушек (назначенных) для его постели, и иногда он сочетается с одной из них в присутствии упомянутых сподвижников»[62].
О чрезвычайно высоком статусе этого бога говорит и то, что в Болгарии он воспринимался как одетый в багряницу «краль Перун» с венцом на голове, а в русском фольклоре он превращается в морского царя или «высокого царя» Соловецкого сборника. О его функциях как бога войны говорит то, что при даче роты князь и дружина складывают свое оружие к подножию его идола и, как видно из двух договоров, человеческое оружие находится в полном ведении Перуна. Сам бог представлялся то со стрелами-молниями, то с копьем, то (в Новгороде) с палицей.
Необходимо подчеркнуть, что разительное сходство между Перуном и Варуной наблюдается даже в мелочах, которые явно не могли быть результатом независимого развития этих образов. Так, например, летописи рассказывают, что в 988 г. Добрыня насильно крестил Новгород «и требище разори и Перуна посече и повеле въврещи в Волхов. И повязавше ужи, влечахуть и по калу, биюще жезлием и пихающе… и вринуша его в Волхов. Он же (идол Перуна. – М.С.), пловя сквозе великый мост, верже палицю свою, рече: „На сем мя поминают новгородскыя дети“ (ею же и ныне безумнее убивающеся утеху творять бесомъ)»[63]. Возможно, что эта легенда о палице божества, брошенной на мост через Волхов, – отголосок древних ритуальных боев, устраивавшихся в честь Перуна – бога войны. Симптоматично и примечание летописца-христианина, считавшего традиционные бои новгородцев на этом мосту не просто безумством, но утехой бесам – древним языческим богам. Кроме того, это известие свидетельствует о том, что основным оружием громовержца на севере Руси считалась палица.
В Индии в эпоху Вед наиболее характерным для Варуны оружием, упоминаемым в РВ, были путы, а палица, в результате расщепления исходного образа громовержца, стала соотноситься с Индрой и Брахманаспати. Однако этот архаический атрибут возвращается к этому богу в «Махабхарате»: «Тот отважный царь Шрутаюдха был сыном Варуны, а матерью ему была великая река Парнаша, с холодными водами. И его мать, обратившись к Варуне ради своего сына, сказала: „Пусть этот сын мой будет неуязвим для врагов на Земле!“ И Варуна, довольный (ею), промолвил: „Я дам ему дар, благотворный для него, – небесное оружие, благодаря которому этот сын твой будет всегда неуязвим! В действительности же для каждого человека никогда не может быть бессмертия. Всякому родившемуся (на Земле) должно неизбежно умереть, о превосходнейшая из рек! Однако этот (сын твой) всегда будет неодолим для врагов в сражениях, благодаря мощи этого оружия. Да рассеется лихорадка твоего сердца!“ Сказав так, Варуна дал ему палицу, сопровожденную мантрами. Обретя ее, Шрутаюдха стал непобедим во всем мире. И все же ему снова сказал прославленный владыка вод: „Эту (палицу) не следует метать в того, кто не сражается в битве, иначе она упадет на тебя же самого!“»[64]. В этом фрагменте индийского героического эпоса мы видим целый набор представлений, характерных на Руси для Перуна. Это и палица как небесное оружие бога вод, и даруемая им воинская неуязвимость в бою, и мотив метательного оружия, поражающего своего владельца, преступившего моральный запрет. Очевидно, первоначально этим оружием была не палица, а стрела, поскольку в РВ именно Варуну арии молят:
Пусть пройдет стороной злой выстрел ненавистников! Отвратите со всех сторон повреждение (наших) тел! (РВ VII.34.13)Еще одним атрибутом Варуны в РВ была бочка, с помощью которой он орошает землю дождем:
Бочку с отверстием вниз Варуна Вылил на оба мира (и) в воздушное пространство. Ею царь всего мироздания, Как дождь – хлеба, орошает почву. (РВ V.853)Однако эта символика была известна и у славян. Летопись все того же Новгорода под 1358 г. сообщает, что «того же лѣта цѣловаша (новгородцы) бочек не бити», а Никоновская летопись конкретизирует это известие: «того же лѣта новгородцы утвердишась межи собою крестнымъ цьѣлованiемъ, чтобъ имъ игранiя бѣсовскаго не любити и бочекъ не бити»[65]. Судя по летописным сообщениям, битье бочек представляло из себя древний языческий ритуал («бесовское играние»), имевший общегородское значение, поскольку все население города было приведено к особо торжественной христианской присяге для отказа от него. Учитывая то, что Новгород часто страдал от неурожаев, а бочка была связана с водой, можно предположить, что здесь перед нами магический ритуал вызывания дождя, основанный, как это неоднократно бывало в славянском язычестве, на связи между аналогичными земными и небесными предметами. По всей видимости, небесная бочка принадлежала богу мировых вод Перуну, поскольку именно его ритуальным оружием – палицей – разбивались бочки у других славянских народов, у которых этот ритуал почти превратился в народную игру: «Обычай этот доныне известен у хорутан, в Зильской долине: там в каждой деревне стоит на площади всеми чтимая липа; к этому дереву привешивается бочка; юнаки выезжают на конях, с палицами в руках, скачут вокруг липы и стараются на всем скаку попасть палицею в дно бочки, которая наконец и рассыпается на части. Пока юнаки выказывают ловкость и силу своих ударов, остальные жители поют обрядовые песни»[66].
Память о том, что Перун, верховный бог Древней Руси, мог принимать облик дракона, хранилась в нашей стране очень долго. Так, еще в 1859 г. П. Якушкин записал от одного старика легенду о происхождении Перынского скита под Новгородом: «А вот видишь ты, какое дело было, – начал рассказчик, – был зверь-змияка, этот зверь-змияка жил на этом самом месте, вот где теперь скит святой стоит, Перюньский. Кажинную ночь этот зверь-змияка ходил спать в Ильмень-озеро с Волховскою коровницею. Перешел змияка жить в самый Новгород; а на ту пору и народился Володимир-князь в Киеве; тот самый Володимир-князь, что привел Руссею в веру крещенную. Сказал Володимир-князь: „всей земле Русской – креститься“. Ну и Новгород – тожь. Новгород окрестился. Черту с Богом не жить: Новый-Город схватил змияку Перюна, да и бросил его в Волхов. Черт силен: поплыл не вниз по реке, а в гору – к Ильмень-озеру; подплыл к самому своему жилью, да и на берег! Володимир-князь велел на том месте церковь рубить, а дьявола опять в воду. Срубили церковь: Перюну и ходу нет! От того эта церковь назвалась Перюньскою; да и сам скит тоже Перюньский»[67]. Как уже отмечалось, в Перыни действительно стояло капище Перуна, впоследствии разрушенное христианами, возведшими на этом месте церковь. Обстоятельства изгнания Перюна в рассказе весьма сходны с летописным известием о свержении идола Перуна; принципиально новой чертой является изображение громовержца в виде «зверя-змияки» и его связь в этом облике с женщиной. Достоверность этого сообщения о драконьей ипостаси громовержца подтверждается археологическими раскопками Новгорода, в котором головы драконов достаточно часто украшают собой ручки ковшей, кровли домов и ритуальные жезлы. Касаясь причин помещения этого символа на сосуды для воды, В.М. Василенко отмечает: «Мы не знаем точно значения змия-дракона, но можем догадываться о том, что оно было положительным, иначе не стали бы держать его в своем доме новгородцы, не стали бы украшать его изображениями предметы своего быта – ковши, сосуды для воды, браги и меда. ‹…› Изображение змиев-драконов не сразу ушло из быта новгородцев, где они, конечно, были не только украшением, но и своеобразным оберегом: охраняли от зла, способствовали благополучию»[68]. Данная ипостась верховного бога была общерусской, а не местной новгородской. В этом нас убеждают данные полоцкого и муромского фольклора, сохранившего для нас древний мотив сочетания дракона с княгиней.
Этот образ органично сочетал в себе крайние точки мироздания – в нем громовержец мог как лежать в глубине вод, так и заглатывать солнце в высоте неба. С другой стороны, и ведийский гимн отмечает, что Варуна «наделен силой превращений» (РВ VI.48.14). Как мы помним, бог Индра в РВ также был наделен силой превращений, однако в этом гимне он фигурирует как «богатый силой духа». Кроме них данный гимн также упоминает Агни, Марутов, Арьямана, Вишну и Пушана, однако интересующее нас качество он отмечает только у Варуны, из чего следует, что из всех этих богов способность к превращениям, которой могли бы обладать и другие небожители, относилась в первую очередь к нему. Это и неудивительно, поскольку, как отмечалось выше, именно он обладал майей – магической силой, дающей, помимо прочего, возможность изменять свой вид. Во что конкретно мог превращаться Варуна, гимн не уточняет, однако этот пробел вполне компенсирует обращенная к богам просьба ариев в другом гимне данной мандалы:
Какие бы великие (боги), обладающие змеиной силой превращений, Ни родились на земле, на небе, на месте пребывания вод, — (Все) эти боги пусть нам даруют полный срок жизни, Чтобы (мы) процветали (и) ночами, (и) на утренних зорях! (РВ VI.52.15)Варуна, как было сказано в самом начале главы, был не просто великим богом – он был одним из двух верховных богов. Именно от него во многом зависел срок жизни человека и именно его временем были ночи, о процветании в период которых так заботились слагатели гимна. С учетом того, что сила превращений относилась в первую очередь к нему, мы смело можем отнести к нему и эпитет «змеиная сила», что лишний раз подчеркивает его сходство с верховным богом славян.
Данных о внешнем облике Волоса или о его социальных связях в нашем распоряжении крайне мало, гораздо меньше, чем о Перуне. С его именем связано славянское название Плеяд, которые русские называли Волосынями, болгары – Власици или Власците, а хорваты и сербы – Влаши. То обстоятельство, что в «Авесте» Плеяды называются Регапе, лишний раз свидетельствует о теснейшей связи обоих верховных славянских богов даже на астральном уровне, равно как и о том, что эта связь зародилась в индоевропейский период. На Руси достаточно долго сохранялся обычай по окончании уборки хлеба оставлять в дар этому богу несжатыми несколько стеблей хлебных злаков, которые завязывались, по древнему поверью, «Волосу на бородку». В ее честь восточные славяне пели обрядовые земледельческие песни типа «Ой, чья же то борода черным шелком увита, серебром-золотом увита». Впрочем, завязывание аналогичных бородок фиксируется и в честь Ильи-пророка. Судя по всему, Волос был и покровителем скота как частного выражения богатства. В одной словацкой песне поется «пасли овцы велесы», но под влиянием христианства в чешских текстах XVI–XVII вв. слово «велес» означает уже «злой дух».
В 922 г. в составе специального посольства, посланного для обращения волжских булгар в ислам, на Волгу прибыл Ахмед ибн Фадлан, оставивший подробное описание встреченных им там русских купцов. Любознательный мусульманский путешественник так изображает их обращение к богам перед началом торговли: «Во время прибытия их судов к якорному месту, каждый из них выходит, имея с собой хлеб, мясо, молоко, лук и горячий напиток (мед), подходит к высокому вставленному столбу, имеющему лицо, похожее на человеческое, а кругом его малые изображения, позади этих изображений вставлены в землю высокие столбы. Он же подходит к большому изображению, простирается перед ним и говорит: о господине! я пришел издалека, со мной девушек – столько и столько-то голов, соболей – столько и столько-то шкур, пока не упоминает все, что он привез с собой из своего товара. Затем он говорит: этот подарок принес я тебе, и оставляет принесенное им пред столбом, говоря: желаю, чтоб ты мне доставил купца с динарами и диргемами, который купил бы у меня все, что желаю (продать) и не прекословил бы мне во всем, что я ему ни скажу (не торговался бы); после он удаляется. Если продажа бывает затруднительна и время ее продолжается долго, то он возвращается с другими подарками во второй, в третий раз, и если желаемое им все еще промедляется, то он приносит одному из тех малых изображений подарок и просит его о ходатайстве, говоря: эти суть жены господина нашего и его дочери, и он не пропускает ни одного изображения, которого не просил бы и не молил бы о ходатайстве и не кланялся бы ему униженно. Часто же продажа бывает ему легка, и когда он продаст, говорит: господин мой исполнил мое желание, должно вознаградить его за то. И берет он известное число рогатого скота и овец, убивает их, часть мяса раздает бедным, остальное же приносит и бросает пред большим столбом и малыми, его окружающими, и вешает головы рогатого скота и овец на столбы, вставленные в земле, а когда настает ночь, то приходят собаки и съедают это, тогда тот, который это сделал, говорит: мой господин соблаговолил ко мне и съел мой подарок»[69].
Целый ряд соображений говорит о том, что идол, которому молились русские купцы на Волге, был не Перун, а «скотий бог» Волос. Описанного Ибн Фадланом бога просят об удаче в торговле, о получении богатства, о денежной сделке. Перечень жертв ему точно определен с самого начала, и нет ни малейшего намека на гадание, столь свойственное Перуну. Обращает на себя внимание и то, что первая, самая главная жертва совершенно бескровна. Помимо этого купец фактически вступает с богом в договорные отношения: ты мне пошлешь богатого купца, с которым можно было бы легко сторговаться, а я тебя отблагодарю богатой жертвой. В заключительном жертвоприношении богу закалывается какой-то рогатый скот и овцы, связанные с Велесом в словацкой песне, в то время как быки, традиционно посвящаемые громовержцу, не упоминаются. Стоит вспомнить, что и в Киеве идол Перуна стоял около княжеского терема, а идол Волоса – на Подоле у торговых пристаней Почайны. Все это свидетельствует о том, что Волос, изначально являвшийся богом договора, постепенно трансформировался в бога торговли, за которой стояла лишь одна разновидность договора как такового. Можно предположить, что произошло это относительно поздно, в результате того, что крупная международная торговля с Византией и мусульманским Востоком стала играть заметную роль в жизни Древнерусского государства.
Однако помимо связи Волоса с материальным богатством имеются данные о связи этого бога с богатством иного рода – духовным. Автор «Слова о полку Игореве» восклицает:
Чи ли въспѣти было, вѣщей Бояне, Велесовъ внуче…[70]Вещий Боян, мистический характер творчества которого был разобран выше, называется здесь внуком Велеса, выступающего в данном контексте в роли прародителя и, возможно, покровителя тесно связанных с языческими волхвами певцов. Одним из значений слова «вещий» было «прорицающий будущее». Конкретный механизм этого прорицания, и притом именно волхва святилища Волоса, описан в «Сказании о построении града Ярославля»: «Сей волхв, яко пестун диавола, мудрствуя силою исконного врага, по исходящему воскурения жертвенного разумева и вся тайная и глагола словеса приключишмся ту человецем, яко словеса сего Волоса. И вельми почтен бысть сей волхв у языцев»[71]. Стоит отметить, что в древнерусском языке слово «волшебник» писалось как вълсвъникь и, возможно, указывало на связь Волоса с этим сословием на этимологическом уровне. Кроме того, данные языка свидетельствуют и о связи этого бога с властью в каком-то ее проявлении: диалектное волос означает «власть», волосить – «властвовать, управлять», велес – «повелитель, распорядитель, указчик», а объединение нескольких деревень именовалось волостью, т. е. административно-территориальной единицей. Хотя данных в этом отношении крайне мало, можно высказать осторожное предположение, что первоначально Волос олицетворял духовную власть и был связан с волхвами, ее носителями, и лишь впоследствии появилась его связь с торговым договором и материальным богатством.
Мы видели, что различные источники указывают на достаточно прочные связи Перуна и Волоса и выделяют эту пару из среды остальных славянских языческих богов. Однако ни один из этих источников даже косвенно не указывает на какую-либо вражду или соперничество этих обоих богов, на их противопоставление как хорошего и плохого начала. В этой связи необходимо отметить принципиальную ошибку В.В. Иванова и В.Н. Топорова, совершенно безосновательно объявивших «реконструированный» ими поединок Перуна с Волосом «основным мифом» славянской мифологии. К сожалению, эта ошибочная реконструкция получила довольно широкое распространение в научной литературе. Вот как излагают содержание «мифа» его авторы: «Они связаны между собой как участники грозового мифа: бог грозы Перун, обитающий на небе, на вершине горы, преследует своего змеевидного врага, живущего внизу, на земле. Причина их распри – похищение Велесом скота, людей, а в некоторых вариантах – жен Громовержца… Победа заканчивается дождем, приносящим плодородие»[72]. Какова же научная ценность и обоснованность столь широко разрекламированной реконструкции? Вновь предоставим слово самим авторам: «В древнерусских текстах содержатся указания на некоторые отмеченные выше атрибуты Перуна, но нет мотива борьбы с противником. Этот последний может быть реконструирован в самом гипотетическом виде, во-первых, на основании ряда различительных признаков, позволяющих предположить наличие противоположных признаков у врага Перуна, во-вторых, на основании более поздних формул типа проклятий, где выступает предикат (со значением „бить“, „поразить“) с двумя местами, одно из которых заполнено именем Перуна, а второе образует ту пустую клетку, которую следует заполнить на основании косвенных источников»[73].
Во-первых, мы вправе ожидать от «основного мифа» славянского язычества гораздо большей степени сохранности в народной культуре. Мы видели, что целый ряд функций и представлений о Перуне (не говоря уже о сакральном тексте «Голубиной книги») под очень тонкой христианской оболочкой сохранялись в народе очень долго, вплоть до XIX–XX вв. Здесь же сохранность мифа настолько ничтожна, что он «может быть реконструирован в самом гипотетичном виде» на основании более чем шатких соображений. Во-вторых, проклятия типа «чтоб тебя Перун убил» вполне могут быть объяснены грозным и опасным для человека характером этого бога, а вовсе не требуют изобретения особого мифа. В-третьих, хотя авторы реконструкции категорично связывают Перуна с верхом, а его змеевидного противника с низом, трактуя это чуть ли не как основную оппозицию, мы видели, что Перун был одновременно связан и с верхом, и с низом, в результате чего данная оппозиция во многом сводится на нет и оказывается надуманной. Хотя в части сравнительно поздних текстов Илья-пророк действительно гонит или поражает змея, не будем забывать, что и сам Перун временами оборачивался драконом. Кроме того, никакие источники не указывают на наличие у Перуна, в отличие от «скотьего бога» Волоса, какого-либо скота, так что тезис о его похищении у громовержца выглядит более чем сомнительно. Если изложенная выше интерпретация сообщения Ибн Фадлана о жертвоприношении русских купцов верна, то вряд ли у имевшего многих жен Волоса была необходимость дополнительно похищать еще и жен Перуна. В-четвертых, пустая клетка с именем противника Перуна заполняется В.В. Ивановым и В.Н. Топоровым за счет широкого некритичного привлечения балтской мифологии без тщательного анализа наличия у восточных славян сходных представлений. Приведенные выше сравнения индийской и иранской мифологий показывают, что даже в близкородственных традициях одни и те же персонажи могли восприниматься диаметрально противоположным образом. Кроме того, следует отметить, что часть самих прибалтийских исследователей понимают и интерпретируют материалы своей мифологии подчас совершенно иным образом, чем В.В. Иванов и В.Н. Топоров. Так, например, последние утверждают, что славянский Перун имеет много общих черт с балтийским Перкунасом, а Ю.-С.А. Лаучюте, констатируя произвольность многих якобы неоспоримых балто-славянских параллелей, отмечает: «Поэтому из работы в работу кочуют такие примеры якобы балто-славянских эксклюзивных изглосс, как… лит. perkunas „гром“; имя бога грома по словообразовательным и фонетическим причинам не сводимо к одному архетипу с др.-русск. Перунъ „бог грома“ и т. д.»[74]. Не все так просто и с противником Перкунаса Велнясом или Вяльнясом (в литовском букв. «черт»). В литовском фольклоре это самый популярный персонаж, о котором Н. Велюс пишет следующее: «История этого образа в народной культуре осложнена к тому же позднейшими наслоениями – своеобразной контаминацией с персонажем в христианстве, олицетворяющим злое начало. На самом же деле с этим последним фольклорный вяльняс имеет не много общего. Фольклорный вяльняс – это архаичный персонаж литовской мифологии, составляющий одну из ее доминант»[75]. Не вдаваясь в детальную критику выдвинутой двумя учеными «реконструкции», отметим лишь, что она находится в вопиющем противоречии с одним из наиболее надежных видов источников наших знаний о Перуне и Волосе – договорами языческой Руси с Византией. Если принять за основу гипотезу о вражде или поединке Перуна и Волоса, то становится совершенно непонятно, как могли русские князья дважды одновременно клясться этими богами и делать их гарантами важнейших международных договоров. Это был бы такой же абсурд, как если бы христианин клялся одновременно богом и сатаной, а индиец – громовержцем Индрой и его противником змеем Вритрой. В таком случае оставалась бы абсолютно непонятной связь этих двух богов с клятвой и ротой, прослеженная выше.
Завершая мифологический обзор, мы теперь можем ответить на вопрос, насколько соответствуют данные о русском язычестве принципиальной схеме Ж. Дюмезиля о двух верховных богах индоевропейцев, опирающейся прежде всего на индийский материал. В первую очередь, отметим имеющиеся существенные расхождения. Так, у индийского Варуны, в том виде, в каком он был зафиксирован в РВ, нет функций громовержца и бога войны, столь характерных для Перуна. В эпоху Вед носителем этих функций был бог Индра. Однако это несоответствие может быть объяснено тем, что индийская мифология находилась на иной стадии развития, чем русская, которая в ряде моментов была более близка к индоевропейской. Следы этих функций у Варуны в РВ были рассмотрены выше, в 1 части книги «„Голубиная книга“ – священное сказание русского народа», а сами они в процессе дальнейшего развития индийской мифологии, но еще до окончательной кодификации «Ригведы» перешли к Индре и Брахманаспати – более энергичным и более молодым, по сравнению с Варуной и Митрой, богам. Сравнительный анализ русской и индийской традиций в первой части позволил нам проследить путь эволюции Индры от зверя к антропоморфному божеству. В РВ также имеются указания на несколько натянутые отношения между Варуной и Индрой, каждый из которых претендует на главенствующее место среди богов. Во всяком случае, зафиксированное развитие индийской мифологии совершенно отчетливо указывает на непрерывную тенденцию постепенного снижения роли и значения Варуны, который по мере появления все новых богов превращался из верховного бога в заурядного бога моря, теряя свое былое главенство в пантеоне. Аналогичная участь постигла в конце концов и Индру. Поэтому мы с большой долей вероятности можем предположить, что процесс понижения роли Варуны и утраты им части своих функций начался еще до окончательного сложения РВ. Процесс последующего отхода от исходного архетипа мы можем наблюдать и у русского Волоса, который из бога согласия и договора в последнюю эпоху языческой Руси быстро эволюционировал в сторону бога торгового договора, т. е. сферы деятельности не первого, а третьего сословия. Однако подобная трансформация не могла произойти ранее возникновения Волжского торгового пути и пути «из варяг в греки», когда значение международной торговли для восточных славян резко повысилось. Понятно, что данный экономический процесс, равно как и его отражение в религиозной сфере, произошел сравнительно поздно.
Во всем остальном мы наблюдаем удивительное совпадение между русской и индийской парами. Бросается в глаза резкое количественное неравенство дошедших до нас данных о Перуне и Волосе, что на индийском материале объяснялось разным отношением богов к человеку. Этот вывод верен и для русской мифологии. Нет ни малейшего намека на вражду или соперничество Перуна и Волоса, которые не противопоставлены друг другу как добро и зло, олицетворения хорошего и плохого начала. Если общей, объединяющей функцией Варуны и Митры была охрана и поддержание риты, то единственной совместной деятельностью Перуна и Волоса, известной нам по русским источникам, была гарантия соблюдения русами международных договоров и роты. Как и Варуна, Перун имеет грозный, опасный для человека, непредсказуемый и карающий за нарушение закона характер. Оба бога тесно связаны с мировыми водами, дождем, ночью и царством мертвых. На происхождение Перуна и Варуны от единого индоевропейского прообраза наглядно указывает более чем редкий мифологический сюжет о взаимоотношениях бога с облагодетельствованным, а затем наказанным им певцом, а также ряд специфичных общих черт в виде палицы, небесной бочки и временами принимаемого ими драконьего обличия. С другой стороны, как Митра, так и Волос имеют репутацию щедрых божеств, об опасности со стороны которых для человека ничего не говорится. Что касается неантагонистического противопоставления Перуна и Волоса, то и здесь мы имеем две точные и весьма редкие параллели с Варуной и Митрой: речь идет об их противопоставлении в русской мифологии в плане «вода – земля» и «князь и воины – жрецы». Все это дает нам основание заключить, что, за исключением утраченных Варуной в ведийский период функций громовержца и бога войны, имеющиеся в нашем распоряжении данные о русском язычестве абсолютно точно вписываются в принципиальную схему Ж. Дюмезиля и пара Перун-Волос на Руси является точной типологической параллелью пары Варуна-Митра в Индии, причем обе пары должны восходить к единому индоевропейскому прообразу двух верховных богов. Но если главной объединяющей функцией Митры и Варуны была охрана и поддержание вселенского закона, то приходится утверждать, что именно эта важнейшая функция, от которой зависело само существование Космоса, обуславливала образование пары Перун-Волос. А из этого с непреложностью следует, что индийская puma и русская рота являются родственными однокорневыми словами, также восходящими к единому индоевропейскому термину, и что первоначально рота у славян обозначала вселенский закон и в этом качестве являлась одним из важнейших понятий русского язычества.
Поскольку рита/рота восходят к индоевропейскому термину, мы вправе ожидать следов этого понятия и у других народов данной языковой семьи, что должно окончательно подтвердить выдвинутую нами гипотезу. Рассмотрению этих индоевропейских параллелей будет посвящена глава 3, а пока мы посмотрим, есть ли в русском материале черты, подтверждающие значение роты как великого всемирного закона, равно как и ее языческий характер.
Глава 2. Рота как термин древнерусского язычества
Слово «рота» неоднократно встречается в древнерусской литературе, причем в самых разнообразных ее жанрах: летописях, церковных поучениях против язычества, переводных произведениях и юридических памятниках. Специалисты как XIX, так и XX веков переводили этот термин как «клятва, присяга»[76]. Именно такой вариант перевода данного слова и утвердился во всей отечественной литературе. Однако при ближайшем рассмотрении общепризнанный перевод оказывается далеко не бесспорным. Слово «клятва» было великолепно знакомо автору «Повести временных лет» и, более того, неоднократно употреблялось им в одном предложении с интересующим нас термином. Заключая договор с Византией, Олег ходил по роте и клялся своим оружием и богами. Описывая заключение договора в 944 г., летописец отмечает, что послы привезут договор Игорю и его людям «и ти, принимающе харатью, на роту идуть хранити истину… Мы же, елико нас хрестился есмы, кляхомъся церквью святаго Ильи… А некрещении Русь… да кленутся о всемь, яже суть написана на харатьи сеи…». Наконец, в тексте договора 971 г. читаем: «Азъ Святославъ, князь руский, якоже кляхъся, и утверждаю на свѣщаньѣ семь роту свою…». Одно из древнерусских поучений против язычества называлось «Слово св. Моисея о ротах и клятвах».
Данные примеры, число которых при желании можно легко умножить, доказывают, что люди Древней Руси четко разделяли понятия роты и клятвы. Не менее хорошо им был знаком и термин «присяга» в качестве самостоятельного понятия. Достаточно вспомнить хотя бы приводившийся выше фрагмент «Беседы Григория Богослова об испытании града», в котором автор поучения негодует против тех язычников, которые «дрьнъ въскроущь на главе покладая, присягоу творить, овъ присяга костьми человечами творить». Следовательно, термины «клятва» и «присяга», как бы ни были они близки по смыслу к интересующему нас явлению, тем не менее, не покрывают всей глубины понятия «рота». В случае термина «клятва» вообще представляется невероятным, чтобы летописец или автор поучения против язычества употребил два различных слова для обозначения одного понятия, да еще в рамках одного предложения. Очевидно, нечто подобное осознавал и такой блестящий знаток древнерусского языка, как И.И. Срезневский, выразивший в одной из своих работ сомнение в предложенном им же самим варианте перевода слова «рота», во всяком случае на этапе его первоначального употребления: «Какое бы ни было первоначальное значение слова рота, оно в смысле присяги, клятвенного уверения, как термин юридический принадлежит всем славянам издревле»[77].
На реконструируемое в первой главе значение роты как великого вселенского закона, а не какой-нибудь обычной клятвы или присяги в первую очередь указывает срок ее действия, устанавливаемый в международном договоре. В тексте договора Игоря 945 г., при заключении которого князь с дружиной ходил перед идолом Перуна, говорится, что мир между Русью и Византией заключается на все лета, «додне (пока. – М.С.) же съяеть солнце и весь миръ стоить»[78]. Таким образом, мир, основанный на роте, заключался на вечные времена и был обязателен для русов-язычников на все время существования Вселенной, а не одной лишь Земли – на это однозначно указывает ссылка на Солнце. И наоборот: договор считался утратившим силу в случае гибели Вселенной или, говоря другими словами, когда мировой космический закон перестанет действовать. В этой связи показательно, что в Индии понятие «путь солнца» было фактически эквивалентно «пути риты». Выше уже отмечалось, что в РВ дневное светило воспринималось как глаз Митры-Варуны, которому владыка вод в соответствии со вселенским законом проложил путь (РВ I.24.8; VII.87.1). В другом гимне движение солнца по небосклону описывалось так:
Вот возник путь закона, Чтобы прямо двигаться на тот берег. Показалась тропинка неба. (РВ I.47.11)В другом месте выход солнца (называемого здесь быком), регулярно сменявшего в соответствии с ритой утренние зори, непосредственно связывается с майей обоих верховных богов – хранителей вселенского закона:
Догоняя зори в основании закона, Бык проник в обе половины вселенной. Велика волшебная сила Митры и Варуны: Во многие стороны он простер свой луч, подобный золоту. (РВ III.61.7)Поскольку в этом договоре сияние солнца упоминается в непосредственной связи со сроком действия роты, мы можем заключить, что и на Руси дневное светило было тесно связано с вселенским законом, одним из наиболее зримых проявлений которого и являлось регулярное ежедневное появление на небе этого светила. Это также указывает на космический характер данного закона, явно не ограничивающегося рамками одной лишь Земли, а охватывающего собой все мироздание.
В договоре 971 г. ссылка на эту идею непосредственно соседствует со словом рота: «Азъ Святославъ, князь руский, якоже кляхъся, и утверждаю на свѣщаньѣ семь роту свою: хочю имѣти миръ и свершену любовь со всякимъ великимь царемъ гречьскимъ, съ Васильемъ и Костянтиномъ, и съ богодохновеными цари, и со всѣми людьми вашими и иже суть подо мною Русь, боляре и прочий, до конца вѣка»[79]. Итак, рота утверждалась Святославом до конца века или, в некоторых переводах, мира. Наконец, под 985 г. летописец так описывает действия сына Святослава еще до Крещения Руси: «И створи миръ Володимеръ съ болгары, и ротѣ заходиша межю собѣ, и рѣша болгаре: толи не будеть межю нами мира, оли камень начнеть плавати, а хмель почнет тонути»[80]. Хотя ПВЛ вкладывает эти слова в уста болгар, есть все основания предполагать, что автором этой ритуальной формулы была именно русская сторона. Так, исследовавший формулу «невозможного» в славянских песнях карпатской зоны П.Д. Кирдан отмечает, что чаще всего украинцы обозначают принципиальную невозможность чего-либо с помощью двух иносказаний: «когда камень поплывет» и «песок, который не может взойти»[81]. Обе формулы, согласно его подсчетам, употребляются в песнях по 18 раз, в то время как другие формулы «невозможного» встречаются там от 3 до 9 раз. В польском же фольклоре первое место безоговорочно занимает выражение «когда камень поплывет». Эти данные народной поэзии следует соотнести с сообщением Саксона Грамматика об обряде полабских славян, сопровождавших заключение мира потоплением камня в море. Как видим, и у западных славян мир заключался на все время существования Вселенной. Эта черта нашла свое отражение даже в Житии Антония Римлянина, в котором заметны отмеченные выше западно-восточнославянские контакты в религиозной сфере в языческую эпоху. Согласно описанию в Житии частной сделки купли-продажи земли, преподобный «Купи землю около монастыря у посадниковъ градскихъ. И съ живущими иже на тои земли людми прилучившимися и въ прочая лѣта. Доколе Божiимъ строенiемъ миръ вселенныя стоить»[82]. Как видим, купленная земля должна была принадлежать основанному Антонием монастырю до конца существования мира. Возвращаясь к договору Владимира, мы вновь видим идею того, что мир, основанный на роте, погибнет, когда нарушатся основные законы мироздания, согласно которым хмель в воде плавает, а камень тонет. Показательно, что оба примера очевидных и наиболее наглядных для человека законов связаны с водой – стихией Перуна. Еще более показательно в этой связи то обстоятельство, что в русских заговорах образ плавающего камня оказывается связан с образом отвращаемой от человека стрелы, за которым, как было установлено в предыдущей главе, опять-таки стоит бог Перун: «Как на море белу камню не плавати, так на меня раба божия имярек всякой стреле не бывати вовек»; «И обратися, стрела, цевьем в древо, в свою матерь, а перье в птицу, а птица полети в небо, а железо поди во свою матерь в землю, а клей во свою матерь рыбу. А рыба поди во Окиян море под бел камень Латар. И как белому камену Латарю по морю не плавати… такоже (в рукописи пропущено „мне“) всяким оружьем не бывати не сечину, не резану, ни колоту, ни биту, ни стреляну»[83]. Описанный в последнем заговоре процесс разложения стрелы на свои составные части, каждая из которых возвращается к своему истоку, к «мати», позволяет предположить, что, помимо вышеописанного, образ плавающего по воде камня имеет еще одно, подспудное значение: мир перестанет действовать, когда Вселенная вернется в свое изначальное недифференцированное состояние в виде плавающего в первозданных водах камня, который еще не пробил Индра. На основании трех рассмотренных примеров договоров 945, 971 и 985 гг. можно сделать вывод, что эти международные договоры рассматривались русами-язычниками как частные проявления единого вселенского закона и после совершения соответствующего священного обряда (хождения по роте) должны были сохранять свою силу на все время действия этого вселенского закона. Поскольку частные международные соглашения черпают свою силу именно в нем, будучи встроены в его великий поток и, исходя из логики, должны ему соответствовать, то, по аналогии с «Голубиной книгой», можно рассматривать этот универсальный космический закон-роту в качестве «мати» для всех прочих международных и внутригосударственных законов и договоров.
Понять, как название вселенского закона смогло на Руси оказаться связанным с понятиями «клятвы» или «присяги», нам помогает одна индийская легенда, где бог велит одному персонажу rtam amisva «поклянись rta» (взяв rta в качестве гаранта), и этот персонаж rtam amit «клянется rta»[84]. Очевидно, в глазах бога это наивысшая клятва, какую только может принести человек, обрекая себя, в случае ее нарушения, гневу верховных богов-хранителей закона. Выше уже приводились примеры из «Ригведы», рисующие образ Митры-Варуны как «карателей за многие беззакония» (РВ VII.60.5) либо прославляющих их за то, что они «подавили все беззакония» (РВ I.152.1). «Атхарваведа» (VII, 83, 3–4) содержит гимн, где согрешивший человек молит Варуну освободить его от наложенных этим карающим божеством пут:
Удали вверх от нас верхнюю петлю, о Варуна, Вниз – нижнюю, прочь – среднюю! Пусть станем мы тогда безгрешными Для Адити в обете твоем, о Адитья! Распусти на нас, Варуна, все петли: Которые верхние, нижние, которые варуньи! Прогони прочь от нас дурной сон, трудности! Пусть отправимся мы тогда в мир благого деяния![85]Примерно такую же по смыслу мольбу к карающему божеству, но уже без детального описания его действий мы видим и в «Ригведе»:
Если против божественного рода, о Варуна, какой-нибудь Проступок мы, люди, здесь совершаем, Или по неразумию нарушили твои законы, Не карай нас, о бог, за этот грех! (РВ VII, 89, 5)Соответственно, становится понятно, почему этимологически родственное pumе слово rata стало обозначать в Индии понятие «обета» (см., например, РВ I.51.9). Очевидно, что и в Древней Руси понятие вселенского закона было постепенно перенесено на клятву либо присягу этим наивысшим принципом мироздания.
Летопись сохранила для нас ценнейшие древние представления русов о силе роты, о том, как она мстит преступившим ее людям. В 1103 году русские князья по инициативе Владимира Мономаха предпринимают совместный поход в степь, причем объединенные силы собираются у острова Хортица – там, где, по свидетельству Константина Багрянородного, в языческие времена находилось место поклонения Перуну. Поход был исключительно удачен: половцы были разгромлены, причем в битве погибло двадцать их ханов, а русские захватили огромную добычу и множество пленных. Среди последних был и хан Белдюзь, предложивший за себя русским князьям богатый выкуп. Для решения его судьбы Святополк направил пленного к Владимиру. «И пришедшю ему, нача впрашати его Володимеръ: то вѣдѣ яла вы рота. Многажды бо ходивше ротѣ, воевасте Русскую землю. То чему ты на казаше сыновъ своихъ и роду своего не преступати роты, но проливашет кровь хрестьяньску? Да се буди кровь твоя на главѣ твоей. И повелѣ убити и, и тако расѣкоша и на уды»[86] – «И когда он пришел, начал спрашивать его Владимир: знай, это рота захватила вас. Ибо сколько раз, ходив по роте, вы все-таки воевали Русскую землю? Почему не учил ты сыновей своих и род свой не преступать роты, но проливали кровь христианскую? Да будет кровь твоя на голове твоей! И повелел убить его, и так разрубили его на части». Отчасти эта речь Владимира Мономаха напоминает договоры с Византией, где нарушителей роты призван покарать Перун – один или в паре с Волосом. Однако здесь рота способна самостоятельно, безо всяких языческих или христианских богов, покарать нарушившего ее человека или племя, захватив и, вероятно, лишив силы, после чего отдавая в руки соблюдающей роту противоположной стороны договора. В этом проявляется самостоятельная сила мирового закона даже по отношению к охраняющим его богам. Кроме того, здесь мы видим удивительно точное взаимодополнение индийских и русских представлений о мировом законе. Если произнесение истины, бывшей одним из аспектов риты в Индии и тесно связанной с ротой на Руси (заключая договор, Игорь и его приближенные «на роту идуть хранити истину»), усиливает бога или человека, то, наоборот, произнесение лжи под видом истины (заключить мир, ходя по роте, а затем все это вероломно нарушить) обрекает нарушителя на смерть.
Обращает на себя внимание и употребленный летописцем термин «расѣкоша» (в договоре 945 г. ему соответствует «посѣчени», а в договоре 971 г. – «исѣчени»). Почему, говоря о смерти половецкого хана, Нестор не сказал, что он был убит, казнен, зарезан, обезглавлен и т. п., а специально подчеркнул, что он был рассечен на куски? Термин был выбран явно не случайно, что подтверждается наличием родственных слов с корнем «сечь» в двух договорах с Византией в части, предусматривающей наказание нарушителям роты и договора. Ключ к ответу на этот вопрос мы найдем в сочинении Ибн Фадлана, который, в частности, о русах пишет следующее: «А кто из них совершит прелюбодеяние, кто бы он ни был, то заколотят для него четыре сошника, привяжут к ним обе руки и обе ноги и рассекут (его) топором от затылка до обоих его бедер. И таким же образом они поступают и с женщиной. Потом каждый кусок его и ее вешается на дерево… И они убивают вора так же, как убивают прелюбодея»[87]. Воры и прелюбодеи были нарушителями закона земного – части и подобия закона вселенского. За это они предавались особой казни – рассечению. Ипатьевская летопись также связывает данный термин с идеей пресечения (нарушения закона?): «Моужи же пресѣкаеми и расѣкаеми бывають»[88]. С одной стороны, язычники верили, что вид смерти и похорон предопределяет судьбу души в загробном мире. Тот же Ибн Фадлан приводит слова руса о том, что благодаря сожжению душа умершего тотчас попадает в рай. Поэтому вполне логично предположить, что рассечение преступников и нарушителей роты на куски и развешивание их на деревьях преследовало прямо противоположную цель (ср. договор 945 г., где нарушители роты обрекают себя на рабство в загробном мире). С другой стороны, если провозглашение роты усиливало космический закон, то ее нарушение неизбежно должно было его в какой-то степени ослаблять. И тогда для восстановления силы пошатнувшегося вселенского закона требовалось особенное человеческое жертвоприношение, где в роли жертвы выступал сам нарушитель. По сути, этот вид казни на Руси был аналогом пурушамедхи (человеческого жертвоприношения путем расчленения) в Индии. В обоих случаях этот обряд восходит к индоевропейскому мифу о создании Вселенной путем жертвоприношения и расчленения антропоморфного Первобожества, из частей которого возникает упорядоченный Космос (см. главу 5 части I книги «„Голубиная книга“ – священное сказание русского народа»). Как уже говорилось выше, вселенский закон также возник из тела Первобога, с которым он был неразрывно связан. Таким образом, особой казнью преступника и нарушителя роты, повторяющей акт первотворения Вселенной, поддерживался ослабленный им на земном уровне космический порядок.
В пользу подобной интерпретации этого вида казни говорит и явно ритуальный характер развешивания разрубленных частей тела преступника на дереве. Поклонение славян деревьям зафиксировано множеством источников, а все эти культы, в конечном итоге, восходят к архетипу Мирового дерева как образа Вселенной. Кроме того, данные Ибн Фадлана перекликаются с уже приводившимся сообщением другого арабского писателя, Ибн Руста, свидетельствующим о превалировании духовной власти над светской у восточных славян: «У них – знахари, они господствуют над их царем, подобно хозяевам, они приказывают им приносить в жертву создателю (в переводе А.П. Новосельцева „творцу их“) то, что они пожелают из женщин, мужчин, табунов лошадей; если прикажут знахари, никому не избежать совершения их приказа: захватывает знахарь то ли человека, то ли домашнее животное, набрасывает веревку на шею и вешает на дерево, пока не утечет дух его; они говорят, что эта жертва богу»[89]. Ритуальный характер описанных здесь действий волхвов не вызывает ни малейшего сомнения. Предназначенная богу-создателю (очевидно, Первобогу) жертва точно так же вешается на дерево, единственное отличие заключается в том, что здесь ее предварительно не разрубают на части. Однако это объясняется отсутствием в данном случае вины со стороны жертвы, которую по инициативе волхва предают смерти не за конкретное преступление, а для совершения необходимого обряда. Аналогичный сакрально-ритуальный характер мы видим и в описанной немецкими писателями расправе западных славян над католическим епископом Иоанном. Полабские славяне «отрубили ему руки и ноги, тело выбросили на дорогу, голову же отсекли и, воткнув на копье, принесли ее в жертву богу своему Редегасту в знак победы»[90]. Католическая церковь, представителем и руководителем которой был захваченный в плен епископ, неустанно посягала на землю, свободу и родную веру западных славян, что, несомненно, в их глазах представлялось тягчайшим нарушением вселенского закона. Именно для его восстановления славяне и рассекли принесенного в жертву богу Иоанна и сделали это не где-нибудь, а в Ретре – самом сакральном святилище этого племени, хоть до этого епископа и «водили на поругание по всем славянским городам».
Тот факт, что рассечение или разрывание на части вследствие нарушения какого-либо морального закона или договора неоднократно встречается в русской традиции, свидетельствует о глубокой укорененности в народном сознании этого принципа. Никоновская летопись под 1216 г. так описывает решение воинов о наказании тех из них, кто нарушит установленные правила ведения боя: «Братие!.. да не оставите ни единаго живаго, аще же кто у васъ изъ полку живъ утечеть вашимъ небрежениемъ или щядѣниемъ, быти тѣмъ вѣшанымъ и разсѣцаемымъ за то небрежение и щадѣние»[91]. Как видим, рассечение на части и вешание (очевидно, на дереве) и более чем через два столетия после крещения выступают как две взаимосвязанные формы наказания. Фиксируется подобная кара и в героическом эпосе. Убивая во множестве обычных врагов, богатыри никогда не рубят их на части; этот вид расправы используется ими лишь в сравнительно редких случаях. Так, например, Илья Муромец казнит королевичну:
Да он выдергивает саблю вострую, Да срубил ей по плеч буйну голову, Да рассек, разрубил тело женское, Да куски-то разметал по чисту полю, Да серым-то волкам на съедение, Да черным воронам на пограянье[92].Однако эта неоправданно жестокая на первый взгляд расправа объясняется тем, что королевична обманом заманивает к себе женихов, которых затем обрекает на заточение в темнице. Подобные ложь и коварство со стороны невесты, подрывающие в самой основе брачные отношения и регулирующий их закон, и вызывает праведное возмущение со стороны чуть не попавшего в неволю Ильи Муромца. Аналогичным образом ведет себя и Добрыня Никитич, которого невеста колдовством превратила в тура:
Взял-то он Маринку Игнатьевну, Посадил он на ворота на широкие, Всю он расстрелял из туга лука, Рассек он, распластал тело белое, Все ли разметал по чисту полю[93].Точно так же расправляется богатырь и со змеем, который торжественно обещал Добрыне Никитичу не разорять больше Русь и нарушил свое обещание:
Отрубил змеи да он вси хоботы, Разрубил змею да на мелки части, Распинал змею да по чисту полю[94].Знаменитое народное восстание в Твери, вызванное бесчинствами татарского баскака Щелкана, во время которого он был убит, народные песни рисуют как казнь ненавистного сборщика дани местными братьями-князьями, разорвавшими татарина на части:
И они с ним раздорили: Один ухватил за волосы, А другой за ноги, И тут его разорвали. Тут смерть ему случилася, Ни на ком не сыскалося[95].С учетом того, что за убийство ханского баскака Тверь подверглась ужасному разгрому, в высшей степени показательно утверждение песни, что его смерть «ни на ком не сыскалась» и не повлекла за собой никаких последствий. Это странное на первый взгляд утверждение отражает народное представление (ср. заявление Владимира Мономаха) о невиновности человека, который разрубил на части злодея, преступившего вселенский закон, поскольку истинным виновником этой смерти был сам преступник, нарушивший роту и получивший от нее заслуженное возмездие.
Сказанное помогает понять один из эпизодов русской истории – казнь Игоря. Наша летопись сообщает о том, как Игорь, взяв с древлян положенную дань, решил вернуться к ним с малой частью дружины и взять еще больше дани. Древляне, возмущенные подобной несправедливостью, сначала попробовали по-хорошему уговорить великого князя отказаться от своего беззаконного намерения, а когда уговоры не подействовали, убили жадного до чужого богатства хищника. Как именно это произошло, ПВЛ не сообщает, ограничиваясь лишь простой констатацией свершившегося факта. Ценную подробность по этому поводу сообщает нам Лев Диакон, приводя обращенные к Святославу слова византийского императора: «Полагаю, что ты не забыл о поражении отца своего Ингоря, который, презрев клятвенный договор, приплыл к столице нашей с огромным войском на 10 тысячах судов, а к Киммерийскому Боспору прибыл едва лишь с десятком лодок, сам став вестником своей беды. Не упоминаю я уж о его (дальнейшей) жалкой судьбе, когда, отправившись в поход на германцев, он был взят ими в плен, привязан к стволам деревьев и разорван надвое»[96]. Понятно, что в глазах древлян самовольно превысивший установленную норму дани Игорь был безусловным нарушителем земных законов, а через них – и космического, т. е. роты, что и предопределило вид его казни. И, разрывая Игоря на части с помощью деревьев как нарушителя вселенского закона, древляне полностью снимали с себя всю ответственность за его смерть. Сам избранный способ казни должен был сказать всем славянам и, в первую очередь, Киеву, что погубили великого князя не древляне, а рота, которую он преступил. Показательно, что после казни верховного правителя всей Руси древляне не готовятся к войне с Киевом, что было бы более чем естественно для восставшего племени, а, напротив, засылают сватов к Ольге. Это же объясняет и странную реакцию Ольги: вместо того чтобы немедленно начать войну с древлянами как с бунтовщиками и убийцами своего мужа, Ольга загадывает приехавшим послам загадки, и лишь когда они не выдерживают испытания, казнит их. Так, членов первого посольства, прибывших в Киев после убийства ее мужа, княгиня иронично именует «добрыми гостями» и предлагает почтить, пронеся их в ладье по городу. Ладья на Руси являлась предметом похоронного ритуала, а слово «почтить», кроме прямого смысла, имело еще и переносный – убить кого-либо, совершить акт мести. Простодушные древляне не понимают иносказательного языка мудрой княгини и тем самым обрекают себя на мучительную гибель. «Таким образом, – констатирует Д.С. Лихачев, – в основе первого рассказа о мести Ольги лежит загадка, – загадка, не разгаданная сватами и потому повлекшая за собой их гибель»[97]. Все происходит в точном соответствии с законами фольклорного мышления. Аналогичным образом обстоит дело и в двух других случаях, где «загадочная» основа гораздо менее заметна. Похоронный ритуал по Игорю точно синхронизируется с загадками его вдовы: «Несение в ладьях – первая загадка Ольги, она же и первый обрядовый момент похорон, баня для покойника – вторая загадка Ольги – второй момент похорон, тризна по покойнику – последняя загадка Ольги – последний момент похорон»[98]. Прибегая к этому фольклорному приему, Ольга тоже снимает с себя вину за убийство сватов, в глазах всей Руси противопоставляя невиновности древлян в пролитии крови свою собственную невиновность. То, что великая княгиня лишь с помощью этого архаичного ритуала смогла начать кровавую месть убийцам своего мужа, наглядно показывает силу представлений, связанных с казнью преступившего роту человека, в общественном сознании той эпохи. Кроме того, не может не привлечь к себе внимания странный пассаж Льва Диакона, в приведенном выше фрагменте почему-то назвавшего древлян германцами. Г. Диттен предположил, что таким образом византийский историк хотел подчеркнуть, что это племя живет на западе Руси. Однако это объяснение не вполне убедительно: во-первых, древляне жили сравнительно недалеко от Киева, а еще западнее их жили племена волынян и белых хорватов, также входивших в состав Древнерусской державы. Во-вторых, образованные византийцы отлично знали, где в действительности находятся настоящие германцы, отделенные от Руси еще землями поляков и полабских славян. Не исключено, что до Византии доходили слухи о том, что первоначально русы, князем которых был Игорь, жили в тесном соседстве с германцами (т. е. на острове Рюген), и исходя из этого именно этому могучему племени Лев Диакон приписал казнь киевского князя. Если данное предположение верно, то перед нами еще одно косвенное свидетельство западнославянского происхождения варягов-руси.
Разрывание на части нарушителя закона или основанного на нем договора было свойственно и некоторым другим индоевропейским народам. Особо показателен в этом отношении приговор, вынесенный третьим римским царем Туллом Гостилием своему союзнику альбанскому диктатору Меттию, предавшему заключенный договор и на поле боя изменившему римлянам: «Тогда Тулл говорит: „Меттий Фуфетий, если бы и ты мог научиться хранить верность и соблюдать договоры, я бы тебя этому поучил, оставив в живых, но ты неисправим, а потому умри, и пусть твоя казнь научит человеческий род уважать святость того, что было осквернено тобою. Совсем недавно ты раздваивался душою меж римлянами и фиденянами, теперь раздвоишься телом“. Тут же подали две четверни, и царь приказал привязать Меттия к колесницам, потом пущенные в противоположные стороны кони рванули и, разодрав тело надвое, поволокли за собой прикрученные веревками члены. Все отвели глаза от гнусного зрелища. В первый и в последний раз воспользовались римляне этим способом казни…»[99]. Исключительная редкость этого вида казни, назначенной в VII в. до н. э. царем Рима лишь за самое тяжкое вероломство, свидетельствует о более чем архаичном характере данного наказания, предназначенного лишь для осквернителей сакрального. Точно такой же казни путем разрывания Александр Македонский подверг и Бесса, предавшего и убившего своего бывшего повелителя Дария и совершившего тем самым в глазах великодушного победителя правителя Персии самое гнусное из всех возможных предательств: «Александр подошел к трупу и с нескрываемою скорбью снял с себя плащ и покрыл тело Дария. Впоследствии Александр нашел Бесса и казнил его. Два прямых дерева были согнуты и соединены вершинами, к вершинам привязали Бесса, а затем деревья отпустили, и, с силой выпрямившись, они разорвали его»[100].
Вновь сопоставляя индийские данные с русскими, мы можем восстановить один из зримых образов, в котором вселенский закон представлялся нашим далеким предкам. В одном из гимнов о рите говорится как о нити:
Нить закона протянута в цедилке (И) на кончике языка благодаря волшебной силе Варуны. (РВ IX.73.9)Вселенский закон, установленный в мироздании благодаря майе (колдовской силе) Варуны, в данном контексте отождествляется с нитью в цедилке для очищения сока сомы, дающего поэтическое вдохновение. Поскольку ритуал выжимки сомы одновременно являлся и жертвоприношением, в сознании ведийских ариев нить была не только инструментом очищения священного напитка, но и средством соединения всех частей мироздания, с помощью которого пожертвованный богам сок сомы достигал неба:
Эти (соки сомы), разделяясь по мере продвижения вперед, Достигли поверхности двух, половин мироздания, А также этого высшего пространства. По нити, протянутой вверх, Они достигли высот И того (пространства), что в самом верху. (РВ IX.22.5–6)Связь вселенского закона, воспринимавшегося уже в виде цепочки (ниже в этой главе мы увидим, что цепь у ряда индоевропейских народов была вторым зримым символом этого закона), с языком встречается нам и в кельтской традиции. Римский писатель II в. н. э. Лукиан оставил нам описание виденной им в одном из городов южной Франции одной фрески, которая очень удивила его. На фреске был изображен Геракл со своими обычными атрибутами – львиной шкурой, палицей, луком и колчаном, – однако не в виде героя в полном расцвете сил, как его обычно представляла греко-римская традиция, а в виде седого и лысого старика. Сюжет картины также не имел ровным счетом никакого отношения к классической античной мифологии: старый Геракл вел за собой большое число людей, скованных ушами тонкими золотыми цепочками, конец которой был прикреплен к языку героя. Тем не менее, ни о каком порабощении ведомых речь идти не могла: люди не оказывали никакого сопротивления и следовали за своим вождем с сияющими и радостными лицами, а бог, в свою очередь, улыбаясь, оборачивался к ним. Когда Лукиан, потрясенный столь необычным сюжетом, стоял в изумлении перед этой картиной, к нему подошел мудрый кельт и объяснил путешественнику, что его народ Слово называет не Гермесом, А Гераклом, потому что последний гораздо сильнее. «С другой стороны, – продолжал кельт, – не удивляйся, что из него сделали старика, поскольку именно в старости красноречие достигает своего кульминационного развития, если, по крайней мере, ваши поэты говорят правду… Мы думаем, что сам Геракл, став мудрым, совершил все свои подвиги благодаря силе красноречия и убеждением преодолел большую часть препятствий. Его стрелы, по моему мнению, это речи, острые, бьющие в цель, которые ранят души». Исследовавшие это сообщение Лукиана специалисты пришли к заключению, что под видом античного Геракла жившие на юге современной Франции кельты изобразили своего бога Огмия. Этот один из великих богов кельтской мифологии был изобретателем священной огамической письменности, а само его общеизвестное имя выводится из др.-греч. ογµοζ – «дорога», «тропинка» и буквально означало «тот, кто ведет». Как отмечает Н.С. Широкова, владеющий цепочками или путами кельтский Огмий относится, наподобие родственных ему скандинавскому Одину или индийскому Варуне, к категории «богов-связывателей»[101]. Мы видим, что цепочка в кельтской традиции, равно как и нить вселенского закона в приведенном выше ведийском гимне, оказываются присоединенными к кончику языка, что свидетельствует об индоевропейских истоках данного образа. Следы его неоднократно встречаются нам в кельтской традиции. Так, на некоторых армориканских монетах, найденных в Бретани, изображается голова молодого безбородого человека, от которой отходят унизанные жемчужинками веревочки, к концам которых прикреплены маленькие человеческие головы.
Сам Сома, проводя последние предписания риты, при этом опять-таки протягивает нить:
Вот он окутался лучами солнца, Протягивая тройную нить, как (это ему) свойственно. Проводя самые новые предписания закона, Как муж он приходит на свидание с женами. (РВ IX.86.32)Данные примеры свидетельствуют, что в Индии вселенский закон был тесно связан, а временами и отождествлялся с протянутой нитью. Это обстоятельство также позволяет понять, почему, как было показано в предыдущей главе, из всех видов оружия с вселенским законом связывался именно лук, а точнее, натянутая тетива (РВ II.24.8). Подобно тому, как космический закон организует и поддерживает всю Вселенную, так и тетива придает силу и форму деревянной части лука и направляет в полет его стрелу. Упоминание этих двух объектов материальной культуры позволяет нам хотя бы приблизительно определить время возникновения этих ассоциаций, связанных с вселенским законом. Хотя точное местонахождение прародины индоевропейцев до сих пор не установлено, тем не менее благодаря археологическим находкам мы знаем, что прядение и ткачество возникает во время неолита, а луком древние люди начали пользоваться еще раньше – в мезолите. На основании этого мы с известной долей уверенности можем утверждать, что лук и прядение вошли в жизнь индоевропейцев в эпоху каменного века и вскоре после их изобретения были включены в мифопоэтическую картину мира. Поскольку обе рассмотренные ассоциации могли возникнуть под влиянием уже имеющихся религиозных представлений, из этого следует, что представление о вселенском законе существовало у индоевропейцев во время каменного века и возникло у них до появления в их обиходе лука и нитей.
Образ нити, причем в космогоническом контексте, встречается нам и в восточнославянской традиции. Одна украинская колядка так описывает весьма интересный спор апостола Петра с богом:
Петро каже: земля бiльше; Господь каже: небо бiльше. Посучимо шнур, змiряймо небо! Небо бiльше, що скрiзь воно рiвне, Земля маленька, що гори, долини, Гори, долини, всяки могили[102].Как видим, два сверхъестественных персонажа с помощью шнура измерили небо и землю, установив превосходство первого элемента данной космической пары над вторым. Нечего и говорить, что подобная операция, определяющая размеры, а первоначально, возможно, и границы Неба и Земли носит сугубо космологический характер. Данная колядка XIX в. позволяет нам лучше понять и знаменитый Тмутараканский камень XI в. Измеривший расстояние между Тмутараканью и Корчевым, да еще по морю, стихии Перуна, князь Глеб, по сути дела, на земном уровне воспроизвел космологическое деяние небожителей, и потому счел нужным навечно запечатлеть это свое свершение на камне для потомков. Можно предположить, что главным предназначением Тмутараканского камня была именно фиксация самого княжеского дела, повторявшего дело божественное, а не его утилитарная функция в качестве простого дорожного указателя расстояния между двумя городами.
Во-вторых, нить в восточнославянской традиции не только измеряет Небо и Землю, но и связывает их между собою в вертикальной плоскости. Так, например, в белорусской песне умершая мать девушки просит спустить ее с неба на землю, причем в качестве связующих элементов между двумя мирами фигурируют золотой прут и шелковый шнур:
Палагейкина мамухна Просилася у Бога, У Духа Святога: – А спусци мяне, Божухна, По золотому пруточку, По шоуковым шнурочку С неба на землю — Поглядзеци дзицяци…[103]По нитке с Неба на Землю спускаются не только души умерших, но и души новорожденных детей. В полесской традиции второй половины XX века этнографами был зафиксирован мотив «ребенка спускают с неба по нитке»: «Бог на нитоццы спустиу»; «Цябе з неба на золотой вяроуцы спустили»; «Бог пачовочками спустил з неба»; «Бог з неба на красной нитачки спустиу»[104].
Данный факт заставляет нас предположить славянское влияние на один финский мифологический сюжет: «Между аллегорическими мифами чуди и финнов встречаем у Моне следующий рассказ: Лаунаватар, будучи беременной в продолжение десяти лет, не могла родить до тех пор, пока св. Георгий (по-чудски св. Прьене – явно отголосок имени Перуна) не бросил ей из туч красную нитку (молнию!) на живот; она родила тогда девять сыновей, но Христос не захотел их окрестить, и они сделались мучением для человечества, младший из них – животная боль колика»[105]. В пользу славянской первоосновы мифа говорит и само имя святого, явно созвучное имени славянского Перуна, бывшего одним из двух верховных богов-хранителей вселенского закона, равно как тождество нитки и молнии, притом что Перун в отечественной мифологии был именно громовержцем, и, наконец, то обстоятельство, что в индийской традиции, как будет показано далее, рождение потомства однозначно отнесено к земным проявлениям вселенского закона. Славянское влияние на финноугорскую мифологию исследователями отмечалось неоднократно. В книге «„Голубиная книга“ – священное сказание русского народа» уже приводились примеры не только заимствования финнами таких важных понятий как волхв и гусли, но и присутствия отдельных элементов образа Великого Гусляра наших далеких предков у главного героя карело-финского эпоса Вяйнямейнена. Как русское, так и скандинавское влияние в религиозной сфере фиксируется и у северных соседей финнов – лопарей: «Преобладал у лопарей промысловый культ – почитание духов-хозяев отдельных отраслей хозяйства и природных явлений. Оленеводство находилось под покровительством Оленьего хозяина и особенно Оленьей хозяйки (Луот-хозин, Луот-хозик; хозин, хозик – слова русского происхождения). Луот-хозик будто бы живет в тундре, „ходит на ногах как человек и лицо человечье, только вся в шерсти, словно олень“. Ей приносили в жертву кости заколотых оленей. Когда лопари, по старому обычаю, летом отпускали своих оленей на вольный выпас в тундру, они верили, что Луот-хозик охраняет стада, и молились ей: „Луот-хозик, береги наших оленей“. ‹…› Под скандинавским влиянием сложился образ повелителя всех животных – Сторьюнкаре (Стурра-Пассе – великий святой)»[106]. Все эти факты в своей совокупности свидетельствуют в пользу заимствования финнами у славян рассмотренного выше мифологического представления о связи нити с родами, приуроченного ими к персонажам своего фольклора.
Наконец, веревка в средневековую эпоху, а возможно, и в гораздо более ранний период, служила средством измерения земли, причем значимость данного орудия была столь велика, что вервь, производное слово от веревки, стало еще одним термином для обозначения крестьянской общины. Этот факт был давно уже отмечен лингвистами: «Ср. др.-русск. вьрвь, название семейной, затем территориальной общины, развившееся из значение „веревка“, ср. русск. веревка, литовск. virve…»[107]. Слово вьрвь употреблялось в древнерусском языке в нескольких значениях. Во-первых, оно обозначало просто веревку или шнур, ср.: «Аже перетнеть вьрвь въ перевестѣ, то 3 гривне продаже, а за вьрвь гривна кунъ»[108] или «Створи яко бичь отъ вьрви»[109]. Во-вторых, уже в ту эпоху она могла обозначать не просто свитые вместе волокна, а измерительную веревку: «В руцѣ его вервь и тростяна мѣра и измѣри вышнюю стену»[110]. Третьим значение слова вьрвь была «мера земли»: «И всей земли двѣ верви шесть сажен три локтя»[111]. И наконец, последним значением интересующего нас термина выступает крестьянская община, упоминаемая под таким названием в связи с возлагавшейся на нее круговой порукой уже в «Русской Правде»: «Аще убиють княжа мужа въ разбои, а убоиника не ищють, то вервьную платити, в которои же верви голова лежить, то 80 гривенъ; пакы людинъ, то 40 гривенъ. Котораа ли вервь начнеть платити дикую виру, колико лѣтъ за то платять вину, занеже безъ головника имъ платити»[112]. По поводу переноса значения веревки на крестьянскую общину, то следует вспомнить еще высказанное Е.Ф. Карским мнение, что первоначально данный термин обозначал «участок земли, отмеренный веревкой», что подтверждается и приведенным выше свидетельством древнерусской письменности. Подтверждает это мнение и сделанное Э. Гаспарини наблюдение, когда он связал данное древнерусское название общины с упоминавшейся у Гельмольда под 1156 г. у полабских славян веревкой для измерения полей, что лишний раз проливает свет на происхождение названия верви на Руси. В пользу этого развития значения интересующего нас термина говорят и более поздние данные восточнославянского быта. Как отмечал еще В.И. Даль, вервь представляла собой подразделение общины, куда по собственной воле вступали за круговой порукой. В свете измерение земли веревкой, в результате чего и сам отмежеванный участок земли, подчеркивает В.И. Даль, назывался вервию, то еще в XIX в. у архангельских крестьян слово веревка означало поземельную меру в 1850 квадратных сажень, а вервием называлась мерная веревка землемера, откуда произошло арх.-сиб. вервить – «мерить землю веревкой и отводить во владение», арх.-шенк. веревные книги, т. е. межевые книги, где записывались границы угодий, измеренных по веревке, да и сам человек, занимавшийся измерением земли, в северном диалекте назывался веревщик. Видный ученый-славист Е.Ф. Карский отождествлял вервь как название общины с др.-русск. вервь, обозначавшим веревку, исходя из значения «участок земли, отмеренный веревкой».
Веревка означала тесный союз или дружбу, ср. поговорку о дружных людях «Словно их черт веревочкой связал», «Одной веревкой связаны». С другой стороны, о неладящих друг с другом супругах говорили «Веревкой не свяжешь».
В связи с этим вспомним то примечательное обстоятельство, что другим названием крестьянской общины на Руси было слово мир, другим значением которого выступало все окружающее человека пространство, вся Вселенная. В свете того, что именно шнуром-веревкой в украинской колядке бог и апостол Петр измеряют Небо и Землю, т. е. тот же самый мир, подобная синонимическая связь между миром и веревкой, приравниваемых друг к другу на уровне человеческой общины, оказывается более чем показательной и вновь свидетельствует о первоначальной космогонической значимости одного из древнейших измерительных инструментов. Представление о боге, измеряющем пространство, встречается нам уже в гимнах РВ (VIII, 42, 1):
Он укрепил небо, (этот) всеведущий Асура, Он измерил протяженность земли. Он завладел всеми мирами как вседержитель. Все ведь это заветы Варуны.В свете нашего исследования о нити как образе вселенского закона, особую ценность представляет тот факт, что измерителем земного пространства оказывается один из двух верховных богов-хранителей риты. Измерение протяженности земли в данном четверостишье оказывается тесно связанным с укреплением неба, а оба этих космологических по своей природе действия символизируют собой распространение власти вседержителя Варуны на оба мира. Отнесение функции измерителя мирового пространства именно к этому божеству далеко не случайно. Варуна, как уже отмечалось выше, был богом луны, а само название ночного светила еще в эпоху индоевропейской общности, как это следует из данных сравнительного языкознания (ст.-слав. мѣсяць, др.-инд. mah, masah, авест. ma, перс. ma «луна, месяц», гр. дор. µηζ, лат. mensis, др.-ирл. mi, род.п. mis, арм. amis, лит. menuo, menesis, «месяц, луна», др.-в.-нем. mano «луна»), было образовано от глагола «мерить»: «Большинством исследователей и.-е. слово для названия луны производится от основы me – „мерить, измерять время“. Луна мыслилась как мерило времени»[113].
Следы этого представления остались в названии данного небесного тела у ряда народов нашей языковой семьи: авест. mah «луна», но арм. mek «один»; др.-инд. candra – «луна», но и.-е. kuetuor – «четыре». Данное обстоятельство позволяет нам безошибочно определить имя бога-измерителя у славян в языческую эпоху, замененного затем на христианского бога в украинской колядке. Им мог быть только генетически родственный индийскому Варуне громовержец Перун, точно так же связанный с ночным светилом. Поскольку ведийский гимн, сложенный во II тысячелетии до н. э. по своей семантике оказывается явно родственен украинской колядке, записанной в конце II тысячелетия н. э., это обстоятельство наглядно показывает, что представления как о верховном боге-измерителе пространства, так и о вселенском законе в виде нити, на соответствие которому в конечном итоге проверяются Небо и Земля, восходят к эпохе индоевропейской общности.
В более позднюю эпоху, с изобретением кузнечного дела, рота на Руси стала представляться и в виде цепи, причем в таком контексте, который уже не оставлял сомнения в связи этого предмета со вселенским законом.
Возникновение этого образа вселенского закона было связано с переходом человечества на следующую ступень своего развития и изобретением им кузнечной ковки металлов, что впервые произошло в эпоху энеолита (медного века), хронологически занимающего промежуточное положение между каменным и бронзовым веками. Показательно, что и славянские мифы связывают возникновение царской власти (предполагающей установление новых законов в общественной жизни) с богом-кузнецом Сварогом и его сыном Дажьбогом-Солнцем, при которых произошел переход от каменного века к более высокой стадии материальной культуры. По всей видимости, именно в ту эпоху и возникло представление о роте как о цепи, оказавшееся настолько устойчивым, что связанное с ним предание сохранилось у потомков псковских кривичей вплоть до XIX в., когда его записал местный собиратель Г. Сырохнов: «…В Порховском уезде (Псковской губернии) есть гора Судома, о которой сохранилось следующее поверье. Над этой горой висела с неба цепь. В случае споров или бездоказательных обвинений соперники приходили на Судому и каждый поочередно должен был достать цепь рукою; а цепь позволяла себя взять только праведной руке. Однажды сосед у соседа украл деньги и засыпал их в толстую палку, выдолбленную в середине. Обкраденный как раз попал подозрением в виновного. Оба пошли на Судому, причем вор, вместо путевой дубинки, взял свою палку с деньгами. Сперва цепь достал хозяин, торжественно складывая вину покражи на своего товарища. Потом вор отдал хозяину подержать свою палку и, доставая цепь, сказал: „деньги у тебя“. Цепь и ему далась, но с тех пор неизвестно как и куда исчезла»[114]. Целый ряд обстоятельств указывает на то, что цепь эта и была рота. В пользу этого говорит как само название горы, так и проходившая там процедура, являвшаяся божьим судом. Цепь спущена с неба, и именно небо и живущие там боги определяют правого в споре. Как мы увидим ниже, сами обстоятельства, при которых в легенде прибегали к помощи цепи, точно соответствуют обстоятельствам, при которых приносилась рота согласно «Русской Правде» и другим юридическим документам Древней Руси. Ритуал касания цепи рукой находит свое соответствие на языковом уровне у некоторых индоевропейских народов: «Типологически ср.: праформа pri-sega „клятва“ буквально означает „касание рукой“; др.-англ. ad „клятва“, но др.-ирл. do-aidla (3 Sg.) ‹ to-ad-ell „приблизиться, трогать, дотронуться“…»[115]. К этому перечню можно добавить ирл. tong «клятва» при лат. tango «трогаю, прикасаюсь»; обозначающее в санскрите слово am – изначально означало «хватать, брать»; наконец, в пьесе Плавта «Rudens» описывается процедура принесения клятвы в Древнем Риме: «Прикоснись к алтарю Венеры. – Прикоснулся. – Теперь ты поклянешься Венерой. – В чем мне клясться? – В том, что я скажу»[116]. Наконец, на глубокую архаику описанного ритуала указывает исчезновение цепи под влиянием товарно-денежных отношений.
Кроме того, именно с этой горой было связано другое предание, подтверждающее предложенную в предыдущей главе реконструкцию образа двух верховных богов – хранителей вселенского закона. В XX веке оно было записано в тех же краях И. Ларионовым: «На Кокшином городище на горе Судоме жили два русских богатыря, два по крови родных брата. Зорко стерегли и оберегали они родную Псковскую землю. Готовы были каждую минуту броситься в бой на врага.
Денно и нощно несли братья верную сторожевую службу: если один отдыхал, то другой бодрствовал. Но когда враг подступал, то оба не знали сна.
Владели богатыри одним чудесным боевым копьем, передавали его в случае надобности друг другу. Это копье в руках братьев подсекало врагов, как серп спелую рожь.
…Много столетий живет в народе легенда о братьях-богатырях и их чудесном копье! Слывет молва, что братья похоронены вместе под одним холмом на высокой горе Судоме и с ними лежит их верный товарищ – боевое копье»[117]. Понятно, что здесь перед нами не языческий миф в чистом виде, а его отголосок, трансформировавшийся в местное топонимистическое предание. Несмотря на это, ряд древних черт, особенно при сравнении с ведийской мифологией и древнерусским язычеством, хорошо различаются, хотя Перун и Волос трансформируются здесь из богов в богатырей. В РВ Варуна и Митра являются родными братьями, чему полностью соответствует указание русской легенды. Эти боги соотносятся с днем и ночью, и о подобном же соотнесении Перуна с ночной порой говорят русские материалы. В легенде же братья по очереди днем и ночью несут сторожевую службу, и разновременность их действия дополнительно подчеркивается тем обстоятельством, что у них только одно копье на двоих. Если в Индии Варуна защищал общину ариев от внешней опасности, а Митра – от внутренней, то в псковском предании, где оба верховных бога превратились в богатырей, они, в силу этого, отражали одну только внешнюю угрозу. В высшей степени показательным является то обстоятельство, что отголосок памяти о двух богах – хранителях космического закона оказался приуроченным народным сознанием именно к тому месту, где в старину была протянута людям цепь этого закона. Подобное географическое совпадение обоих преданий доказывает существование внутренней связи между этими двумя мифологическими образами, бережно сохраненными народом даже в сниженных формах фольклора.
О силе народной памяти красноречиво свидетельствует и другой, хорошо знакомый каждому с детства образ, также происходящий из окрестностей Пскова. Речь идет о прологе к знаменитой поэме «Руслан и Людмила»:
У лукоморья дуб зеленый; Златая цепь на дубе том: И днем и ночью кот ученый Все ходит по цепи кругом; Идет направо – песнь заводит, Налево – сказку говорит[118].Как известно, этот пролог, отсутствовавший в первом издании поэмы, А.С. Пушкин написал в 1824 г., прожив некоторое время в селе Михайловском (Псковская область), где вечерами любил слушать народные сказки своей няни Арины Родионовны. Именно на основании взятых из них образов поэт и составил пролог к своей поэме. Хотя ко времени записи их А.С. Пушкиным их истинный смысл уже давно забылся, тем не менее, сами образы прочно хранились в сокровищнице народной памяти, передаваясь от поколения к поколению. Дуб, судя по всему, является в данном контексте мировым деревом, символизирующим все мироздание, а висящая на нем златая цепь – ротой. Что касается поющего песни и рассказывающего сказки кота, то в других народных сказках он называется котом-баюном, и это название вновь отсылает нас к образу вещего Бояна, о поэтическом творчестве которого «Слово о полку Игореве» говорит следующее:
Боянъ бе вѣщий, аще кому хотяше пѣснь творити, то растѣкашеся мыслию по древу…[119]То обстоятельство, что во время исполнения своих произведений кот-баюн ходит по цепи-роте, указывает на то, что все произнесенное им является истинным, правдивым и возвещается в соответствии с вселенским законом. Так запечатленный великим поэтом фрагмент русского фольклора еще на одну деталь расширяет наши знания о характере поэтического творчества языческой Руси.
Само понятие цепи означает ряд сцепленных, связанных друг с другом предметов, являющихся одновременно и единством, и множеством. Другим значением этого слова в русском языке является непрерывность ряда действий. Данная семантика позволяет понять, почему именно в этом предмете древние русы увидели один из зримых образов роты. Следует отметить, что образ вселенского закона в виде цепи имел даже астральную проекцию. Одним из диалектных названий цепи является слово «кичага»[120] – цепь или молотило, заменяющее цепь. Как отмечает А.Н. Афанасьев, именно Кичагой русские крестьяне называли созвездие Плеяд или пояс Ориона (последнее созвездие поляки и некоторые другие славянские народы называли «палицей», в чем тот же исследователь не без оснований видел влияние образа Перуна). Название Кичага засвидетельствовано в Архангельской, Костромской, Вятской областях, а также в Сибири. В Вятке данное название созвездия настолько распространено, что встречается даже в народной песне:
Уж ты зоренька вечерняя, Ты Кичага полуночная! Ты зачем рано в восход взошла[121].Судя по всему, это название возникло достаточно рано, поскольку, как отмечает Д.О. Святский, оно было заимствовано даже венграми: «Замечательно, что у венгров название Ориона Kaszahugy очень похоже на русскую Кичагу»[122]. Однако в предыдущей главе уже отмечалось, что другое славянское народное название Плеяд связывает это созвездие с Волосом (примечательно, что аналогичное чередование мы видим в болгарском языке, где слово власците обозначает и Орион, и Плеяды), а авестийский язык свидетельствует, что некогда Плеяды соотносились и с Перуном. Таким образом, как и в случае с Судомой, народное сознание упорно связывает одни и те же объекты и с вселенским законом в виде цепи, и с богами – его хранителями.
Параллель этому образу космического закона мы видим не только в Индии, где Митра и Варуна совместными усилиями натягивают нить риты, но и в древнегреческой орфической теогонии. Перед началом творения Вселенной Зевс входит в оракул Ночи и спрашивает ее, как ему устроить власть над бессмертными и как «сделать, чтобы все вещи были одно и (в то же время) каждая отдельно». Прокл сохранил нам фрагмент произведения Орфея, где говорится:
…Согласно назиданиями Ночи: Но когда ты протянешь по всему миру крепкие оковы, Повесив с неба златую цепь…[123]Показательно, что спустить с неба цепь советует Зевсу Ночь, и именно с ночью были связаны Перун и Варуна. Второй раз этот мифологический образ возникает в «Илиаде», где Зевс запрещает подвластным ему богам и богиням вмешиваться в ход сражения и предлагает потенциальным ослушникам следующим образом испытать его силу:
«Или дерзайте, изведайте боги, да все убедитесь: Цепь золотую теперь же спустив от высокого неба, Все до последнего бога и все до последней богини Свесьтесь по ней; но совлечь не возможете с неба на землю Зевса, строителя вышнего, сколь бы вы ни трудились! Если же я, рассудивши за благо, повлечь возжелаю, — С самой землею и с самым морем ее повлеку я И моею десницею окрест вершины Олимпа Цепь обовью; и вселенная вся на высоких повиснет — Столько превыше богов и столько превыше я смертных!»[124]Хоть во времена Гомера высшее божество и собирается использовать цепь космического закона для состязания типа перетягивания каната, все равно в этом отрывке просматривается древнее ее назначение – силы, охватывающей всю Вселенную. Стоит отметить, что помимо золотой цепи греческая традиция знает и золотую нить. Правда, она упоминается в гораздо более поздний, по сравнению с Гомером, период и впервые встречается нам у Платона, причем в весьма интересном контексте, а именно относительно сущности человека: «Об этом мы станем размышлять так: представим себе, что мы, живые существа, – это чудесные куклы богов, сделанные ими либо для забавы, либо с какой-то серьезной целью, ведь это нам неизвестно; но мы знаем, что внутренние наши состояния, о которых мы говорим, точно шнурки или нити, тянут и влекут нас каждое в свою сторону и, так как они противоположны, увлекают нас к противоположным действиям, что и служит разграничением добродетели и порока. Согласно нашему рассуждению, каждый должен постоянно следовать только одному из влечений, ни в чем от него не отклоняясь и оказывая противодействие остальным нитям, а это и есть златое и священное руководство разума, называемое общим законом государства. Остальные нити – железные и грубые; только эта нить нежна, хотя она и златая, те же подобны разнообразным видам. Следует постоянно помогать прекраснейшему руководству закона. Ибо разум, будучи прекрасен, кроток и чужд насилия, нуждается в помощниках при своем руководстве, так, чтобы в нас золотой род побеждал остальные роды. Этот миф о том, что мы куклы, способствовал бы сохранению добродетели; как-то яснее стало бы значение выражения „быть сильнее или слабее самого себя“. Что же касается государства и частного человека, то этот последний принял бы за истину слово о руководящих нитях и счел бы нужным жить сообразно ему; государство же, приняв это слово от богов или же от познавшего все это человека, сделает его законом, как для своих внутренних отношений, так и при сношениях с остальными государствами. Таким образом, порок и добродетель будут у нас яснее разграничены»[125].
Как сами «Законы», этот самый последний диалог Платона в целом, так и приведенный в нем миф о человеке, как о бездушной кукле в руках богов, всецело зависящей от того, за какую именно ниточку ее дернут, вызвал обширную критику у многих исследователей творчества этого выдающегося древнегреческого философа. Изложенное здесь понимание человека как куклы слишком уж не вязалось со всем предыдущим творчеством Платона и у многих специалистов вызывало достаточно тягостное ощущение. Однако сравнение с другими источниками показывает, что данный образ не относится к числу так называемых философских мифов, выдуманных самим Платоном, а был взят им из народной традиции. Чрезвычайно близкий образ, касающийся не только людей, но и всей вселенной, встречается нам и в индийской Брихадараньяке Упанишаде, описывающей состязание между мудрецами: «Он сказал Патанчалье Капье и изучающим обряды жертвоприношения: знаешь ли ты, Капья, ту нить, которой связаны и этот мир, и тот мир, и все существа? Патанчала Капья сказал: я не знаю ее, почтенный. Он сказал Патанчалье Капье и изучающим обряды жертвоприношения: знаешь ли ты, Капья, того внутреннего правителя, который правит изнутри и этим миром, и тем миром, и всеми существами? Патанчала Капья сказал: я не знаю ее, почтенный. Он сказал Патанчалье Капье и изучающим обряды жертвоприношения: поистине, Капья, кто знает эту нить и этого внутреннего правителя, тот знает Брахмана, тот знает миры, тот знает богов, тот знает веды, тот знает существ, тот знает Атмана, тот знает все. Так он сказал им»[126].
Данный текст наглядно показывает, что используемый Платоном образ золотой нити является не его собственным изобретением, а восходит к эпохе индоевропейской общности. Хоть Брихадараньяка Упанишада и не использовала уже термин «рита», а говорила о ните-«сутре», тем не менее как ее описание, так и отождествление с абсолютным знанием, однозначно показывает, что именно она в эпоху создания упанишад являлась внешним образом универсального вселенского закона. При сопоставлении обоих текстов становится ясным, что, исходя из своих собственных концепций, Платон отождествил существовавший до него образ золотой нити с разумом, имеющим у него, впрочем, божественное происхождение. Чрезвычайно важно, что сам этот миф философ считает необходимым для сохранения добродетели-αρετη, о тесной связи которой со вселенским законом речь пойдет в третьей главе, равно как и для четкого разграничения добродетели и порока. В силу сочетания существовавшей до него традиции и своих собственных размышлений неизбежно двояким у Платона оказывается и происхождение самого мифа о руководящей человеком и государством золотой нити: с одной стороны, как следует из текста диалога, он явно является плодом интеллектуальных рассуждений, но, с другой стороны, в нем четко говорится, что государство, приняв его «от богов, или же от познавшего все это человека», должно руководствоваться этим мифом и действовать сообразно ему. Интересно отметить, что связь образа нити с понятием руководства получила свое развитие и в индийской традиции. Как уже отмечалось, «нить» в санскрите называется сутра, а вторым значением данного термина было «руководство», что привело к тому, что этим словом в Древней Индии стали называть различные трактаты по ритуалу, законодательству, науке и т. п., восходящие к авторитету отдельных мудрецов, комментировавших Веды. Касаясь символа нити в мировой культуре, М. Элиаде отметил, что он соответствует чрезвычайно глубинному опыту человечества «и, в конечном итоге, выявляет ситуацию, положение человека в мире, которое невозможно выразить другими символами и образами»[127].
Все четыре рассмотренных здесь мифологических представления – Индии, Галлии, Руси и Греции – безусловно восходят к единому архетипу. Хронологически наиболее ранним является образ вселенского закона в виде протянутой с неба нити, а представление его в виде цепи явно более позднее. Однако наличие одинакового образа у русских и греков свидетельствует скорее о возникновении и этого вторичного символа в индоевропейскую эпоху.
Возможно, рота представлялась славянам и в образе реки. Так, во всяком случае, можно предположить на основании известий мусульманских авторов, если только они существенно не исказили приводимые ими географические названия. В рукописи «Худуд ал-алам» читаем: «Слово об области русов и ее городах: это – область, к востоку от которой гора печенегов, к югу от нее река Рута…»[128]. Масуди, описывая реки, впадающие в Черное море, отмечает: «Другая из этих больших рек есть Рита и Балава, имя, которое она носит также у Славян»[129]. Аналогичные названия носят славянские реки и у некоторых других арабских писателей. В пользу связи роты с водой говорит не только тот факт, что вода была стихией Перуна и, как мы увидим, играла важную роль в процедуре божьего суда, но также и связь реки с идеей времени. С.Ю. Неклюдов отмечает, что в былинах иногда присутствует осознание времени как необратимого потока: «А год за годом – как река бежит». В то же время следует отметить, что и в Индии время было тесно связано с ритой. Ниже мы увидим, что православное духовенство в целом резко отрицательно относилось к самому понятию роты и в конечном итоге сумело искоренить даже использование этого слова в русском языке. Тем примечательнее редкий случай его употребления при переводе Библии на русский язык в 1499 г. Речь в этом фрагменте идет о заключении союза между Авраамом и Авималехом у колодца, причем первый клянется богом, что не обидит ни Авималеха, ни его сына, ни его внука (Быт. 21.23–24). В современном переводе Ветхого Завета это место звучит так: «Потому и назвал он сие место: Вирсавия (согласно разъяснению Иосифа Флавия, „колодец клятвы“. – М.С.), ибо тут оба они клялись и заключили союз в Вирсавии» (Быт. 21.31–32)[130]. Древнерусский же книжник перевел это место следующим образом: «Сего ради прозвашя имя мѣсту тому Кладяз(ь) ротный, яко ту клястася оба (Авраам и Авимелех) и завѣщаста завѣт у кладязя ротнаг(о)»[131]. Не исключено, что в использовании этого языческого термина при переводе христианского Священного Писания отразилась связь его не только с особо торжественной клятвой, но и с водным источником, о чем еще помнили на Руси в XV веке.
Рота была тесно связана с язычеством славян и его верховными богами. Так, договор 911 г. Олег утверждал по «вере и по закону нашему». Статья 5 этого договора предусматривает, что если у должника не хватает имущества, то пусть он отдаст, сколько может, «а о проче да роте ходить своею верою»[132]. В статье «О муже кроваве» «Русской Правды» по Розенкампофскому списку написано: «Аще ли пьхнеть муж мужа любо к себе любо от себя, ли по лицу ударить, или жръдию ударить, а без зънамения, а видок будеть, бещестие ему платити; аже будеть болярин великых боляр или менших боляр, или людин городскыи, или селянин, то по его пути платити бесчестие; а оже будеть варяг или колбяг, крещения не имея, а будеть има бои, а видок не будеть, ити има роте по своей вере, а любо на жребии, а виноватый в продажи, в что и обложать»[133]. Следовательно, некрещеные, т. е. язычники варяги и колбяги в случае отсутствия у них свидетелей должны были идти по роте по своей, языческой вере. В более поздний период эта же связь фиксируется и для правды, образуя устойчивое выражение «служить верой-правдой», встречающееся нам уже в былинном эпосе:
А неверный царище поганое говорит таково слово: «Ай же ты, молодой Михайла Данильевич! Послужи-ко мне верой-правдою, Как служил ты князю Владимиру…»[134]Весьма примечательна связь роты со жребием – специфическим признаком именно Перуна. В приведенном розенкампофском варианте «рота» и «жребий» взаимозаменяемы. В аналогичной статье «Русской Правды» Краткой редакции говорится: «§ 10. Аще ли ринеть мужь мужа любо от собе, любо к собе, 3 гривне, а видока два выведать; или будеть варяг или колбяг, то на роту»[135] – «Если же человек пихнет человека от себя или к себе, (то платить) 3 гривны, если выставит двух свидетелей; но если (побитый) будет варяг или колбяг, то (пусть сам) идет на роту». Однако в аналогичном месте «Русской Правды» Сокращенной редакции читаем: «Аще ударит на смерть жердию или попехнет, а знамения нет, а видок будет, аще будет болярин, или варяг, крещения не имея, то по их пути платити безчестие, аще видока не будет, ити им на жребии, а виноватый в продаже, во что обложат»[136]. Показательно, что в этом списке вместо роты фигурирует жребий, т. е. божий суд, причем вновь подчеркивается отсутствие крещения у потерпевшего, не имевшего свидетеля совершенного против него преступления. Итак, в различных редакциях «Русской Правды» рота и жребий выступают как взаимозаменяемые понятия, а в розенкампофском списке они упоминаются рядом, причем потерпевший сам решает, идти ему на роту или на жребий.
Вместе рота и жребий указываются и в договоре Новгорода с Готским берегом и немецкими городами 1189–1199 гг.: «§ 9. Оже тяжа родится бес крови, снидутся послуси, и русь и немци, то вергнуть жеребьее; кому ся выимъть, роту шед, свою правду възмуть»[137]. Вновь мы видим тяжбу по обвинению в избиении, не подтвержденную на этот раз телесными повреждениями и кровоподтеками. Здесь, однако, стороны сначала бросают жребий, а затем тот, чей жребий вынется, идет на роту. Теперь два понятия не заменяют друг друга, а выступают как две стадии уголовного процесса.
Наконец, отдельное применение жребия планировалось в проекте договора 1269 г.: «А случится так, что придется давать показания двоим, немцу и новгородцу, и они сойдутся на одном и том же, то им верить; а поспорят они и не сойдутся на одном и том же, то бросить им жребий и чей жребий вынется, тот прав в своем показании»[138]. Жребий здесь является оружием божьего суда для установления правды в условии двух взаимоисключающих показаний, когда обычными, человеческими средствами выяснить истину не представляется возможным.
В различных памятниках древнерусского права и их списках мы видим три возможных варианта соотношения роты и жребия: как альтернатива, как взаимозаменяемые понятия, как последовательные стадии одного процесса. Но все три варианта свидетельствуют о близкой связи, существовавшей между ротой и жребием в представлении людей Древней Руси. А поскольку жребий являлся средством определения желанной жертвы именно для Перуна и только для Перуна, то это является еще одним доказательством теснейшей связи роты с этим богом, в частности, и с язычеством в целом.
О бесспорно языческом характере роты нагляднее всего свидетельствуют нападки на нее христианских законодателей и проповедников. Так, «Закон Судный людям», один из древнейших славянских юридических памятников, составленный на заре насильственной христианизации в Моравии и хорошо известный на Руси, торжественно провозглашает: «Яко всяко село в нем же требы бывають или прiсягы поганьскы да отдютсь въ бии храмъ со всѣмь имѣньемь елико iмоуть га та в томь селѣ. Иже творять требы и присягы да продасться со всѣмь имѣньемь своимь а цѣна ихъ дасться нищимъ»[139]. Итак, языческие присяги, под которыми следует понимать роту, этим законом полностью приравниваются к жертвоприношениям языческим богам (требам). Именно эти два преступления представляются христианскому духовенству наиболее опасными, и за них оно устанавливает самое тяжелое в данном законе наказание – продажу в рабство со всем имуществом. Самым шокирующим во всем этом является то, что «Закон Судный людям» составлялся не каким-нибудь ограниченным фанатиком-изувером, а при самом активном участии Мефодия – родного брата и сподвижника создателя современной славянской азбуки Кирилла-Константина. Требования данного свода законов были настолько жестокими, что даже принявшая христианство светская власть Великой Моравии избегала применять их на практике в полном объеме. В ответ на этот скрытый саботаж Мефодий обратился к князьям и судьям Моравии с негодующей проповедью, в которой требовал, чтобы они неукоснительно руководствовались нормами «Закона Судного людям», и сурово порицал тех правителей, которые, видя отступления от норм христианской морали, не карают нарушителей по всей строгости закона.
На Руси до подобного дело не дошло, и князья, сохранившие после христианизации память о вселенском законе, даже закрепили его ограниченное применение в светском законодательстве. В силу этого отечественным церковникам пришлось волей-неволей ограничиваться моральным террором. В «Слове св. Иоанна Златоуста о клятве» рота обличается следующим образом: «Аще речеши, мнози ротятся и кленутся, то како зла не приемлють, но мстить бо имъ вскорѣ, якоже при Ананiи и Самъфире? Не чюдися, брате, иже бо велики грѣхи творятъ… Велико бо согрѣшенiя есть рота и клятва…»[140]. Итак, рота, наравне с клятвой, объявляется великим грехом, и многим ротящимся грозится местью от бога.
В «Слове св. Моисея о ротах и клятвах», автором которого предположительно является новгородский архиепископ Моисей, занимавший этот пост в 1325–1359 гг., говорится: «Проркъ глетъ яко того ради затворися нбе не попоусти дожда на землю зане кленутъся члвцi имянемъ бжиимъ ‹…› и стую црьквь невѣсту хву ротою скверняще ‹…› зане же гь бгь не велитъ догонит члва до клятвы и роты поистиннѣ бо спсъ нашь iсъ хсъ члвеци ротою мя знаютъ»[141]. Весьма примечательно, что отсутствие дождя (затворить небо и не пускать дождь на землю, по христианским представлениям, мог только бог) объясняется тем, что люди клянутся именем божиим и оскверняют церковь ротою. В язычестве же дождь напрямую зависел от громовержца Перуна. Борясь с остатками язычества, проповедник внушал своей пастве, что использование роты, также неразрывно связанной с образом Перуна, будет караться отсутствием дождя – благодатной стихии, ранее принадлежавшей этому же богу. Так, разделяя и противопоставляя друг другу различные свойства одного языческого божества (причем одно свойство соотносилось с христианским богом и считалось добром, а второе свойство, объявленное великим грехом, – злом), церковь разрушала единство языческой картины мира в народном сознании, стремясь к полному ее искоренению.
Эта же идея, дополненная новым красочным образом, повторяется в «Поучении Моисея о безвременном пьянстве»: «Прркъ глть. того ради завяза нбо не пустить дъждя на землю. зане члци кленуться бмь и его стми. и дроугъ дроуга догонять до клятвы и црквь стую невѣсту хвоу ротою нарекше приводяще закалають сна предъ мтрью… зане жь гь бъ не велить догонити члвка до клятвы и до роты. тому же подобна и другая вина. жертву приносять бѣсамъ и недуги лѣчать чарами»[142]. Повторяя мысль о том, что из-за клятвы и роты дождь с неба не идет на землю, проповедник символически связывает эти греховные явления с человеческим жертвоприношением, что, как мы видели, также было свойственно как роте, так и Перуну. Смысл нарисованной Моисеем картины таков: церковь, Невеста Христова, – эта наша мать, верующие – ее дети, и если кто побуждает другого клясться или ходить на роту, тот на глазах матери-церкви закалывает ее сына. Здесь же к этому греху приравнивается чародейство и принесение жертвы бесам. Бесами же с принятием христианства были объявлены все прежние языческие боги.
Более всего показателен тот факт, что христианское духовенство ожесточенно протестует против совершения роты даже в том случае, если она дается для осуществления такого заведомо богоугодного дела, как паломничество ко святым местам в Иерусалим. Так, поп Илья запретил идти к христианской святыне какой-то дружине, давшей в этом роту, и даже наложил на нее за это епитимью: «Ходили бяху к роте, хотяче в Иерусали. Повеле ми опитемыо дати: та бо, рече, рота губить землю сию»[143]. Подобное отношение духовенства лучше всего свидетельствует о языческой сущности роты. Христианством совершается тотальное отрицание всего, что было свято для людей: если в язычестве ротой держится не только Земля, но и вся Вселенная, то теперь православные проповедники внушают своей пастве, что именно ею земля и губится.
Под давлением церкви князья начинают призывать в свидетели не Перуна и Волоса, а христианского бога и клясться не на оружии, а на кресте. Впервые новая форма клятвы упоминается в летописи под 1159 г., когда сыновья Ярослава Владимировича выпустили из заточения своего дядю Судислава: «Изяславъ, Святославъ и Всево-лодъ высадиша стрыя своего Судислава ис поруба сидѣ бо лѣт 20 и 4, заводивъше кресту, и бысть чернецемь»[144]. В.Ю. Франчук совершенно справедливо отметил, что оборот «заводите кресту» был создан по образцу «заводити ротѣ». Как мы увидим чуть ниже, «Повесть временных лет» в отношении этого термина подверглась сознательному редактированию в более поздний период и в сочинении В.Н. Татищева, пользовавшегося некоторыми не дошедшими до нас летописями, в данном конкретном случае речь идет просто о роте. Очевидно, наиболее точно отражает интересующую нас ситуацию 1159 г. Новгородская I летопись: «В лѣто 6567. Изяславъ, Святославъ, Всеволод высадиша строя своего Судислава князя ис поруба… приведоша его къ ротѣ и къ кресту, и бысть чернецомъ»[145]. Стремление любой ценой вычеркнуть память о священном вселенском законе из сознания русского народа, пусть даже задним числом, было у наиболее ретивых христиан столь велико, что подчас приводило к явным нелепостям. Так, в одном из списков летописи в том месте, где описывается ритуал заключения язычником Игорем договора с Византией, один не по уму старательный редактор сделал характерную поправку: «Къ ротѣ (поправлено въ) „къ кресту“»[146]. В конечном итоге, правда, возобладал здравый смысл, и более поздние редакторы не стали заставлять русских языческих князей клясться на христианском символе, ограничившись тем, что изъяли упоминание языческого термина при описании заключения договоров между князьями христианского периода.
Представление о могущественной силе крестного целования, неотвратимо карающей нарушителей данной священной клятвы, наиболее наглядно прослеживается в истории с галицким князем Владимирко. Ведя долгую и упорную борьбу с киевским великим князем Изяславом Мстиславичем и его союзником венгерским королем, правитель Галича неоднократно нарушал даваемую им таким образом клятву. Потерпев очередное поражение от своих противников, Владимирко в 1152 г. прикинулся тяжело раненным и стал умолять о пощаде короля Венгрии. Когда последний сообщил об этом своему союзнику Изяславу, показательна реакция киевского князя на случившееся: «Изяславъ же реч ко королеви сну аче Володимеръ оумреть а Бъ оубилъ его. Зане ступилъ есть хрстьного чѣлования к обѣима нама на нѣмже цѣловалъ хрсть»[147].
Как видим, предполагаемую рану галицкого князя Изяслав Мстиславич воспринял, что бог убил клятвопреступника за нарушение крестного целования, что чрезвычайно напоминает нам представления языческой Руси о том, что за нарушение роты воины будут прокляты от верховных богов, – ее хранителей, и погибнут от собственного оружия. Более опытный киевский князь был не склонен верить своему вероломному родственнику, однако венгерский король, ближайшее окружение которого было подкуплено предприимчивым Владимирко, согласился поверить своему противнику в очередной раз, и галицкий князь вновь поклялся на кресте жить в мире с Изяславом и вернуть ему захваченные города. Однако стоило лишь союзникам вывести войска из Галицкого княжества, как мнимый больной немедленно выздоровел и не выказал никакого желания выполнять свое обещание. Напомнить о нем Изяслав послал к Владимирко своего боярина Петра Бориславича с крестными грамотами. Между послом и галицким князем состоялся весьма примечательный диалог: «И реч ему Петръ кнже крстъ еси къ брату своему къ Изяславу и къ королеви цѣловалъ яко ти все оуправите и с нима быти то ти оуже еси съступилъ крстьного цѣлования и реч Володимиръ сии ли крстць малыи реч Володимиру Петр кнже аче крстъ малъ но сила велика его есть на нбси и на земли»[148].
Как видим, на обвинение в нарушении крестного целования Владимирко возразил, что крест тот был мал, на что посол возразил, что хоть крест и был мал, но сила его велика и на небе, и на земле. Не найдя, что сказать, князь выгнал посла, однако, когда тот уже выехал обратно в Киев, приближенные галицкого князя вернули его, и Петр услышал от них удивительную историю. Отказавшийся соблюдать крестное целование Владимирко отправился на вечернюю в церковь, однако, когда он уже возвращался к себе в палаты, как кто-то невидимый ударил его в плечо, после чего князь не мог сдвинуться с места и чуть было не упал. Окружавшие слуги подхватили Владимирко и принесли его в горницу, где князь в тот же вечер и скончался. Как видим, представление Изяслава, явно выражавшего общераспространенное в ту эпоху мнение, что бог неизбежно убьет нарушителя крестного целования, по отношению к правителю Галича сбылось, хоть и не после первого, а после второго нарушения им священной клятвы.
Еще одним последствием нарушения этого священного обряда могло быть поражение на поле боя. Так, при описании событий 1176 г., автор Лаврентьевской летописи объясняет победу владимирского князя Михаила Юрьевича над Мстиславичами, в частности, нарушением последними крестного целования: «И не доѣхавше Мстиславичи повергоша стягъ и побѣгоша. гоними гнѣвомъ Бжьимь… И поможе Бъ Михалку. и (брату его Всеволоду) оца и дѣда его млтва и прадѣда его. и цѣлованье крстное. зане цѣловавше крстъ и уничижиша и»[149]. Весьма примечательно упоминание летописца внецерковной «отчей и дедней молитвы», которая, как показал в своем исследовании В.Л. Комарович, явным пережитком языческого родового культа, бытовавшего в среде Рюриковичей. Победа Михаила в данном контексте оказывается результатом вмешательства в земные события сверхъестественных сил: нарушения его противниками крестного целования, которое, вкупе с заступничеством за Михаила его умерших предков, привело к божьему гневу, обрушившемуся на Мстиславичей. Соседство дохристианской по сути своей «отчей и дедней молитвы» с крестным целованием в качестве тех причин, которые предопределили победу Михаила Юрьевича над своими врагами, в очередной раз свидетельствует о языческих истоках представлений о божьей каре нарушителям данного важного ритуала.
Понятно, что поражение или смерть на поле боя насылал на нарушителя клятвы бог войны Перун. Однако на Руси достаточно долгий период существовало представление, что бог может расправиться с клятвопреступником и другими средствами. В «Рукописании Магнуша», написанном предположительно в Новгороде в XV в. от имени шведского короля, содержится следующее, весьма показательное наставление его преемникам: «И нынѣ приказываю своимъ дѣтем и своей братьи и всей земли Свѣйской: не наступайте на Русь на крестномъ целовании, а кто наступить, на того огнь и вода, им же мене богъ казнилъ»[150] – «И теперь приказываю своим детям, и своим братьям, и всей земле Шведской: не наступайте на Русь, если крест в том целовали; а кто пойдет – против того будут и огонь, и вода, как и меня ими бог казнил». Как видим, нарушителя христианского крестного целования бог, по представлению древнерусского летописца, покарает с помощью огня и воды – двух стихий, ранее подвластных языческому громовержцу Перуну. Все это лишний раз показывает, что представления о силе крестного целования и каре за его нарушения были, в основе своей, обусловлены не христианскими, а языческими верованиями.
Как уже отмечалось, достаточно длительный период существовал определенный синкретизм языческих и христианских представлений, определяемый древнерусскими книжниками как «двоеверие». Смешение языческих представлений о роте с элементами христианского культа нашло свое отражение не только в появлении нового оборота «заводити кресту», но и в особом выражении «крест целовать ротою», зафиксированном в двух поучениях против язычества. В «Слове св. отец како подобает христианам жити» читаем: «О хоулных же глхъ что рещи не вѣмъ, иже о бзѣ кленоутся, кртъ цѣлують ротою… стоую црквь ротою скверняще того дѣля вся нбсныа силы трепешоуть страхомъ злобу видяше члчю»[151]. Рота в глазах проповедника – такое ужасное прегрешение против христианства, что от страха трепещут все небесные силы новой религии – очередной отзвук вселенского характера древнерусской роты, правда в отрицательном аспекте. «Слово» заканчивается призывом к «велимъ градскымъ властелам не щадѣти зло творящих пред бгом, но казнити я: лестьця, хоулника, ротникы, моужеложникы, оубiица…»[152]. Однако сама светская власть на Руси, невзирая на крещение, регулярно прибегала к этому языческому ритуалу (при заключении как внешне-, так и внутригосударственных договоров, а также в судебном процессе), и потому сомнительно, чтобы исступленные призывы к расправам над ротниками нашли у нее горячий отклик.
Поскольку при заключении договоров по роте часто ходили князья, именно к ним было обращено «Поучение епископле всем христолюбивым князем»: «О хульныхъ же глаголъхъ что реку, не въмы: что о Бозе ротятся и кленутся, и кресть цѣлують ротою, до церкви…». Данное поучение призывает их «и не клятися отинуть никакоже: ни небом, ни землею, ни иною коею клятвою, и до главы своея и власъ…»[153]. Вновь рота приравнивается к таким великим прегрешениям, как клевета, лесть, лжепослушничество, убийство, и городским епархам вменяется в обязанность ротников и иных грешников «казнити по закону и въ послѣдняя влагати муки, не щадѣти злое творящихъ предъ Богомъ». Упоминаемая клятва небом, землей и головой хоть и полностью вписывается в языческую концепцию роты, но в данном случае может быть реминисценцией соответствующего места Нового Завета. Однако там не говорится о клятве волосами, что полностью соответствует описанному выше славянскому ритуалу заключения мира, отсылающему нас, в конечном итоге, к Волосу как хранителю роты. Близкое к рассматриваемому выражение встречается нам и в Псковской I летописи: «Заводиша его къ ротѣ и цѣлова крестъ»[154].
Обряд хождения по роте, включавший частные соглашения людей в общий поток вселенского закона, совершался, естественно, в наиболее сакральном месте. В языческое время он происходил у идола Перуна, а в христианское по аналогии был перенесен в церковь. Видимо, этим и можно объяснить негодующий возглас церковников: «Се бо вамъ не ротница создана (церковь), но молитвѣ домъ»[155]. О широком распространении этого явления в быту, несмотря на все протесты, свидетельствует берестяная грамота XII–XIII вв.: «Пакы ли не управише того, а я тя передамо святее Богородице, ко нееже еси заходиле роте»[156]. О влиянии понятия роты на древнерусский язык и, следовательно, саму жизнь говорит тот факт, что в нем образовались производные от этого термина слова: ротник – «человек, ходивший на роту или давший роту» и ротница – «место совершения роты».
Анализ интересующего нас аспекта «двоеверия» Древней Руси показывает, что в данном смешении однозначно возобладал языческий компонент. Внешне это проявляется в том, что и Новгородская летопись при описании освобождения Судислава, и процитированная нами Псковская I летопись устойчиво ставят на первое место не главный символ христианства, а языческий вселенский закон. Однако торжество язычества в этом вопросе было не только внешним, но и внутренним. Как известно, в Нагорной проповеди Иисус Христос категорически запрещает всем своим последователям клясться: «А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий; ни землею, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя; ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого» (Мф. 5.34–37). Эта мысль регулярно повторяется в древнерусской христианской литературе: «Не начинай ся кляти ни о малѣ, ни о велицѣ, яко же клятвѣ раждающи прѣступание клятвѣ»[157]. Но даже прямой запрет самого основателя христианского вероучения, зафиксированный в самом сакральном произведении, нисколько не подействовал на принявших новую религию русских князей, в принципе не мысливших себе заключение договоров без роты. Любой договор должен был соответствовать языческому закону, согласно которому существует вся Вселенная, и обретал свою силу, будучи вписан в этот универсальный вселенский закон, – без этого соглашение ничего не стоило, поскольку отсутствовала та сила, которая бы гарантировала его выполнение сторонами. С принятием христианства святилища языческих богов – хранителей вселенского закона были разрушены, но находчивое сознание быстро приспособило для нужд языческого в основе своей ритуала самый священный символ христианства, крест, и стало проводить этот ритуал в новых капищах – православных церквах. Место проведения и атрибутика роты вынужденно изменились, но глубинная сущность роты, равно как и обусловившего ее мировоззрения, осталась прежней, и в этом смысле она действительно была «от лукавого» в христианском понимании этого термина. Однако это нисколько не помешало крестному целованию на века прочно укорениться не только в княжеской, но и в народной среде, причем церковь ничего не могла поделать с этим и в конечном итоге была вынуждена смириться с древним обрядом в его замаскированной форме. Народное сознание немедленно перенесло на новый обряд прежние представления, в результате чего его преступление было объявлено самым страшным грехом. Это воззрение в полной мере отразилось в народном стихе об исповеди молодца земле, в котором ему прощаются даже такие тяжкие преступления, как брань родителей и сожительство с крестной кумой, но не прощается предание им крестного целования:
Я бранил отца с родной матерью… Уж я жил с кумой хрестовою… Я убил в поле братика хрестового, Порубил ишо челованьице хрестное[158].Нарушение вселенского закона здесь является гораздо более страшным проступком, чем преступление против своего рода. В той или иной степени эти народные представления проникают даже в христианские летописи, безоговорочно осуждающие нарушение крестного целования и наделяющие крест силой, способной чудесным образом покарать преступника. Новгородская летопись подчеркивает: «Иже бо крестъ преступають, то и сдѣ казнь приимають, и на ономь вѣцѣ муку вѣчную»[159]. Таким образом, крестное целование, ставшее для русских людей на многие века символом самой торжественной и нерушимой клятвы, напрямую восходит своими корнями к языческому вселенскому закону-роте и находится в принципиальном противоречии с Библией.
Миниатюры Радзивилловской летописи XV в., восходящие, как было установлено специалистами, к миниатюрам Владимирского лицевого свода 1212 г., доносят до нас изображения обряда крестного целования в Древней Руси в различной обстановке. Так, на одной миниатюре показана процедура заключения мира между Святополком и Владимиром Мономахом в 1097 г., достигнутого при посредничестве митрополита. Автор миниатюры показал обоих князей сидящими на своих престолах, а представители духовенства подносят крест к мирящимся правителям. На другой миниатюре, изображающей события 1175 г., крест гораздо большего размера лежит на алтаре и на нем торжественную присягу приносит князь Ярополк Ростиславич. Третья миниатюра, хоть и относится к хронологически более позднему событию, однако в большей степени, чем две предыдущие, доносит до нас исконное оформление этого первоначально языческого обряда. Данная миниатюра иллюстрирует летописное известие 1202 г.: «Романъ… посла на Гору к Рюрикови. и ко Олговичем. и води Рюрика къ крсту. и Олговичѣ. а сам к ним (крстъ) цѣлова же. и пусти Рюрика въ Вручии»[160]. Автор миниатюры ограничился изображением крестного целования одного князя Рюрика Ростиславича и показал его в виде трех сменяющих друг друга сцен. На первой князь, молитвенно сложа крест-накрест руки, готовится совершить этот важный ритуал. Особенно важна для нас вторая сцена, упоминание о которой отсутствует в летописном тексте. На ней автор миниатюры показал Рюрика уже после совершения им крестного целования на ритуальном пиру, во время которого князья, дополнительно скрепляя данную ими клятву, пьют из одной чаши, держа друг друга за руки. Перед нами, несомненно, изображение языческой братчины, которая могла сопутствовать обряду крестного целования. Наконец, на третьей, заключительной сцене, князь Рюрик показан садящимся на коня, для того чтобы отъехать «въ Вручии» (Овручь). Так миниатюры Радзивилловской летописи доносят до нас мелкие подробности изучаемого нами ритуала, отсутствующие в других письменных источниках.
Несмотря на весь авторитет Иисуса Христа, церковь ничего не могла с этим поделать и была вынуждена ограничиться лишь тем, что категорически закрывала любому ротнику путь в церковный сан. Это следует не только из приведенных поучений, но и из специальных указаний на сей счет церковных иерархов. В «Правилах митрополита Кирилла» говорится: «Нъ и тоу скоро ихъ не поставляйте, аще боудоуть не кощюньници, ни хъщници, ни пьяници, ни ротници, ни сварливи»[161]. В «Послании митрополита Фотия» 1427 г. особо подчеркнуто: «Таковiи ротници и лжеобѣщници, по писанiю, никако могуть дълъ церковнихъ завѣдати»[162]. При переводе церковной литературы на древнерусский язык ее также приспосабливали к отечественным реалиям: «Ротящеи ся не приемлѣте поставления (Вас. Вел. 10). Ефр. корм., 474. XII в. Не тькмо кляти ся възбраняеть клирикомъ, нъ никакоже ротити ся. Никон. Панд. 2, 81. XIII в. Хотя быти мнихъ отвержеть ся воля своея и возметь крстъ свои… не ротить ся, не злословить. Ефр. Сир., IV, 108. XIII в.»[163]. Роту запрещалось давать и посвященным в сан священнослужителям: «А попа не достоит к роте вѣсти ни на послушество»[164].
Наконец, любопытное наблюдение над одной особенностью древнерусского летописания сделал В.Ю. Франчук. Если при описании событий XI в. рота употребляется при заключении договоров и русских князей с язычниками-половцами, и между самими князьями-христианами, то в летописании XII в. этот термин встречается лишь тогда, когда речь идет о язычниках. «Создается впечатление, что летописцы XII в. сознательно избегают термина „рота“ по отношению к христианам, осознавая языческую сущность обряда, которую он обозначает»[165]. Однако изучение аналогичных событий по «Истории Российской» В.Н. Татищева показывает, что и летописцы, и князья XII в. широко используют термин «рота». В.Ю. Франчук заключает: «Таким образом, не летописцы XII в. избегали термина „рота“, а убирали его редакторы, работавшие с их текстами позже. Многие превышения летописного текста, сохранившиеся в „Истории Российской“ В.Н. Татищева, в большей своей части, очевидно, и были исключены церковниками из позднейших сводов в связи с тем, что языческий термин „рота“ встречается в них в речах христиан или же употреблен по отношению к христианам»[166]. Тенденция использовать интересующий нас термин только по отношению к иноверцам продолжалась и в более позднюю эпоху. Примеры этого по отношению уже к татарам мы видим в Лицевом своде: «Но, пока речь идет о периоде феодальной раздробленности, сцена крестного целования носит несколько абстрактный характер. Основа ее – группа „утверждающихся“ целованием, которая располагается по обе стороны или напротив аналоя с крестом. Крестное целование как знак верности нередко заменяется символическим изображением аналоя с лежащим на нем крестом. Крест не целуют, около него не клянутся в верности, но на фоне его совершаются события, которые либо соответствуют договору, утвержденному крестным целованием, либо его нарушают. И наличие этого символа верности определяет эмоциональную окраску и подчеркивает направленность данной сцены.
С течением времени появляется и новая символика утверждения договоров о мире, дружбе, о ненападении, особенно когда речь идет о договорах с „иноверными“, в частности с татарами. Так, например, в сцене присяги казанского царя Мохаммеда Эмина на престоле лежит меч (или сабля), сам казанский царь пьет из сосуда, а кроме того, здесь же лежит договорная грамота»[167].
К сожалению, В.Ю. Франчук в своей статье (которая была единственной работой, посвященной роте, во всей отечественной историографии, и дореволюционной и послереволюционной) не сделал сравнительного сопоставления текстов «Повести временных лет» и сочинения В.Н. Татищева, использовавшего некоторые не дошедшие до нас рукописи. Поскольку это сопоставление наглядно показывает, как последующие церковные редакторы труда Нестора «корректировали» в соответствии со своими религиозными воззрениями отечественную историю, есть смысл восполнить этот пробел.
ПВЛ[168] 1059 г.
Изяславъ, Святославъ и Всеволодъ высадиша стрыя своего Судислава ис поруба, сидѣ бо лѣт 20 и 4, заводивъше кресту, и бысть чернецемь.
Татищев[169] 1059 г.
Изяслав, Святослав и Всеволод освободили стрыя своего Судислава из заточения, где содержен был 28 лет, и для безопасности утвердили его ротою.
ПВЛ1067 г.
Он (Всеслав Полоцкий. – М.С.) же, надѣявъся цѣлованью креста, преѣха в лодьи чересъ Днѣпръ. Изяславу же в шатеръ предъидущю, и тако яша Всеслава на Рши у Смолиньска, преступивше крестъ.
Татищев 1066 г.
Изяслав, Святослав и Всеволод по прозьбе Всеслава обещали с ним примириться и все ему возвратить, ежели он сам к ним без всякого опасения приедет, на котором ему Изяслав с братию крест целовали. Всеслав, обнадеяся на их роту, весною приехал лодкою по Днепру к Орше, где Ярославичи стояли. И как пришел ко Изяславу в шатер иулия 10-го дня, тут его по усильному совету Святослава, немедля взяв, сковали…
ПВЛ 1068 г.
Всеслав же сѣде Кыевѣ. Се же богъ яви силу крестную, понеже Изяславъ цѣловавъ крестъ, и я и; тѣм же наведе богъ поганыя, сего же явѣ избави крестъ честный. В день бо Въздвиженья Всеславъ, вздохнувъ, рече: «О кресте честный! Понеже к тобѣ вѣровах, избави мя от рва сего». Богъ же показал силу крестную на показанье землѣ Русьстѣй, да не преступають честнаго креста, цѣловавше его…
Татищев 1067 г.
Всеслав Брячиславич, хисчник престола, по изгнании Изяслава приял всю власть великого князя не по своему достоинству. Но бог, показуя силу крестную, еже Изяслав, преступя роту, утвержденную крестным целованием, его пленил, сего ради избави его бог в день воздвижения честнаго креста.
ПВЛ 1096 г.
Олегъ же обѣщася се створити, и на семь цѣловаша крестъ.
Татищев1096 г.
Олег же, обесчався все то исполнить, учинил роту и крест целовал, по котором разошлися каждый в свое владение.
ПВЛ 1097 г.
И на том цѣловаша крест: «Да аще кто отселѣ на кого будеть, то на того будем вси и крестъ честный». Рекоша вси: «Да будет на нь хрестъ честный и вся земля Русьская». И цѣловавшеся поидоша в свояси.
Татищев 1097 г.
И, тако положа, все ротою утвердили на том, что если кто на кого востанет, на того быть всем совокупно, доколе обиженный оборонен, а обидетель усмирен будет. Потом все с любовию и радостию разъехались каждый в свое владение.
ПВЛ 1097 г. (Василько:)
«Оногды целовали крьст, рекуще: аще кто на кого будеть, то на того будеть крестъ и мы вси».
Татищев 1097 г. (Василько:)
«Как могут меня поймать без всякой причины, учиня роту все с твердым обесчанием на том, если кто на кого возстанет без вины, на том будет клятва, и все должны обиженнаго засчисчать и оборонять».
ПВЛ 1097 г. (Святополк:)
«Василко брата ти убилъ, Ярополка, и… заходилъ ротѣ с Володимером, яко сѣсти Володимеръ Кыевъ, а Василкови Володимери».
Татищев 1097 г. (Святополк:)
(Василько) «велел убить брата моего Ярополка и ныне согласился с Владимиром, хотел меня изгнать из Киева и лишить отеческого проестола».
Татищев 1097 г. (Владимир Мономах:)
«Понеже ты ослеплением брата нашего Василька учинил такое зло, какого никогда в Руской земле не бывало, и воздвигнул вражду между нами, преступя роту, к нам всем данную… Ибо, если б он в чем тебя обидел, надлежало тебе по учиненной твоей ко всем нам роте объявить нам, братии твоей, а не самому судить и казнить…»
ПВЛ 1097 г. (мир Владимира со Святополком)
Святополкъ же емъся по се, и цѣловаша крестъ межю собою, миръ створше.
Татищев 1097 г. (мир Владимира со Святополком)
И, оное, утвердя с обе стороны ротою, разошлись.
Татищев 1097 г.
Давид же, видя что оные возвратились, забыл данное с тяжкою ротою Васильку обесчание…
ПВЛ 1097 г.
Святополкъ же обѣщася ему, и цѣловаста крестъ межи собою, и изиде Давыдъ из града и приде в Червень…
Татищев 1098 г.
Святополк хотя несколько противился Давиду Червень оставить, но по многой прозьбе на том согласились и, учиня мир междо собою, утвердили ротою по обычаю с креестным целованием. По которому Давид, вышед из града, с княгинею, детьми его, служители и со всем имением поехал в Червень.
ПВЛ 1097 г.
Се слышавъ Володарь и Василко, поидоста противу, вземша крестъ, его же бѣ цѣловалъ к нима на сем… И приступи Святополкъ крестъ, надѣяся на множество вой.
Татищев 1098 г.
(Василько и Володарь обращаются к Святополку:) «По смерти отца нашего мы хотя малы остались, но отец твой и Святослав, помня свою к отцу нашему роту, Владимеря у нас не отнимали. (…) И мы тебе не дадим ни села, но просим покорно, помня клятвенное обесчание отца своего и свою на съезде данную роту, оставить нас в покое…» Святополк не умилился на сию их прозьбу, но, паче возъярясь, пошел на них с войском.
ПВЛ 1101 г.
И молися о нем митрополитъ и игумени, и умолиша Святополка, и заводиша и у раки святою Бориса и Глѣба, и сняша с него оковы, и пустиша и.
Татищев 1101 г.
Но за многую прозьбу митрополита и протчих Святополк, взяв от него роту у раки св. мученик Бориса и Глеба, освободил.
Как мы можем убедиться, практически во всех случаях, где источники Татищева говорят о роте, более поздние редакторы ПВЛ заменяют это языческое понятие на более близкое им крестное целование. Для прославления главного символа своей религии этот редактор или редакторы труда Нестора вкладывают в уста Волха Всеславьевича прочувственные слова о нем, отсутствующие в тексте Татищева и совершенно неестественно звучащие в речи князя-язычника, и сопровождает их пространным рассуждением о всемогущей силе креста. Об одной лишь роте как главном способе утверждения результатов Любечского съезда князей 1097 г. (важнейшем общерусском политическом событии данного периода) последовательно говорит и приводимый Татищевым авторский летописный текст, и участвовавшие в съезде Василько и Владимир Мономах. Это доказывает, что важнейший внутриполитический акт того времени воспринимался всеми современниками именно как рота. Редакторы ПВЛ, корректируя историю в соответствии со своими представлениями, всюду заменяют ее на более благочестивое, с христианской точки зрения, крестное целование. Из всех рассмотренных фрагментов текст ПВЛ лишь один-единственный раз говорит о роте, и притом в том месте, где в параллельном тексте Татищева это понятие вообще не упоминается. Речь идет о заявлении Святополка в 1097 г., когда он, пытаясь оправдаться в совершенном преступлении, заявил, что Василько якобы в союзе с Владимиром Мономахом составил заговор против него. Упоминание в данном контексте роты придает этому термину явно негативный смысл, поскольку, если бы такой заговор в действительности существовал, он был бы преступен вдвойне: во-первых, это было бы явное клятвопреступление, нарушение утвержденного на Любечском съезде договора и противоправное покушение на власть великого князя, а во-вторых, это было бы нарушение крестного целования и грех против бога. Такое, заведомо преступное как с политической, так и с религиозной точки зрения, соглашение редакторы ПВЛ и называют ротой, однозначно относя ненавистное им понятие к сфере самого отрицательного. Именно для подчеркивания преступного характера этого языческого понятия редакторы ПВЛ и вводят его в текст летописи, хотя, по всей видимости, в данном месте его первоначально и не было.
Необходимо иметь в виду, что православное духовенство так упорно стремилось уничтожить в народном сознании память о вселенском законе не только потому, что он был неразрывно связан с язычеством, но еще и потому, что любой ценой пыталось навязать народу закон иудеохристианской традиции. Точнее будет говорить не о законе, а о законах, поскольку, при формальном единстве, закон Ветхого Завета принципиально отличается от закона Нового Завета, да и в самом Ветхом Завете знаменитые десять заповедей даны в двух различных вариантах (Исх. 20.2-17 и Исх. 34.11–26). Поскольку именно эти божественные законы на целое тысячелетие утвердились на Руси, по крайней мере формально, вкратце рассмотрим то, что заняло место исконного русского закона. Что касается ветхозаветного закона, то там прежде всего бросается в глаза исключительная приземленность божественных предписаний. Если вселенский закон индоевропейской традиции охватывал все мироздание, от планеты до песчинки и от богов до людей, то в первом варианте десяти заповедей к сфере божественного относятся лишь первые три закона, один из которых налагает табу на имя бога, а два других характеризуют его как бога-ревнителя, не терпящего поклонения другим богам и грозящего за это страшными карами. Помимо ритуального запрета всякой деятельности в субботу, все остальные заповеди относятся к элементарнейшим правилам человеческого общежития, внедрять которые приходилось с помощью божественного авторитета. Во втором варианте этих заповедей усилен ритуальный элемент, однако какого-либо вселенского, космического характера и один, и другой варианты лишены полностью. Более того, эти десять заповедей сопровождены там множеством других приписываемых богу законов, мелочный и приземленный характер которых доходит до крайности. Например: «Если кто раскроет яму, или если выкопает яму и не покроет ее, и упадет в нее вол или осел, то хозяин ямы должен заплатить, отдать серебро хозяину их, а труп будет его» (Исх. 21.33–34).
Если закон Ветхого Завета был максимально «заземлен», то закон Нового Завета, наоборот, был полностью оторван от земли. В Нагорной проповеди Иисус Христос завещает своим последователям: «Вы слышали, что сказано древними: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду… Вы слышали, что сказано древними: не прелюбодействуй. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя… Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую… Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас…» (Мф. 5.21–44). Понятно, что, за редчайшими исключениями, вряд ли хоть один народ мира в основной своей массе мог и может следовать этим заповедям. Столь колоссальный разрыв между максимально завышенными требованиями и земной реальностью неизбежно порождал в среде христианских народов, с одной стороны, лицемерие, а с другой – чувство собственной греховности, усиливающее и без того заложенную в Ветхом Завете мощную идею об изначальной греховности человека вследствие так называемого первородного греха. Следует особо подчеркнуть, что сам по себе библейский закон (законы) не является плохим. Однако при этом необходимо помнить, что он – естественный результат мирочувствования и мировосприятия конкретного – еврейского – народа в конкретных условиях. Именно для него он, по всей видимости, является наиболее оптимальным принципом жизни в этом мире. Однако он незамедлительно превращается в зло при насильственном навязывании его другим народам с совершенно иным типом мировосприятия и живущим в совершенно иных условиях. В этом отношении как «заземленный» ветхозаветный, так и оторванный от земли новозаветный законы представляют из себя явную деградацию в духовной сфере по сравнению с языческим вселенским законом, наиболее гармонично регулирующим соотношение земного и небесного и являющимся естественным результатом духовного развития далеких предков индоевропейских народов. Из этого следует, что уничтожение христианской церковью памяти о вселенском законе у русского и большинства других индоевропейских народов вкупе с навязыванием им чужеродных религиозно-нравственных ценностей прервало их естественную эволюцию и направило их дальнейшее духовное развитие по абсолютно иному руслу.
Таким образом, на основании всего изложенного разнообразного материала можно с абсолютной уверенностью утверждать, что рота была одним из ключевых понятий древнерусского язычества, тесно связанным с Перуном и Волосом – верховными богами языческого пантеона. Только это может объяснить нам то стремление, которое церковь проявляла для вытеснения любого воспоминания о роте в народном сознании. Как выяснилось из сравнительного анализа, пара Перун-Волос, связанная с ротой в Древней Руси, типологически тождественна и генетически родственна паре Варуна-Митра, объединенных ритой в Древней Индии. Несмотря на различие в корневом гласном, и индийская puma, и русская рота происходят из одного термина. Г. Дерфер отмечает: «…В индоевропейском праязыке, как известно, действовал аблаут, т. е. изменение корневого гласного; поэтому разноязычные индоевропейские формы, которые показывают различные гласные, тем не менее могут быть изначально родственными»[170]. Относительно конкретных правил вариации гласных специалисты констатируют: «Так, например, в ряде случаев мы наблюдаем, что латинскому, греческому и германскому краткому а, славянскому о в древнеиндийском соответствует не а, как в примерах, рассмотренных выше, а краткое i»[171]. Проводимое сопоставление, таким образом, оказывается вполне допустимым и с чисто лингвистической точки зрения. Что касается семантики этого термина, то различные источники свидетельствуют, что, как и рита в Индии, рота на Руси означала вселенский закон, согласно которому обязаны жить и боги, и люди. Нарушение же роты, равно как и основанных на ней договора и клятвы, в том числе и в суде, ставило под угрозу само устройство Космоса и потому обрекало преступника на гибель как со стороны самой роты, так и со стороны верховных богов – ее хранителей.
Глава 3. Индоевропейские параллели роты
Констатация родства русской роты и индийской риты, а также их происхождения из единого индоевропейского термина заставляет нас обратиться в поисках подтверждения к другим индоевропейским языкам. Если в индоевропейскую эпоху действительно существовал этот термин, то он должен был оставить следы и в других языках данной семьи. Кроме того, изучение значений производных от этого индоевропейского термина будет способствовать уточнению его первоначального смысла.
В силу наибольшей сохранности мифологических представлений своего рода эталоном для сравнений продолжает оставаться Индия. Необходимо сразу отметить, что точный и адекватный перевод термина рита на любой другой язык крайне затруднителен, если вообще возможен. Будучи едины в понимании риты как вселенского закона, специалисты несколько расходятся, как только пытаются дать ей точное определение. Точка зрения Г. Людерса – Я. Гонды была уже приведена выше. Индийский философ С. Радхакришнан дает свое определение, причем пытается приспособить его к антично-христианским истокам мировоззрения европейской аудитории: «Рита буквально означает „ход вещей“. Он олицетворяет закон в целом и незыблемость справедливости. Это представление вначале было внушено регулярностью движения солнца, луны и звезд, чередованиями дня и ночи и времен года. Рита означает порядок мира. Все, что совершается во вселенной, имеет в качестве своего начала риту. Он соответствует общим идеям Платона. Чувственный мир – это тень или мысль риты, постоянной реальности, остающейся неизменной во всем хаосе изменений. Всеобщее предшествует частному, и поэтому ведийский пророк полагает, что рита существует до появления всех феноменов. Сменяющиеся серии феноменов этого мира представляют собой различные выражения постоянного рита. ‹…› Как только представление о рите получило общее признание, природа богов претерпела некоторые изменения. Мир перестал быть хаосом, отображающим слепую ярость своенравных стихий, и подвергся воздействию гармонизирующей цели. Эта вера приносит нам утешение и покой всякий раз, когда нас искушает неверие и мы теряем веру в самих себя»[172].
Французский исследователь Ж. Дюмезиль считал, что наилучший перевод слова puma – это «порядок (космический, ритуальный, нравственный)», основанный на четком соотношении составляющих, а значение «истина» – лишь один из элементов этого понятия[173]. С точки зрения индоевропейской этимологии проанализировал это понятие и Э. Бенвенист: «К индоевропейскому состоянию может быть отнесено очень важное понятие – „порядок“. Оно представлено ведийским rta, иранским arta (авест. asa – результат обособленного фонетического развития). Таково исходное представление правового, а также религиозного и нравственного сознания индоевропейцев: „порядок“, которому подчинены как устройство мира, движение светил, смена времен года и течение лет, так и отношения между богами и людьми и, наконец, сами человеческие отношения. Все, что касается человека или мира, находится во власти „Порядка“. Таким образом, это – религиозная и нравственная основа всего общества; без этого принципа все возвратилось бы к хаосу.
Важность данного понятия подчеркнута большим числом образованных от него лексических форм. Тщетно было бы стараться перечислить подробно все производные санскритского и иранского rta и arta, обнаруживаемые в общем лексиконе и ономастике. Индоиранская древность термина подкрепляется к тому же морфологическими архаизмами: на санскрите „верный rta, нравственно совершенный“ передано через rta-Van, в женском роде rta-Vari; то же в иранском – artavan, artavari. (…)
Более того, в Авесте данное понятие персонифицировано: здесь обнаруживается некое божество Арта. Посредством суффикса абстрактных имен на – tu– в индоиранском образована основа (вед. rtu, авест. ratu), обозначающая порядок, особенно применительно ко временам года, календарным периодам, но также – правило, норму в широком смысле.
Все названные формы относятся к корню ar-, хорошо известному по множеству производных вне индо-иранских языков и примыкающему ко многим упомянутым формальным категориям. Он присутствует в греческом ararisko (αραρισκω) „прилаживать, приспосабливать, согласовывать“ (арм. arnel „делать“). С ним связаны многочисленные отыменные деривативы: на – ti-, лат. ars, artis „природная склонность, умение, талант“; на – tu-, лат. artus „сочленение, сустав“, а также (при другой форме корня) лат. ritus „установление, ритуал“, гр. artus (αρτυς) (арм. ard, в генетиве ardu „установление“) и форма презенса artuno (αρτυνω) „приводить в порядок, снаряжать“; на – dhmo-, гр. arthmos (αρϑμος) „узы, связь“, на – dhro-, гр. arthron (αρϑρον) „сочленение, часть тела“ и т. п.
Повсюду все еще просматривается одно и то же значение: порядок, установление, взаимное приспособление частей внутри целого, – хотя различные производные и специализировались по-разному в зависимости от языка. Так проявляется, начиная с общеиндоевропейского состояния, понятие, охватывающее под различными лексическими вариантами религиозные, юридические, технические аспекты „Порядка“. Но для каждой его области необходимы были различающиеся термины»[174].
Н.Р. Гусева дает следующее определение этому понятию: «…„Рита“ – всесильный нравственный закон, управляющий всеми проявлениями человеческой воли и регулирующий извечный баланс доброго и злого начала»[175]. Наконец, Т.Я. Елизаренкова, осуществившая перевод РВ на русский язык, понимает риту так: «Rta – представляет собой одно из ключевых понятий ведийской модели мира. Это космический закон, истина, порядок, который охраняют Адитьи. Согласно этому закону осуществляется круговращение вселенной, регулярно приносятся жертвы богам, в мире царит справедливость»[176]. В другом месте она особо подчеркивает огромную многозначность этого термина в языке ведийских ариев: «…Например, слово rta (причастие прошедшего времени от глагола r – „двигать(ся)“) как имя существительное означало: „вселенский закон“, „божественная, вечная истина“, „право“, „правда“, „святость“, „благочестивое дело“, „жертвоприношение“, „жертвенный костер“, „жертвенный напиток“, „место жертвоприношения“ и т. д. Скорее всего, здесь имело место одно общее значение вселенского закона и всего, что ему соответствует, а отсюда уже значение правильности и праведности, приложимое к разным сферам деятельности богов и людей»[177]. Такое множество значений этого слова как существительного (как прилагательное оно имеет не меньше значений) делает практически невозможным его точный и всеобъемлющий перевод на современные языки.
Выше мы уже частично касались роли риты в аспекте, связанном с деятельностью Варуны и Митры. Рассмотрим теперь другие аспекты этого универсального принципа. В этой связи необходимо привести довольно длинную цитату Т.Я. Елизаренковой, раскрывающей значение риты в жизни арийского общества: «Закон круговращения вселенной регулирует правильное функционирование космоса и жизни ария одновременно. Само слово rta морфологически является причастием от глагола аr – „приводить в движение“, „двигаться“. Об универсальном характере обозначаемого им понятия можно судить уже по тому кругу значений, который в нем объединен. Как прилагательное оно значит: „соответствующий“, „подходящий“, „правильный“, „праведный“; как существительное: „закон“ (круговращения вселенной), „порядок“, „истина“, „священный обряд“, „жертвоприношение“. Возможно, для ария РВ то, что сейчас представляется набором различных понятий, было одним недифференцированным понятием универсального характера, покрывавшего собой всю сферу сакрального и положительного и противопоставленного отрицательному понятию anrta – „неправильный“, „неправедный“; „неправда“, „неправедность“ или nirrti – „Гибель“, „Смерть“ (персонификация).
В связи с семантикой слова rta – заслуживают внимания две особенности. Во-первых, одно и то же слово обслуживает две сферы, которые в дальнейшем стали рассматриваться как различные и, более того, противоположные: природы и человека, макрокосмос и микрокосмос. В мифопоэтическом сознании для того и для другого существовал один принцип организации и одна высшая справедливость. Во-вторых, rta – этимологически обозначает движение, характер которого регулярный и циклический, т. е. предполагает возврат к исходной точке, что чрезвычайно существенно для мифопоэтического сознания. По закону рита восходит и заходит Солнце (выезжает на своей колеснице Сурья, будучи конем и колесничим одновременно; подымает золотые руки Савитар, побуждая к жизни все живое утром и успокаивая вечером; сменяют друг друга солнце дневное и невидимое ночное – одна из ведийских загадок); одно время года в установленном порядке следует за другим. Все повторяется, как было в незапамятные времена, и, следуя закону рита, человек воспроизводит цикличность космических явлений в цикличности ритуала, поддерживая тем самым порядок в космосе и в человеческом обществе и создавая условия для нормальной и успешной жизни своего племени. Рита является одновременно и этическим законом в обществе ариев. Хорошо и правильно то, что этому закону соответствует: почитание арийских богов и принесение им жертв; награждение жрецов, совершающих жертвоприношения, и поэтов-риши, создающих молитвы; покорение племен, не почитающих арийских богов, и захват их богатств. ‹…›
Функционирование закона риты представлялось как смена циклов. Согласно взглядам мифопоэтического периода, в момент завершения определенного цикла Космос распадался, Хаос снова вступал в свои права, и в этой борьбе Космоса и Хаоса необходим был новый акт творения для создания упорядоченного мира, живущего по закону рита. Основным инструментом восстановления и поддержания космологического порядка был ритуал»[178].
Свое особое мнение по поводу этимологии и семантики интересующего нас термина изложил и В.Н. Топоров. С одной стороны, в определении исходного корня для обозначения индийского названия вселенского закона, особых отличий от Т.Я. Елизаренковой у него нет: «В этимологическом плане… rta – не вызывает особых сомнений: оно образовано от и.-е. ar – „(при) соединять“ и т. п. с помощью суф. – to-=др.-инд.-ta (существенна и гласная суффикса, поскольку от того же корня известны и другие образования с элементом – t-, ср. r-ta-, но r-tu – „определенное время“, „порядок“, „правило“ и r-ti – „способ“, „метод“ и т. п.,… причем эта словообразовательная модель (и.-е. ar-t-) подкреплена и довольно многочисленными и безусловно надежными параллелями в других языках: помимо др.-перс. arta, авест. asa (также и ratu-, см. ниже), ср. еще др.-греч. αρτυζ, арм. ard „порядок“, лат. artus „узкий“, ars, нем. Art, тох. А ortune „дружба“ и т. п.»[179] Он соглашается и с общепринятой этимологией риты в качестве одного из вариантов: «Когда речь идет о rta – и его индоевропейских соответствиях, исследователи обычно исходят из и.-е. ar-, актуализирующего такие значения, как „(при) соединять“, „связывать“, „пригонять (друг к другу)“, „устраивать“ и т. п. Собственно говоря, именно эти значения постулируются и для и.-евр. ar – 1 и его конкретных продолжений, ср. др.-греч. αραρισκω „соединять“, „сплачивать“ („класть вплотную“), „смыкать“, „прилаживать“, „соответствовать“, „подходить“. (…) Эти значения, действительно, объясняют семантику вед. rta – как обозначения мирового порядка, чего-то организованного, соединенного, прилаженного друг к другу в своих элементах»[180]. Однако дальше В.Н. Топоров отмечает, что указанные значения составляют меньшинство во всей совокупности вед. r-(ar-) и лишены указания на идею движения, в то время как динамический аспект глагола составляет основной нерв его семантики: «Когда это движение направлено к определенной и конечной цели, оно может результироваться как достижения некоего состояния, устройство, прилаженность, упорядоченность, т. е. выступать уже как застывшее движение, с подчеркиванием именно статического аспекта (ср. подходить, т. е. „идти к…“ – динамический аспект, при подходить „соответствовать“ – статический аспект). Есть основания думать, что и глагольные соответствия в других индоевропейских языках еще хранят следы более раннего состояния, обнаруживающего связи с идеей движения (по всей видимости, целенаправленного, регулярного, контролируемого). Ср. др.-греч. αρτυνω „приводить в порядок“, „выстраиваться“ (также „приделывать“, „прилаживать“ и т. п.), αρταω, ионич.αρτεω „вешать“, „привешивать“, „привязывать“ (ср. αρσιζ „поднятие“, „подъем“) … предполагающие, по меньшей мере, движение, предшествующее описываемому в этих глаголах переходу к статичному состоянию (или уже достигнутому состоянию покоя, неподвижности)»[181].
Посмотрим, что еще говорят о рите гимны РВ. Согласно им, какой-то закон существовал даже до возникновения Вселенной. Один из вариантов космогонии описывает это как ситуацию, когда не было ни сущего, ни несущего, однако существовало Нечто Одно, заключая в себе силу развития. Однако уже у этого загадочного первоначала, постичь происхождение которого не в силах ни люди, ни боги, еще до происхождения мира был какой-то свой закон:
Дышало, не колебля воздуха, по своему закону Нечто Одно, И не было ничего другого, кроме него. (РВ Х.129.2)В свете этого не представляется возможным согласиться с одним из утверждений В.Н. Топорова о том, что вселенский закон был установлен лишь Адитьями, в связи с чем исследователь настаивает на неизвечности риты, считая, что она появляется лишь с возникновением организованной Вселенной. Гимн о космическом жаре повествует о рождении собственно риты, причем одновременно с ней упоминает о рождении не только истины, но и ночи и океана, неразрывно связанных с ведийским Варуной:
Закон и истина родились Из воспламенившегося жара. Отсюда родилась ночь. Отсюда – волнующийся океан. Из волнующегося океана Родился год, Распределяющий дни и ночи, Владыка всего, что моргает. (РВ Х.190.1–2)Время, также тесно связанное с ритой, здесь объявляется вторичным порождением стихии Варуны, возникшей одновременно с вселенским законом, что в очередной раз указывает на изначальную связь риты и мировых вод.
В свете этого особый интерес вызывает тот факт, что в ведийскую эпоху время обозначалось термином rtu-, этимологически тесно связанным с обозначением вселенского закона rta-. Саяна, известный средневековый комментатор Вед, объяснял rtu – как kala «время», «определенное время», «подходящее время», «время, предназначенное для жертвоприношения». Временные значения присутствуют и в этимологически родственных рите словах других индоевропейских народов, ср. лат. articulus или др.-гр. αµαρτη «одновременный» ‹ οµαρτοζ, лат. ritus «ритуал», впоследствии «правило», «обычай». Интересно отметить, что связь со временем присутствует и у русск. закон, этимологически никак не связанного ни с др.-русск. ротой, ни с ведийской ритой, но перекликающегося с ними семантически. Само это слово было образовано от корня кон, род. п. кона «начало, ряд, порядок», др.-русск. конъ «предел», и первоначально обозначало «начало», будучи родственно, в частности, ирл. cinim «я возникаю». Благодаря легшему в его основу корню, слово закон оказывается родственным двум понятиям, обозначающим начало и конец некоего временного промежутка – искони «с самого начала» и конец, означающего завершение некого явления[182]. «Вместе с тем вед. rtu-, – отмечает В.Н. Топоров, – необычайно четко выражает идею артикулированности Космоса во времени и пространстве (т. е. способность его члениться на части и соединяться в целое), характерную для ведийского взгляда на мир. Вед. rtu – своим значением актуализирует фактор членения целого (напр., времени) через распределение его частей; оно обозначает элемент, который рассекает континуум на части. „Отсюда – слово могло легко использоваться для обозначения членения длительности временного континуума и, наконец, наиболее очевидного членения – времени года, сезона в том основном континууме, который составляет год“. Тем самым rtu – занимает свое особое место в системе, где глагольный корень r – обозначает организацию континуума, его артикулированность, rta – сферу организованного, устроенного, артикулированного, nirrti – противоположную сферу неорганизованного, неартикулированного (т. е. беспорядок, энтропию), aram – способ должного распределения (ср. arati-, эпитет Агни как распределителя функций)»[183]. В качестве индоевропейской параллели можно привести древнегреческий термин, который одновременно означает и временную характеристику, и понятие истинности: др.-гр. αρτι «только что», «совсем недавно», «ныне», «сейчас же», а также «справедливо», «правильно», «истинно»[184]. Идея как членения целого на части, так и соединения этих частей в единое целое отчетливо прослеживается и во многих индоевропейских параллелях индийского обозначения вселенского закона: арм. ard (ardu) «структура», «организация», «устройство», «конструкция», исходное и.-е. ar – «соединять», «подходить (друг другу)», «прилаживать» и т. д. (ср. др.-гр. αραρισκω, αρτυνω «соединять», «сплачивать»). С этим глаголом связаны такие убедит параллели вед. rta-, rtu-, как отмеченное у Гесихия αρτυζ или αρτυν, где актуализируется мотив с-хождения, со-ответствия, симпатии, со-глашения, дружбы, ср. тох. А ortum «дружба», otune «дружеский», ortu «друг», «дружеский», из и.-е. ar-tu; лат. artus «сустав», «сочление», «член», articulus то же, но и «узел», «колено», «часть», «раздел», «стадия», «момент», «промежуточное время», in articulo «тотчас», «немедленно»[185]. Идея соответствия, соизмеримости частей целого присутствуют в вед. rta – («годный», «подходящий», «присущий», «свойственный», «правильный»), др.-гр. αρτιοζ «подходящий», «подобающий», αριθµοζ «парный», «четный», αρτιον «четное число», αρτιοτηζ «парность», «четность», «хорошее состояние», «безупречность», αριθµοζ «число», «счет» (ср. др.-ирл. rim «число», др.-сев. rim «счет», др.-в.-нем. rim «ряд», «последовательность», «число», слав. redъ «ряд»). Если значения числа, числового ряда, объективной меры составляют один полюс в развитии идеи соответствия, то другой полюс – эстетическая оценка совокупности этих частей: αρµονια «гармония», но и «соединение», «связь», «порядок», αρµονιοζ «подходящий», «гармонический»[186]. Отмеченная здесь этимологическая связь между понятием вселенского закона и древнегреческим обозначением числа и, в конечном итоге «арифметикой» как наукой об этих числах, позволяет нам понять глубинные корни странной на первый взгляд концепции Пифагора, попытавшегося осмыслить окружающую его Вселенную именно как число и математическими способами вывести закон мироздания. Продолжая далее свои этимологические наблюдения, В.Н. Топоров подчеркивает: «Характерно, что и сама сфера эстетического могла обозначаться тем же элементом ar-t-, ср. лат. ars (artis… artium) „искусство“, „τεχνη“ и т. п., artificium „искусство“, „мастерство“, „техника“ и т. д. (в том числе – „прием“, „способ“, „уловка“, „хитрость“ и др.), artifex „художник“, „творец“, „создатель“, „мастер“ и т. п.; ср., однако, ritus „ритуал“, „обряд“, „обычай“ и др. Пожалуй, уместно отметить различие в эволюции и.-е. ar-t между древнеиндийским (или индоиранским) и древними языками античной культуры Средиземноморья: в первом случае развитие идет в направление выработки углубленной сакральной концепции универсального характера, во втором – актуализируются общеэстетические или измерительно-технические, логические потенции и.-евр. ar-t – (ср. значения „способ“, „метод“, „прием“ и т. п., известные, например, и в германских примерах)»[187]. Если этимологическая связь ведийской риты с понятием эстетики и гармонии подмечена исследователем верно, то указанное различие в развитии и последующем осмыслении исходного индоевропейского корня между индо-иранским и греко-римским ареалами верна лишь отчасти. Действительно, в приведенных в последней цитате примерах из Средиземноморского ареала упор делается на эстетическо-технический аспект, однако по какой-то причине В.Н. Топоров совершенно обошел молчанием как древнегреческую аретэ, так и древнеримскую виртус, восходящие ко все тому же исходному индоевропейскому корню и, как будет показано далее в этой главе, точно также обозначающие начала сакрального порядка в каждой культуре.
Рита представлялась исключительно загадочным и многоуровневым явлением, скрытым от непосредственного наблюдения, но лежащим в основе всего и вся. Гимн Агни (РВ V.15.2) гласит: «С помощью закона закон основали они как основу (мироздания)». Это напоминает другой гимн (РВ V.2.8), создатель которого отмечает, что законом сокрыт закон Митры-Варуны. Третий гимн отмечает, что эти боги-хранители пестуют закон законом (РВ V.68.4). Рита оказывается одновременно связанной и с огнем, и с водой. В плане воды говорится об источниках закона, но пробуравить их просят бога огня Агни: «Пробуравь многие источники закона!» (РВ V.12.2). Интересно и такое встречающееся противопоставление: «Закон струят реки. Правду протянуло солнце» (РВ I.105.12). Величие и значение риты риши формулируют следующим образом:
У закона есть твердые основы, Много ярких чудес на удивление. Благодаря закону давно приводятся в движение жизненные силы. Благодаря закону коровы вступили на путь истины. Придерживающийся закона, от закона и получает. Напор закона стремителен и приносит коров. Для закона – земля (и небо) просторны, глубоки. Для закона доятся они как две превосходные дойные коровы. (РВ IV.23.9–10)Таким образом, рита придает истинность всей Вселенной в лице Неба и Земли. Более того: «Кроме указанных характеристик ведийской Вселенной, имеющих соответствие в слое, определяемое этимологическими связями вед. rta-, можно назвать и другие: „видимость“ (т. е. возможность воспринимать зрением) манифестаций „невидимой“ rta-, т. е. феноменального мира; „эстетичность“ этого мира (т. е. высшая упорядоченность, гармония, красота); воспроизводимость его в слове (аспект принципиальной воплощаемости); сакральность мира и его основных элементов как в их синхронном состоянии, так и в их становлении (сакрализованность операций сотворения мира)»[188].
Обращает на себя внимание и то, что вселенский закон ассоциировался в сознании ариев с прямотой, прямым путем:
Вот возник путь закона, Чтобы прямо двигаться на тот берег. (РВ 1.46.11)Или:
Царь рек оделся в (свое) одеяние, Он взошел на ладью закона, идущую самым прямым путем. (РВ IX.89.2)Это воззрение находит себе прямую аналогию и на Руси, прежде всего в самом русском языке. А.Н. Афанасьев в свое время отмечал: «Понятиями движения, поступи, следования определялись все нравственные действия человека; мы привыкли называть эти действия поступками, привыкли говорить: войти в сделку, вступить в договор, следовать советам старших, т. е. как бы идти по их следам; отец ведет за собой сына, муж – жену…»[189]. Отсюда естественным образом возникло понятие по-ведение. С другой стороны, неправильное поведение именуется про-ступок или пре-ступление, и это понимается как отклонение человека с настоящей дороги и преступание им закона, который в данном случае мыслился как дорога, прямая линия, граница. Человека, не следующего обычаям, называют беспутным, непутевым, заблуждающимся. Если правда и закон ассоциировались на Руси с прямотой (выше уже упоминалось исследование P.M. Цейтлина, согласно которому корень прав означал «прямой, ровный», «прямой, правильный путь»), то зло и преступление, наоборот, с кривизной, Кривдой. В этой связи показательна надпись № 190 из киевской Софии, датируемая XIII в., которая гласит: «Господи, помилуй и прости раба своего Семена моего, во косе был согрешил»[190]. Еще И.И. Срезневский отмечал, что «косой» – это тот, кто отклоняется от прямого направления. В соответствии с этим, отмечает С.А. Высоцкий, указание надписи «во косе согрешиху» надо понимать так, что Семен согрешил, отклонившись от установленных моральных норм. Вновь мы видим генетическое родство русских и индийских представлений относительно основополагающих принципов мироустройства.
Следует отметить, что представление о прямом пути вселенского закона нашло свое отражение и в торжественном обряде во время принесения клятвы. Выше, в статье «О муже кроваве» «Русской Правды» по розенкампофскому списку, мы уже встречались с выражением «ити има роте по своей вере». Аналогичное выражение присутствует как в рассмотренной также выше статье 9 договора Новгорода с Готским берегом; кроме того, интересующий нас оборот также использовался в статьях 37, 47–49 и 115 «Русской Правды», текст которых будет приведен ниже. Все эти примеры свидетельствуют об устойчивом использовании «идти на роту» в языке древнерусского права. Однако похожие выражения присутствуют в целом ряде других индоевропейских языков: «И еще одно выражение объединяет кельтский с германским: ирл. oeth, готск. aips при нем. Eid, англ. oath „клятва, присяга“. Эта форма в буквальном смысле представляет собой отглагольное существительное от корня „идти“. Его отражением является также нем. Eidegang букв. „хождение к присяге“, т. е. к месту принятия присяги, – пережиток очень древнего обычая. Торжественная клятва включала несколько действий, одним из которых было шествие к месту присяги. К присяге „шли“: лат. ire in sacramentum „идти к присяге“, русск. (уст.) идти на роту»[191]. Как видим, обычай хождения к присяге восходит если не непосредственно к индоевропейской древности, то как минимум к эпохе общности большинства европейских народов. И из всех этих народов связь присяги со вселенским законом сохранил лишь русский народ. Ближайшую аналогию этой связи мы видим в индийской легенде, где бог велит одному персонажу rtam amisva «поклянись rta» (взяв rta в качестве гаранта), и этот персонаж rtam amit «клянется rta»[192]. Очевидно, бог требовал от человека высшей клятвы, клятвы самым высшим из всех возможных начал, и получает ее. Данный пример великолепно объясняет развитие мысли, которое в Древней Руси привело использование названия вселенского закона, в том числе и в юридической сфере.
В представлении ведийских ариев с ритой было тесно связано появление таких величайших благ, как слово и свет. В одном гимне риши восклицают: «Пусть движется вперед священное слово из сиденья закона!» (РВ VII.36.1). В другом они так описывают деяние богини утренней зари:
Появилась красноватая Ушас, Соблюдая закон, она создала свет. (РВ VIII.73.16)Это космогоническое деяние приписывается и богам вообще, причем особо подчеркивается их связь с ритой: «умножающие закон породили свет» (РВ VIII.89.1). В целом же по этому поводу отмечается:
Показался более широкий выход для широкого (света). Путь закона стал управляться лучами. (РВ I.136.2)Эту же связь вселенского закона со словом и светом отмечал еще выдающийся немецкий ученый Людерс: «Воплощенность rta в слове следует как из многочисленных содержательных описаний, так и из установленной Людерсом возможности понимать вед. rta – как обозначение культовой сакральной песни… Подобные контексты, действительно, дают основания для постулирования связи типа: r – „поднимать (голос)“ → „произносить (слово)“ и т. п. – r-ta – как „произнесенное“, „спетое“, т. е. выраженное в слове… Эстетическая отмеченность rta, очевидно, отражена в ее эпитетах из семантического поля „сияющий“, „блестящий“, „связанный со светом“ – и – косвенно – в особой мифологемме о вызволении солнца из тьмы посредством rta»[193]. Выше уже констатировалось, что только благодаря вселенскому закону верховные боги Варуна и Митра занимают свое господствующее положение. Данное положение дел в полной мере относится и к Адитьям – группе сначала из шести, а затем из двенадцати основных богов РВ, в число которых входили и Митра с Варуной. Боги возросли от закона (РВ IX.42.5) и усиливаются от него (РВ VI.50.14; Х.65.7). Их мысль обращена к закону (РВ V.51.2), они его почитают (РВ VI.50.2) и умножают (РВ VI.52.10). Особо отмечается, что Адитьи – это «преданные закону, деятельные боги» (РВ III.56.8). Свадебный гимн дает следующее характерное перечисление основополагающих принципов мироздания:
Правдой держится земля. Солнцем держится небо. Законом существуют Адитьи (И) Сома устроен на небе. (РВ Х.85.1)Только благодаря рите эти боги обладают своим величием: «(Вселенским) законом велико ваше величие, о Адитьи» (РВ II.27.8). В четвертом четверостишии этого гимна так описываются коллективные функции этого класса богов:
Адитьи поддерживают (все) движущееся (и) неподвижное. (Они) – боги, пастухи всего мироздания, С далеко простирающейся мыслью, охраняющие мир асуров, Соблюдающие (вселенский) закон, наказывающие за вину.Наряду с тем, что основными хранителями риты являются Митра и Варуна, РВ знает и более широкий круг ее хранителей:
Вот славлю я для вас хранителей великого закона: Адити, Митру, Варуну, прекраснорожденных, Арьямана, Бхагу, не обманывающих надежд. Я приглашаю (их), связанных (друг с другом), очищающих. (РВ VI.51.3)Лишь благодаря вселенскому закону боги имеют возможность пользоваться плодами ритуала и совершаемых людьми жертвоприношений: «по слову вселенского закона пусть боги вкушают возлияние» (РВ Х.110.11) и являются «доящими для себя потоки закона» (РВ VII.43.4), т. е. слова гимнов. При этом следует отметить, что процесс этот был двусторонним: «Арии почитали своих богов, принося им жертвы и исполняя хвалебные гимны, отчего боги возрастали, укреплялись и наполнялись энергией, что было особенно необходимо в критические моменты борьбы Космоса и Хаоса. Восхваляя богов, поэты-жрецы обращались к ним с просьбами о богатстве, славе, победе над врагом, мужском потомстве, продлении срока жизни и т. п. Предполагалось, что за жертвенные дары можно рассчитывать получить еще более щедрое вознаграждение от божества (по Моссу, дар вызывает контрдар большего размера). Подобный обмен дарами поддерживал функционирование закона рита, и его инструментом был ритуал»[194].
Ведийский поэт отмечает две взаимосвязанные функции богов: установление закона и защита человека, который следует ему:
Когда сегодня на восходе солнца, О любящие власть, вы установили закон, Когда при заходе (солнца), на заре Или же в середине дня, Или когда вечером, о Асуры, для идущего по закону (человека) Вы простерли щит, для (вашего) почитателя, О благие всеведущие (боги), мы хотели бы оказаться Под этим вашим (щитом) – (прямо) посредине! (PB VIII.27.19–20)Сама форма защиты типологически чрезвычайно напоминает ту защиту, которую на Руси давал Морской царь – Перун. Что касается данного или других подобных заявлений о том, что боги или какой-то конкретный бог установили закон, то здесь необходимо помнить о многоуровневости риты. Боги могут установить или стать творцами какого-либо отдельного аспекта вселенского закона или создать свой закон по его подобию, но они не могут, естественно, установить основополагающий закон Космоса. Рита регулирует их самих и, как отмечается в другом месте (РВ III.4.5), боги возвращаются в соответствии с законом. В ряде случаев рита представляется в виде колесницы, и тогда боги именуются «колесничими закона» (РВ VI.51.9; VIII.83.3 и др.).
Отмечается и связь с ритой отдельных богов. После Митры-Варуны это относится в первую очередь к богу огня Агни. Он «произошел от вселенского закона» (РВ I.70.7–8), «перворожденный закона» (РВ I.164.37; Х.5.7), «рожденный в законе» (РВ VI.7.1), был взращен «в лоне закона» (РВ I.65.3–4), в качестве огня на земле зажжен по закону (РВ I.36.11) и даже называется ришами «(воплощенный) закон» (РВ VIII.60.5). В некоторых гимнах фиксируется его связь с верховными богами-хранителями:
Ты, о Агни, – Варуна, когда рождаешься, Ты становишься Митрой, когда зажжен. (РВ V.3.1) В другом месте риши так говорит об Агни: Ты был глазом, защитником великого закона. Ты был Варуной, потому что ты обращаешься к закону. (РВ Х.8.5)Исходя из этого многократно обыгрывается его роль как хранителя и защитника риты, которая в одном месте конкретизируется следующим образом:
Пусть Агни с острыми зубами, с самым жарким пламенем, (Бог), который с прекрасными дарами, сожрет тех, Кто нарушает установления Варуны, Любимые прочные (установления) внимательного Митры. (РВ IV.5.4) О его роли в ритуале говорится: Принеси жертву для нас Митре-Варуне, Принеси жертву богам, высокому (космическому) закону, О Агни, принеси жертву своему дому! (РВ I.75.5)Неоднократно указывается, что Агни «приносит жертву по закону» (РВ VI.15.13–14), обеспечивая тем самым связь между людьми и богами.
Следуя обетам вселенского закона, боги замкнули Агни (РВ I.65.3–4). С другой стороны, Агни «протянул два мира в соответствии с законом» (РВ V.1.7) и является «богом, охватывающим богов законом» (РВ Х.12.2). Он «любит закон ради закона» (РВ V.12.3), набух от влаги вселенского закона и двигается самыми прямыми путями закона (РВ I.79.3) и воспринимается людьми как «Агни, ведун, постигший (вселенский) закон, истинный бог» (РВ I.145.5). В связи с характеристикой Агни как ведуна риты отмечается знание им многих ее проявлений. Сам о себе бог огня говорит: «Я измеряю многие формы закона» (РВ Х.124.3), а поэт отмечает, что он возрастает, «любя многие проявления закона» (РВ III.5.2), что «Агни (знает) свойственный Гандхарвам путь закона» (по мнению Ф.Б.Я. Кейпера, эти небесные существа обладают более глубоким знанием действительности, чем даже сами боги и асуры). Обладая знанием множественности форм риты, Агни «следует своего закону» (РВ III.21.2).
Агни именуется «пастырем закона» (РВ I.1.8), умножающим закон (РВ III.2.1) и «живущим в сиденье закона» (РВ III.7.2; по мнению комментаторов, в данном контексте речь идет о жертвенном костре). Он отдыхает в лоне закона (РВ III.11.1; V.21.4), где и находится его имя: «Имя твое (всегда) было за пределами колдовских сил, в (лоне) закона» (РВ V.44.2). Как земной огонь, он хорошо устроен у народа, верного закону (РВ VIII.23.8). Наконец, именно к нему обращается поэт с многозначительным вопросом-просьбой: «Когда, о Агни, зная закон, ты наведешь порядок?» (РВ V.3.9).
Помимо Агни, с ритой связаны и другие боги. Уже упоминавшаяся богиня утренней зари Ушас «предана закону» (РВ II.61.6; V.80.1), «она правильно следует по пути закона» (РВ V.80.4). В другом месте авторы гимнов отмечают, что «сверкающие утренние зори зажглись по закону» (РВ IV.2.19). Божественные братья-близнецы Ашвины, каждый день объезжающие Вселенную на своей колеснице, характеризуются в РВ как «два воплощения закона» (I.180.3). С сиденья закона приходит Индра (РВ IV.21.3), а о сопровождающих его Ма-рутах говорится, что «с помощью закона (эти) почитатели закона пришли к истине» (РВ VII.56.12). Связь с ритой отмечается также для таких богов, как Вишну, Савитар, Тваштар и Брахманаспати. Два таких основополагающих для древнего человека понятия, как Небо и Земля, «выросли благодаря закону» (РВ IX.9.3) и «сильны законом» (РВ I.159.1). Выше уже отмечалось, что именно Варуна поддержал небо в сиденье закона и по закону трояко распластал землю (РВ IV.42.4).
Особо следует отметить связь, соединяющую Солнце с ритой, с одной стороны, и Митрой-Варуной – с другой. В сознании ведийского ария бог дневного светила Сурья одновременно является и глазом верховных божеств, и ликом риты:
Вот выходит этот великий глаз Митры, Приятный (глаз) Варуны, не допускающий обмана. Чистый, прекрасный лик закона Ярко засверкал на небе, словно золотое украшение на восходе (солнца). (РВ IV.51.1)В другом гимне эта тройная связь двух верховных богов, солнца и риты подчеркивается параллелизмом заключительных двух строф в первом и третьем четверостишиях:
1. Вы подавили все беззакония. О Митра-Варуна, вы следуете закону. ‹…› 3. Зародыш несет бремя самого этого (мироздания). Он спасает закон, пресекает беззакония. (РВ I.152)Если в первом четверостишии подавляют беззакония Митра-Варуна, то в третьем ту же функцию осуществляет солнце, представляемое в виде золотого зародыша. Исследователи отмечают, что Савитар – другой бог, олицетворяющий животворящую силу солнца, – пробуждает Вселенную и следит за тем, чтобы не выходил из строя закон круговращения вселенной рита.
Различные регулярные явления природы как на небесном, так и на земном уровне также обуславливаются ритой, соотносимой с различными богами. Так, движение солнца, луны и рек связывается с Индрой и Агни:
А (те) двое светлых, которые с неба Поднимаются день за днем По закону Индры и Агни — Движимые (тем же законом) текут реки, Которые они освободили из оков. (РВ VIII.40.8)Различные проявления земной жизни РВ связывает с богом грозовой тучи Парджаньей:
По чьему закону низко склоняется земля, По чьему закону скачут копытные, По чьему закону (расцветают) разноцветные растения, — Этот Парджанья пусть дарует нам великую защиту! (РВ V.83.5)Следует отметить, что помимо пары Митра-Варуна, которые являлись верховными богами и хранителями риты, с космическим законом в основном оказываются связанными либо солярные боги (Агни, Ушас, Сурья, Савитар), либо боги, объезжающие Вселенную, совершающие круговые, циклические движения (Ашвины, различные ипостаси солнца). Это привело к тому, что, с одной стороны, понятие вселенского закона оказывается связанным с колесницей (др.-инд. ratha, букв. «колесная»), а с другой, как уже отмечалось выше, – со временем: «Слово, обозначающее время в древней части РВ, – это rtu-. Оно выражает „фиксированное время“, „соответствующее время“ и соотносится прежде всего с ритуалом – циклически повторяющимися жертвоприношениями. Слово rtu – образовано от того же самого глагольного корня г-/аг – „двигать(ся)“, от которого произведено и название космического закона rta-, находящегося в центре модели мира ария РВ. Время rtu – также являлось сакральным понятием»[195]. Подобная связь видится тем более закономерной, если учесть, что Первобог у инодевропейцев заключал в себе до своего расчленения все пространство, время, вселенский закон и музыкальную гармонию. Связь между этими понятиями сохранилась и после распадения этого праединства, и в силу этого вполне понятно упоминание «музыки (вселенского) закона» в одном из гимнов (РВ I.147.1).
Огромное значение имела рита и для людей. Т.Я. Елизаренкова подчеркивает, что жизнь человека сопряжена с космосом именно посредством вселенского закона. РВ утверждает, что «легок путь без шипов для идущего по закону» (I.41.4), и постулирует:
(Таковы) устремления вселенского закона, (такова) мудрость вселенского закона: Весь век все исполняли (благочестивые) дела. (РВ I.68.5–6)«Пути закона легко проходимы» для людей (РВ VIII.31.13), и «широко пастбище Адити для идущего по закону» (РВ IX.74.3), но «творящие зло не пересекают пути закона» (РВ IX.73.6). Соответственно с этим люди просят Индру:
Веди нас путем закона Через все трудности! Пусть лопнут у других людишек (Их) жалкие тетивы на луках! (РВ Х.133.6)Истребление или покорение неарийских народов было одним из проявлений риты, в связи с чем подчеркивается, что войско во главе с Индрой-Варуной «побеждает врага по закону» (РВ VI.68.2).
Тесная связь огня и риты сохраняется и на человеческом уровне: Агни, правящего (конями), пересекающего воды, Ревностные поклонники, вдохновенные, зажигают С помощью наград, чтобы пустить в ход закон. (РВ III.27.11)В другом гимне (РВ III.55.3) подчеркивается: «При зажженном огне пусть провозгласим мы закон». Именно этому божеству посвящают свои гимны мудрые риши, преследующие определенную цель:
Вайшванаре с широкой грудью они посвятили Слова-сокровища, чтобы добраться до оснований (закона). (РВ III.3.1)Другой гимн сообщает об Агни следующее:
Этот бог знает, как привлечь Богов в дом для того, кто любит закон. (РВ IV.83)Обращаясь к богу огня, поэт утверждает:
Зову я без колдовства богов, о Агни, Сочиняю произведение, добиваюсь успеха с помощью закона. (РВ VII.34.8)Соответственно с этим рита оказывается неразрывно связана как с поэтическим творчеством, так и с ритуалом. «Поэт громогласный, знаток (вселенского) закона» (РВ Х.64.16) предан этому великому принципу (РВ VII.61.2; VII.76.4) и идет «прямо к цели по пути (вселенского) закона» (РВ Х.66.13). Автор одного из гимнов так говорит о прославлении богов:
Ведь на этих великих величием, невредимых Я направляю восхваления, (я), знающий закон, на (них), крепнущих от закона. (РВ Х.65.3)Риши Праджапати гордо заявляет: «Я брожу в лоне закона как знаток» (РВ III.55.14). Поэтические мысли не только «соответствуют вселенскому закону» (РВ IX.94.2), они выстраиваются в ряд в его лоне (РВ IX.72.6) и рождаются от закона (РВ Х.67.1). В этой связи стоит вспомнить, что в другом месте рита объявляется мыслями Варуны, Митры и Агни (РВ VI.51.10). С сиденья закона сверкает озарение (РВ Х.111.2), а в месте вселенского закона хранится «сверкающее небесное познание» (РВ Х.177.2). Вооруженные этим познанием мудрые семь риши «находили любой путь закона» (РВ III.31.5), а в прославлении умершего прежние риши характеризуются следующим образом:
Кто (были) прежние защитники закона, Преданные закону, умножающие закон… (РВ Х.154.4)Что касается ритуала, то «преданные закону» (РВ V.8.1) жрецы зажгли Агни, хотар по закону приносит жертву (РВ VII.39.1), а о произносящих молитву жрецах говорится: «Они направляли потоки (вселенского) закона, (чтобы те) слились» (РВ I.141.1). Сам о себе автор посвященного Индре гимна говорит так:
Оба мира я очищаю законом. Я сжигаю великие силы лжи, лишенные Индры… (РВ I.133.1)Провозглашение риты оказывает свое благотворное воздействие не только на Космос в целом, но и на микрокосмос, т. е. на конкретного человека:
Пусть спасет меня это провозглашение закона богов, Которое мы, люди, задумали! (РВ Х.35.8) О воздействии риты на человека познавшие ее риши говорили так: Ведь много есть вознаграждений у закона: Познание закона разбивает (все) хитросплетения. Зов закона пронзил глухие уши Человека, пробуждая, пылая. (РВ IV.23.8)Следует отметить, что выражение «(все) хитросплетения» в подлиннике буквально означает «(все) кривое», что вновь подчеркивает «прямой» характер вселенского закона. Благодаря тому, что жрецы регулярно провозглашают риту, воздействуя этим как на макро-, так и на микрокосмос, и приносят поддерживающие ее жертвоприношения богам, они являются не только «хранителями закона» (РВ Х.21.3), но и «умножающими закон» (РВ VI.75.10). В этой связи стоит обратить внимание и на обозначающий жрецов ведийский термин rtvijas, который означает «жертвующий (-Ij-) в установленное время (rtu-)». Помимо профессионалов-жрецов, с космическим законом связаны и рядовые арии. Наряду с богами смертные желают быть «колесничими вселенского закона» (РВ VIII.19.35), и он не только присутствует во всей их жизни, но и непосредственно определяет ее начало и конец. Так, человек «по закону продолжает он свой род в потомстве» (РВ Х.63.13); это переносится и на мать богов Адити, прообраз женщины-роженицы, которая «носит плод по закону» (РВ VI.67.4). В первой главе уже отмечалась связь красной нити-молнии, этого зримого образа вселенского закона, с женскими родами, которая существовала у восточных славян и была даже заимствована финской мифологией. Как в отношении конкретного персонажа Атри гимны подчеркивают, что он «состарился по закону (природы)» (РВ Х.143.1), так и в отношении всех людей они констатируют:
Сверх закона богов Не проживет и тот, у кого сто жизней. (РВ Х.33.9)Умерший предок «зная закон, беспрепятственно ушел в жизнь духов» (РВ Х.15.1), а люди не только при жизни, но и после смерти усиливают закон (РВ Х.16.11). Более того, особо подчеркивается, что человек, следовавший в жизни по прямому пути, после смерти «возрождается в потомках, (как положено) по закону» (РВ VI.70.3). Таким образом, не только начало и конец человеческой жизни, но и переселение души соответствует мировому закону. Таков в целом образ «совершенной и прекрасной» риты, рисуемый нам РВ.
О степени укорененности понятия риты в сознании древних индийцев красноречиво свидетельствует заимствование данного термина далекими предками тюркоязычных якутов, с которыми создатели Ригведы могли контактировать только на пути на свою новую родину: «Якутские слова индоарийского происхождения Е.С. Сидоров почти целиком относит к архаической лексике эпоса и ритуальных песен. Интересно, что санскритские (индийские) параллели преимущественно исходят из древнего ведического источника, восходящего к древнейшему индоевропейскому праязыку. Таких параллелей в якутском языке – более двухсот основ и корней. (…) Следует еще раз подчеркнуть преобладание в них религиозных терминов. В этом плане хорошей иллюстрацией служат, в частности, термины аар и кэрэх. Так, например, Аар тойон – высшее божество, творец и верховный правитель мира, зиждитель жизни на земле, орошающий землю, виновник обилия корма. Помимо тюркских параллелей имеются и индоиранские соответствия к аар. По Э. Бенвинисту, аар, арт в индоевропейских языках означает „порядок“… Начальная семантика якутского аар, также, как и в древнеиндоевропейских языках, исходит из понятия „первоначальный порядок“, тот порядок, который образовался в результате распада мифологического первоначального хаоса. Поэтому Аар тойон в якутском пантеоне занимает главное место. Это видно также из того, что в 1 тыс. до н. э. у восточно-иранских номадов (скифов-саков) ар в форме ард уже обозначало понятие „божество“»[196].
Якуто-индоевропейские контакты подтверждают также и данные генетики, а именно наличием у этих обитателей Сибири «европеоидного» гаплотипа HLA-AI-B 17. Данные сравнительного языкознания доказывают существование развитых представлений о вселенском законе у индоариев еще в эпоху их миграции с индоевропейской прародины в направлении Индийского полуострова, а то, что из заимствованного понятия предки якутов образовали имя своего верховного божества, косвенно свидетельствует о том месте, которое занимала рита в индоарийской системе ценностей.
В Иране мы также можем наблюдать отчетливые следы представления о вселенском законе, равно как и его расщепление на несколько терминов в историческую эпоху. Индоевропейский корень рт трансформируется в древнеперсидское слово арта, обычно переводящееся как «справедливость», «божественный порядок», «символ доброго начала в мире»[197]. И.С. Брагинский подчеркивает многоуровневость смыслов, заключенных в этом термине: «Арта – это и название божества, сына Ахуры, и образ духа огня, и функция этого божества – наилучшего распорядка, и самый распорядок, и справедливость, правдивость и благое поведение»[198]. И.М. Дьяконов констатирует, что это слово принадлежит к древнейшему пласту «Авесты» – священной книги зороастризма: «Есть и черты, специфически свойственные только языку Авесты и не встречающиеся ни в каких позднейших иранских диалектах, по крайней мере систематически (например: …aša‹arha‹rta „правда, магическая сила правдивого слова“)»[199]. Согласно наблюдениям Э.А. Грантовского, иранские имена с arta/rta фиксируются ассирийскими текстами с IX в. до н. э. После реформы Заратуштры Арта (Аша) Вахишта, буквально «лучший распорядок», становится одним из семи верховных божеств новой религии. В «Авесте» она сочетает функцию духа огня и абстрактную сущность идеального распорядка в мире, общине и семье, «праведность», духовную персонификацию верховного жреца зороастрийских общин.
Несмотря на процесс позднейшего переосмысления, ряд связанных с иранской Артой образов явно родственен рассмотренным выше индийским представлениям. Если в Ведах огонь-Агни пожирает нарушителей риты, то при свете жертвенного огня Заратуштра восклицает:
«Ныне жаждем мы, о Владыка, чтобы пламя твое, Наилучшим распорядком (Артой, т. е. Духом огня) возжженное, Стремительное и всепроникающее, блеском своим светило друзьям, Но для недругов, о Всеведущий, было бы разящей стрелой, десницею твоею пущенной»[200].Арта связана с мыслью, и в «Молении пророка» Заратуштра просит Ахура-Мазду: «Научи меня с помощью Арты обрести Благую Мысль (Boxy Ману)»[201]. Ассоциируется Арта и с путем – так, «Видевдат» завершается афоризмом, выявляющим центральное место Арты/Аши в зороастризме: «Есть лишь один путь, это путь праведности (аша, арта), все остальное – беспутье»[202].
Это утверждение резюмирует одну из основополагающих идей зороастризма – противопоставление и непримиримую борьбу между служителями праведности (ашаван, артаван) и служителями лжи (дрегвант). Отвечая своему богу, пророк так говорит о себе:
На твой вопрос: «На что ты решился?» — Отвечу: «При каждом поклонении огню думать лишь о наилучшем распорядке (Арта). Научи же меня изречениям твоим! Помоги мне силою Хшатры (Дух металла и власти) и Арты, Когда вместе с теми, кто познал твои заклинания, Хочу я восстать и изгнать осквернителей заветов твоих»[203].Активно борясь за утверждение на земле истинной (с его точки зрения) веры и основанного на ней устройства человеческого общества, Заратуштра отчетливо осознавал себя как проводника этого закона, о чем красноречиво свидетельствуют следующие его заявления: «А пока я жив, путем Арты-Правды поведу людей»[204] или «Пока могу я и пока есть силы у меня, я готов обучать людей стремиться к наилучшему распорядку (Арте)»[205]. Помимо благих мыслей, Арта даровала своим приверженцам и силы.
Нарушителей договора и приверженцев лжи карал, согласно «Авесте», бог солнца Митра, чье имя, как отмечалось выше, и значило собственно «договор». Рисуемая в «Михр-Яште» картина этой кары сильно напоминает древнерусские представления о судьбе людей, нарушающих роту:
Если солжет ему Глава ли дома, Или глава общины, Или глава области, Или глава страны, То Митра воспрянет, Гневный и оскорбленный, И разрушит он и дом, И общину, и область, и страну… Солгавший Митре не ускачет на коне… Копье, брошенное врагом Митры, Полетит обратно… Митра отнимает силу у рук его, Резвость у ног, Зоркость у глаз… А стрелы их, орлиными перьями опушенные, С хорошо сделанного лука Тетивой пущенные, Не попадают в цель, Когда разгневанным, яростным, Непримиримым бывает Митра, обладающий широкими пастбищами[206].Очевидно, что и в Иране Митра изначально являлся одним из богов – хранителей вселенского закона. Появление у него несвойственных ему на индийской почве функций бога войны следует из религиозной реформы Заратуштры, в результате которой Ахура-Мазда, типологически соответствующий Варуне, стал восприниматься исключительно в жреческом аспекте, а присущие ему карающие функции оказались переданы Митре.
О степени укорененности принципа Арты в сознании древних иранцев свидетельствуют и надписи Ахеменидов. Хотя вопрос о соотношении религии правителей Персидской империи с учением Заратуштры и остается дискуссионным, все же подавляющее большинство исследователей считают, что они не были тождественны друг другу. В свете этого показательной является знаменитая антидэвовская надпись Ксеркса, упоминающая из всех небесных сущностей только верховного бога и Арту: «И среди этих стран была (такая), где прежде дэвы почитались. Затем волею Ахура-Мазды я разрушил это капище дэвов и провозгласил: „Дэвы не должны почитаться“. Там, где прежде почитались дэвы, я благочестиво поклонился Ахура-Мазде и арте. ‹…› Ты, который впоследствии подумаешь: „Да буду я счастлив при жизни, а после смерти – (принадлежащим) арте“, следуй закону, который установлен Ахура-Маздой, почитай Ахура-Мазду и арту по бразманийскому (обряду). Человек, который следует закону, который установлен Ахура-Маздой, и почитает Ахура-Мазду и арту по бразманийскому (обряду), он и при жизни будет счастлив, а после смерти будет (принадлежащим) арте»[207]. Очевидно, что для царственного автора поучения установленный верховным богом закон и Арта были близкими, но не одинаковыми понятиями, придерживаться которых следовало праведному человеку.
Хотя родство между иранской Артой и индийской ритой признается всеми специалистами, полностью ставить знак равенства между этими двумя терминами нельзя. Следует иметь в виду, что осуществленная Заратуштрой религиозная реформа в значительной степени исказила изначальные индоиранские мифологические представления. Она была нацелена на установление абсолютного верховенства Ахура-Мазды в монотеистическом духе, в результате чего автоматически происходило снижение значения всех остальных божественных сущностей, а сами они абстрагировались и схематизировались. Однако, несмотря на устойчивую тенденцию к возвеличиванию Ахура-Мазды в ущерб всем остальным божествам, в «Авесте» изредка встречаются места, указывающие на первоначальное более высокое значение Арты как по отношению к отдельным богам, так и по отношению к верховному богу. Так, например, богиней вод и плодородия там является «Ардвисура Анахита, Артой освященная»[208]. Что касается изначального соотношения Арты и Ахура-Мазды, то о нем свидетельствует не только приводившееся выше красноречивое признание нашедшим путь к верховному богу Заратуштрой своей неспособности окончательно постичь Арту-Правду, но и следующий фрагмент из его священного писания: «И вот мы поклоняемся и тем (мужам) и тем (женам), из сущих, добро („лучшее“) которого (мужа) и которых (жен) в молитве познал Ахура-Мазда от Арты»[209]. Однако к историческому времени от былых отношений остались лишь глухие намеки, и в «Авесте», равно как и в не связанной с ней напрямую надписи Ксеркса, Ахура-Мазда уверенно занимает первое место, оттесняя Арту на второй план.
Если на иранской почве Арта стала как бы верхним срезом некогда единого индоевропейского понятия, то его нижним срезом, фонетически более близким к исходному термину, стало древнеиранское слово рату, которое в зороастрийской традиции означало «домовладыка» и «религиозный судья». Специалисты так говорят об этом многозначном понятии: «Рату – один из зороастрийских терминов, означающих „главный, начальник“ или „судья“. Каждый класс существ (или даже предметов) имеет своего рату. Так, для богов – это Ахура-Мазда, для людей – Заратуштра и т. д. Кроме того, рату означает „измеряющее начало“ и применяется, например, к обозначению частей суток, а соответственно и к особым божествам, олицетворяющим их»[210]. Перечень рату отдельных явлений неживой природы и классов животного мира был приведен в главе 2 части I, а относительно положенных человечеству начальников «Авеста» сообщает следующее: «Какие (это) рату? Для семьи, для рода, для племени, для страны, и пятый – Заратуштра»[211]. Итак, на каждом уровне социальной организации, от масштабов семьи до масштаба всего человечества, люди должны были возглавляться соответствующим рату. Насколько мы можем судить по данным языка, первоначально в руках этого рату сосредотачивалась вся полнота светской и религиозной власти, с помощью которой он должен был устанавливать на Земле божественный порядок Арты и «измерять» поведение подвластных ему людей на предмет соответствия этому порядку. Интересно отметить, что слово, обозначающее вселенский закон, входило, согласно Геродоту, в первоначальное самоназвание иранских племен: «В древнее время эллины называли персов кефенами. Сами же они называли себя артеями (так их звали и соседи)»[212]. Данный факт говорит о том, что иранцы воспринимали себя как носителей вселенского закона на нашей земле.
Связь рату с религиозным судом в Иране помогает нам понять, почему рота превращается в один из элементов судебной процедуры на Руси. Поскольку у некоторых индоевропейских народов фиксируются следы названий вселенского закона других народов данной семьи, отличные от их собственных, любопытно отметить обоюдный характер контактов в этой сфере между Ираном и Русью, опосредованный ираноязычными кочевыми племенами. Об использовании термина Арта на Руси будет сказано в следующей главе, а следы славянского названия космического закона отразились в первоначальном имени Рустама – главного героя иранского эпоса. Сам его образ – северного, сакско-согдийского, т. е. не собственно иранского происхождения. Он отсутствует в «Авесте» (некоторые источники рисуют его даже как противника зороастризма) и впервые упоминается в согдийском фрагменте V в. В наиболее древних памятниках он фигурирует под именем Ротастахм, которое лишь впоследствии трансформировалось в Рустам. Данный факт свидетельствует о знакомстве части ираноязычных кочевников Средней Азии со славянским термином рота, проникшим к ним, по всей видимости, благодаря скифскому или сарматскому посредничеству.
Что касается связи вселенского закона со временем, то в Иране, как и в Индии, эта изначальная связь находит свое отражение на языковом уровне: «Сутки делятся на пять частей (рату): хавани (от зари до полудня), рапитвина (приблизительно до трех часов дня), узайарина (до сумерек), ависрутрима (до полуночи), ушахина (до зари). Каждой части суток соответствовало одноименное божество»[213]. Время в сознании древних часто воспринималось в образе колеса (ср. колесо года в РВ), также связанного со вселенским законом. Отголоском этого представления в «Авесте» был образ Арты-Аши, правящей колесницей:
Достойна восхвалений Божественная Аши, Стоишь ты, непреклонна, И правишь колесницей…[214]О глубоких истоках этих представлений свидетельствует восприятие РВ богов и людей в качестве колесничих риты, что подразумевает представление о ней как о колеснице – «сверкающей колеснице (вселенского) закона» (РВ II.23.3). Следы идеи движения, связанной, в частности, с образом колесницы, В.Н. Топоров ищет и в семантическом поле ведийской риты: «Прежде всего стоит напомнит о rta – в виде колесницы (Брихаспати восходит „на сияющую колесницу rta“… [РВ II, 23, 3] и о богах, выступающих как колесничие rta – [РВ VI, 55, 1] „будь нам колесничим rta“, – обращаются к Пушану…). Если rta – метафорически понимается как средство движения, а боги – как те, кто руководит, направляет и контролирует это движение, то для завершения образа недостает пути, который проделывает rta. Действительно, формула „путь rta“ принадлежит к числу устойчивых и частых выражений в ведийских гимнах. Ср.: …РВ VII, 65, 3 „О Митра и Варуна, мы бы хотели с помощью пути вашей rta переправиться через несчастье, как с помощью корабля через воды“… Следовательно, „путь rta“ мог быть истолкован как образ развертывающегося в пространстве и времени rta, творимого мирового порядка, что опять-таки возвращает нас к динамическим параметрам и этого образа и его истоков»[215]. Древнеиранское слово ratha – «колесница» образовалось, равно как и аналогичный индийский термин, по мнению А. Мейе, от индоевропейского корня reth – «бежать», от которого также произошли родственные западные слова, обозначающие «колесо» (лат. rota, нем. Rad и. т. п.): «Название „колеса“ в западных диалектах: лат. rota, др.-ирл. roth, др.-в. – нем. rad, лит. ratas не встречается ни в славянском, ни в армянском, ни в греческом; а в индоиранском соответствующее слово скр. rathah, ав. raϑo значит „повозка“: оба значения независимо одно от другого восходят к корню reth – „бежать“: др.-ирл. rethim „бегу“, лит. ritu „качусь“[216]. Не следует забывать, что колесницы были принадлежностью индоевропейской военной аристократии, одним из зримых символов их власти. В этом плане интересно отметить, что в ирландской мифологической традиции короли этого острова жили в двух круглых крепостях, называвшихся raith, возведенных Немедом на заре ирландской истории. Как стоящая на колесах колесница, так и круглая в плане крепость как место пребывания верховного носителя власти в равной степени подчеркивают связь правителя с идеей круга, а через него – и со вселенским законом.
Колесницы были хорошо известны большинству индоевропейских народов, а привязка универсального космического принципа к материальному объекту вновь дает нам возможность с помощью археологии относительно точно датировать время появления данной ассоциации: „Колесничий вариант мира у индоевропейских народов мог сложиться не ранее середины III тысячелетия до н. э., когда были изобретены сами колесницы“[217]. Последующее распространение этого вида транспорта исследователи связывают с распространением индоевропейских народов, бывших, судя по всему, изобретателями колесниц: „Ареал распространения колесных повозок в середине II тыс. до н. э. (от Китая до Западной Европы) совпадает как с областью особого типа изделий из бронзы, так и с ареалом расселения индоевропейских племен“[218].
Данный образ имел и астральную проекцию, которая, судя по всему, также восходит к эпохе индоевропейской общности. Чаще всего небесной колесницей называлось созвездие Большой Медведицы (в некоторых случаях этот образ переносится и на Малую Медведицу): др.-в. – нем. wagan – „колесница“, у некоторых германских народов она называлась также „Колесница Вотана“ по имени их верховного языческого божества, позднее – „Колесница Карла Великого“, у кельтов она была известна как „колесница Артура“, в Греции Гомер называл ее Возом (Илиада, XVIII.487), в Индии ее именовали vahana – „животное, на котором ездят боги“ и ratha – „колесница“ (последний термин применялся там также к зодиакальному созвездию Рохини, соответствующему нашему Тельцу), литовцы называли ее Ratai, латыши Rati, а тохарцы kokale – „колесница“. В Древней Руси это созвездие называлось Кола – „Большая Медведица-Колесница“, а в современном русском и украинском языках – Воз или Телега. На Руси Большая Медведица напрямую не связывалась с вселенским законом, однако о былом ее восприятии в качестве сакрального явления свидетельствует, например, такой факт: в Орловской и Тульской областях считали, что на этой колеснице перевозят в рай души праведных. Весьма примечательно, что восточно– и южнославянские предания именно с этой колесницей связывают конец мира, т. е. гибель Вселенной в результате исчезновения связывающего ее космического закона, который в данном контексте соотносится с упряжью колесницы. Известны два варианта этого предания. По одному из них, приуроченному украинцами к Малой Медведице, это произойдет естественным путем: „Виз – четверо колис, та трое коней у простяж. Миж крайним передним и другым конем е маненькая зирочка – вудыла (уздечка – Алькор); колы воны перейидьяться, тоди и конец вику“[219]. Однако гораздо чаще встречается вариант, согласно которому упряжь каждую ночь стремится перегрызть волк (собака, слепыш из семейства кротообразных, полевая мышь и т. п.), но не успевает до рассвета перекусить удила (цепь) и перед рассветом или время от времени бегает к воде утолить жажду, а за это время упряжь снова срастается. Однако однажды это ему удастся, и тогда разрушится весь строй мироздания[220]. Так на основании индоевропейских параллелей и более поздних восточнославянских преданий мы можем реконструировать Большую Медведицу – небесную колесницу – как еще один зримый образ роты в Древней Руси.
В образе огненного небесного колеса, судя по всему, представлялся вселенский закон ираноязычным кочевникам Северного Причерноморья, не затронутым влиянием зороастризма. В осетинском эпосе (который, согласно исследованиям Ж. Дюмезиля, воспринял достаточно много из скифской мифологии) фигурирует загадочное Колесо Балсага, убивающее самого могучего нарта Сослана. Кто такой был Балсаг, владелец этого Колеса, ни один сказитель эпоса уже не помнил, однако некоторые варианты приписывают Колесо Иоанну Крестителю, образ которого был приурочен христианской церковью к летнему солнцестоянию. На связь с Солнцем загадочного Колеса указывает и тот факт, что оно объято пламенем и сжигает на своем пути деревья, и то, что Колесо против Сослана посылает Дочь Солнца, которую он оскорбил. После первой неудачной попытки Колесо внезапно появляется во второй раз, отрубает ноги неуязвимому для людей герою и скрывается в водах Черного моря. Связь Солнца со вселенским законом была показана выше, а оскорбление Сосланом Дочери Солнца, предопределившее его гибель, является нарушением нравственных норм. Карающее его за это Колесо действует совершенно самостоятельно, причем в мотиве об отрезании ног проглядывают полузабытые черты расчленения на части нарушителя вселенского закона. Не исключено, что осетинский эпос зафиксировал хронологически более ранний (по сравнению с небесной колесницей) образ космического закона.
В языке хеттов и миттанийских ариев мы также находим следы этого великого понятия. Так, имя Артатамы, одного из царей Митании, ученые возводят к ведийскому выражению rtadhama – „обитающий в рите – святом законе“. Слово rtadhama становится, начиная с Рамаяны, эпитетом индийских богов Индры и Вишну. Так же толкуется и царское имя хетта Artaššumara, восходящее к другому древнеиндийскому выражению Rtasmara – „чтящий (помнящий) риту“[221]. Говоря о боге солнца, хеттская мифология подчеркивает:
Всей страны обряд и договор Устанавливаешь только ты[222].Весьма похож на аналогичные славянские и иранские представления и хеттский обряд воинской клятвы: „Жрец говорит: „Как эта птица прежде могла видеть и находить свою пищу, а теперь ее ослепили на месте совершения клятвы, так кто бы ни нарушил эту клятву и ни предал царя страны Хатти и ни посмотрел враждебным взглядом на страну Хатти, пусть тогда эти заклятья обернутся против него! Пусть воины этого человека ослепнут и оглохнут! Пусть они не видят друг друга, пусть они не слышат друг друга! Пусть судьба их будет тяжелой! Пусть ноги их по земле не двигаются, а руки их будут связаны и не двигаются в воздухе. Как боги клятвы связывали руки и ноги войска страны Арцава и оно не могло двигаться, так же пусть они свяжут воинов и сделают их неподвижными!“[223]. Хотя индоевропейские народы поклонялись разным богам, эти боги карали клятвопреступников весьма сходным образом, что свидетельствует о том, что данные представления восходят к единому архетипу, сложившемуся у индоевропейцев в период их общности.
В плане сохранности памяти о вселенском законе более чем интересный пример представляет собой Древняя Греция. Как уже говорилось, там, в отличие от Индии и Ирана, не сложилось профессионального жреческого сословия, а место властителя дум достаточно рано занял философ – представитель рационалистического светского, а не религиозного типа мышления (Орфей и Пифагор, совмещавшие в своей деятельности оба типа, были редкими исключениями из этого правила). Однако память о вселенском законе была столь сильна, что на протяжении весьма длительного периода сохранялась даже в таких неблагоприятных условиях, по необходимости трансформируясь и переосмысливаясь. Как и в других странах, изначальный термин раздробился там на ряд этимологически связанных друг с другом понятий. Родственными древнерусской роте М. Фасмер считает такие древнегреческие слова, как ρημα – „слово“, ρησις – „речь“ и ρητρα – „изречение (оракула), договор“. В.В. Иванов и В.Н. Топоров считают родственными индийской рите слова αρθμος – „связь, союз, дружба“ и αριθμος – „число, счет“. К этому списку, на мой взгляд, следует добавить еще αρετη, условно переводимую на русский язык как „добродетель“, а с учетом тесной связи риты с водой и реками можно предположить, что к родственным ей словам относятся rheo – „теку“ и rheos – „течение, поток“. Единого понятия для обозначения вселенского закона в языке древних греков не сохранилось, но ближе всего к нему по значению стоят однокорневые с анализируемым термином слова ретра („изречение оракула, договор“) и арета („добродетель“).
В Греции ретрой называли договоры и законы, которые были санкционированы божественной волей, т. е. когда земной порядок строился в соответствии с порядком небесным. Самой знаменитой была Ликургова Ретра – законы Спарты, датируемые концом VIII – началом VII в. до н. э. Сам текст неписаных законов был то ли одобрен, то ли подсказан Ликургу Дельфийским оракулом Аполлона, в связи с чем, по свидетельству Плутарха, и возникло само их название: „Ретрами“ Ликург называл свои постановления для того, чтобы убедить всех, что они даны оракулом, являются его ответами“[224]. Приводя дословно эти постановления, древнегреческий историк отмечает в их тексте еще одно указание на их божественное происхождение: „Под вождями следует понимать царей. „Созывать Народное собрание“ выражено словом „аполладзейн“ – по мнению Ликурга, первым внушил ему мысль издать законы Аполлон Дельфийский“[225]. Созданные с божественной помощью, эти законы должны были стать по отношению к спартанцам не некой внешней силой, как обычные законы, а войти внутрь них, стать для них органичными и естественными: „Законы Ликурга не были писаными, в чем убеждает нас одна из его „ретр“. Все, что, по его мнению, вполне необходимо и важно для счастья и нравственного совершенства граждан, должно войти в самые их нравы и образ жизни, чтобы остаться в них навсегда, сжиться с ними. Добрая воля в его глазах делала этот союз крепче, нежели принуждение, а эту волю образовывало в молодых людях воспитание, которое делало каждого из них законодателем“[226]. Рассуждая о причинах исключительной прочности Ликурговой Ретры, Плутарх отмечает: „Страх нарушить клятву не был бы особенно велик, если бы характер воспитания не запечатлевал законов в сердцах детей и если бы они не всасывали, как бы с молоком матери, любви к данному им государственному устройству. Вот почему главнейшие из его законов, как вполне вошедшие, впитавшиеся краски, сохранились в полной силе более пяти столетий“[227].
Как видим, спартанское законодательство, созданное Ликургом и представлявшее собой земную проекцию божественных установлений, стремилось стать врожденным и естественным у своих граждан, что безусловно роднит его с древнейшими представлениями о вселенском законе. Оно было направлено прежде всего не на подавление, а на раскрытие в каждом человеке потенциально присутствующих в нем положительных качеств, в первую очередь воинской доблести. Основанный на Ликурговой Ретре спартанский образ жизни был предметом восхищения и подражания во многих других полисах Греции, а Платон, рассуждая о спартанском законодательстве Ликурга и критском Миноса, называет основанное на них государство „божественным“, поскольку „строитель, устанавливая в нем законы, имел в виду не одну часть добродетели, притом самую ничтожную, но всю добродетель в целом“[228]. Следует отметить, что Спарта была наиболее ярким, но отнюдь не единственным примером следования государственного устройства духовно-нравственным началам. В своей трагедии Еврипид влагает в уста царя Демофонта следующее заявление, наиболее емко формулирующее мнение греков об их принципиальном отличии от варваров в этой области:
Ведь я не варвар-самодержец: власти Моей постольку граждане покорны, Поскольку сам покорен правде – царь[229].Сказанное не следует воспринимать как красивый образ, выдуманный самим Еврипидом. В Эпире, где многие архаические установления сохранились гораздо лучше, чем в передовых государствах, уже в историческое время был зафиксирован следующий обряд: „По старинному обычаю цари, совершая в молосском городе Пассароне жертвоприношение Аресу и Зевсу, присягают эпиротам, что будут править согласно законам, и, в свою очередь, принимают от подданных присягу, что те будут согласно законам охранять царскую власть“[230].
Идея представления о царе как носителе правды весьма древняя и встречается нам уже в „Одиссее“:
Ты уподобиться можешь царю беспорочному; страха Божия полный и многих людей повелитель могучий, Правду творит он; в его областях изобильно родится Рожь, и ячмень, и пшено, тяготеют плодами деревья, Множится скот на полях и кипят многорыбием воды; Праведно царствует он, и его благоденствуют люди[231].Как отмечал анализировавший данный фрагмент Э. Бенвенист, в данном случае перед нами не расхожие рассуждения о нравственности, а описание сакральной производительной силы царя, благодаря которой во всей окружающей человека природе увеличивается изобилие. Однако эта сакральная сила имеет своим обязательным условием правду, которая далеко не случайно дважды упомянута Гомером в этом небольшом фрагменте.
Что касается ареты, то и этот термин, неоднократно встречающийся как в древнегреческой литературе, так и в философии, не поддается точному и однозначному переводу ни на какой современный язык. Вот что пишет по этому поводу А.Ф. Лосев, говоря об использовании этого слова Платоном: „…Чрезвычайно трудно перевести на какой-нибудь современный язык основной для диалога „Протагор“ термин αρετη. Чаще всего он переводится как „добродетель“. Но, в сущности, это не столько добродетель, сколько „достоинство“, „добротность“, „прекрасная организованность“, „благородство“, „доблесть“ и пр. Ни один из этих переводов не передает существа дела, ибо все они весьма односторонни. „Доблесть“, например, указывает скорее на бранные подвиги или гражданские заслуги, в то время как в античной философии термин αρετη применяется вообще ко всякой человеческой практике… начиная от физической и кончая чисто духовной; а кроме того, Платон понимает ее как некое внутреннее средоточие духа, которое активно определяет и все отдельные свои проявления вплоть до физически единичного“[232]. В диалоге „Протагор“ доблесть, например, отождествляется с искусством управления государством, что явно не укладывается в современное понимание этого термина. Вместе с тем данный термин является одним из ключевых для понимания внутреннего мира древних греков, начиная еще с эпохи Троянской войны. А.И. Зайцев отмечает, что аретэ была главной целью гомеровских героев: „В центре системы ценностей гомеровского героя стоит αρετη – доблесть, которая должна быть оценена окружающими, в первую очередь равными ему по общественному положению. Оценка эта обеспечивает герою добрую славу, к которой он больше всего стремится“[233].
Интересующий нас термин присутствовал в языке греков издревле и фиксируется не только поэмами Гомера, но и предшествовавшим им слоем мифологических представлений. Так, в олимпийском пантеоне присутствует богиня Артемида, надзирающая за исполнением издревле установленных обычаев, упорядочивающих животный, растительный мир и отношения между полами человеческого рода, и жестоко карающая за их нарушение. Примечательно, что она связана с луной. Этимология ее имени однозначно так и не установлена, однако согласно одному из мнений, бытовавших еще во времена Платона, оно связано с аретой: „А может быть, назвавший ее так особо подчеркнул ее испытанную добродетель или то, что она как бы этой добродетели страж“[234]. Вспомним, что одним из эпитетов Артемиды была Диктинна, буквально „охотящаяся с сетями“, что заставляет нас вспомнить как символику нити как символа вселенского закона, так и путы Варуны, которыми он незримо связывал нарушителей риты.
Великолепный знаток античной культуры А.Ф. Лосев, воспитанный, однако, на христианско-моралистическом понимании добродетели, с некоторой иронией пишет: „Всякая физическая вещь, отвечающая своему назначению, характеризовалась в античности именно как „добротная“ и максимально отвечающая своему назначению, то есть своей идее. То же самое касалось и людей. Сильный, мощный, уверенно и прекрасно совершающий свои подвиги человек как раз и считался таким „добродетельным“ человеком, хотя эта добродетель и сводилась у какого-нибудь Геракла или Тезея к убийству тех или иных мифологических чудовищ, а часто даже и просто людей“[235].
Легкая ирония уважаемого ученого по этому поводу совершенно неуместна. Во-первых, в сознании греков Геракл действительно был добродетельным человеком в их понимании этого слова. Миф о выборе им между Добродетелью и Порочностью был литературно обработан и записан софистом Продиком (род. ок. 470 г. до н. э.), слава о мудрости которого гремела по всей Элладе. „Геракл, говорит он, в пору перехода из детского возраста в юношеский, когда молодые люди уже становятся самостоятельными и видно бывает, по какому пути пойдут они в жизни – по пути ли добродетели или порока, – Геракл ушел в пустынное место и сидел в раздумье, по которому пути ему идти. Ему представилось, что к нему подходят две женщины высокого роста…“ Этими женщинами, естественно, были Арета-Добродетель и Порочность, которая первая постаралась убедить его следовать по своему пути. „В это время подошла другая женщина и сказала: И я пришла к тебе, Геракл: я знаю твоих родителей и твои природные свойства изучила во время воспитания твоего. Поэтому я надеюсь, что если бы ты пошел путем, ведущим ко мне, то из тебя вышел бы превосходный работник на поприще благородных, высоких подвигов, и я стала бы пользоваться еще большим почетом и славой за добрые деяния. Не буду обманывать тебя прелюдиями об удовольствиях, а расскажу по правде, как боги установили все в мире. Из того, что есть на свете полезного и славного, боги ничего не дают людям без труда и заботы…“
Добродетель так охарактеризовала себя: „А я живу с богами, живу с людьми, с хорошими; ни одно благое дело, ни божеское, ни человеческое не делается без меня; я больше всех пользуюсь почетом у богов и у людей, у кого следует, потому что я – любимая сотрудница художников, верный страж дома хозяевам, благожелательная помощница слугам, хорошая пособница в трудах мира, надежная союзница в трудах войны, самый лучший товарищ в дружбе“. Завидна и участь следующих ей людей: „Молодые радуются похвалам старших, престарелые гордятся уважением молодых; они любят вспоминать свои старинные дела, рады хорошо использовать настоящее, потому что благодаря мне любезны богам, дороги друзьям, чтимы отечеством. А когда придет назначенный роком конец, не забытые и бесславные лежат они, а воспоминаемые вечно цветут в песнях“[236]. Выслушав все это, Геракл избрал путь добродетели и стал величайшим греческим героем, причисленным в конечном итоге к сонму богов. Как мы можем убедиться, арета ассоциируется с путем, присутствует во всех деяниях богов и людей, которые своими подвигами еще больше умножают ее славу. Все эти представления нам уже встречались у других индоевропейских народов применительно к вселенскому закону. Возвращаясь к мнению А.Ф. Лосева, следует отметить, что если добродетельным в античной Греции считалось все отвечающее своему назначению, то в Индии рита как раз и способствовала сохранению состояния Вселенной, соответствующего должному положению вещей, причем оба понятия в равной степени применялись как к человеку, так и к окружающим его вещам.
Во-вторых, Геракл считался добродетельным не за счет своей физической силы, а за счет того, что благодаря ей он уничтожал различных чудовищ и преступников, олицетворявших на земном уровне хаос и беззаконие, т. е. способствовал установлению закона в мире людей, делая его безопаснее и чище. Вспомним, что аналогичная связь присутствует и в первоначальном имени иранского богатыря Рустама, деятельность которого была во многом аналогична деятельности Геракла.
В-третьих, весьма показательно, что древнегреческая добродетель не ограничивалась одними лишь человеческими отношениями, но распространялась на все окружающее мироздание. Данный подход прослеживается у многих античных философов, мнения которых по другим вопросам достаточно часто не совпадали между собой. Как отмечает Аристотель в „Большой этике“, первым о добродетели с теоретической точки зрения начал рассуждать Пифагор. Вот как более поздние источники передают его точку зрения: „Справедливость обладает силой клятвы, поэтому Зевса зовут „Клятвенным“. Добродетель (αρετη) есть гармония, и точно так же (гармонией являются) здоровье, всякое благо и бог, поэтому вся Вселенная создана по законам (музыкальной) гармонии. Дружба есть энгармоническое равенство“[237]. Как видим, арета здесь тождественна музыкальной гармонии, на которой основан весь Космос, частными проявлениями которой являлись бог, благо, здоровье отдельного человека и дружба как отношения между людьми. Стоит отметить, что и „гармония небесных сфер“, как это следует из описания этого феномена Ямвлихом, понималась как самим Пифагором, так и его последователями именно как физическое вращение небесных тел: „Самого же себя сей муж организовал и подготовил к восприятию не той музыки, что возникает от игры на струнах или инструментах, но, используя какую-то невыразимую и трудно постижимую божественную способность, он напрягал свой слух и вперял ум в высшие созвучия миропорядка, вслушиваясь (как оказалось, этой способностью обладал он один) и воспринимая всеобщую гармонию сфер и движущихся по ним светил и их согласное пение (какая-то песня, более полнозвучная и проникновенная, чем песни смертных!), раздающееся потому, что движение и обращение светил, слагающееся из их шумов, скоростей, величин, положений в констелляции, с одной стороны, неодинаковых и разнообразно различающихся между собой, с другой – упорядоченных в отношении друг друга некоей музыкальной пропорцией, осуществляется мелодичнейшим образом и вместе с тем с замечательно прекрасным разнообразием. Питая от этого источника свой ум, он упорядочил глагол, присущий уму, и, так сказать, ради упражнения стал изобретать для учеников некие как можно более близкие подобия всего этого, подражая небесному созвучию с помощью инструментов или же пения без музыкального сопровождения. Ибо он полагал, что ему одному из всех живущих на земле понятны и слышны космические звуки, и он считал себя способным научиться чему-либо от этого природного всеобщего источника и корня и научить других, создавая при помощи исследования и подражания подобия небесных явлений…“[238] В данном случае гармония-арета полностью соответствует индийской рите, также воспринимавшейся как музыкальная гармония. Таким образом, арета у Пифагора пронизывает (и поддерживает собой) всю Вселенную. Тем более не случайным в этом контексте представляется этимологическая связь древнегреческой арифметики с индийским обозначением вселенского закона-риты и что всю свою концепцию Пифагор основывал именно на числовой гармонии. В свете того, что именно он первым в древнегреческой философии попытался осмыслить понятие добродетели, это, возможно, свидетельствует о том, что еще в его эпоху в Древней Греции сохранялись какие-то отголоски представлений о связи между числом и вселенским законом.
К Пифагору резко отрицательно относился Гераклит. Однако и этому философу, прозванному „Темным“, были, судя по приводимым Стобеем его изречениям, не чужды подобные представления: „Целомудрие (самоограничение) – величайшая добродетель, мудрость же в том, чтобы говорить истину и действовать согласно природе, осознавая: „Здравый рассудок – у всех общий“. Кто намерен говорить („изрекать свой логос“) с умом, те должны крепко опираться на общее для всех, как граждане полиса – на закон, и даже гораздо крепче. Ибо все человеческие законы зависят от одного, божественного: он простирает свою власть так далеко, как только пожелает, и всему довлеет, и (все) превосходит“[239]. По всей видимости, тема универсального божественного закона, от которого зависят все частные, не случайно возникает у Гераклита в связи с упоминанием высшей степени мудрости (целомудрия), которая объявляется величайшей добродетелью, причем просто мудрость у него – говорить истину и действовать согласно природе. Судя по всему, все эти понятия в мировоззрении Гераклита связаны между собой. Если это так (истинный смысл сочинения Гераклита был непонятен уже в древности и до сих пор вызывает различные интерпретации), то добродетель-арета у этого философа перекликается не только с мудростью, но и с природой и высшим божественным законом.
Если Гераклит намеренно изъяснялся темными и двусмысленными загадками и намеками, то у стоиков отождествление ареты и природы уже совершенно однозначно: „Вот почему Зенон первый заявил в трактате „О человеческой природе“, что конечная цель – это жить согласно с природой, и это то же самое, что жить согласно с добродетелью: сама природа ведет нас к добродетели. ‹…› И наоборот, жить добродетельно – это значит то же, что жить по опыту всего происходящего в природе… потому что наша природа есть лишь часть целого. Стало быть, конечная цель определяется как жизнь, соответствующая природе (как нашей природе, так и природе целого), – жизнь, в которой мы воздерживаемся от всего, что запрещено общим законом, а закон этот – верный разум, всепроникающий и тождественный с Зевсом, направителем и распорядителем всего сущего. Это и есть добродетель и ровно текущая жизнь счастливого человека, в которой все совершается согласно с божеством каждого и служит воле всеобщего распорядителя.
Диоген прямо говорит, что конечная цель – это благоразумный выбор того, что соответствует природе; Архедем говорит, что конечная цель – это жить, совершая все, что должно. Природу, в согласии с которой следует жить, Хрисипп имеет в виду как общую, так и собственную человеческую, Клеанф – только общую, не добавляя к ней никакой частной.
Добродетель есть согласованность предрасположения (с природой). Она заслуживает стремления сама по себе, а не из страха, надежды или иных внешних причин. В ней заключается счастье, ибо она устрояет душу так, чтобы вся жизнь стала согласованной. ‹…› Добродетель может быть простой завершенностью чего бы то ни было (например, „добрая статуя“); может быть не умственной, как здоровье, или умственной, как разумение“[240]. Итак, приравниваемая к согласию с природой добродетель-арета объявляется стоиками источником счастья. Характеризуя предшествующий Сократу период развития древнегреческой философии в интересующем нас аспекте, А.Л. Доброхотов отмечает: „В досократике положение о тождестве знания и добродетели было уже раскрыто всесторонне и основательно: знание есть высшее достоинство (аретэ) для человека; оно – его отличительная особенность и даже предназначение; добро есть знание, поскольку благо состоит в присоединении к космическому разуму, для чего необходим соответствующий уровень индивидуального знания. И добро и знание неразрывно связаны с бытием. Плохой человек не может познать истину, потому что он не обладает соответствующим модусом существования. Знающий – не может быть злым, потому что он стал частицей миростроительной силы. Но Сократ, выдвигая учение о тождестве добра и знания, находился вне круга космологических интуиции первых философов, он отверг космологию как догму. Следовательно, он не мог опереться на традицию. Его обоснование тезиса носит принципиально иной характер“[241]. В рассуждении Зенона о Зевсе-разуме просматривается отголосок посвященного этому богу гимна Клеанфа. В нем Зевс прославляется как „владыка природы, правящий всем по закону“, который оказывается тождественным с Правдой:
Зевс, податель всех благ, чернооблачный, владиперунный, Освободи же людей от невежества жалкого, отче, Прочь с души ты его отряси и дай причаститься Мудрости, верный которой ты правишь Вселенной во правде, Дабы, сподобившись чести, мы честью тебе отплатили, Славя деянья твои без устали, как и пристало Смертным, понеже для них и богов нет более чести, Нежели славить всечасно закон всеобщий во правде[242].Этот закон, которого обычные люди не видят, соотносится с вечносущим разумом, который Зевс создает из гармоничного (очередной отзвук представления об организующем Вселенную принципе гармонии, изначально музыкальной) смешения противоположных начал:
Столь гармонично сопряг ты добро и зло воедино, Что у всего возник вечносущий разум единый, Коего лишь порочные люди бегут в небреженьи. О злосчастные! Вечно стяжать вожделея лишь благо, Божий не видят они всеобщий закон и не слышат. А подчинись ему здравым умом – и жили бы в счастьи[243].Специально посвященный высшему закону орфический гимн рисует величественную картину небесного закона – источника всех прочих законов, предопределяющих как устроение Вселенной, так и жизнь людей:
Кличу небесный Закон – владыку бессмертных и смертных! Звезд разместитель святой, он строгой печатью разметил Землю и берег морской. Возмущениям чуждый, блюдет он Неколебимо основы природы посредством законов, Их с высот привнося, по небу великому ходит, Прочь отгоняя со свистом с пути ничтожную зависть. Он устрояет и смертным достойную жизни кончину, Ибо владеет один он браздами правления жизнью, В мыслях, единственно верных, с пути не свернет он вовеки, И, многоопытный, древний, хранит по законам живущих, Оберегая от бед, беззаконным же – тяжкая кара! О многочтимый, блаженный, податель богатств, всежеланный, Память даруй о себе, о вседобрый, с душой благосклонной[244]!Как видим, орфические представления о небесном Законе весьма напоминают индийские представления о рите и, несомненно, генетически с ними связаны. Общим у обоих представлений оказывается даже такая весьма характерная деталь, что вселенский закон ставится ими не только над людьми, но и над бессмертными богами.
Наконец, и Платон, рисующий образ идеального государства, устанавливает, что во главе его фактически должно стоять Ночное собрание, которое „должно обладать всевозможной добродетелью“ и служить якорем спасения для всего государственного устройства. Этот орган должен осуществлять в государстве космические законы, а для этого каждый его член должен постичь два положения: „Первое – что душа старше всего, что получило в удел рождение; она бессмертна и правит всеми телами; второе – что в звездных телах, как мы не раз говорили, пребывает ум всего существующего. Следует усвоить предваряющие эти положения необходимые знания, чтобы заметить их общность с мусическими искусствами и воспользоваться ими для нравственного усовершенствования в согласии с законами и чтобы быть в состоянии отдать себе разумный отчет во всем том, что разумно. А кто не в состоянии в дополнение к гражданским добродетелям приобрести эти знания, тот едва ли когда-нибудь будет удовлетворительным правителем всего государства: он будет только слугою другим правителям“[245]. Развивая дальше эту тему, участники диалога утверждают: „Если же, дорогие мои друзья, это божественное собрание будет у нас создано, то ему надо вручить государство. ‹…› Пусть члены этого собрания будут у нас тщательно подобраны и надлежащим образом воспитаны. Получив такое воспитание, они поселятся на акрополе, возвышающемся над всей страной, и будут совершенными стражами по охране добродетели, каких мы не видывали в прежней жизни“[246]. Таким образом, согласно Платону, наилучшим образом охранять арету-добродетель и руководить людьми (т. е. быть рату, если воспользоваться иранской терминологией) могут лишь люди, в совершенстве постигшие тайны учения о переселении человеческих душ и движении божественных небесных тел. Даже само название Ночное собрание, возможно, указывает на то, что его члены помимо государственных дел по ночам в благочестивых целях должны созерцать звездное небо. Лишь овладев этими знаниями, правители могли проецировать божественные небесные порядки на Землю и таким образом создавать и поддерживать совершенный государственный строй, соответствующий глобальным законам мироздания.
Приведенные данные однозначно свидетельствуют о том, что в сознании древних греков индивидуальная человеческая арета-добродетель была неразрывно связана со всем устройством Вселенной и не мыслилась отдельно от него. Лишь благодаря этому сам термин „добродетель“ мог применяться и по отношению к неодушевленным вещам. Судя по всему, весь этот комплекс представлений существовал у греков задолго до всех их философских представлений. Разумеется, изначально арета мыслилась неразрывно связанной с божественной сферой, и отрицание этого начинается лишь с Аристотеля. Так, например, Платон вкладывает в уста Сократа следующее утверждение: „А коль скоро мы с тобой на протяжении всей нашей беседы хорошо искали и говорили, то получается, что нет добродетели ни от природы, ни от учения, и если она кому достается, то лишь по божественному уделу, помимо разума… Из этого нашего рассуждения стало ясно, Менон, что если нам достается добродетель, то достается она по божественному уделу, а узнаем мы это как следует тогда, когда, прежде чем искать, каким образом достается человеку добродетель, мы попробуем выяснить, что такое добродетель сама по себе“[247]. В „Законах“ Мегилл у Платона так говорит об афинянах: „Ибо только их добродетель возникает без принуждения, сама собой; божество уделяет им ее, так что в ней поистине нет ничего искусственного“[248]. Однако у Платона изредка проглядывают и более архаичные представления, и в одном месте он трактует арету-добродетель как вечное течение: „Добродетель“ (αρετη) означает прежде всего легкое передвижение, а затем и вечно свободное течение, полет доброй души, так что, видимо, „добродетель“ получила имя от вечного, неудержимого и беспрепятственного течения и полета»[249]. Данное заявление великого греческого философа перекликается с выводом современных исследователей о происхождении индийской риты от глагола «приводить в движение», «двигаться», что подтверждает изначальное генетическое родство обоих рассматриваемых терминов.
Несмотря на отголоски первоначальных представлений и последующее рационализаторство, мнение о божественном происхождении добродетели в целом было свойственно античности, и у Плутарха мы читаем: «Преступно и в высшей степени низко совершенно отнимать у добродетели ее божественное происхождение…»[250]. Одним из первых это положение формулирует в античной литературе Гомер:
Доблесть же смертных властительный Зевс и величит и малит, Как соизволит провидец: зане он единый всесилен[251].Как отмечают исследователи, арета у Гомера относится прежде всего к военным делам и состязаниям, к общим качествам человека и лишь несколько раз к моральной сфере, да и то в более поздней «Одиссее». А.Ф. Лосев так подытоживает свои наблюдения за употреблением этого термина в поэмах Гомера: «Такие термины, как cleos („слава“)… arete („добродетель“, „доблесть“), гораздо больше связаны с благородством происхождения, физической силой и храбростью, чем с какими-нибудь нравственными качествами»[252]. Что касается Гесиода, то ему принадлежат знаменитые стихи о добродетели, в которых без труда угадываются знакомые ассоциации вселенского закона с путем:
Путь не тяжелый ко злу, обитает оно недалеко. Но добродетель от нас отделили бессмертные боги Тягостным потом: крута, высока и длинна к ней дорога, И трудновата вначале. Но если достигнешь вершины, Легкой и ровною станет дорога, тяжелая прежде[253].Принцип добродетели занимает исключительно важное место в философии Платона. Для человека он является неизмеримо более важным, чем различные земные блага типа красоты и богатства: «И если кто предпочитает красоту добродетели, это тоже будет подлинным и совершенным бесчестьем души. Ибо, согласно такому взгляду, тело ложно считается более достойным почета, чем душа. ‹…› Ведь все золото, что есть на земле и под землей, не стоит добродетели»[254]. Устами пророчицы и жрицы мантинеянки Диотимы обладателю этого качества обещается величайшее благо: «А кто родит и вскормит истинную добродетель, тому достается в удел любовь богов, и если кто-либо из людей бывает бессмертен, то именно он»[255]. В другом месте эта мысль развивается, причем подчеркивается, что добродетельный человек уподобляется богу: «Ведь боги никогда не оставят своего попечения о человеке, который стремится быть справедливым и, упражняясь в добродетели, уподобляется богу, насколько это возможно для человека»[256]. Подобное небесное попечение гарантировано, поскольку бог «охраняет прекраснейшие вещи и всех превосходит бдительностью в отношении добродетели»[257]. Наряду с человеческой добродетелью Платон констатирует существование божественной добродетели, причем слияние с ней сулит душе человека исключительную награду: «Если же душа, по своей ли собственной воле или под сильным чужим влиянием, изменяется больше в сторону добродетели, то, слившись с божественной добродетелью, она становится особенно добродетельной и переносится на новое, лучшее и совершенно святое место»[258].
Почему же боги так высоко ценят арету и даруют приверженному ей человеку свою защиту и вознаграждение? Ответ на этот неизбежный вопрос Платон дает в «Законах», последнем своем произведении. Все, в том числе и добродетель, объявляется неотъемлемыми частями глобального божественного замысла: «Тот, кто заботится обо всем, устроил все, имея в виду спасение и добродетель целого, причем по возможности каждая часть испытывает или совершает то, что ей надлежит. Над каждой из этих частей, вплоть до наименьших, поставлен правитель, ведающий мельчайшими проявлениями всех состояний и действий, все это направлено к определенной конечной цели. Одной из таких частиц являешься и ты, пусть чрезвычайно малой, жалкий человек, и ты влечешься, постоянно имея перед глазами целое. Ты и не замечаешь, что все, что возникло, возникло ради всего в целом, с тем чтобы осуществилось присущее жизни целого блаженное бытие, и бытие это возникает не ради тебя, а, наоборот, ты ради него»[259]. Каждая из частей мироздания, в том числе и человек, в конечном итоге предназначены для победы добродетели в масштабе всей Вселенной: «Вот что: верховный правитель видел, что все наши дела одухотворены и что в них много добродетели, но много и порока; видел он также, что то, что раз возникло, то есть душа и тело, уже не погибает, хотя они и не вечны, как боги, существующие согласно закону (ведь если бы душа или тело погибли, то не было бы возникновения живых существ), и что все, что есть в душе доброго, от природы всегда полезно, а злое всегда вредно. Обратив внимание на все это, он придумал такое место для каждой из частей, чтобы во Вселенной как можно вернее, легче и лучше побеждала бы добродетель, а порок был бы побежден. Для этого он придумал, какое место должно занимать все возникающее»[260]. Подобный вселенский характер добродетели у Платона наглядно свидетельствует о том, что первоначально арета воспринималась не как индивидуальное человеческое качество, а как явление космического масштаба, как вселенский закон, который должен восторжествовать во всем мироздании, в том числе и с помощью человека.
Наряду с этим у Платона встречается ряд других древних представлений, уходящих корнями в индоевропейскую архаику. Выше, например, была показана роль жребия в Древней Руси, его связь с Перуном и ротой. Как на орудие воли божества смотрит на жребий и древнегреческий философ: «Что касается жрецов, то надо самому богу предоставить возможность выбрать тех, кто ему угоден, поручив это с помощью жребия божественной судьбе»[261]. В целом ряде стран вселенский закон представлялся в качестве нити или цепи, и отголосок этого образа встречается у Платона. Первый раз он встречается нам в виде мифа о людях как о куклах богов, подробно рассмотренном нами в первой главе.
Еще более интересно повествование Эра о судьбе человеческих душ в загробном мире перед их новым рождением на земле: «Всем, кто провел на лугу семь дней, на восьмой день надо было встать и отправиться в путь, чтобы за четыре для прийти в такое место, откуда виден луч света, протянувшийся сверху через все небо и землю, словно столп, очень похожий на радугу, только ярче и чище. Они дошли до него, совершив однодневный переход, и там увидели, внутри этого столпа света, свешивающиеся с неба концы связей, ведь этот свет – узел неба; как брус на кораблях, так он скрепляет небесный свод. На концах этих связей висит веретено Ананки, придающее всему вращательное движение. У веретена ось и крючок – из адаманта, а вал – из адаманта в соединении с другими породами. Устройство вала следующее: внешний вид у него такой же, как у здешних, но, по описанию Эра, надо представлять его так, что в большой вал вставлен пригнанный к нему такой же вал, только поменьше, как вставляются друг в друга сосуды. Таким же образом и третий вал, и четвертый, и еще четыре. Всех валов восемь, они вложены один в другой, их края сверху имеют вид кругов на общей оси… Вращается же это веретено на коленях Ананки.
Сверху на каждом из кругов веретена восседает по Сирене; вращаясь вместе с ними, каждая из них издает только один звук, всегда той же высоты. Из всех звуков – а их восемь – получается стройное созвучие. Около Сирен на равном от них расстоянии сидят, каждая на своем престоле, другие три существа – это Мойры, дочери Ананки: Лахесис, Клото и Атропос; они – во всем белом, с венками на головах. В лад с голосами Сирен Лахесис воспевает прошлое, Клото – настоящее, Атропос – будущее. Время от времени Клото касается своей правой рукой радужного обода веретена, помогая его вращению, тогда как Атропос своей левой рукой делает то же самое с внутренними кругами, а Лахесис поочередно касается рукой того и другого»[262]. Пронизывающий все мироздание столп света у Платона весьма напоминает свешивающуюся с неба до земли цепь вселенского закона. В отличие от нее столп света проходит в направлении мировой оси через всю землю и небо (рис. 1), однако в данном случае следует иметь в виду, что это знание-видение дано было Эру в загробном мире, поэтому оно может быть полнее обычного человеческого знания, видящего лишь часть истинной картины. Что касается веретена Ананки (Необходимости), то оно является мировой осью, а укрепленный на нем восьмичастный вал – собственно всей Вселенной (Земля и семь планет, а также сфера неподвижных звезд). Голоса восьми сидящих на этих сферах Сирен в своей совокупности образуют октаву, т. е. музыкальную гармонию. Что касается конкретных соотношений валов-планет между собой, то они, как констатируют специалисты, явно восходят к пифагорейской традиции, как и представление о гармонии небесных сфер, олицетворенных здесь Сиренами. Три Мойры (букв. «часть», «доля») являются богинями судьбы и вместе с тем представляют три различных периода времени. Таким образом, здесь перед нами единая пространственно-музыкально-временная картина космоса, приуроченная к световому столбу. Собравшимся у него душам прорицатель бросает жребий, в соответствии с которым они выбирают свою следующую судьбу в земной жизни. Вслед за тем души проходят через престол Ананки (поскольку на ее коленях вращается космическое веретено, находящееся в световом столбе, то, по всей видимости, души проходят и через него), после чего, выпив воды забвения, вселяются в свои новые земные тела. Связь жребия с ротой фиксировалась нами на материале русской традиции, а Арты с посмертной судьбой души – на материале персидской традиции. Все это позволяет предположить, что в данном месте Платон, следуя в той или иной степени пифагорейскому учению, воспроизводит один из древних образов вселенского закона, хоть и не связываемого в этом случае с понятием ареты.
Рис. 1. Схема столпа света по Платону. Современная реконструкция (Источник: Платон. Филеб; Государство; Тимей; Критий. – М., 1999)
После вселенского уровня добродетели-ареты у Платона идет государственный ее уровень. «Во всяком случае ничто так не способствует людской добродетели, как законодательство и основание государств»[263], – подчеркивает философ. Рисуя картину идеального государства, Платон особо отмечает, что все его законы должны всегда иметь в виду единую цель – добродетель. Государство, хотя бы из инстинкта самосохранения, должно прививать добродетель своим гражданам, поскольку от этого зависит само его существование. Это мнение Платон провозгласил еще в своих ранних диалогах: «Ничего здесь нет удивительного, коли я верно сейчас говорил, что в этом деле – в добродетели – не должно быть невежд или же иначе не быть государству…»[264]. Лишь благодаря этой добродетели государство может наслаждаться миром внутри и вовне, причем в контексте рассуждения об этом в последнем произведении Платона арета государства понимается так, как она понималась во времена Геракла, – в плане военной силы и достаточного могущества: «Поэтому государство наше, как и любой отдельный в нем человек, должно жить счастливо, а те, кто счастливо живет, по необходимости должны прежде всего не обижать друг друга и не подвергаться обидам со стороны других. Первое из двух этих условий не столь уж трудное, но очень трудно обладать такой силой, чтобы не подвергаться обидам. Достичь этого полностью возможно, не иначе как став совершенно добродетельным. Точно так же бывает и с государством: у государства, ставшего добродетельным, жизнь бывает мирной, а у государства порочного – мятежной вовне и внутри»[265]. Однако необходимо помнить, что арета – это не просто сила вообще, а лишь та сила, которая соединена со справедливостью. Этот аспект добродетели подчеркивался Платоном еще в его раннем творчестве: «Значит, государства для своего благополучия, мой Алкивиад, не нуждаются ни в стенах, ни в триерах, ни в корабельных верфях, ни в многонаселенности, ни в огромных размерах, если они лишены добродетели»[266]. Лишь это благо, гораздо более ценное, чем всевозможные материальные показатели, и должно быть истинной целью государства. Исходя из этого общего положения формулируются и частности: «Монарх должен стремиться и быть в состоянии управлять добродетельно и со знанием дела, справедливо и честно уделяя каждому свое»[267], а в идеальном государстве «надо, чтобы лица, законно домогающиеся правительственных должностей, представили достаточное доказательство добродетели как своего рода, так и своей собственной, начиная с детства и вплоть до времени избрания»[268].
Третий, индивидуально-человеческий уровень добродетели является самым трудным и неоднозначным при анализе творчества Платона. Во-первых, в диалогах он не выступает от собственного лица, и временами отсутствует окончательная ясность в том, в какой степени тот или иной участник беседы отражает мнение самого философа по той или иной проблеме. Во-вторых, и точка зрения самого Платона менялась на протяжении его жизни, так что написанное в более поздний период не всегда совпадало с мнением, изложенным им раньше. Так, например, в «Законах» от соискателя правительственной должности требуются доказательства добродетели своего рода, а в более раннем «Протагоре» убедительно доказывается мнение, что даже «мудрейшие и лучшие из граждан не в состоянии передать другим ту самую добродетель, которой владеют сами»[269]. Очевидно, что если добродетель не передается по наследству, то не имеет смысла и требовать доказательства родовой добродетели. Однако к концу своей жизни Платон все-таки выдвигает это требование при описании идеального государства, из чего следует, что ко времени написания «Законов» он пересмотрел свою прежнюю точку зрения по этому вопросу.
Аналогичным образом дело обстоит и с решением вопроса о том, добродетельны ли люди в своей массе или нет. В том же «Протагоре» ответ на этот вопрос скорее оптимистичен: «Вот я и говорю: раз считается, что всякий человек причастен к этой добродетели, значит, можно всякого признавать советчиком, когда о ней идет речь»[270]. В «Государстве» этот настрой в целом сохраняется, однако из констатации реального факта переводится в область потенциальной возможности: «Добродетель не есть достояние кого-либо одного, почитая или не почитая ее, каждый приобщается к ней больше либо меньше. Это – вина избирающего, бог не виновен»[271]. Однако в «Законах» от былого оптимизма на этот счет не остается и следа, и большинство людей однозначно объявляются лишенными этого блага: «Дело в том, что большинство людей не в такой же мере лишено способности разбираться в других людях – худы те или хороши, – в какой оно лишено добродетели»[272]. Это мнение умудренного жизнью Платона фактически перекликается со знаменитыми стихами Феогнида на эту же тему:
Нехороших людей божество одаряет богатством, Но добродетель, о Кирн, – только немногих удел[273].Кстати, относительно богатства и Платон утверждал: «стать же очень богатым, оставаясь добродетельным, невозможно»[274].
К рассмотрению самой добродетели Платон неоднократно обращался на протяжении всего своего творчества. Как известно, первоначально философ находился под сильнейшим влиянием Сократа, и в диалоге «Менон» он вкладывает в его уста следующее рассуждение по этому предмету: «Так вот, если добродетель – это нечто обитающее в душе и если к тому же она не может не быть полезной, значит, она и есть разум, ведь все, что касается души, само по себе не полезно и не вредно, но становится вредным или полезным благодаря разуму или по безрассудству. В согласии с этим рассуждением добродетель, коль скоро она полезна, и есть не что иное, как разум»[275]. Это достаточно поверхностное рассуждение, отражающее гипертрофированный акцент Сократа на разумность, впоследствии сменяется у Платона другими, однако мнение о тесной связи с аретой разума, на этот раз уже в пифагорейской окраске, сохраняется у него вплоть до последнего произведения: «Дело в том, что душа живого существа, лишенного разума, вряд ли сможет овладеть всей добродетелью в совокупности. Ведь существу, не знакомому с тем, что такое „два“, „три“, „нечет“ или „чет“, совершенно неведомо число как таковое, а потому такое существо вряд ли сможет дать себе отчет в том, что приобретено только путем ощущений и памяти. Правда, это ничуть не препятствует тому, чтобы иметь прочие добродетели – мужество и рассудительность; но тот, кто не умеет правильно считать, никогда не станет мудрым. А у кого нет мудрости, этой самой значительной части добродетели, тот не может стать вполне благим…»[276]. Весьма показательно, что здесь перед нами вновь возникает связь между счетом, числом, знание которого дает мудрость, самую значительную часть добродетели, и вселенским законом, фиксирующуюся в античной Греции начиная с Пифагора.
В «Протагоре» рассматриваемое явление понимается как «справедливость, рассудительность и благочестие – одним словом, то, что я называю человеческой добродетелью»[277]. В последнем произведении Платона список составляющих несколько меняется: «Для законодателя, для стража законов, для всякого, кто хочет отличиться добродетелью и за победу в ней получить почетные награды, нет ничего важнее того, о чем мы сейчас ведем речь, – мужества, рассудительности, справедливости и разумности»[278]. При этом те, кто по своей природе не срослись и не сроднились со всем справедливым и прекрасным, никогда не научатся истинному пониманию того, что такое добродетель и что такое порок. Однако даже последний список составляющих добродетели не является окончательным, поскольку далее в «Законах» появляется указание на следующую важнейшую ее часть: «В самом деле, никто никогда нас не уверит, что есть область добродетели, более важная для смертного племени, чем благочестие»[279].
Параллельно с этим Платон понимает добродетель как «некое здоровье, красоту, благородство души»[280]. Философ определяет и условия, при которых возникает это душевное здоровье: «Я называю воспитанием добродетель, проявляющуюся первоначально в детях. Если удовольствие, чувство дружбы, скорбь и ненависть возникнут надлежащим образом в душах людей, еще неспособных отнестись к ним разумно, то впоследствии, получив эту способность, они станут согласовывать с разумом эти правильно полученные ими навыки. Эта-то согласованность и есть вся добродетель в совокупности»[281]. Чуть дальше Платон вновь возвращается к этой же теме, подчеркивая соответствие ареты естественной природе человека: «Я вижу, что у людей все зависит от тайной нужды и вожделения. Когда все это идет правильно, рождается добродетель, когда же неправильно – происходит противоположное. Прежде всего это вожделение к еде и питью, возникающее с самого дня рождения; всякое живое существо яростно стремится к еде и питью и уже не слушает, если кто советует ему поступать иначе, а не только и делать, что удовлетворять этого рода вожделения и наслаждаться, постоянно устраняя всякого рода страдание. Третья же величайшая наша нужда и самое яростное стремление овладевает нами позднее; оно воспламеняет людей неистовством и сжигает их на огне всевозможных бесчинств. Это – стремление к продолжению рода. Три эти болезни надо направить к высшему благу…»[282]. В данном контексте арета фактически сводится к правильности реализации базовых инстинктов человеческого существа.
Однако научить этой правильности, как и многому другому, может лишь надлежащее воспитание, которому Платон уделяет достаточно много внимания в своих рассуждениях. Когда речь идет о надлежащем воспитании, становится очевидно, что арета у философа отнюдь не сводится к простой регуляции инстинктов: «В нашем рассуждении мы, очевидно, подразумеваем под воспитанием не это, а то, что с детства ведет к добродетели, заставляя человека страстно желать и стремиться стать совершенным гражданином, умеющим согласно справедливости подчиняться или же властвовать. Только это, кажется мне, можно признать воспитанием согласно данному в нашей беседе определению. Воспитание же, имеющее своим предметом и целью деньги, могущество или какое-нибудь иное искусство, лишенное разума и справедливости, низко и неблагородно, да и вовсе недостойно носить это имя»[283]. Этот пассаж наглядно свидетельствует, что не могущество само по себе составляет арету, но лишь могущество, соединенное со справедливостью. Когда человек обладает последним качеством, уже неважно, властвует он или подчиняется, – он все равно является добродетельным человеком. Однако человек – существо не только биологическое, но и космическое. Платон помнит об этом и, как мы видели выше на примере Ночного собрания, полагает, что высшей осуществимой на земле степенью ареты невозможно овладеть без постижения законов небесной гармонии. Вот что он пишет о том, кто изучает движение богов – небесных тел: «Человек блаженный сперва поражен этим порядком, затем начинает его любить и стремится усвоить его, насколько это возможно для смертной природы, полагая, что таким образом он всего лучше и благополучнее проведет свою жизнь и по смерти придет в места, подобающие добродетели. Такой человек на самом деле примет истинное посвящение, овладеет единой разумностью, коль скоро и сам он един, и все остальное время станет созерцать прекраснейшие (явления), какие только доступны зрению»[284]. Таким образом, арета у Платона носит поистине вселенский, а не узкочеловеческий характер, а в самом человеке простирается от чисто биологической сферы до высшего космического уровня его существа. Мы видим, что в восприятии добродетели у этого великого греческого философа в целом достаточно четко проглядывают былые черты ареты как космического закона.
Однако далеко не всем философам удалось сохранить особенности мировосприятия своего народа. И учитель Платона, и его самый знаменитый ученик, полагаясь на собственный интеллект, чрезмерно рационализировали понятие добродетели, полностью выхолостив ее содержание. Как и Сократ, Аристотель отождествил арету с главным принципом собственной философии, нисколько не задумываясь над ее изначальным смыслом. Если для Сократа это был разум, то для Аристотеля – середина. Руководствуясь лишь собственной логической схемой, Аристотель резко ограничивает арету одним лишь человеческим родом, полностью отрицая ее вселенский характер: «Так что, если, как говорится, при избытке добродетели из людей становятся богами, то, очевидно, именно такой склад (души) противоположен зверскому, и, как зверю не свойственны ни порочность, ни добродетель, так не свойственны они и богу, но (у него) есть нечто, ценимое выше добродетели…»[285]. Возвращаясь в другом месте к этой теме, он отмечает, что противоположная зверству добродетель является безымянной: «Безымянна же эта добродетель потому, что у бога нет своей добродетели: бог выше всякой добродетели, и не добродетелью определяется его достоинство, потому что в таком случае добродетель будет выше бога»[286]. Как видим, подобное резкое ограничение рамок действия ареты коренным образом извращает саму ее сущность, и схоластическое умствование Аристотеля в этом вопросе представляет собой полный разрыв с индоевропейской традицией.
Тем не менее некоторые прежние представления об арете сохраняют свою ценность для Аристотеля, и он включает их в свою схему, старательно подводя под них цепь собственных рассуждений. Методом последовательного исключения обосновывается значимость этого понятия: «Поскольку же добродетели – это не страсти и не способности, выходит, что это устои»[287]. Обосновывается и ее органический характер для добродетельного человека: «Добродетель, как мы признаем, появляется тогда, когда верно направленный разум бывает согласен с движениями чувств, которым присуще иметь собственную добродетель, а движения чувств согласны с разумом. При таком состоянии разум и чувства придут в созвучие друг с другом, так что разуму станет свойственно всегда приказывать лучшее, а верно направленным чувствам – легко выполнять все, что бы ни приказал им разум»[288]. Отрицание вселенского характера ареты закономерно приводит Аристотеля и к отрицанию ее природного характера, однако при этом он, по сути дела, уходит от ответа на вопрос о ее природе в человеке: «Следовательно, добродетели существуют в нас не от природы и не вопреки природе, но приобрести их для нас естественно, а благодаря приучению мы в них совершенствуемся»[289].
Понимая, что следует дать определение рассматриваемого предмета, философ заявляет: «Теперь следовало бы сказать, что такое добродетель, если ее действование есть счастье. В самом общем смысле добродетель – это наилучшее состояние. Однако такие общие слова, пожалуй, недостаточны, и нужно более ясное определение добродетели»[290]. Задействовав весь свой логический аппарат, Аристотель приходит к этому более ясному определению: «Итак, мы рассмотрели, в чем состоит добродетель. Она, по-видимому, есть некая середина между противоположными страстями. ‹…› Вообще легко наблюдать на любом движении чувств, что удаленное от середины легко, а середина, за которую нас хвалят, трудна. Из-за этого добродетель редка»[291]. Так, объяснив попутно редкость добродетели среди людей, Аристотель объявляет ее золотой серединой, или, пользуясь его словами, «серединой между двумя пороками, один из которых состоит в избытке, а другой – в недостатке»[292]. Нечего и говорить, что подобный подход оставлял уже весьма и весьма мало от былого великого первопринципа, безжалостно обкорнанного самолюбующимся человеческим рассудком, стремящимся запихнуть все и вся в прокрустово ложе мертвых логических схем.
В латинском языке также встречаются несколько родственных терминов, доказывающих, что некогда и предкам римлян было не чуждо понятие вселенского закона. В первую очередь следует назвать хорошо известный всем термин, обозначающий ритуал, происходящий от слова ritus – «религиозный обряд, торжественная церемония». Особенно важен здесь религиозный, сакральный характер обряда, связывающий человека с высшими силами и, через них, со всем космосом. Это значение весьма точно перекликается с древнерусской ротой в смысле обряда, совершаемого при заключении международного договора. Следует отметить, что не только заключение мира, но и объявление войны подчинялось в Древнем Риме жестким ритуальным требованиям, подчеркивавшим соответствие данного акта глобальным законам мироздания. Так, прежде чем объявить войну, римские послы обязаны были потребовать у противной стороны удовлетворения, произнося при этом раз и навсегда установленную сакральную формулу: «Внемли, Юпитер, внемлите, рубежи племени такого-то (тут он называет имя); да слышит меня Высший Закон. Я вестник всего римского народа, по праву и чести прихожу я послом, и словам моим да будет вера!» Обращение к высшему божеству и Высшему Закону торжественно подчеркивало, что требования римлян справедливы и соответствуют этому универсальному принципу. Если же требуемого удовлетворения не следовало, то по прошествии 33 дней врагам торжественно объявлялась война другой неизменной формулой: «Внемли, Юпитер, и ты, Янус Квирин, и все боги небесные, и вы, земные, и вы, подземные, – внемлите! Вас я беру в свидетели тому, что этот народ (тут он называет, какой именно) нарушил право и не желает его восстановить. Но об этом мы, первые и старейшие в нашем отечестве, будем держать совет, каким образом нам осуществить свое право»[293]. Призывая в свидетели правителей трех сфер мироздания, римский посол констатировал, что грядущая война не противоречит высшему закону, а наоборот, призвана его восстановить на земном уровне.
Помимо упоминавшегося выше латинского rota – «колесо», с индоевропейским названием вселенского закона непосредственно связано и другое понятие – virtus. На русский язык этот термин переводится как «(личная) доблесть, мужество, храбрость», однако на его первоначальное значение недвусмысленно указывает то, что veritas у римлян означало «истина, правда». Недаром такой блестящий знаток античной истории и культуры, как Плутарх, однозначно приравнивает интересующее нас латинское понятие к греческой арете и даже объясняет, за счет чего произошло смещение смысловых акцентов: «В общем, в тогдашнем Риме из подвигов всего выше ценились подвиги на войне, в походе. Это видно из того, что понятия „добродетель“ и „храбрость“ выражаются по латыни одним и тем же словом и что отдельное слово для обозначения понятия о храбрости сделалось общим именем для обозначения добродетели»[294]. Великий греческий историк совершенно справедливо указал роль общественных условий в произошедшей трансформации, однако рассмотренные данные других индоевропейских народов указывают на то, что не частное понятие храбрости было перенесено на добродетель, а наоборот, термину вселенского закона было придано значение храбрости или воинской доблести. В римской мифологии известна богиня Виртус (Virtus – доблесть), персонификация доблести, военного мужества и гражданского долга. В 233 г. до н. э. в Риме был освящен общий храм Виртус и Гонос. Головы Виртус и Гонос, как персонификации чести, были изображены на денариях Римской республики Фуфия Калена и Муция Корда. Начиная с императора Гальбы Виртус изображается на монетах в полный рост, в воинской одежде, с обнаженной, как у амазонок, правой грудью, вооруженная копьем, мечом и щитом, иногда с викториолой или венком в правой руке. Следует упомянуть и имеющееся во многих языках слово «вертикаль», происходящее от латинского verticalis – «отвесный», указывающее на устремленность снизу вверх. Поскольку ведийская rta этимологически была тесно связано с понятием движения, то при изучении лат. virtus следует отметить, что в том же языке существовало понятие vertex, которое обозначало центр вращения неба, образованное от глагола verto – «поворачиваю», ср. русск. верчу. К этому же кругу понятий примыкает и слово вертикаль, вертикал – большой круг небесной сферы, проходящий через зенит и данную точку на сфере.
Под влиянием бесконечных войн, которые вел Рим, этот термин приобрел в исторический период специфическую окраску и стал применяться к индивидуальной личности (ярким показателем этого стала традиция возведения храмов личной доблести, начало которой в конце III в. до н. э. положил Клавдий Марцелл), однако общегосударственный, а через него и вселенский характер данного понятия прослеживается без особого труда. Рассматривая римскую систему ценностей, В.И. Утченко отмечает: «…благо res publica, как то было некогда и служило, кстати сказать, общим и единым стержнем всех virtutes»[295]. Анализируя эпохальный труд Тита Ливия по римской истории, Г.С. Кнабе совершенно справедливо подчеркивает специфику римской добродетели, столь отличной от современной: «Все это определяет для Ливия главное – нравственное содержание римского благочестия. Нравственное чувство человека нового времени, его совесть основаны на сознании личной ответственности за выбранную линию поведения – ответственности перед живущим в душе каждого моральным кодексом. Такая нравственность была грекам и римлянам чужда и непонятна. Отсюда отнюдь не следует, однако, что они были лишены нравственного чувства – просто оно имело другое содержание и, главное, другую структуру. Структура эта была как бы двучленной. Непосредственно человек был ответственен перед коллективом, и „совесть“ его могла быть спокойна, если он честно, в соответствии с pietas (благоговейным уважением к общине, ее руководителям и ее традициям) выполнил свой долг перед семьей, коллегией или друзьями, родным городом, если умел „сосредотачивать мысль всегда на пользе отчизны, после на пользе родных, а потом уже собственной пользе“. Антично-римское нравственное чувство – это в одно и то же время virtus и pietas. Оно, таким образом, как бы растворено в общине и потому через нее, на следующем уровне, включено в структуру мироздания, в божественный мировой порядок, определяющий место общины во Вселенной, а следовательно, и место человека в этом мироздании и в этом порядке, его соответствие им – и тогда его действия божественно санкционированы, т. е. нравственны, или несоответствие – и тогда действия его безнравственны, подлежат либо каре, либо искуплению. Все это в глазах Ливия составляет единую систему и единый ряд. Этот ряд завершается практическими действиями каждого и включает эти действия в божественное мироустройство, тем придавая им нравственный смысл»[296]. Хотя за исключением рассмотренного выше фрагмента в сохранившихся книгах Тита Ливия никогда больше не упоминается вселенский закон, он, тем не менее, незримо присутствует как на страницах его труда, так и в описываемой в нем истории Рима.
Понятие доблести является одним из центральных у Гая Саллюстия Криспа, одного из первых древнеримских историков, который стал не просто описывать происходившие события, но и задумываться о причинах, их обусловивших. Недаром Тацит, последний крупнейший древнеримский историк, не колеблясь, назвал Саллюстия самым блистательным историком своей страны. «Я много читал, – обосновывал Саллюстий свою точку зрения, – много слышал о славных подвигах римского народа, совершенных им во время мира и на войне, на море и на суше, и мне захотелось выяснить, что более всего способствовало этому. Я знал, что малочисленные римские отряды нередко бились с большими легионами врагов; я установил, что римляне малыми силами вели войны с могущественными царями; что они при этом часто переносили жестокие удары Фортуны; что красноречием римляне уступали грекам, а военной славой – галлам. И мне после долгих размышлений стало ясно, что все это было достигнуто выдающейся доблестью немногих граждан и именно благодаря ей бедность побеждала богатство, малочисленность – множество»[297].
Конспективно описывая начало истории родного города, Саллюстий подчеркивает, что римляне доблестью своей отвращали опасности, а после свержения царской власти, которую страшила чужая доблесть, для ее проявления у жителей Вечного города открылся еще больший простор, что не замедлило принести свои плоды: «Но трудно поверить, в сколь краткий срок гражданская община усилилась, достигнув свободы, и сколь великая жажда славы овладела людьми. Вначале юношество, как только становилось способно переносить тяготы войны, обучалось в трудах военному делу в лагерях, и к прекрасному оружию и боевым коням его влекло больше, чем к распутству и пирушкам. Поэтому для таких мужей не существовало ни непривычного труда, ни недоступной и непроходимой местности, ни внушающего страх вооруженного врага; их доблесть превозмогла все»[298].
Хоть доблесть для Саллюстия в первую очередь проявляется во время войны, тем не менее, исключительно к этой стороне человеческой деятельность она для него не сводится. То, что согласно его пониманию истории, этому важнейшему человеческому качеству есть место и в мирной жизни, прямо следует из слов Саллюстия, в которых он обращается к историческому опыту чужеземных народов, в частности персов и греков: «И если бы у царей и властителей доблесть духа была в мирное время столь же сильна, как и в военное, то дела человеческие протекали бы более размеренно и гладко и мы бы не видели, как одно увлекается в одну, а другое в другую сторону, как все сменяется и смешивается. Ведь власть легко сохранить теми же средствами, какими она была достигнута. Но когда на смену труду пришла леность, на смену сдержанности и справедливости – необузданность и гордыня, их судьба изменилась одновременно с их нравами. Так власть всегда передается к лучшему человеку от худшего»[299].
О причинах, которые, согласно мнению древнеримского историка, губят доблесть, речь пойдет у нас ниже, а пока отметим, что для Саллюстия от доблести зависит если не все, то, во всяком случае, подавляющее большинство достижений людей не только во время войны, но и в мирной жизни: «То, чего люди достигают, возделывая землю, плавая по морям, возводя строения, зависит от доблести»[300].
Таким образом, мы вправе констатировать, что, наподобие древнегреческой добродетели-аретэ, древнеримская доблесть-виртус мыслилась носителям данной культуры универсальным понятием, не сводимым к одной только военной доблести. Тем более не сводима доблесть для Саллюстия к одной лишь силе, как это видно из его второго письма к Юлию Цезарю, где оба этих понятия даже противопоставляются друг другу: «Стоит только честному человеку увидеть, что дурной благодаря своему богатству более известен и влиятелен, как он сперва начинает волноваться и задумываться; но по мере того, как стремление к славе с каждым днем все более побеждает честность, а доблесть уступает силе, душа его ради наслаждения изменяет правде»[301].
Данное понятие тесно было связано с мудростью. Так, излагая речь Цезаря в сенате по поводу заговора Катилины, Саллюстий приводит следующие слова будущего великого полководца, которого сам древнеримский историк считал одним из двух доблестных людей своего времени, по поводу предков, создавших величие Римской державы: «У тех, кто малыми силами создал такую великую державу, доблести и мудрости, конечно, было больше, чем у нас, с трудом сохраняющих добытые ими блага»[302].
Со своей стороны, и Саллюстий в своем письме к Цезарю опять-таки упоминает доблесть вместе с мудростью: «Я, со своей стороны, убежден, что всякий, кто занимает более высокое положение, больше и заботится о государстве. Ибо для других, если их города процветают, одна лишь свобода неприкосновенна. Того же, кто доблестью добыл богатство, уважение, почет, удручают многочисленные заботы и труды, едва положение в государстве станет неустойчивым. Он защищает либо славу, либо свободу, либо свое имущество… Следовательно, если плебс подчиняется сенату, как тело душе, и следует его постановлениям, то отцы-сенаторы должны быть сильны своей мудростью; народу не требуется сметки. Поэтому предки наши всякий раз, когда приходилось напрягать все силы в тяжелейших войнах, несмотря на потери в конях, людях, деньгах, никогда не уставали с оружием в руках сражаться за свою державу. Ни отсутствие средств в государственной казне, ни сила врагов, ни неудачи не смогли сломить их величайшее мужество, и они до последнего вздоха удерживали за собой то, что захвачено было их доблестью. И они достигали этого своими смелыми решениями больше, чем удачными сражениями»[303].
Итак мудрость, в первую очередь мудрость сената, помогала римлянам удерживать то, что было захвачено с помощью их доблести. Насколько мы можем судить, вера в то, что своей доблестью они превосходят все народы мира, если и не была всеобщей, то, во всяком случае, была весьма распространена среди римлян. Отражая это широко распространенное мнение, Саллюстий заканчивает описание Югуртинской войны следующей, весьма характерной оговоркой: «И тогда, и в наши дни римляне считали, что весь мир склоняется перед их доблестью…»[304].
В своем втором письме к Цезарю, выражая уже свои личные мысли, древнеримский историк решительно отказывает в наличии этого важнейшего качества грекам, народу, к которому римляне были наиболее близки: «…однако доблести, бдительности, трудолюбия греки совершенно лишены»[305].
Неудивительно, что в самом начале своего сочинения о заговоре Катилины, Саллюстий решительно ставит доблесть на вершину всей своей пирамиды ценностей, давая этому рационалистическое обоснование: «Вся наша сила ведь – в духе и теле: дух большей частью повелитель, тело – раб; первый у нас – общий с богами, второе – с животными. Поэтому мне кажется более разумным искать славы с помощью ума, а не тела и, так как сама жизнь, которой мы радуемся, коротка, оставлять по себе как можно более долгую память. Потому что слава, какую дают богатство и красота, скоротечна и непрочна, доблесть же – достояние блистательное и вечное»[306].
Доблесть у Саллюстия – это начало, неразрывно связанное не только с блистательностью и вечностью, но и бессмертием, т. е. качествами, присущими в первую очередь богам, а не людям. Осуждая все возрастающую алчность современников, в самом начале своего труда о Югуртинской войне он писал: «Ведь если бы у людей была такая же большая забота об истинной доблести, как велико их рвение, с каким они добиваются чуждого им, не сулящего им никакой пользы и во многом даже опасного (и губительного), то не столько ими управляли бы события, сколько они ими управляли бы и достигали при этом такого величия, что их слава приносила бы им бессмертие»[307].
Наконец, все в той же «Югуртинской войне» нам встречается отголосок представлений, что действия доблестного человека выражают волю богов. При описаний действий римского полководца Мария Саллюстий приводит следующее мнение его современников: «Завершив столь трудное дело, и притом без малейших потерь, Марий, уже и раньше великий и прославленный, приобрел еще большее величие и славу. Все поступки его, даже не очень осмотрительные, приписывались его доблести. Солдаты, к которым он относился не очень строго и которые разбогатели, превозносили его до небес, нумидийцы боялись его больше, чем боятся простого смертного, наконец, все, и союзники, и враги, верили, что либо он наделен божественным умом, либо все его действия выражают волю богов»[308].
Как видим, в данном фрагменте римский историк выражал даже не свое мнение, а мнение современников Мария, согласно которым все его достижения приписывались доблести. Стоит отметить, что такое же представление было свойственно и самому Марию. Обращаясь с речью к народу при наборе войска, он, противопоставляя себя знати, прямо заявил: «Все мои надежды – только на самого себя, и я должен оправдать их своей доблестью и неподкупностью, ибо прочие мои качества бессильны»[309].
И вот эта самая доблесть полководца, согласно единодушному мнению как его сторонников, так и противников, напрямую была связана со сферой божественного: либо благодаря тому, что действия доблестного человека напрямую выражают волю богов, либо в силу того, что доблестный человек оказывается наделен божественным умом, а связь доблести с мудростью нам выше уже дважды встречалась в текстах Саллюстия. И с этой сферой божественного, при желании, может соприкоснуться каждый человек. В своем первом письме к Юлию Цезарю Саллюстий, хоть прямо и не упоминает слово «доблесть», перечисляет следующие условия, при соблюдении которых любой смертный может соприкоснуться с миром божественного и бессмертного: «Ведь каждый может возвыситься и, хотя он и смертен, приобщиться к божественному лишь в том случае, если, отказавшись от радостей, доставляемых деньгами, и от плотских наслаждений, станет заботиться о душе, если он не будет, угодничая и удовлетворяя чужие желания, приобретать дурное влияние, но станет испытывать себя в труде, терпении, добрых делах и храбрых поступках»[310].
Из сопоставления различных фрагментов этого древнеримского историка становится ясно, что, согласно его убеждениям, именно доблесть, лелеемая и воспитываемая духом, и является тем самым главным условием приобщения человека к божественному, дающее ему бессмертную славу.
Создавая своими монументальными трудами настоящий гимн доблести человеческого духа, Саллюстий с первых же строк «Югуртинской войны» четко и однозначно формулирует свое кредо применительно как к человеческому роду в целом, так и к отдельному человеку в частности: «Несправедливо сетует на природу свою род людской – будто ею, слабой и недолговечной, правит скорее случай, чем доблесть. Ведь, наоборот, по зрелом размышлении не найти ничего, ни более великого, ни более выдающегося, и (надо признать, что) природе нашей недостает скорее настойчивости, чем сил или времени. Далее, жизнью людей руководит и правит дух. Когда он к славе стремится, идя по пути доблести, он всесилен, всемогущ и блистателен и не нуждается в помощи Фортуны; ибо честности, настойчивости и других хороших качеств не придать никому и ни у кого не отнять»[311].
То, что «Югуртинская война», точно так же как и сочинение «О заговоре Катилины», начиналась их создателем с размышлений о духе и доблести, красноречивее всего говорит о том, что оба эти тесно связанные между собой начала были наиважнейшими для писавшего о них автора. Наряду с преодолевающей все и вся силой, мудростью и блистательностью, доблесть тесно связана и со славой. Уже знакомый нам Марий, опять-таки противопоставляя себя знати, говорил: «Доблесть достаточно говорит сама о себе; это им нужны искусные приемы, чтобы красноречием прикрывать позорные поступки»[312].
Близкую к этой мысль Саллюстий влагает в уста предков Юлия Цезаря: «Ведь смертных при жизни часто преследует Фортуна, часто ненависть; как только их жизнь склонится перед законом природы, то, когда умолкнут хулители, доблесть сама возвышает себя все больше и больше»[313].
Великолепно понимая, с какими трудами и лишениями связано следование доблести, Саллюстий во втором письме Юлию Цезарю особо подчеркивает: «Ибо настойчивость питается славой; стоит последнюю отнять, как доблесть сама по себе становится горька и тягостна. Словом, где чтут богатство, там презирают все честное: верность, порядочность, стыд, стыдливость. Ведь к доблести ведет один-единственный, тернистый путь, к деньгам же стремятся любым путем – какой кому нравится, их добывают и дурными, и добрыми делами»[314].
Приводимое историком древнеримское представление об одном-единственном пути к доблести-виртус живо напоминает нам древнеиранское представление о том, что существует лишь один путь Арты, и свидетельствует в пользу того, что данное представление сложилось еще в эпоху индоевропейской общности. О том огромном влиянии, которое, согласно Саллюстию, слава оказывает на стремление людей к доблести, красноречиво говорит тот факт, что он более терпимо готов относиться даже к честолюбию, которое, хоть и расценивается им как порок, тем не менее, стоит к доблести гораздо ближе, нежели алчность. Конечно, честолюбие побуждает многих людей быть лживыми и лицемерными, действовать лишь согласно собственной выгоде. Тем не менее, при сопоставлении со все пожирающей алчностью данный порок предстает в глазах историка менее гнусным: «Но вначале честолюбие мучило людей больше, чем алчность, и все-таки, хотя это и порок, было ближе к доблести. Ибо славы, почестей, власти жаждут в равной мере и доблестный, и малодушный человек; но первый добивается их по правильному пути; второй, не имея благих качеств, действует хитростью и ложью»[315].
Описывая времена ранней Римской республики, когда доблесть почиталась, по мнению Саллюстия, гораздо больше, чем в его эпоху, он так описывает этот путь: «Итак, и во времена мира, и во времена войны добрые нравы почитались, согласие было величайшим, алчность – наименьшей. Право и справедливость зиждились на велении природы в такой же мере, в какой и на законах. Ссоры, раздоры, неприязнь – это было у врагов; граждане соперничали между собой в доблести. Во время молебствий они любили пышность, в частной жизни были бережливы, друзьям – верны. Двумя качествами – храбростью на войне и справедливостью после заключения мира – они руководствовались, управляя государством»[316].
Доблестный человек честен и потому, обращаясь с речью к народу, Марий так говорит о себе: «…у меня же, доблестно прожившего весь свой век, привычка поступать честно стала второй натурой»[317].
Выше уже приводилась цитата из второго письма Саллюстия к Юлию Цезарю, где показывалось, как от стремления к богатству сила оказывается противоположной доблести, а стремление к славе – честности. Мы только что видели, что для нашего автора само по себе стремление к славе играет огромную роль в тяжелом пути следования по пути доблести, но оно должно органично сочетаться с честностью идущего по этому пути человека, потому что в противном случае славы он будет добиваться хитростью и коварством. Лишь сочетание двух этих начал образуют доблесть. Точно так же дело обстоит и с силой. С одной стороны, она является неотъемлемой частью, во всяком случае, военного аспекта доблести, но, будучи взята сама по себе, лишенная истинного благородства духа, она с одинаковой легкостью может быть обращена человеком как к добру, так и ко злу. Таким образом, и сила, взятая как самодостаточное понятие, может быть противопоставлена высшему началу.
Доблесть, равно как и порождаемая ею слава, неразрывно связывают между собой людские поколения. В своем втором письме к Цезарю Саллюстий, имея в виду сенаторов, констатирует, что людей трудно уравнять между собой, «так как доблесть предков оставила знатным людям добытую для них славу, высокое положение, клиентелы…»[318]
Слава предков, добытая их доблестью, становилась для потомков путеводным маяком и примером для подражания. Рассуждая в начале своего повествования о Югуртинской войне о наибольшей пользе истории по сравнению со всеми другими умственными занятиями, Саллюстий так обосновывает превосходство избранной им науки: «Ведь я не раз слышал, что Квинт Максим, Публий Сципион и другие прославленные мужи нашей гражданской общины говаривали, что они, глядя на изображения своих предков, загораются сильнейшим стремлением к доблести. Разумеется, не этот воск и не этот облик оказывали на них столь большое воздействие; нет, от воспоминаний о подвигах усиливается это пламя в груди выдающихся мужей и успокаивается не ранее, чем их доблесть сравняется с добрым именем и славой их предков»[319].
С другой стороны, в принципе могла быть и противоположная ситуация. Так, например, Цицерон, отвечая на упреки Саллюстия в безродности, не обременяя себя лишней скромностью, публично заявил: «Я же доблестью своей освещал путь своим предкам, так что они, если и не были известны ранее, памятью о себе обязаны мне… Поэтому не попрекай меня тем, что у меня нет знаменитых предков; ведь для меня лучше быть славным собственными деяниями, чем зависеть от доброго имени предков и жить так, чтобы я сам был для своих потомков началом знатности и примером доблести»[320].
Если не точно такие же, то, во всяком случае, подобные взгляды были присущи и другим «новым людям», рвавшимся к власти в Риме и в этом своем устремлении сталкивавшимися не только с политическим, но и с идеологическим ожесточенным сопротивлением старой аристократии, притязания которых на монопольное сохранение за собой власти базировалось далеко не в последнюю очередь на представлениях об унаследованной от предков доблести. Именно на это и обрушился в своей речи Марий, доказывая простому народу, что доблесть-то как раз и нельзя унаследовать от предков, что она не передается по наследству: «Кичась своими предками, знать, отличающаяся совсем иными нравами, нас, соперников своих, презирает, а от вас требует всех магистратур не по своим заслугам, а будто это ваш долг. Но в своем высокомерии эти люди глубоко заблуждаются. Их предки оставили им все то, что только можно: богатства, изображения, славную память о себе, но доблести они им не оставляли да и не могли оставить – лишь ее одну нельзя ни принести в дар, ни принять»[321].
Нисколько не отрицая доблести предков нынешней знати, Марий лишь подчеркивает, что у них «знатность порождена доблестью»[322], а не наоборот, и, исходя из этого, по критерию доблести смело приравнивает себя к предкам современной ему аристократии. С течением времени сходные представления получали все большее распространение, и у Ювенала мы опять-таки встречаем утверждение о сугубо индивидуальном характере как знатности, так и доблести: «Знатности нету нигде, как только в доблести духа». (Ювенал. Сатиры, VIII, 20)
Аналогичным образом дело обстояло и в отношении различных государственных должностей, и все тот же Марий и в этом отношении не преминул пожаловаться народу на несправедливость патрициев: «Теперь смотрите, как они несправедливы: того, на что они притязают, пользуясь чужой доблестью, они не дают мне на основании моей…»[323].
Как видим доблесть, родовая или индивидуальная, согласно господствовавшим в ту эпоху представлениям, предопределяла право человека не только считаться знатным, но претендовать на то, чтобы занимать ту или иную магистратуру в Римской республике. Сам Саллюстий так описывает эту взаимосвязь в контексте вопиющего духовного упадка своего времени: «Даже новые люди, когда-то доблестью своей обыкновенно превосходившие знать, добиваются власти и почестей не столько честным путем, сколько происками и разбоем; как будто претура и консулат и все другие должности того же рода славны и великолепны сами по себе, а не считаются такими в зависимости от доблести тех, кто их занимает»[324].
Как уже отмечалось выше, доблестный человек честен и подобно тому, как к самой доблести ведет лишь один-единственный путь, точно так же и власти наделенный доблестью человек добивается лишь по правильному пути, в то время как его антагонист действует хитростью и ложью. Как уже отмечалось выше, в самом начале своего труда о заговоре Каталины Саллюстий, анализируя мировую историю, отмечал, что власть всегда передается от худшего человека к лучшему. Это правило действовало на международной арене, однако внутри государства, как великолепно видел сам историк, власть запросто могли захватывать и удерживать в своих руках худшие люди. И именно поэтому в своем первом письме к Цезарю, отдавая должное его выдающимся свершениям, Саллюстий особо подчеркивает: «Впрочем, как созданное трудом, так и достигнутое доблестью следует оберегать возможно тщательнее, дабы оно из-за небрежения не испортилось и не рухнуло, обветшав»[325].
При этом внимательный исследователь общественных нравов великолепно осознавал, что в том Риме, в котором он жил, с возвысившей государство доблестью дела обстоят не самым лучшим образом. Касаясь опять-таки военных и гражданских должностей, Саллюстий с горечью отмечает, что сейчас «не доблести воздается почет»[326].
Так, например, среди своих современников он мог назвать только двух доблестных людей – Цезаря и Катона. Великолепно зная историю родного города, Саллюстий не мог не понимать, что количество доблестных людей в его время стремительно сократилось по сравнению не только с эпохой создания Римской республики, но даже и с периодом более близких к нему Пунических войн. В чем же причина упадка доблести? Ответу на этот фундаментальный вопрос, по сути дела, и были посвящены основные труды Саллюстия, который на ярких конкретных примерах иллюстрировал плоды своих напряженных раздумий по этому поводу. В свете всего сказанного выше подобная «зацикленность» на одной-единственной проблеме не кажется чрезмерной – от правильного ответа на этот вопрос зависело, в конечном итоге, само существование Римского государства, поскольку, в случае окончательного исчезновения в нем доблести, оно неминуемо, согласно взглядам нашего мыслителя на закономерности мирового исторического процесса, было обречено пасть жертвой своих более доблестных соседей, что впоследствии и произошло. Беспристрастно исследовав как современные ему события, так и не очень далекое прошлое, Саллюстий находит главную причину упадка доблести – алчность и корыстолюбие людей. В своем сочинении «О заговоре Катилины» он пишет: «Когда богатства стали приносить почет и сопровождаться славой, властью и могуществом, то слабеть начала доблесть, бедность – вызывать презрение к себе, бескорыстие – считаться недоброжелательностью». Далее он яркими красками рисует картину современных ему нравов: «И вот из-за богатства развращенность и алчность наряду с гордыней охватили юношество, и оно бросилось грабить, тратить, ни во что не ставить свое, желать чужого, пренебрегать совестливостью, стыдливостью, божескими и человеческими законами, ни с чем не считаться и ни в чем не знать меры»[327].
Какой контраст представляла эта современность с описанной им же эпохой ранней Римской республики, когда наделенная прямо противоположными качествами молодежь и заложила основы величия родной державы! Если в повествовании о заговоре Катилины, служившей как нельзя более лучшей иллюстрацией роковой испорченности нравов современного юношества, Саллюстий говорит еще, что из-за богатства слабеет доблесть, то во втором письме Юлию Цезарю он более категоричен, прямо утверждая, что практически никто не может самостоятельно противостоять растлевающему влиянию алчности, губящей плоды доблести и всего лучшего, что есть в человеке: «Ибо всякий раз как у человека возникает стремление к богатству, ни воспитание, ни добрые качества, ни врожденный ум не могут противостоять тому, что душа его рано или поздно все же не поддастся ему. Я слышал уже не раз, что цари, гражданские общины и народы из-за богатства лишались держав, которые они доблестью своей завоевали, будучи бедными. И это вовсе неудивительно. Стоит только честному человеку увидеть, что дурной благодаря своему богатству более известен и влиятелен, как он сперва начинает волноваться и задумываться; но по мере того, как стремление к славе с каждым днем все более побеждает честность, а доблесть уступает силе, душа его ради наслаждения изменяет правде. (…) Словом, где чтут богатство, там презирают все честное: верность, порядочность, стыд, стыдливость»[328].
Саллюстий великолепно осознавал, что все это сейчас царит в современном ему Риме. Констатируя эту горестную картину в первом же своем сочинении, он нашел в себе силы честно отметить, что некоторым из этих пороков не был чужд по молодости и он сам: «Меня самого, подобно многим, еще совсем юнцом охватило стремление к государственной деятельности, и у меня здесь было много огорчений. Ибо вместо совестливости, воздержанности, доблести процветали наглость, подкупы, алчность. Хотя в душе я и презирал все это, не склонный к дурному поведению, однако в окружении столь тяжких пороков моя неокрепшая молодость, испорченная честолюбием, им не была чужда»[329].
Какой контраст это нелицеприятное признание составляет с постоянным самолюбованием и самовосхвалением Цицерона! Объективности ради следует отметить, что алчности Саллюстий был подвержен не только в молодости, поскольку отнюдь не в юношеском возрасте он был назначен Цезарем наместником провинции Новая Африка, за управление которой он чуть было не попал под суд за лихоимство по возвращении в Рим. Тем не менее, впоследствии он нашел в себе силы осознать всю пагубность этого порока и, как видно из этого обзора, превыше всего ставя доблесть, он обратил всю силу своего таланта не на описание той эпохи, когда качество это более всего процветало в родном городе, а на создание картины упадка, на конкретных примерах показывая современникам главную причину исчезновения доблести в государстве. Все факты говорят о том, что это был сознательный выбор Саллюстия, который с помощью исторических примеров стремился предупредить сограждан о гибельности пути, по которому шло древнеримское общество. Не ограничиваясь одними историческими трудами, Саллюстий обращается с письмами к победившему Цезарю, предлагая ему свой план кардинального переустройства общества. Определив алчность как первопричину всех бед, он в первую очередь призывает нового правителя государства уничтожить значение денег. В сочетании с политической реформой, которую предлагал еще Гай Гракх, это приведет к тому, что люди будут соперничать между собой в доблести, а не в роскоши: «Это уравняет людей и в их положении, их имущественных правах, и все будут стараться превзойти друг друга доблестью. Я вижу в этом мощное лекарство против богатства. Ибо мы хвалим и добиваемся чего-либо, всегда думая о пользе. К лукавству прибегают рассчитывая на вознаграждение: если его не будет, никто не станет лукавить бескорыстно. Но алчности, этого дикого, свирепого зверя, терпеть нельзя; на что она направлена, там разоряют города, деревни, храмы и дома, смешивают божеское и человеческое, и ни войска, ни городские стены не в силах ей противодействовать; всех людей она лишает доброго имени, стыдливости, родины и родителей. Однако если лишить деньги их привлекательности, то добрые нравы легко одолеют пресловутую силу алчности»[330].
Как видим, историк предлагал переустроить римскую общину, по сути дела, по спартанскому образцу, мечтая повторить у себя на родине реформу Ликурга. Однако Юлий Цезарь не принял предложенный ему Саллюстием радикальный план оздоровления общества, и Рим в своем дальнейшем развитии пошел по тому пути, которого больше всего и боялся мудрый историк.
Противником Саллюстия в политической жизни был самый знаменитый древнеримский оратор Цицерон, однако и в его творчестве доблесть-виртус занимает видное место. Точь-в-точь, как и его оппонент, что лишний раз показывает общераспространенность подобного взгляда в древнеримском обществе, он превозносит именно свой народ как главного носителя доблести, решительно отказывая в этом как ближним, так и дальним соседям: «Поистине во всем, что дается людям от природы, а не от науки, с нами не идут в сравнение ни греки и никакой другой народ: была ли в ком такая величавость, такая твердость, высота духа, благородство, честь, такая доблесть во всем, какая была у наших предков?»[331]
В другом своем диалоге «О государстве» Цицерон вкладывает в уста Манилия схожее утверждение: «И все же меня радует, что мы воспитаны не на заморских и занесенных к нам науках, а на прирожденных и своих собственных доблестях»[332].
В чем же конкретно, на взгляд Цицерона, эта доблесть состояла? В своем трактате «О природе богов» он относит к числу добродетелей (переводчики этого текста именно данным словом перевели на русский термин виртус) благочестие, набожность, религию. «Как и другие добродетели, так и благочестие не может состоять только во внешних лицемерных проявлениях. А если не было благочестия, то вместе с тем неизбежно исчезнут и набожность и религия. Если же и эти исчезнут, то последует великий переворот всей жизни и великое смятение, и, пожалуй, с исчезновением благочестия к богам не устранится ли также вера и человеческое сообщество, и самая совершенная из всех добродетелей – справедливость?»[333]
Далее в этом же сочинении прославленный оратор связывает между собой блаженство, добродетель и разум, обосновывая человеческий облик богов: «И так как известно, что боги в высшей степени блаженны, а блаженным может быть только тот кто добродетелен, а добродетель не может быть без разума, а разум может быть только у человека, то должно признать, что боги имеют человеческий образ»[334].
Развивая далее свои рассуждения, Цицерон подчеркивает деятельную, а не созерцательную природу добродетели: «Рассмотрим теперь вопрос о его (бога – М.С.) блаженстве. Без добродетели оно, конечно, никоим образом невозможно. Но добродетель деятельна, ваш же бог ничего не делает, стало быть, лишен добродетели, а значит, и не блажен»[335].
В диалоге «О государстве» он делает акцент не только на деятельной природе доблести, применительно уже к людям, но и на ее активном применении в государственной жизни: «Но отличаться доблестью, словно это какая-то наука, недостаточно, если не станешь ее применять. Ведь науку, хотя ее и не применяешь, все же возможно сохранить благодаря самому знанию ее; но доблесть зиждется всецело на том, что она находит себе применение, а ее важнейшее применение – управление государством и совершение на деле, а не на словах, всего того, о чем кое-кто твердит в своих углах. Ведь философы не говорят ничего такого (я имею в виду то, что говорится действительно по справедливости и чести), что не было бы создано и подтверждено людьми, составлявшими законы для гражданских общин. И в самом деле, откуда возникло понятие о долге и кем была создана религия? Откуда появилось право народов и даже наше право, называемое гражданским, откуда правосудие, верность, справедливость? Откуда добросовестность, воздержанность, отвращение к позорным поступкам, стремление к похвалам и почету? Откуда стойкость в трудах и опасностях? Да ведь все это исходит от тех людей, которые, когда это благодаря философским учениям сложилось, обычаями подтвердили одно, другое укрепили законами. (…) Следовательно, тот гражданин, который своим империем и страхом перед карой по закону заставляет всех людей делать то, к чему философы своей речью могут склонить разве что немногих, заслуживает предпочтения перед самими любителями наставлять, обсуждающими такие вопросы»[336].
Равно как и Саллюстий, Цицерон считает образцом доблести Катона, подчеркивая при этом природное происхождение интересующего нас начала: «Утверждаю одно: природа наделила человека столь великим стремлением поступать доблестно и столь великой склонностью служить общему благу, что сила эта одерживала верх над всеми приманками наслаждений и досуга»[337].
С еще большей силой эта идея о природном характере доблести звучит у него в диалоге «О законах»: «…несомненно, что жить в согласии с природой – высшее благо; это значит вести жизнь умеренную и согласную с доблестью… В то же время природа хочет, чтобы мы жили как бы по закону доблести»[338].
Развивая далее эту мысль, Цицерон такими яркими красками рисует картину того, что будет, если люди послушаются свою природу и будут жить по закону доблести: «Ведь когда душа, познав и восприняв доблести, откажется от своей покорности и потворству телу, подавит в себе стремление к наслаждению, словно какой-то позорный недуг, избавится от всякого страха смерти и боли, благодаря взаимному расположению соединится со своими близкими, признает всех своих близких объединенными природой, сочтет себя обязанной почитать богов и соблюдать религию во всей ее чистоте… то будет ли возможно назвать или себе представить более счастливое состояние?»[339]
Призывая людей чтить тех, кто благодаря своим заслугам вознесся на небо – Геракла, Либера, Эскулапа, Кастора, Поллукса, Квирина, наш оратор добавляет: «да чтут они и те качества, за которые людям дается доступ на небо, – Ум, Доблесть, Благочестие, Верность»[340].
К интересующему нас качеству люди должны стремиться ради него, поскольку оно само по себе является наивысшей духовной ценностью, а не ради материальных выгод, которые могут ей сопутствовать: «Ибо, если к доблести стремятся ради других благ, то, очевидно, существует нечто более заманчивое, чем доблесть, будут ли это деньги, или почести, или красота, или здоровье»[341].
«Наконец, если к доблести стремятся ради выгод, а не ради нее самой, – замечает Цицерон, – то будет существовать лишь одна доблесть, которую будет правильнее всего назвать лукавством»[342].
В своем диалоге «О государстве» Цицерон приводит одну весьма важную для нас подробность: полководец Марк Клавдий Марцелл по обету, данному им перед сражением под Кластидием в 222 г. до н. э., построил в Риме храм, который имел два отделения – божества Чести и божества Доблести. Затем, после взятия Сиракуз, он вывез созданную Архимедом сферу, наглядно воспроизводившую движение небесных тел, и отдал ее в качестве дара в построенный им храм: «…более красива и более известна в народе была другая сфера, созданная тем же Архимедом, которую тот же Марцелл отдал в храм Доблести»[343].
Римский поэт IV в. Клавдиан, еще лично видевший стоящую в храме созданную Архимедом сферу, описал ее в своих стихах следующим образом:
Неба устав, законы богов, гармонию мира — Все Сиракузский старик мудро на землю принес. Воздух, скрытый внутри, различные движет светила, Точно по дивным путям, сделав творенье живым[344].Если живший почти семь столетий спустя после великого греческого ученого римский поэт считал, что созданный Архимедом небесный глобус зримо воспроизводит «неба устав, законы богов, гармонию мира», то тем более это было очевидно для завоевавшего Сиракузы поколения римлян. Этот факт красноречиво показывает, что Доблесть в сознании той эпохи явно носила вселенский, космический характер, не ограничиваясь одной лишь из сторон человеческой либо даже божественной натуры, а охватывало все мироздание целиком. Как нельзя более красноречиво об этом свидетельствует данный дар Марцелла: поскольку в храм бога войны преподносили захваченное у неприятеля оружие, божествам, от которых зависел урожай – плоды земледельческого труда, то факт принесения изображения Вселенной в дар божеству Доблести свидетельствует о тесной связи последнего с законами мироздания. Так засвидетельствованный Цицероном исторический факт подтверждает этимологическую связь латинского виртус с ритой, древнеиндийским обозначением вселенского закона.
Интересно проследить дальнейшее развитие этого термина во времени. Августин, сохранивший в своем творчестве часть античного наследия, но вместе с тем активно развивавший противоположную ему христианскую догматику, ставит добродетель – Virtus на четвертое место из семи ступеней восхождения души к Богу, согласно разработанной им концепции. По мнению Августина, virtus человека служит условием самоосознания своей души, отделяющей себя от телесно-чувственного и тем самым готовит душу к созерцанию божественной истины. Тем не менее, во время Средневековья особой популярностью данный термин не пользуется. Положение начинает меняться в эпоху Возрождения, когда понятие virtus оказалось напрямую связано как с проблемой теозиса, Богопознания, так и с проблемой самопознания. Так, например, Николай Кузанский, выдающийся философ XV в., осмыслял бога в первую очередь как художника, творца. Исходя из этой установки и саму жизнь он понимает прежде всего как деятельность и категорически отрицает «чистое» созерцание. Соответственно, на первый план выдвигается проблема virtu человека. «Учение Николая Кузанского об индивидууме как силе, творчески реализующей свою сущность, – подытоживает П.М. Бицилли воззрения этого мыслителя, – не что иное, как философское выражение господствующей в сознании уже раннего Возрождения идеи virtu. Раскрывая философски эту идею, Николай Кузанский тем самым подготовил почву для самых грандиозных умственных дерзаний Ренессанса. То, что саморазвитие личности, ее следование своей „virtu“ приводит ее к пределу, означает, что для личности открываются бесконечные переспективы. Потенциально индивидуум есть все. Микрокосм по-своему отражает в себе весь макрокосм. (…) Путь к богопознанию ведет через деятельность, через творческое осуществление личностью своей „virtu“ и своей „идеи“»[345].
Становится понятным, почему именно в эпоху Возрождения от интересующего нас термина образовываются такие понятия, как «виртуозность», «виртуоз» (т. е. «человек-художник», творчески реализующий свое virtú), проникающие почти во все европейские языки. С окончанием эпохи Ренессанса, этого возвращения к бесценному наследию античной культуры, интересующий нас термин опять теряет свою актуальность для европейского сознания.
Неожиданный поворот в его понимании наступает в конце XX века в связи с развитием компьютерных технологий. По наиболее распространенной версии, Жарон Ланье, создатель первой фирмы, выпускающей бытовые виртуальные компьютеры, в начале 80-х годов вводит в оборот выражение «виртуальная реальность» для обозначения некой реальности, существующей лишь в момент работы компьютера. Понятие «виртуальные частицы», обозначающие некие частицы, объективно доказать существование которых невозможно, появляется и в современной физике. Понятие «виртуальный», несущее именно подобную смысловую нагрузку, прочно вошло в сферу нынешней масскультуры и активно пропагандируется ею. С.С. Хоружий, осмысливший данный феномен с философских позиций, дает ему следующее определение: «Виртуальная реальность, – недо-выступившее, недо-рожденное бытие, и одновременно – бытие, не имеющее рода, не достигшее „постановки в род“. Это – недород бытия в смысле таксономических категорий, равно как и в смысле порождающего бытийного импульса»[346].
Развивая далее свою мысль, философ предупреждает о той серьезной причине, симптомом которой и является нынешняя виртуальность: «Гипертрофия „виртуалистического мировосприятия“, глобальная трансляция и тиражирование его установок служат, как весьма можно предположить, симптомами энергетического упадка человека и мира – упадка не количественного, а качественного: убыли формостроительной воли и способности»[347]. Перед нами пример извращения значения слова и подмены его исконного смысла на прямо противоположный. Понятию, обозначавшему вселенский закон, высшую и конечную реальность, в наше время пытаются придать смысл недовоплотившейся, т. е. фактически несуществующей реальности, некой компьютерной или научной фикции. Подобное фундаментальное искажение смысла слова, напрямую характеризовавшего в древнеримской культуре одно из наиболее сакральных начал, служит красочной характеристикой современной эпохи духовной деградации, забвения и презрения всех первоначал, которые были священны для наших предков.
Кельтская традиция сохранилась гораздо хуже римской или греческой, однако данные языка свидетельствуют, что понятие о космическом законе существовало и у кельтов. Так, при описании восстания наемников против карфагенян в III в. до н. э. Полибий упоминает вождя галатов Автарита[348], а в более поздние времена, уже после римского завоевания Галлии, в Арденнах засвидетельствован культ Artahe, от имени которого произошло название современного Арде[349]. Наконец, возможно, именно от этого понятия произошло имя короля Артура, самого знаменитого кельтского правителя Британии, которое традиционно выводится от слова «медведь». Не будем забывать, что в средневековом эпосе именно Артур, став верховным правителем Британии, подавил царивший в стране хаос на социальном плане и установил тот справедливый порядок, который впоследствии неоднократно идеализировался в более позднюю эпоху. Поскольку вселенский закон в Индии был тесно связан с образом колесницы, которую индоевропейцы видели в созвездии Большой Медведицы, стоит отметить, что в Англии данное созвездие называлось колесницей короля Артура.
В современном французском языке помимо термина «ритуал», заимствованного всеми европейскими народами из латыни, есть также термины rite – «обряд, ритуал», rotace – «колесообразное», roti – «жаркое» и rotir – «жарить, поджаривать», «жечь», «палить». В английском языке родственными словами можно считать retain – «удерживать», «поддерживать», «сохранять», retribution – «возмездие», «кара», очевидно, right – «право», «справедливость», «выпрямлять», «исправлять», rite – «обряд», «церемония» и rotate – «вращать», «чередовать». В немецком языке ими являются Ritus – «религиозный обряд», Rot – «красный цвет» и, может быть, Ritter – «рыцарь», который первоначально мог восприниматься как защитник мирового закона. Данные термины указывают на существование у основных современных европейских народов представлений о вселенском законе, уничтоженных, вероятно, с принятием христианства.
В силу своей лучшей сохранности больше данных дает скандинавская традиция. В ее мифологии Рати – это название бурава, с помощью которого бог Один добыл себе мед поэзии. Далее, это слово присутствует в первой половине имени белки, бегающей по мировому дереву. Больше в скандинавской мифологии этот корень не встречается, однако в древнеисландском языке зафиксирован глагол retta, инфинитив rita – «устанавливать». Там же встречается и прилагательное rettr – «правильный»; в качестве существительного этот термин означал также «право, закон», хотя те же понятия у скандинавов передавались словом lag (log). М. Стеблин-Каменский, описывая первоначальный быт поселившихся в Исландии скандинавов, сохранивших на этом острове свое традиционное родовое догосударственное устройство, подчеркивает, что для обозначения исландского общества как целого в исландском языке не было никакого другого слова, кроме слова, которое одновременно обозначало и «закон» и «общество», тогда как для обозначения норвежского, шведского или любого другого общества, в котором существовало государство, в исландском языке употреблялось слово, которое одновременно означало и «королевство» или «государство» и «насилие». О том, какое огромное значение придавали исландцы закону в отношениях между свободными людьми, свободными от гнета государства, свидетельствует крылатая фраза из «Саги о Ньяле»: «Ведь закон хранит страну, а беззаконие губит»[350].
Отмечая, что право у скандинавов было шире, нежели просто свод юридических норм, и включало в себя мораль и понятия меры и пропорции, А.Я. Гуревич так оценивает различия между двумя обозначавшими его терминами: «…Термин, обозначавший у скандинавов право, – rettr. В поле его значений как прилагательного входят понятия „прямой“, „точный“, „правильный“, „справедливый“. В качестве существительного rettr означает „право“, „закон“. Понятия log и rettr близки, но не идентичны. Как и log, rettr может обозначать закон страны или церковное право. ‹…› Однако термин rettr чаще выражал не понятие права как состояния людей, объединяющихся в обществе, а содержал характеристику личных прав индивида, его статуса. Поэтому он обозначал также и возмещение за нарушение этих прав: rettr sinn обозначало „его возмещение“…»[351]. Можно высказать предположение, что наличие у скандинавов двух терминов для обозначения права было, в конечном итоге, обусловлено их изначальным восприятием вселенского и земного порядков как двух различных явлений. По мере исчезновения памяти о первом явлении обозначающий его термин начал переноситься на земной порядок, что и создало наблюдаемый дуализм.
В заключение данного обзора следует отметить два возможных случая знакомства германских племен со славянским названием вселенского закона. Понятно, что термин рота не вытеснил у них собственное обозначение вселенского закона, но отразился в личных именах и географических названиях. Оба случая имели место в зоне славяно-германских контактов на юге и севере Европы. В первом случае имеется в виду имя короля Ротари, который правил с 636 по 652 г. захватившим Северную Италию племенем лангобардов и, по иронии судьбы, в 643 г. кодифицировал обычное право этого племени (т. н. эдикт Ротари). До своего вторжения в Италию лангобарды в IV–VI вв. обитали в бассейне среднего Дуная, где контактировали с местными славянами. Контакты со славянским миром не прервались и после переселения германского племени на свою новую родину. Разнообразные источники рисуют картину весьма тесных связей между славянами и лангобардами на протяжении достаточного длительного периода, в течение которого отдельные представители германцев имели более чем достаточно времени для того, чтобы изучить язык и культуру своих соседей. Один из первых контактов подобного рода описывает Прокопий Кесарийский в рассказе о событиях 548–549 гг., когда в результате междоусобной борьбы за лангобардский трон один из претендентов был убит, а его сын Ильдигес бежал к славянам. «Когда же между гепидами и лангобардами, как я уже рассказывал, возникла вражда, то Ильдигес с теми из лангобардов, которые последовали за ним, приведя с собой большой отряд славян, тотчас же прибыл на помощь к гепидам, и гепиды надеялись, что они вернут ему королевский трон. Вследствие заключенного в данный момент мира между гепидами и лангобардами Аудин тотчас же стал просить гепидов, как ставших друзьями, выдать ему Ильдигеса. Но гепиды решили ни в коем случае не выдавать этого человека; поэтому они предложили ему уйти отсюда и спасаться, куда он хочет. Ни минуты не колеблясь, он со своими спутниками и несколькими добровольцами из гепидов вновь ушел к славянам. Поднявшись оттуда, он направился к Тотиле и готам, имея при себе войско не меньше чем в шесть тысяч; прибыв в Венетскую область, он встретился с несколькими отрядами римлян, которыми командовал Лазарь, вступил с ними в бой, обратил их в бегство и многих убил. Но он не соединился с готами, а, перейдя реку Истр, удалился в область славян»[352]. Итак, мы видим лангобардского принца, который со своим окружением весьма долго живет у славян, часть которых принимает участие в его начинаниях, и при каждом неблагоприятном повороте судьбы возвращается в их область.
Традиция искать политическое убежище в славянских землях сохранилась среди лангобардской знати и в следующем столетии, уже после переселения этого племени в Северную Италию. Павел Диакон так описывает события 664–666 гг.: «Наконец, когда Луп (правитель лангобардского герцогства Фриульского, поднявший мятеж против своего короля. – М.С.) был таким, как мы рассказывали, образом убит, Арнефрид, сын его, пожелал вместо отца завладеть в Фороюли герцогской властью. Но, боясь войска короля Гримоальда, бежал к народу славян в Карнунт, который обычно неправильно называют Карантанум. Позднее он явился вместе со славянами, как бы намереваясь с помощью их войск вернуть себе герцогскую власть; возле крепости Немас, неподалеку от Фороюли, напали на него фриульцы, (и) он погиб»[353]. Аналогичное намерение лангобардский историк фиксирует и у герцога Пеммо, который из-за немилости короля Лиутпранда (правил в 712–744 гг.) задумал со своими людьми бежать в страну славян. Длительные пребывания знатных германских изгнанников в славянской среде, имевшие место как до, так и после правления Ротари, предполагают овладение ими языком принимающей стороны, выступавшей к тому же и в качестве их военных союзников. Данное предположение более чем вероятно, однако не подкрепляется надежными источниками.
Зато источники свидетельствуют о знании славянского языка одним из представителей лангобардской знати как раз во время правления короля Ротари. Речь идет о герцоге Беневентском Радоальде (ум. в 646 или 647 г.), который даже никогда не жил среди славян. Просто проведя детство в Чивидале, по соседству с альпийскими славянами, герцог уже в силу этого выучил их язык, что весьма пригодилось ему во время нападения славян в 642 г. на итальянский город Сипонт. Благодаря военной хитрости они убили местного герцога Айо и немало людей из его окружения. «Как только об этом было сообщено Радоальду, тот, быстро явившись, заговорил с этими славянами на их собственном языке. Когда же он сделал их вследствие этого менее воинственными, то, тотчас напав на них и подвергнув их большому избиению, он и за смерть Айо отомстил, и тех врагов, которые еще оставались, вынудил бежать из тех пределов»[354]. Так знание славянского языка помогло лангобардскому герцогу усыпить бдительность славян и напасть на них врасплох. Кроме того, на основании сообщения Павла Диакона знание этого языка предполагают у прадеда историка, который в 610 г. был уведен аварами в плен, бежал оттуда и во время своих скитаний по чужим землям был спасен славянской женщиной, накормившей его и указавшей путь в Италию. Таким образом, мы видим, что между славянами и лангобардами на протяжении нескольких веков существовали устойчивые контакты, создававшие необходимую основу для различного рода заимствований. В момент рождения Ротари (около 606 г.) обстановка для этого была самая благоприятная – как отмечают историки, до 610 г. отношения между двумя народами были мирными и союзническими; в 603 г. король лангобардов Агилульф именно в союзе со славянами захватывает города Кремону и Мантую. Подобный характер славяно-лангобардских отношений делает весьма вероятным заимствование лангобардами славянского названия вселенского закона, которое было включено в имя их будущего короля.
Второй интересующий нас случай произошел примерно в ту же эпоху и связан с последним королем фризов Радбодом (ум. в 719 г.), ведшим долгую неравную борьбу с правителем франков Карлом Мартеллом. Различные источники указывают, что в период неудач фризский король укрывался в некой «стране Фосите» (остров, посвященный древнему фризскому божеству), расположенной на границе между фризами и датчанами. Хеймреих сообщает: «В 690 г. резиденция Радбода и его двор находились в Фостенланде, в построенной им крепости Ротенбурге, называемой иначе Фостенбургом. Тот же Радбод собрал из северных фризов войско и с ним… победил, наконец, Карла Мартелла»[355]. По поводу того, где именно находился этот священный остров, высказывались разные мнения, однако нас в данном случае больше интересует не его конкретное местонахождение, а то, что королем фризов на нем была построена крепость, названная в честь роты. В том, что это не было случайным совпадением, нас убеждает как характер фризского языческого бога, которому был посвящен этот остров, так и данные о проникновении в земли фризов части западнославянского племени волотов-велетов. Поздние голландские летописи неоднократно упоминают о мирном расселении велетов между фризами и нижними саксами в северной Голландии и о построении ими около Утрехта славянской крепости Вильтенбург. Достоверность этих известий подкрепляет английский писатель VIII в. Беда Преподобный, отмечавший, что около 700 г. франкский майордом Пипин, покоривший и насильно крестивший фризов, назначил св. Виллиброрду местом для епископского престола новообращенной им страны «свою славную крепость, которая называется у тех народов древним именем Вильтабург, т. е. городом Вильтов, а на языке галлов Trajectum (Утрехт)»[356]. Это был не единственный славянский топоним в тех местах, поскольку в ходе своей деятельности Виллиброрд освятил церковь «у древнего Славенбурга, что теперь Vlaerdingen»[357]. Все указывает на то, что переселившиеся туда волоты жили в мире с окружающими их фризами и саксами, причем источники отмечают, что все три народа избирали себе общих вождей и столицей у них был славянский город Вильтенбург. Выселившаяся во Фризию группа волотов была сравнительно немногочисленна и через некоторое время растворилась в германском окружении. Однако есть все основания полагать, что западные славяне оказали определенное духовное воздействие на своих фризских соседей. Об этом говорит как выбор в качестве общей столицы именно славянского Вильтенбурга (а политический центр в древности очень часто являлся одновременно и сакральным центром), так и характер верховного фризского бога Фосите: «Этот бог обладал двойственной природой. Он был одновременно богом войны и правосудия, а поэтому и пользовался самым высоким почетом, особенно у фризов.
Центром культа этого бога была его собственная страна Фосите. Там находилась резиденция последнего короля фризов Радбода (ум. в 719 г.) и его замок. Облик „страны Фосите“ рисуется в неясных, трудно поддающихся идентификации чертах, и мнения относительно ее местонахождения крайне противоречивы»[358]. Наличие у верховного бога военной и юридической функций вкупе с его связью с морской стихией делает его очень похожим на славянского Перуна. Подобные черты могли быть результатом индоевропейского наследия, однако типологически верховный бог должен был быть связан с вселенским законом. Фризского его названия мы не знаем, но воздвигнутая Радбодом на священном острове крепость названа им в честь роты. С одной стороны, это название более чем логично: крепость вселенского закона находится именно на острове бога-хранителя этого закона. С другой стороны, это свидетельствует о славянском влиянии как в отношении названия данного космического принципа, так, по всей видимости, и в отношении характера самого бога Фосите. Следует отметить, что, когда около 770 г. Людгер, еще один христианский святой, добрался до острова Фосите, он разрушил там все языческие святилища, на их месте воздвиг христианскую церковь, а награбленные сокровища священного острова прихватил с собой. По приказу императора Карла Великого треть из них была передана Утрехтской епархии, в том числе и предположительно идол Фосите. Рассмотренные обстоятельства славяно-фризских контактов также говорят в пользу заимствования северным германским племенем названия славянского вселенского закона у волотов-велетов.
Приведенный в этой главе материал дает нам возможность утверждать, что обозначающий вселенский закон термин изначально был присущ практически всем индоевропейским языкам от Индийского до Атлантического океана и восходит к единому индоевропейскому понятию. В силу различных исторических обстоятельств степень cохранности и круг его значений в различных языках далеко не одинаковы, однако пример Греции красноречиво свидетельствует, что даже при отсутствии профессионального жречества и забвении основного значения этого слова весьма многие связанные с ним представления способны храниться в народной памяти на протяжении многих столетий. Путем сравнительного анализа возможно установить основные значения этого индоевропейского термина, которые, очевидно, были свойственны на ранней стадии развития и всем индоевропейским языкам.
В первую очередь этот термин, несомненно, означал вселенский закон, справедливость, порядок, истину и правду. Благодаря многообразным формам своего проявления во внешнем материальном мире этот универсальный первопринцип, по всей видимости, изначально обладал достаточно большим кругом значений и ассоциаций. Поскольку в соответствии с ним осуществлялось движение всех небесных тел, этих наиболее видимых частей Первобога, весьма рано должна была возникнуть его связь с временем, небесным порядком и гармонией, в том числе музыкальной. В силу заключенной в самом названии вселенского закона идеи движения он одновременно ассоциировался как с огнем и красным цветом, так и с течением воды. С изобретением человечеством колеса немедленно возникает его вторичная ассоциация с колесом и колесницей. Другим его значением стал обряд, периодически повторяющийся священный ритуал, жертвоприношение, необходимые для поддержания Вселенной и господства в ней закона и порядка. Следующий комплекс значений вселенского закона – это изреченное слово, текущая речь (в этом плане не исключена его связь с русским словом «рот»); в своем развитии они трансформируются в понятия клятвы и договора, совершаемых обязательно в соответствии с мировым законом и являющихся его частными проявлениями, а также частного земного закона, определяющего должное поведение человека. В этом последнем проявлении он распространяется на все сферы человеческой деятельности, от любви до войны, соответствие либо несоответствие ему определяет и посмертную участь человека, а с возникновением государства в случае Спарты этот закон становится даже государственным. И значение справедливого закона/порядка, и значение обряда, и значение договора/клятвы закономерно приводят к распространению рассматриваемого термина на область суда и правосудия, непосредственно связанного со всеми тремя значениями. Наряду с этим могла появиться идея возмездия, в первую очередь божественного, по отношению к нарушителям небесной и земной правды или должным образом заключенного договора. Таков, очевидно, основной исходный круг понятий, присущий этому многозначному индоевропейскому термину, который в равной степени пронизывает космический уровень, общественное устройство и жизнь отдельного человека.
После того как индоевропейское единство распалось, у каждого из входивших в эту языковую семью народов степень восприятия вселенского закона и, соответственно, сохранность обозначающего его понятия стала различной. В наибольшей степени память о сакральной основе мироздания сохранилась у индийских ариев, у которых космический закон был известен под именем риты. Вслед за ней по уровню сохранности идут иранская Арта и греческая арета. Насколько позволяют судить имеющиеся в распоряжении историков источники, у большинства остальных индоевропейских народов это понятие сохранилось в менее удовлетворительном состоянии. Что касается славян, то рассмотренные в настоящей главе данные позволяют говорить о том, что их собственное название вселенского закона оказало некоторое влияние на различные народы, контактировавшие со славянской общностью как на западе, так и на востоке. При этом заимствование термина происходит примерно в одно и то же время. Во всяком случае, сакские источники фиксируют использование славянской роты в V веке н. э., лангобардские – в начале VII в., а фризские – в конце VII в. Данное обстоятельство позволяет сделать вывод, что понятие вселенского закона играло достаточно большую роль в жизни славян в эпоху праславянской общности и оказывало эпизодическое влияние как на их непосредственных соседей на западе, так и на ираноязычный мир, с которым они соприкасались на востоке.
Глава 4. Рота в Древней Руси
Сделанный нами на основании исторических источников вывод о том, что понятие роты существовало еще в праславянскую эпоху, подкрепляется и данными лингвистики. Интересующее нас слово присутствует почти во всех славянских языках: сербск. – церковно-слав. ротити ся – «клясться», сербохорв. рота – «присяга», словенс. rota – «присяга», rotiti – «заклинать», rotan – «клятвопреступный», чеш. rotiti – «роптать, сердиться», «проклинать», польск. rota – «присяга», «присяжный лист», в.-луж. rocic so – «клясться». Данные языка убедительно свидетельствуют о едином мировосприятии различных славянских народов, сохранявшемся, несмотря на мощное воздействие двух форм христианства, достаточно долго. Во всяком случае, около 1240 г. Бартоломей Английский в своей энциклопедии записал, что «славы – это богемы, полоны, метаны, вандалы, рутены, далматы и харинти. Все они понимают друг друга и во многом схожи как в отношении языка, так и в отношении права, однако отличаются в отношении вероисповедания»[359]. Итак, отмечая различия в сфере культа, иностранный автор фиксирует значительную степень схожести западных и южных славян в отношении права, являвшегося, в конечном итоге, земной проекцией космического закона. Надо полагать, что подобное родство в восприятии справедливости было обусловлено у различных славянских народов единым восприятием роты их далекими языческими предками.
Прежде чем перейти к рассмотрению истории этого термина на Руси, следует отметить два любопытных случая эпизодического заимствования восточной частью славянства обозначения вселенского закона у других народов, указывающие на их длительные контакты с индоиранским миром. Описывая нашествия авар на славян в VI в., византийские историки отмечают, что перед одним из них аварский хан Ваян «отправил посольство к Давриту и к важнейшим князьям склавинского народа, требуя, чтобы они покорились аварам»[360], но получил гордый отказ. Очевидно, что вторая часть имени склавинского правителя Давриты идентично рите – индийскому названию вселенского закона. Данный факт может быть объяснен не только сохранением родственного термина с индоевропейских времен, но и (что более вероятно) контактами славян с обитавшими в Северном Причерноморье индоарийскими племенами синдов и тавров уже в историческую эпоху. Наиболее наглядным доказательством этих контактов является само название антов – восточной части славянства в эпоху Великого переселения народов. Подчеркивая, что это племенное название может быть удовлетворительно объяснено только из древнеиндийского языка, О.Н. Трубачев пишет: «Остается наиболее импонирующее нам сближение Αντα с др.-инд. anta – „конец, край“, безукоризненное фонетически, а также семантически, потому что так называемые анты в самом деле занимали юго-восточный край славянства, известный впоследствии под названием Украины. Следует отметить, что как раз иранцы так назвать славян не могли, поскольку обозначали конец и край своим особым древним диалектным словом karena – (авест. karana-, осет. kaeron и т. д.). Назвать восточных славян термином anta, видимо, могло в силу изложенного индоарийское оседлое земледельческое население Юга Украины…»[361]. Следует отметить, что есть косвенные свидетельства в пользу того, что этим причерноморским арийцам был известен термин puma и они использовали его по отношению к некоторым народам данного региона: «Название Eteobroton на Боспоре (Rav. An. IV, 3), ср. Britani (Rav. An. V, 10), явно гибридно из греч. Ετεο – „подлинный“ и др.-инд. bhrita – „наемный“. Такое обозначение заставляет вспомнить Αναρτοι, народ в Дакии, на север от Тисы (Ptol.). Его сближали с иран., авест. anarata – „вражеский“, „незаконный“, но ср. также и др.-инд. Anrta – „плохой, неистинный, неправильный“, „ложный“ и – по противопоставлению – др.-инд. rta „истинный“, что, видимо, и подверглось греческому переводу в боспорском Eteobroton»[362]. Если данное предположение верно, то заимствование склавинами названия риты от причерноморских индоарийцев становится весьма вероятным.
Другой интересующий нас факт связан с хорошо известным описанием мусульманскими географами трех центров Руси языческого периода. Вот что об этом, например, пишет в «Книге климатов» Абу-Исхак аль-Истахри аль-Фарси в середине X века: «Русы состоят из трех племен, из коих одно ближе к Булгару, а царь его живет в городе, называемом Куяба, который город больше Булгара; другое племя называют Славия и еще племя называют Артания, а царь его находится в Арте. Купцы прибывают в Куябу. Что же касается Арты, то никто туда не входит, ибо они (жители) убивают всякого чужестранца, путешествующего по их землям; только что они спускаются по воде и торгуют, но никому не рассказывают о своих делах и не допускают никого провожать их. Из Арты вывозятся черные соболи и свинец. Русы сожигают тела свои, когда умирают, а с богатыми их сожигаются девушки для блаженства душ своих. Одежда их – короткие куртки. Арта находится между Хазаром и великим Булгаром, который граничит с Румом к северу»[363]. Весьма похожее описание трех групп русов встречается и у ряда других восточных писателей. Подавляющее большинство историков, анализировавших данное сообщение, отождествляли с Куябой Киев, а со Славней – земли ильменских словен еще до построения ими Новгорода. Что касается загадочной Арты или Арсы, как она называется в ряде рукописей, то относительно ее местонахождения было выдвинуто около десятка различных гипотез, ни одна из которых не подтвердилась. Указание на вывозящийся оттуда мех черного соболя предполагает скорее ее северную локализацию, а заявление, что она находится между Хазарией и граничащей с Румом (Византией) великой Булгарией (Дунайской Болгарией) – на южное ее расположение.
Большинство арабских источников повторяют этот фрагмент с незначительными вариациями, и лишь рукопись ал-Идриси сообщает новые подробности о загадочном третьем городе: «Русов три группы. Одна группа их называется рус, и царь их живет в городе Куйаба. Другая группа их называется ас-Славийа, и царь их живет в городе Славе, и этот город на вершине горы. Третья группа называется ал-Арсанийа, и царь имеет местопребывание в городе Арсе. Город Арса красивый и (расположен) на укрепленной горе между Славой и Куйабой. От Куйабы до Арсы четыре перехода и от Арсы до Славии четыре дня. И доходят мусульманские купцы из Армении до Куйабы. Что же касается Арсы, то согласно рассказу шейха ал-Хау-каля туда не входит ни один чужеземец, ибо убивают там всякого чужеземца. И не позволяют никому входить с целью торговли в свою землю. Вывозят оттуда шкуры черных леопардов, черных лисиц и олово (свинец?). И вывозят это все оттуда торговцы из Куйабы. Русы сжигают своих мертвых, а не зарывают в землю»[364]. Согласно этому известию, загадочная Арса-Арта находится в самом центре Руси, на равном расстоянии между Киевом и ильменскими словенами, и при этом не сама ведет торговлю своими товарами, а за ними приезжают купцы из Киева.
Судя по тому, что третий центр был известен даже на далеком мусульманском Востоке, во внутренней жизни Руси он играл достаточно значительную роль наряду с Киевом и будущей новгородской землей. Тем страннее полное молчание о нем отечественных летописей, которые в целом достаточно подробно описывают ведущую роль Киева и Новгорода в дальнейшей истории Руси. Третий же центр никак не проявлял себя с началом регулярного летописания, и ни один отечественный письменный источник ни разу не упоминает его названия, под которым он был известен мусульманским авторам. Подобное внезапное исчезновение одного из трех центров более чем необычно. В этом перечне странностей не кажется уже из ряда вон выходящим обстоятельством и то, что Арта-Арса до сих пор не обнаружена археологами. Не претендуя на точную географическую локализацию загадочного третьего центра, рискну высказать гипотезу, объясняющую хотя бы часть из перечисленных выше странностей. Возможно, что русские информаторы мусульманских путешественников поведали им сакрально-символическую схему своей страны, которую мусульмане приняли за реальное географическое описание Руси. В главе 7 части I книги «„Голубиная книга“ – священное сказание русского народа» было показано, что индоевропейское общество еще в период своей общности делилось на три сословия, причем в более поздний период изначальное деление было свойственно и языческой Руси. В свете этого возможно допустить, что упоминаемые восточными авторами три города Руси соотносились с этими тремя сословиями и были их сакральными центрами. О принципиальной возможности подобной географической локализации основополагающего принципа общественного устройства свидетельствуют индоевропейские аналоги. Так, например, в Иране три священных огня в трех главных храмах символизировали три общественные сословия: Атар-Фарнбаг являлся огнем жречества (храм в Парсе), Атар-Гушнасп – огнем светской власти и воинства (храм в Шизе), Атар-Бурзин-Михр – огнем земледельцев и скотоводов (храм в Хорасане). В других частях индоиранского мира существовали даже не храмы, а целые города, соотносимые с теми или иными сословиями. В позднескифское время в Крыму зафиксированы крепости Напит и Палакий. По мнению исследователей, напит в скифском языке означает поселение вообще, а слово палы – «воины». Поскольку практически в каждой крепости находились воины, само название «крепость воинов» указывает не на наличие в ней вооруженной охраны, а на связь ее с военным сословием, в то время как Напит, по всей видимости, соотносился с сословием общинников.
Арриан упоминает существовавший в Индии город брахманов, взятый Александром Македонским: «Сам же Александр пошел к какому-то городу брахманов, так как узнал, что кое-кто из маллов бежал туда»[365]. Поскольку брахманы были в каждом индийском городе, этот загадочный город вновь, очевидно, каким-то особенным образом соотносится со всем жреческим сословием страны в целом. Город этот был достаточно крупный, ибо, как свидетельствует Арриан, при штурме было уничтожено около пяти тысяч его обитателей. Однако одновременно с этим или в последующий период в Индии существовал еще какой-то соотносимый с духовной властью центр, слухи о котором дошли до Флавия Филострата: «Подлинные мудрецы обитают между Гифасом и Гангом, а до этих краев Александр (Македонский) не добрался… Впрочем, когда бы даже он переправился через Гифас и покорил всю округу, то все-таки не мог бы взять крепость, где обитают мудрецы… ибо мудрецы не бьются с пришельцами, но отражают их, посылая знамения и бедствия, – такова их святость и богоизбранность»[366]. В описании этого места возникают некоторые чудесные черты: «Холм, на коем обитают мудрецы, высотою примерно с афинский Акрополь, стоит посреди равнины и одинаково хорошо укреплен со всех сторон, будучи окружен скалистым обрывом. ‹…› А еще путешественники, по их собственным словам, видели облако вокруг холма, на котором обитают индусы, по желанию становясь то видимыми, то невидимыми. Есть ли у крепости ворота, узнать невозможно, ибо облако вокруг нее не позволяет увидеть, повсюду ли стена глухая или где-то имеется просвет»[367]. В этом священном месте побывал греческий неопифагореец Аполлоний Тианский, ссылаясь на которого Филострат сообщает следующие интересные подробности: «Сам Аполлоний рассказывает, что следом за индусом чаще всего поднимался в крепость с южной стороны и прежде всего видел там колодец глубиною в четыре сажени, из полости коего исходило яркое сияние… Обитают мудрецы в самой середине Индии, и на холме у них устроено возвышение, изображающее пуп земли: здесь они возжигают священный огонь, который якобы получают от лучей Солнца»[368]. Как видим, при описании города мудрецов органично сочетаются две уже встречавшиеся нам выше подробности: нахождение города в самом центре страны, отождествляемом с пупом всей Земли (о важности этого понятия см. комментарий к «Голубиной книге»), и наличие там священного огня, напоминающего об иранской традиции.
Приведенные факты свидетельствуют о том, что соотношение городов с тремя сословиями общества было типично для восточной половины индоевропейского мира и, в силу отмеченных многочисленных параллелей между отечественной и индо-иранской мифологиями, подобная традиция вполне могла существовать и в языческой Руси. Если Киев и Славию гипотетически можно соотнести с торгово-производительным и военным сословием, то Арта-Арса почти несомненно являлась городом жречества. В пользу этого говорят как название города, в первом варианте в точности соответствующее иранскому названию вселенского закона, так и все приписываемые ему арабскими писателями черты. Он располагался в самом центре Руси, практически на равном расстоянии от земель полян и ильменских словен, занимавших крайние пределы страны на юге и на севере (данное утверждение, возможно, не следует понимать буквально, поскольку не исключено, что для сообщившего это иностранцу руса гораздо важнее было то, где должен находиться священный центр страны в соответствии с его мифологической картиной мира, нежели его реальное географическое положение). Судя по всему, сами жители Арты-Арсы не вели торговли, а имеющиеся в их области товары сбывали купцы из Киева. О сакральности этого третьего центра русов свидетельствует и его недоступность для иноземцев, в отличие от двух других. Если аналогичная недоступность священного города мудрецов в Индии объясняется сверхъестественным могуществом его обитателей, то здесь все более прозаично: пришельцев попросту убивают. Следует отметить, что мотив «невидимости» для посторонних высшего сакрального центра весьма широко распространен – достаточно вспомнить град Китеж, Беловодье или Шамбалу.
Единодушно приводимая всеми мусульманскими авторами причина недоступности Арты-Арсы также заслуживает внимания, поскольку те же авторы неоднократно подчеркивали исключительное гостеприимство восточных славян и их заботу о чужеземцах. Так, например, Ибн Руст пишет о русах: «Гостям оказывают почет и обращаются хорошо с чужеземцами, которые ищут у них покровительства, да и со всеми, кто часто бывает у них, не позволяя никому из своих обижать или притеснять таких людей. В случае же, если кто из них обидит или притеснит чужеземца, помогают последнему и защищают его»[369]. На этом общем фоне регулярные убийства иностранцев в Арте, самом центре страны, выглядят явной аномалией, которая становится еще большей от того, что в конечном итоге и сами ее жители были явно заинтересованы в международной торговле, пусть даже и через посредство киевских купцов. Все это наводит на мысль, что перед нами не просто убийства, а ритуальные жертвоприношения нарушителей запрета посещать сакральный центр и осквернять тем самым его чистоту. В свете этого описание арабских авторов начинает в значительной степени напоминать достаточно распространенное мифологическое восприятие пространства: «В горизонтальной плоскости Космическое пространство становится все более сакрально значимым по мере движения к центру, внутрь, через ряд как бы вложенных друг в друга „подпространств“ или объектов (типовая схема: своя страна – › город – › его центр – › храм – › алтарь – › жертва, из частей которой возникает новый Космос)…»[370]. В рассказах иностранных путешественников вся эта схема полностью не сохранилась, от нее остались два наиболее важных момента – указание на центр страны и совершающиеся там человеческие жертвоприношения. Если Арта-Арса восточных источников действительно была городом, соотнесенным со жреческим сословием языческой Руси, то становится понятным полное молчание о нем христианских летописей, равно как и то, что после 988 г. он действительно не играл абсолютно никакой роли в отечественной истории. Рассмотренные факты говорят о том, что славяне в древности были знакомы с индийским и иранским (если восточные авторы правильно зафиксировали название третьего центра Руси) названиями вселенского закона. То обстоятельство, что несмотря на эти культурно-религиозные контакты у славян сохранилось в употреблении собственное обозначение универсального первопринципа, свидетельствует о наличии у них ранней и мощной традиции оригинального восприятия космического закона. В языческий период наиболее наглядно эта традиция проявилась при заключении Русью международных договоров с Византией и Болгарией, рассмотренных выше. Наряду с этими хорошо изученными памятниками рота упоминается еще в одном, практически неизвестном источнике той эпохи. Речь идет о Пневищинском камне (рис. 2), датируемом предварительно VI–VII вв. На этот камень, обнаруженный в 1873 г. в местечке Пневище Могилевской губернии владельцем здешних мест князем А.М. Дондуковым-Корсаковым, нанесена самая большая из известных на настоящий момент надпись, исполненная не кириллицей, а предшествовавшей ей русской дохристианской письменностью. Как установил князь, расспросив привезшего этот камень из леса крестьянина, который хотел использовать его для строительства местной церкви, первоначально загадочный камень с надписью стоял на самой вершине весьма внушительного кургана из камней, который был примерно 30 м в длину, 15 м в ширину и столько же в высоту (не говоря о том, что сооружение подобного кургана уже само по себе требовало в старину огромных усилий, стоит отметить, что вся округа была весьма бедна камнем, который, следовательно, приходилось доставлять издалека). Под курганом не было обнаружено никакого захоронения, из чего следует, что камень был поставлен в память о каком-то событии. Сам Дондуков-Корсаков связал свою находку с летописным известием от 984 г. о победе воеводы Волчьего Хвоста над восточнославянским племенем радимичей на реке Пещаны, протекавшей неподалеку от тех мест.
Однако перевод надписи, осуществленный автором этих строк и обоснованный в специальном исследовании, не подтвердил предположения князя. Надпись на Пневищинском камне гласит: «А граду прави(ть) наряд Q Одари теперь род Щека, к(ои) мог ущити(ть) роту а // Вот княже речь дал»[371]. Слово «наряд» в древности означало «порядок, устройство» и впервые упоминается в летописи в связи со знаменитым призванием варягов. Обращаясь к Рюрику и его братьям, послы восточных славян заявили: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет»; однако это современный перевод речи послов, а в древнерусском оригинале ПВЛ на месте слова «порядок» стоит «наряд». Как и на камне, в отечественных летописях этот термин неоднократно упоминается в связи с городским устройством. Так, под 6658 г. в Ипатьевской летописи читаем: «И посылаше к нему, розирая (осматривая. – М.С.) нарядъ его (и) како городъ стоить». Под 6696 г. та же летопись сообщает: «Король же въеха в Галичь, не посади в немь Володимира, но даде весь нарядъ Галичанам и посади в немь сына своего Андрѣя»[372]. Отсутствие наряда могло привести к самым тяжелым последствиям, и Новгородская I летопись под 6662 г. фиксирует: «И възнегодоваша Новгородци, зане не створи имъ наряда»[373]. Таким образом, в предложении на левой части передней стороны Пневищинского камня речь идет о земном порядке, хранить (править) который и завещал горожанам воздвигнувший камень князь. После разделительного знака рыбы надпись на правой части передней стороны прославляет род Щека, который смог защитить (ущитить, см. аналогичный оборот в договоре Игоря с Византией 945 г.) роту – порядок вселенский. Констатация этого факта вполне согласуется с рассмотренными выше представлениями индоевропейцев, согласно которым люди своими активными действиями могли усилить или ослабить космический закон. Щек, как известно, был братом Кия – основателя Киева, и если надпись имеет в виду потомков именно этого персонажа, то это позволяет более или менее точно датировать сам камень. Призыв одарить защитников мироустройства был адресован, судя по всему, к богу или богам – хранителям космического закона, которыми на Руси были, как показано выше, Перун и Волос.
Рис. 2. Пневищинский камень (Источник: Дондуков-Корсаков А.М. Древний памятник «Волчьего Хвоста» в стране Радимичей // Полоцко-Витебская старина, вып. III, Витебск, 1916)
Таким образом, в надписи на передней стороне Пневищинского камня наблюдается очевидный параллелизм между упоминанием земного порядка в левой ее половине и вселенского закона – в правой. Первый, очевидно, мыслился в качестве частного проявления второго на земном уровне, что и обуславливало его ценность. В конечном итоге, ради того, чтобы навечно запечатлеть для соплеменников необходимость соблюдать и сохранять этот драгоценный наряд, и было предпринято это исключительно трудоемкое предприятие. То, что данное указание исходило именно от князя, удостоверяла фраза «Вот княже речь дал», высеченная на задней стороне камня. Обращает на себя внимание и разделительный знак, помещенный на передней стороне Пневищинского камня между двумя предложениями. То, что в качестве его была выбрана фигура рыбы, по всей видимости щуки, вряд ли является случайным. Щука в фольклоре была связана с княжеской властью, поскольку в былине именно ею оборачивается в воде князь Вольга Святославович. В былине «Вольга и Микула Селянинович» так описываются чудесные способности этого князя:
Когда воссияло солнце красное На тое ли на небушко на ясное, Тогда зарождался молодой Вольга, Молодой Вольга Святославович. Как стал тут Вольга ростеть-матереть, Похотелося Вольги много мудрости: Щукой-рыбою ходить ему в глубоких морях, Птицей-соколом летать ему под оболока, Серым волком рыскать да по чистыим полям[374].Помимо этого, рыба в мифологических представлениях разных народов, в том числе и в «Голубиной книге», символизирует собой основу, на которой держится мир. Данный образ вполне перекликается с идеей всеобъемлющего закона, на котором держится как социальная организация общества, так и вся Вселенная. Поскольку сам вселенский закон не находится на поверхности и не доступен обычному зрительному восприятию, ему соответствует скрытый, глубинный смысл, одним из образов которого могла быть обитающая в глубинах вод рыба. Кроме того, рыба символизирует собой водную стихию, а выше уже было показано, что вселенский закон как в Индии, так и на Руси ассоциировался с водой, и «Ригведа» подчеркивала, что рита обитает в этой стихии. Образ рыбы, таким образом, является чрезвычайно емким и многоуровневым символом, перекликающимся на Руси как со вселенским законом, так и с княжеской властью и, в силу этого, чрезвычайно органично вписавшимся в текст надписи, который он делит на две соответствующие друг другу части.
В силу всего этого значимость Пневищинского камня для отечественной истории невозможно переоценить. Во-первых, он наглядно доказывает наличие на Руси собственной самобытной письменности (кстати, генетически родственной с древнеиндийской письменностью брахми), существовавшей задолго до принесенной вместе с христианством кириллицы. Надпись на нем является древнейшим из известных на сегодняшний день памятников русской письменности, и притом самым крупным по объему по сравнению с остальными текстами, исполненными той же самой системой письма. Во-вторых, эта надпись показывает, какое огромное значение наши предки придавали как самому вселенскому закону в целом, так и проблеме правильного общественного устройства – проявлению роты на земном уровне в виде наряда. Тот факт, что древнейшая отечественная надпись была посвящена этой глобальной проблеме, весьма симптоматичен и вполне согласуется с выводом, который был сделан нами независимо от Пневищинского камня на материале заимствования термина рота соседями славян именно в эту эпоху. Надпись на камне самым недвусмысленным образом показывает, что взаимосвязанные друг с другом рота и наряд были основополагающими духовными ценностями наших далеких предков в тот период. В-третьих, возведение такого грандиозного каменного кургана с целью увековечения для потомков воли-завета племенного князя радимичей свидетельствует о том, что процесс зарождения государственности начался задолго до создания Древнерусского государства и с разной скоростью шел не только у полян или новгородских словен, но и у остальных восточнославянских племен.
Как мы можем судить на основании обрывочных, фрагментарных сведений (основная масса источников, по всей видимости, была уничтожена христианством после его водворения на нашей земле), проблема создания истинного общественно-государственного устройства была чрезвычайно важна в ту эпоху. Объективно этот единственно правильный порядок должен был опираться на общие законы мироздания и соответствовать строению Вселенной, а с нравственной стороны – быть основанным на правде и справедливости. Об исключительной значимости этого говорят как Пневищинский камень, так и летописный рассказ о призвании варяжских князей. Как известно, этому событию предшествовало состояние, когда в результате внутренних распрей у северной части восточного славянства «не бѣ в нихъ правды», и именно за обретением этой самый правды и наряда они и отправились на священный остров славянского язычества. Естественно, что правда и наряд были неразрывно связаны с языческой религией. Эту связь справедливо отметил историк-эмигрант М.В. Шахматов: «Свои религиозные и религиозно-нравственные стремления и чаяния древнерусские люди распространяли далеко за пределы области чистой веры. В частности, распространяли они их и на область государственных и правовых явлений. Они стремились строить государство и власть во имя и ради Вечной Правды, лишь ничтожной частью которой была для них правда человеческая, государственная. По представлениям летописей, русские люди уже с древних времен стремились к водворению „правды“ в своей земле»[375]. Очевидно, что уверенность новгородских словен и кривичей в том, что величина и обилие их земли не многого стоят при отсутствии в ней наряда, этой земной проекции роты, практически полностью тождественна с мнением Платона, что при отсутствии ареты-добродетели ни огромные размеры, ни многонаселенность, ни крепкие стены, ни корабли не доставят государству благополучия. Оба эти мнения, разделенные между собой огромным географическим и временным интервалом, несомненно, были обусловлены единым мирочувствованием, восходящим своими корнями к эпохе индоевропейской общности. Создание основанного на Правде общественного устройства и является тем самым великим заветом, который наши далекие предки оставили нам более чем тысячу лет назад, к осуществлению которого постоянно стремился наш народ на протяжении всей своей последующей истории и который до сих пор дорог сердцу каждого истинного русского человека. Естественно возникает вопрос: а что же есть Правда в контексте устройства человеческого общества? По понятным причинам дать ей универсальное определение достаточно трудно, поскольку каждый задавшийся этим вопросом человек может понимать правду по-своему. Тем не менее, бесспорным является факт, что подавляющее большинство людей интуитивно воспринимают Правду как противоположное лжи, обману и любой иной форме несправедливости высшую нравственную ценность, которой все должны следовать. Судя как по письменным источникам, так и по данным фольклора, народ наш вкладывал в это понятие единое содержание, общее для всех его представителей. Рискну дать такое определение Правды применительно к устройству общества: Правда – это то, благодаря чему люди могут жить по-человечески, а не по-скотски. Примем во внимание, что Правда – это часть вселенского закона, его проекция на человеческое общество, и, поскольку благодаря вселенскому закону вещи являются теми, чем они есть, то, соответственно, именно Правда делает человека человеком. Это единое начало проявляется в нашей жизни двояко: изнутри каждого отдельного индивида, который благодаря своим внутренним убеждениям творит правду или неправду, и извне, когда этот индивид в общественной и государственной жизни сталкивается с аналогичными проявлениями внутренней основы других людей. Если в сердце большинства людей, и в первую очередь облеченных властью, живет правда, то она доминирует и в обществе в целом, в противном же случае меньшинству, стремящемуся жить по-человечески, приходится иметь дело с внешним господством Кривды.
Великий древнегреческий комедиограф Аристофан в «Облаках» противопоставляет друг другу эти два противоположных начала. Он вкладывает в уста полухория такую характеристику Правды:
Привет тебе, мудрых речей, Славных святынь хранитель! В словах твоих сладким цветком Скромность и честь сияют. Счастливы, да, счастливы те, Кто тебя знал и ведал.В том же самом произведении выступает и Кривда, которая так прославляет сама себя:
Средь образованных затем меня прозвали Кривдой, Что прежде всех придумал я оспаривать законы. И правду криво толковать и побеждать неправдой. А бочек с золотом литым не стоит это разве: Кривой дорогой приводить к победе дело слабых?[376]Правда играла ключевую роль в общественном сознании не только русского, но и других славянских народов. Весьма примечательна в этом отношении сербская песня «Солнце, месяц и дождь»:
В уголочке три постели, А на них сидят три матки, Каждая сыночка кормит, Кормит, имя выбирает: Одному – так жарко солнце, А другому – светел месяц, Третьему – так тихий дождик. Жарко солнце – для сироток, Светел месяц – для прохожих, Тихий дождик – для пшеницы, А пшеница – для печенья, А печенье – для молодок, А молодки – для юнаков, А юнаки – для народа, А народ всегда – для правды, Ну а правда – в сердце божьем[377].Сама по себе структура этой песни чрезвычайно архаична. В начале речь идет о появлении и предназначении трех ключевых в жизни человека небесных явлениях – солнца, месяца и дождя. Начиная с небесной влаги перед нами начинает разворачиваться последовательная цепь элементов, каждый из которых является предпосылкой для существования последующего. Все земные элементы этого ряда чисто стилистически выделяются буквой «а» в начале каждой строки: небесная влага предназначена для созревания пшеницы, из которой делают печенье, которым питаются молодые женщины, которые нужны молодым воинам-юнакам, а эти, в свою очередь, существуют как для защиты породившего их народа, так и для рождения нового потомства. Перед нами последовательно разворачивается система их последовательно переходящих друг в друга природного, пищевого, сексуального и общественного кодов, обозначаемых ключевыми для каждого кода элементами. Само по себе подобное построение текста чрезвычайно архаично и находит свои соответствия в ведийской традиции, что однозначно говорит о его создании в языческий период. В свете нашего исследования для нас чрезвычайно ценна последняя формула этого ряда, отразившая не только сербское, но и общеславянское представление о предназначении народа в целом: «А народ всегда – для правды». Таким образом, славяне ставили во главу угла не существование народа само по себе, как бы это ни было важно для его сохранения, а существование его на началах Правды. Правда, в свою очередь, оказывается в сердце божьем, т. е. в центре максимальной сакральности всего мироздания. Поскольку бог находится на небе, то круг из связанных между собой элементов оказывается замкнутым. Он начинается небесной влагой, необходимой для существования целого ряда земных явлений, наивысшим из которых оказывается народ, призванный осуществлять правду в своем бытии, и через эту правду оказывающийся вновь связанным с небесным началом, поскольку сама по себе правда находится в самом сердце божества. Понятно, что в ту эпоху, когда Вук Караджич записал эту песнь, под этим богом подразумевался уже христианский бог, однако при ее создании это явно был бог языческий. Для того, чтобы весь этот круг из взаимосвязанных элементов логически замкнулся, необходимо, чтобы бог – обладатель правды был одновременно и богом, в чьем ведении находился и дождь. Сочетание этих двух элементов легко позволяет нам определить, какой же именно бог первоначально подразумевался в этой песне. Им мог быть только громовержец Перун, бывший одновременно и богом мировых вод, в частности дождя, и богом – хранителем вселенского закона, земным проявлением которого и была Правда.
Исследовавшие лексику древнего славянского права, В.В. Иванов и В.Н. Топоров отмечали, что «pravъ имеет отношение к сфере упорядоченного, законосообразного, определяющего функционирование и самого мира (природный аспект) и отношений в обществе (социально-правовой аспект). Специфика славянской традиции по сравнению с другими близкородственными как раз и заключается в архаичной нерасчлененности понятий права, справедливости и закона… Право, правда, справедливость, как и воплощающий их закон, имеют божественное происхождение, исходят от Бога, ср.: божья правда (ср. формулу: а тот став скажет как право пред Богом. Пск. Судн. Грам. 20, стр. 55 и др.), божий суд»[378]. Однако солнце, олицетворяемое нашими предками в облике Дажьбога, как раз и было их богом, от которого и исходила эта божья правда. Весьма примечательно, что данный корень прав-, как отмечают эти лингвисты, имеет в славянских языках на только социально-правовой, но и природный аспект, что также напрямую соотносится с образом дневного светила, помогая понять генезис этого чрезвычайно важного понятия. Описывая заключение Игорем мирного договора с Византией, «Повесть временных лет» дословно приводит слова русских послов, которых послали заключить мир «на вся лѣта, доднеже съяеть слнце и весь мир стоить»[379], а описывая процедуру утверждения договора в Киеве, летописец вновь особо подчеркивает, что «Да аще будеть добрѣ Игорь великии князь да хранить си любовь правую да не разрушится доднеже слнце сьяеть и весь миръ стоить в нынешния вѣки и в будущая»[380]. Как видим, договор между языческой Русью и Византийской империей заключался на все время существования этого мира и сияния в нем дневного светила. Как было показано мною в исследовании о роте, в основе всех международных договоров лежало представление о вселенском законе, который и обеспечивал существование мира в его упорядоченном состоянии. Именно поэтому в договорах с Византией, заключаемых Олегом и Святославом, в качестве богов – гарантов исполнения мирного соглашения с русской стороны фигурируют Перун и Волос, бывшие в своей совокупности богами – хранителями вселенского закона. Игорь клянется одним Перуном, и, возможно, именно поэтому в тексте договора появляется ссылка на солнце. Сам вселенский закон не виден человеческому глазу, и, как было сказано по этому поводу в индийской Ригведе, «законом сокрыт закон» (РВ V.62.1), т. е. во внешнем мире глобальный закон, благодаря которому и существует космос, проявляется посредством других законов, в данном случае тех, которые обеспечивают упорядоченное бытие этого материального мира и сияния в нем солнца. Этот физический порядок, в свою очередь, обеспечивает соблюдение мира между Русью и Византией, договор между которыми должен действовать на все время существования нашей Вселенной, поскольку лишь ее гибель может освободить стороны от его соблюдения. Правдой этот договор прямо не называется, но в описании процедуры его утверждения в тексте летописи нам встречается чрезвычайно любопытное упоминание любвиправой, которую великий князь языческой Руси обещается хранить «в нынешние века и в будущие», пока сияет солнце и весь мир стоит. Если мы к этому добавим, что свод законов, обеспечивавших порядок внутри страны, при потомках Игоря прямо был назван «Русской Правдой», то мы получаем целую иерархию законов, обеспечивающих правильное существование Вселенной и человека языческой Руси. Следы этой иерархии мы видим в Грамоте рижскому архиепископу, данной новгородцами в 1284 г.: «Аже иметь жялобитися васъ кто на Рижяны или Гѣлмино или кто иныи, и вышлите к намъ, а мы правду дамы по божьи правдѣ»[381]. В основе ее лежал невидимый универсальный вселенский закон-рота, в принципе делавший возможность существования упорядоченного бытия. Производной от него являлась божья правда, которая, в свою очередь, обеспечивала как физические законы существования мира, так и нравственно-юридические законы человеческого общества, подразделявшиеся на Правду внутри государства и международное право, обеспечивавшие «любовь правую» между целыми народами. О существовании подобных представлений еще во времена общеславянской общности говорят замечательные слова чешской песни: «Не похвально нам искать правду в Немечине; у нас правда по святому закону, правда, которую принесли отцы наши в эти плодородные страны – через три реки»[382]. Указание на переселение предков чехов в страну, где стали жить их потомки, отсылал слушателей к эпохе праотца Чеха, когда славяне под его предводительством вперые пришли на территорию будущей Чехии. Как совершенно справедливо заметил еще А. Гильфердинг, «эти замечательные слова доносятся к нам из глубочайшей древности, из Чехии еще дохристианской». И в высшей степени показательно то, что, по словам автора этой песни, переселявшиеся на территорию будущей Чехии славяне, уже обладали своей, основанной на божьем законе, Правдой, которую они бережно и принесли на свою будущую родину. О том, что подобные представления о проекции вселенского закона на человеческие отношения существовали и в эпоху индоевропейской общности, свидетельствует обращенный к Митре и Варуне гимн ведийских ариев:
Благодаря завету (богов) вы даете (людям) прочный мир, Благодаря установлению (людей) вы объединяете народы. (РВ V.72.2)Призванный для осуществления на земле языческой Правды из самого сакрального места славянского Поморья потомок языческого бога Рюрик, по всей видимости, хорошо справился с возложенной на него религиозно-государственной миссией. Косвенно об этом говорит гробовое молчание обо всей его деятельности «Повести временных лет», которая по логике должна была всячески возвеличивать деяния основателя правящей династии, а также то, что установленный на севере Рюриком порядок-наряд, очевидно, так понравился жителям далекого Киева, что они без боя впустили в свой город преемника первого варяжского князя Олега, только что убившего их собственных князей. Подтверждает это предположение и сохраненный В.Н. Татищевым текст Иоакимовской летописи: «Рюрик по смерти братии облада всею землею, не имея ни с ким войны. В четвертое лето княжения его преселися от старого в Новый град великий ко Ильменю, прилежа о росправе земли и правосудии, яко и дед его. И дабы всюду росправа и суд не оскудел, посажа по всем градом князи от варяг и славян, сам же проименовася князь великий, еже гречески архикратор или василевс, а онии князи подручни»[383]. Действия первого русского князя по созданию должного государственного устройства и установлению в стране настоящего правосудия имели, по всей видимости, столь явный языческий характер, что то ли автор ПВЛ, то ли его позднейшие редакторы сочли за благо для христианства об этой деятельности умолчать. Несмотря на все старания новой религии вытравить из памяти людей любые воспоминания о языческой Правде, подспудное и неосознанное стремление к ней до сих пор живет в значительной части нашего народа, а чудом уцелевшие данные однозначно свидетельствуют о том, что славяне с самого начала не мыслили своего государственного устройства без нравственной основы. Эта нравственная Правда всегда представлялась народу гораздо шире сухих строчек формального права, и в начале XX века один поэт-юморист так в полушутливом виде сформулировал мнение по этому вопросу видного мыслителя-славянофила К. Аксакова:
По причинам органическим Мы совсем не снабжены Здравым смыслом юридическим, Сим исчадьем сатаны. Широки натуры русские, Нашей правды идеал Не влезает в формы узкие Юридических начал…В конце XX века теоретик-юрист с горечью был вынужден констатировать: «Многовековая традиция „судить по совести“ и морали, применять к общественным отношениям нравственные мерки справедливости, здравого смысла… не научили наше общество различать право и мораль»[384]. Хотя зачастую заинтересованным кругам с помощью лжи и насилия удавалось навязывать русскому народу безнравственное государственное устройство и лишенное Правды право, в душе народ неизменно внутренне отторгал этот чуждый для него строй, который рано или поздно после этого неизменно рушился. Подобный настойчивый поиск Правды на Земле и постоянное отвергание Кривды на протяжении своей истории Руси восходит своими корнями к восприятию вселенского закона, в соответствии с которым истинный порядок должен возобладать и в отношениях между людьми.
Итак, мы видим, что в соответствии с желанием новгородских словен и кривичей Рюрик начал основывать Русское государство, руководствуясь вселенским законом. Еще более очевидно эта сторона деятельности проглядывает в свершениях его преемника Вещего Олега, который объявил Киев «мати»-рату всех городов русских и этим символическим актом включил новую столицу более чем вдвое расширенного им государства в систему основополагающих констант мирового порядка. Этот же совмещавший в своем лице духовную и светскую власть князь заключил и первый международный договор с Византией, основанный на роте. Помимо трех последующих международных договоров с Византией и болгарами, летопись фиксирует в языческую эпоху один случай внутригосударственного использования роты при урегулировании отношений между правителем и подданным. Когда внебрачный сын Святослава Владимир заманил на переговоры и коварно убил своего брата Ярополка, он долго не мог привлечь на свою сторону слугу убитого Варяжко, который бежал к половцам и с их помощью вел борьбу против убийцы своего господина. Наконец, в 980 г. их вражда прекратилась, и Владимир при заключении союза с новым подданным «заходивъ к нему ротѣ»[385]. Наряду с ритуалом казни произвольно превысившего размер древлянской дани Игоря, подчеркивавшим факт нарушения великим князем вселенского закона, этот эпизод в очередной раз показывает роль роты как одного из основополагающих принципов, на которых и созидалось Древнерусское государство.
После принятия Владимиром в 988 г. христианства интересующее нас понятие начинает использоваться в некоторых памятниках переводной литературы. Так, в Остромировом евангелии 1056–1057 гг., древнейшей из дошедших до нашего времени древнерусских книг, эпизод отречения Петра от Иисуса Христа описан следующим образом: «Тогда начять ротити ся (Петр) и кляти, яко не знаю чловѣка»[386]. В современном переводе Библии этот фрагмент звучит так: «Тогда он начал клясться и божиться, что не знает Сего Человека» (Мф. 26.74). Показательно, что тот же термин использован в рассказе об этом событии и в Изборнике Святослава 1076 г.: «Имаши Петра, иже рабѣ въпрашяюшти о учители отъврьже ся съ клятвою незнаема его сътвори и лъжьною ротою обята»[387]. Употребление этого термина, с одной стороны, делало весь эпизод более понятным для привычного к этому понятию древнерусского читателя, показывая ему всю глубину отступничества Петра, а с другой – позволяло духовенству лишний раз подчеркнуть негативный для новой религии характер роты, посредством которой Петр совершил не только обычное человеческое предательство, но и акт богоотступничества. Кроме данного случая, термин рота использовался и в древнерусском переводе XI в. «Иудейской войны» Иосифа Флавия: «И съ(и), стоя пред дверми, ротится ротами ужаснами, призывая Бога живаго и десницу его всемощную»; «Тиверии же… плъкы и народы заводе ротѣ, да биют ся по Еуспасианѣ»[388].
Как уже отмечалось, изредка это понятие используется при описании соглашений между собой князей-христиан в отечественном летописании XI–XII вв. Под 1097 г. приведены слова обещания, данного одним русским князем другому: «Заходилъ бо бѣ ротѣ Святоша к Давыдови: „Аще поидеть на тя Святополкъ, то повѣмь ти“»[389]. Возможно, понятие роты относилось к взаимоотношениям не только с другими князьями, но и с дружиной. Во всяком случае, Лаврентьевская летопись под 1184 г. гласит: «Князь же Всеволодъ, здумавъ с братьею своею и с дружиною, води ихъ в роту…»[390]. К сожалению, исходя из текста летописи трудно понять, относилась ли рота к одним только братьям князя или же и к братьям, и к дружине. Однако мы с полной уверенностью можем утверждать, что во внутриполитических отношениях рота применялась не только по отношению к лицам из княжеского рода Рюриковичей. В этом нас убеждает как рассмотренный выше эпизод с Варяжко, так и известие Ипатьевской летописи под 1147 г.: «Рече Изяславъ брату своему Ростиславу: „Брате, тобѣ богъ далъ верхнюю землю, а ты тамо пойди противу Гюргеви. А тамо у тебя смолняне и новгородци и кто ротьниковъ твоихъ…“»[391]. Хотя в сознании Изяслава в XII в. понятие бога (разумеется, уже христианского) и вселенского закона уже непосредственно не связываются друг с другом, упоминание их рядом достаточно симптоматично. Бог дает Ростиславу власть над севером Руси, и там же у него находятся союзники, связанные с ним ротой. Несмотря на явно христианскую окраску идеи богоданности княжеской власти, соседство это весьма показательно.
С другой стороны, инициатива в заключении основанного на вселенском законе договора могла исходить и от горожан: «И послаши новгородци Кыеву по Святослава по Олговиця, заходивъше ротѣ…»[392]. Как уже отмечалось, рота была основополагающим принципом, настолько глубоко укоренившимся в общественном сознании Древней Руси, что от нее в русском языке образовалось производное слово «ротник», т. е. человек, связавший себя ротой по отношению к кому-либо, являющийся в силу этого его союзником. Данный термин также не раз встречается в русских летописях: «Изяславъ же вборзѣ, сгадавъ съ дружиною, пойма ротьники своя и поѣха изъѣздомъ в Чернигову»[393]; «Мстиславъ же посла къ своимъ ротникомъ къ Ярославу у Галичь и къ ляхомъ»[394]. Выше уже показывалось, что церковь по мере своих сил всем своим авторитетом боролась с этим распространенным явлением. Оно представлялось столь значительным злом, что в ходе борьбы с ним церковь пошла на достаточно необычный шаг: «В XIII в. „ротник“ и „клеветник“, и „поклепник“, и „лжи послух“ наряду с „разбойниками“ и „грабителями“ зачислены церковным правилом в число лиц, от которых церкви не следует брать никаких приношений, если не покаются»[395]. Трудно сказать, насколько точно исполнялось это указание священнослужителями на местах, но тенденция была заявлена самым недвусмысленным образом. Хотя под воздействием христианства изначальный смысл роты постепенно забывался, тем не менее, вплоть до начала XVI в. на Руси помнили, что связанный с нею акт устанавливает такое положение вещей, которое является обязательным для сторон если не на все время существования Вселенной, то уж по крайней мере на все время человеческой жизни. В одном памятнике 1508 г. читаем: «Костянтину на куранѣ роту есмя учинилъ: доколѣва живъ буду, дотелѣ тебя не остану»[396].
Поскольку настоящее поддавалось исправлению с большим трудом, христианство взялось за исправление прошлого – исторической памяти. Пользуясь тем, что все летописание было сосредоточено в православных монастырях, церковь при редактировании и переписывании летописей принялась, как было показано в главе 2, последовательно исключать неугодный ей языческий термин при описании внутренних отношений между собой русских князей-христиан в XIII в. Однако вопреки благочестивой картине, создаваемой стараниями монахов, русские князья в тот период часто и активно используют во внутриполитических отношениях это языческое понятие. Увидеть историческую реальность нам помогает труд В.Н. Татищева, который использовал не отредактированные последующей церковной цензурой списки не дошедших до нас летописей: «Изяслав же Давидович сказал: „Я весьма, брате, сожалею, что и прежде для тебя Изяславу (Мстиславичу) роту преступил противо его Юрию помогал“»[397]; «Тогда Изыслав Давидович говорил: „Кто может знать его намерение и какой у них совет со Ольговичем, которым никакой роте их верить не можно и опасно“»[398]; «Изяславичев злодей Юрий Ярославич стал говорить: „Что веришь их роте и креста целованию, которого никогда не хранит, и учиняя роту брат брата убивает или владения лишает“; Ростислав Мстиславич, призвав брата своего Мстислава Юриевича, говорил ему: „Брате, мы равные внуки Владимировы… но что отец твой, а мой стрый, оставя отца своего завесчание и преступя роту, воевал на старейшего моего брата, помогая племени Святославлю усилится“»[399]; «Такж черные клобуки, уведав, что Ольговичи Киева и великаго княжения домогаются, объявили сыну Андрееву: „Мы издревле роту дали Владимиру и по нем Мстиславу, сыну его, что нам всегда быть верным отродию их“»[400]. Помимо употребления этого термина в речах князей и их союзников, один раз он встречается и в авторском тексте летописца, которого Б.А. Рыбаков отождествил с Петром Бориславичем: «Киевские вельможи все Рюрику советовали, что ему не прилично, преступя роту, у зятя отняв, Всеволоду отдать»[401].
Итак, мы видим, что в летописях рота используется для утверждения и закрепления межкняжеских и международных договоров, причем эти договоры могли быть двух видов: либо договор о мире и ненападении, либо о союзе, как правило военном. Суть роты в договорах первого типа великолепно характеризует выражение, помещенное в Лаврентьевской летописи под 1169 г.: «Внидемъ в роту, а ты к намъ, да ни вы начнете боятися насъ, ни мы васъ»[402]. Использование роты, потенциального нарушителя которой должен был безжалостно и быстро покарать либо сам вселенский закон, либо охраняющие его божественные силы, требовалось для установления на земле силами самих людей, как подобия макрокосмоса, порядка, аналогичного вселенскому, мира и согласия, при котором люди были избавлены от страха и боязни. Таковым было высокое предназначение роты во внутренних и международных мирных договорах, заключаемых русскими князьями. Если же рота использовалась при заключении военных союзов против кого-либо, то здесь, очевидно, мы имеем другую модель поведения. Соответствующий вселенскому земной порядок в данном случае утверждался не мирным договором, а силой оружия, уничтожавшего в человеческом мире носителей зла, тьмы и кривды. Ту же самую природу имела добродетель-арета греческого Геракла и, судя по первоначальному варианту имени, иранского Рустама. Очевидно, в идеале союзники-ротники рассматривали себя как защитников вселенского и земного мироустройства, света, правды, добра и справедливости от стремящейся их подорвать противной стороны (если в немецком языке не исключена возможная связь между названием вселенского закона и термином, обозначающим рыцаря, то в русском языке можно предположить аналогичную связь между словами «рота» и «рать», «ратник»). В связи с этим стоит вспомнить, что в языческие времена небесным патроном и, следовательно, идеальным прообразом князя был бог войны Перун, одной из главных функций которого была защита роты. Подобное мирочувствование в дружинно-княжеской среде было весьма сильно и в XII в., о чем красноречиво свидетельствует «Слово о полку Игореве», ярко представляя борьбу Руси со степью как схватку добра и зла, света и тьмы. В пользу подобного понимания роты, а не того, что ею обозначалась обычная присяга или клятва, достаточно быстро трансформировавшаяся в более или менее приемлемое для христианства крестное целование, говорит и последующая напряженная борьба церкви против этого понятия, включающая в себя как резкое осуждение и церковные санкции за его применение, так и последующую церковную цензуру, систематически исключавшую задним числом данный термин из описаний отношений между князьями-христианами в списках летописей. При этом цензура оставляла в них описание клятв и крестных целований, которые хоть и осуждались в христианских поучениях наравне с ротой, но, очевидно, представлялись церкви гораздо менее опасными. Трудно объяснить подобную деятельность церковной цензуры, если предположить, что рота означала просто торжественную присягу или клятву, пусть даже и имеющую языческое происхождение.
Против подобного варианта понимания данного термина говорят и традиционные обороты, в которых чаще всего употребляется рота. Если выражения водити или дати роту еще можно перевести как «принести» или «дать клятву, присягу», то в выражениях типа ходити (ити) роте (в роту), заходити роте, вънити в роту подобный перевод будет уже затруднителен с фразеологической точки зрения. Такие выражения скорее можно перевести как «ходить по (в), заходить в, войти во вселенский закон», чем «заходить, войти в клятву, присягу».
Область церковной цензуры не распространялась на описание взаимоотношений русских князей с кочевниками-язычниками, равно как и на описание отношений поганых между собой. С точки зрения летописцев и их редакторов, данный термин и должен был применяться к сфере, лишенной христианской благодати, и в силу этого не подвергался последующей цензуре в этом контексте. Так, например, в 1095 г. собственная дружина предлагает Владимиру Мономаху перебить приехавших для переговоров половцев. «Володимеру же не хотящу сего створити, отвѣще бо: „Како се могу створити, ротѣ с ними ходивъ“. Отвѣщавше же дружина, рекоша Володимеру: „Княже! Нѣту ти в томъ грѣха: да они всегда к тебѣ ходяче ротѣ, губять землю Русьскую и кровь хрестьянску проливають беспрестани“»[403]. О рассеченном на части по приказу Владимира Мономаха половецком хане, нарушившем свою роту, говорилось выше. В XII в. из-за последующих правок в летописи этот термин употребляется в основном в связи с половцами: «И посажа посадники свои Глѣбь Гюргевичь по Посѣмью за полемь, и… половчи мнози ту заходиша ротѣ с нимъ»[404]; «и водивъ ѣ ротѣ и пусти брата своего предъ собою съ берендичи»[405]; «оже несуть (половци) хрестьяны на всяко лѣто у вежѣ свои, а с нами роту взимаюче всегда преступаюче»[406]; «Святославъ же послуша свата своего Рюрика и водивъ его к ротѣ и пусти. Он же не стѣрпя сорома своего идоша в Половцѣ… Половци же, улюбивше думу его, потоптавше роту его дѣля и всѣдоша на киня»[407]; «Рюрикъ же половцъ одаривъ дары многими и водивъ ихъ к ротѣ и отпусти ихъ во свояси»[408]. Впоследствии этот термин начинает применяться и по отношению к татаро-монголам. Так, описывая принесение окружением Мамая клятвы верности Тохтамышу в 1380 г. по монгольскому ритуалу, включавшему в себя питье вина, смешанного с тертым золотом, русский летописец сообщает: «Мамаевы же князи… биша челомъ царю Токтамышу и даша ему правду по своей вѣрѣ, и пиша къ нему роту, и яшася за него»[409]. Применяет к татарам этот термин под 1395 г. и Новгородская IV летопись: «И потом Татарове створиша лесть, роту свою измѣниша, а клятву преступиша»[410]. Наконец, при описании кабардинско-русских отношений отечественный источник даже под 1567 г. констатирует: «Наша рота в роту, так бы еси ведал»[411]. Как видим, традиция использовать сакральное языческое понятие при отношениях с нехристианскими народами сохранялась на Руси до середины XVI в.
Весьма древней на Руси была и традиция использовать роту при разрешении в судебном порядке возникавших юридических споров, причем как между самими русскими, так и между русскими и иностранцами. Летопись впервые упоминает роту в отношении судебной процедуры тогда, когда впервые использует данный термин при заключении международного договора. Речь идет о договоре с Византией 911 г., при заключении которого Олега водили на роту. Статья 5 этого договора гласила: «Аще ли ударить мечем или бьеть кацем любо сосудом, за то ударение или бьенье да вдасть лить 5 серебра по закону Рускому. Аще ли (будеть) неимовит тако сотворивыи, да вдасть, елико можеть, да соиметь (с) себе и ты самыа порты, в них же ходить, а о проче да роте ходить своею верою, яко никако же иному помощи ему, да пребываеть тяже о(т) толе не взыскаемы»[412]. – За нанесение побоев каким-либо предметом с виновного «по закону Рускому» должен был быть взыскан определенный штраф. Если же у виновника не оказывалось требуемой суммы, то он должен был отдать потерпевшему сколько может, вплоть до того, что снимал с себя одежду, в которой ходил, а о недостающей сумме ходил по роте «своею верою», что никто не может ему помочь, после чего суд прекращал его преследование с целью взыскания штрафа. Если наличие денег или имущества у виновного суд еще мог установить, то наличие друзей или знакомых, могущих помочь виновному расплатиться с пострадавшим, установить было гораздо труднее. Поэтому в данном случае суд довольствовался тем, что виновный ходил по роте, причем в договоре была особо подчеркнута ее связь с верой.
Поскольку текст как всего договора, так и этой статьи был составлен исходя из норм русского языческого права, на что в тексте данной статьи содержится прямое указание, мы можем реконструировать представления, обусловившие рассматриваемую конкретную правовую норму. Если, используя выражение более позднего источника, «пошел бѣ члкъ в ротѣ не по правдѣ»[413], то он тем самым автоматически обрекал себя на гибель как от самой роты, так и от ее богов-хранителей. Если же человек при хождении по роте говорил правду, то гарантом его слов выступал сам Перун. В силу этого при установлении обстоятельств, которые было трудно или вообще невозможно проверить, суд вполне мог удовлетвориться обрядом хождения по роте обвиняемого, оставляя его наедине не только со своей совестью, но и с грозным, жестоко карающим за ослабляющую вселенский закон ложь богом-громовержцем. Одновременное упоминание роты как в сфере судебной процедуры, так и в обряде заключения международного договора весьма примечательно. Подобный параллелизм в конечном итоге отсылает нас к характеристике богов – хранителей вселенского закона. Если в соответствии с рассмотренной в первой главе схемой Перун отвечал за внешнюю безопасность страны и в конкретной ситуации 911 г. этому соответствовало использование роты при заключении международного договора с иностранным государством, то Волос отвечал за внутреннюю безопасность общества, и этому соответствовало использование роты в суде, который здесь хоть и упоминается в связи с оскорблением русских купцов в Византии или византийских на Руси, но в первую очередь должен был поддерживать внутренний мир в стране. Разумеется, такие преимущественные функции не исключали присутствия в обоих ситуациях второго члена божественной пары (Волоса как второго гаранта международного договора, а Перуна как карающего давшего ложную роту в суде человека), но в целом каждый из богов тяготел к присущей ему сфере деятельности. Наличие роты как в межгосударственном договоре, так и во внутригосударственном судебном разбирательстве в очередной раз доказывает и применимость схемы Ж. Дюмезиля к верховным богам языческой Руси, и высказанное выше положение о том, что и весь внутренний строй Древнерусского государства до его насильственной христианизации основывался, в конечном итоге, на вселенском законе.
Во втором договоре с Византией, заключенном Игорем в 944 г., вновь встречается рота применительно к судебной процедуре. В статье 3 было записано: «Аще ускочить челядин от Руси, понеже придуть в страну цесарьствия нашего и от святаго Мамы (и) аще будеть (обрящется), да поимуть и; аще ли не обрящется, да на роту идуть наша христианаа Русь по вере их, а не хрестьянин по закону своему, ти тогда взимають от нас цену свою, якоже установлено есть преже, 2 паволоце за челядин»[414]. – Если челядин бежал от своих русских хозяев в Византию, то, в случае его обнаружения, он должен был быть схвачен греками и, очевидно, выдан своему владельцу. Если же беглец не найдется, то русскому, христианину или язычнику, достаточно было пойти на роту, чтобы Византия возместила ему ущерб согласно заранее установленной расценке за челядина. Разумеется, для византийского руководства было крайне затруднительно проверить, действительно ли у русского был челядин и действительно ли он сбежал, а не был, скажем, продан или отпущен своим господином, и оно было вынуждено довольствоваться обрядом хождения на роту, имевшим в глазах северных пришельцев столь огромное значение.
Специалисты отмечают, что ближайшей аналогией статьи 3 договора Игоря является статья 115 «Русской Правды» Пространной редакции, также предусматривающая обряд роты в делах о сокрытии чужого холопа, но уже во внутригосударственном, а не международном аспекте: «Аже кто не ведая чюжь холоп усрячеть и, или повести дееть, любо держить и у собе, а идеть от него, то ити ему роте, яко не ведал есмь, оже есть холоп, а платежа в томь нетуть»[415]. – Если кто-то, повстречав чужого беглого холопа, по неведению поможет ему скрыться или укроет его у себя, а беглец потом уйдет от него, то этому человеку следует идти к роте, что он не знал, что имел дело с холопом. Если он шел к роте, то полностью освобождался от платежа штрафа за укрывательство и пособничество при бегстве холопа, который, согласно статье 112 «Русской Правды», составлял достаточно значительную по тем временам сумму – пять гривен. Такую сумму стоило убийство княжеского рядовича, смерда или холопа. И в этом случае судья практически никак не мог установить, понимал ли человек, что тот, кому он помогает, беглый холоп, или нет. Поскольку дилемма была практически неразрешима обычными средствами, суд был вынужден вновь прибегнуть к институту роты, отдавая дело как бы на рассмотрение высшего божественного судьи, который точно все знал и, в случае обмана, сам должен был покарать обманщика.
Вслед за договорами с Византией термин рота многократно упоминается в «Русской Правде» XI в. – основном юридическом памятнике Древнерусского государства. В отличие от договоров с Византией, она была составлена в христианскую эпоху, однако в ней отразились многие древние представления еще языческой поры, начавшие постепенно размываться под воздействием веяний нового времени. Само понятие земной правды виделось язычникам в качестве производного от вселенского закона. Возникновение и структура Вселенной, как было показано в части I, описывались в русской и индоевропейской традиции преимущественно в вопросно-ответной форме; любопытно отметить, что специалисты констатируют аналогичную форму для памятников древнейшего отечественного права: «Почти постоянное совпадение антецедента с вопросительным местоимением позволяет высказать мнение об отражении в рассмотренной двучленной рамочной конструкции правовых текстов более древней структуры, состоящей из вопроса („кто?“, „который?“, „что?“, „как?“ и т. п.) и ответа на него, знаком которого является коррелятивная частица. Это предположение вытекает не только из синтаксической реконструкции обычных правовых утверждений, но и из наших знаний о процедуре суда (судебного разбирательства), строящегося на серии вопросов и ответов, имеющей целью установление истины»[416]. Таким образом, даже внешняя форма священного западнославянского-севернорусского сказания повлияла на право языческой Руси, отголоски которого встречаются в правовых памятниках христианского периода.
Почти в самом начале «Русской Правды» Пространной редакции помещены две статьи об ордалиях – широко распространенном в Средневековье божьем суде, одной из трех разновидностей которого называется здесь рота.
«§ 21. Искавише ли послуха (и) не налезуть, а исьтця начнеть головою клепати, то ти им правду железо» – «Если (ответчик) станет искать свидетелей и не найдет (их), а истец будет обвинять (его) в убийстве, то пусть дело решится испытанием железом».
«§ 22. Тако же и во всех тяжах, в татбе и в поклепе; оже не будеть лиця, то тогда дати ему железо из неволи до полугривны золота; аще ли мене, то на воду, али до двою гривен; аже мене, то роту ему ити по свое куны» – «Также и во всех делах, о воровстве и (в делах) по подозрению (в воровстве); если нет поличного, а иск не менее полугривны золотом, то подвергать насильно его (т. е. обвиняемого) испытанию железом; когда же (иск) менее, то, если до двух гривен, подвергать испытанию водой, а если еще меньше, то для получения своих денег истцу (достаточно) пойти на роту»[417].
Итак, в зависимости от тяжести обвинений и цены иска обвиняемый мог быть подвергнут испытанию железом и водой, а в случае незначительной суммы иска дело решалось процедурой роты. Очевидно, что здесь мы наблюдаем тенденцию уменьшения значимости роты, происходившего, несомненно, под влиянием христианства, которое стремилось полностью искоренить этот языческий обычай. Вероятно, это были достаточно поздно созданные статьи (либо их последующая редакция), поскольку они противоречат в части роты другим статьям «Русской Правды», имеющим, бесспорно, более древний характер. Если статья 22 предусматривает роту только для исков на сумму меньше двух гривен, то в статье 115 «Русской Правды» той же редакции благодаря роте человек освобождает себя от штрафа за укрывательство чужого холопа в пять гривен, а в случае побоев (статья 31) потерпевший после хождения на роту получал с обвиняемого три гривны. Поскольку, как мы видели, статья 115 восходит как минимум к договору Игоря, то противоречащая ей статья 22 должна датироваться гораздо более поздним временем.
Однако помещение роты в одном ряду с испытаниями железом и водой достаточно интересно. Сама по себе идея божьего суда, когда в неразрешимом или запутанном деле сам бог посредством тех или иных стихий должен указать на виновного, носит языческий, а не христианский характер. Как на Руси, так и во всей Европе божий суд чаще всего проводился с помощью огня, раскаленного железа или камня, воды, а в некоторых случаях и судебного поединка. В основном испытание осуществлялось с помощью двух основных стихий – огня и воды, которые должны были указать на преступника и не тронуть невиновного. В данной статье мы видим железо, вероятно раскаленное, воду и роту. Однако как вселенский закон в индоевропейской традиции, так и хранящий его на Руси Перун в первую очередь связывались именно с этими двумя стихиями. Связь их с высшим принципом справедливости настолько укоренилась в сознании русского народа, что отразилась даже в пословице «Правда в воде не тонет и в огне не горит». Напротив, уличение кого-либо во лжи обозначалось выражением «вывести на чистую воду». Данное представление нашло свое отражение и в фольклоре: в двух записанных А.Н. Афанасьевым сказках (№№ 217 и 450) буря на море является наказанием за неправду. В одном случае она разражается, когда хозяин, плывя на корабле, решает утаить от сироты деньги, а во втором – когда русский купец забыл отдать взятый у татарского купца долг, для которого взял в поручители животворящий крест. Когда купец понял причину бури, он положил весь долг в бочонок, который был брошен за борт, и вода сама принесла деньги заимодавцу. Последняя сказка явно перекликается как с обычаем заключения роты – крестного целования при соглашениях с неверными, так и с Житием Антония Римлянина и, частично, с былиной о Садко. Типологически божий суд был родственен метанию жребия, который опять-таки был тесно связан с Перуном, водой и ротой. Следовательно, упоминаемые два вида ордалий были связаны именно с этим богом и имели языческое происхождение. О языческом характере роты сказано уже много; использование ее в судебных спорах фиксируется со времен Вещего Олега. Что касается воды, то церковные поучения неоднократно негодуют на религиозное поклонение славян воде, а епископ Владимирский Серапион протестует против использования воды в юридических спорах, официально закрепленного «Русской Правдой». Священнослужитель XIII в. пишет: «Вы воду послухомъ постависте и глаголете: аще утопати начнеть, неповинна есть; аще ли попловеть, волховь есть… отступите дѣлъ поганских»[418]. То, что епископ выступает против этого судебного обряда, прямо названного им языческим, ясно указывает на его сущность и время его возникновения. У нас нет доказательств того, что испытание железом также восходит к языческим временам, однако у Ибн Руста есть описание одного интересного русского обычая, относящегося к дохристианскому периоду: «Если один из них предъявляет иск другому, то судится с ним у царя их, они оба препираются, и вот решается между ними обоими, как (царь) пожелал, а если оба не соглашаются на его слова (т. е. решение), (царь) приказывает, чтобы они оба судились при посредстве своих мечей, какой из двух мечей острее – у того победа. Выходят сродники обоих, встают со своим оружием, бьются, кто из тех был сильнее своего соперника, становится решающим в тяжбе за то, что он (начавший тяжбу) хотел»[419]. Судебный поединок предусматривался и другими, более поздними правовыми памятниками, например Псковской судной грамотой XV в.: «§ 37. А которому человеку поле будет с суда, а став на поле истец поможет своего исца, ино ему взять, чего сачил на исцы; а на трупу кун не имати, толка ему доспех сняти, или иное што, в чем на поле лезет…»[420] – «Если какому-либо человеку присудят поединок и на поединке какая-либо сторона победит другую, то победившая сторона получает с другой искомое; в случае убийства (на поединке одного из тяжущихся) денег (по тяжбе) не взыскивается, (победившая сторона) только снимает (с убитого) доспехи и другие (одежды), в которых (убитый) сражался…»[421]. Поединок, как и война, относился к сфере ведения Перуна. Из договоров с Византией мы знаем о власти этого бога над оружием людей, равно как и то, что нарушители роты, согласно воле Перуна, должны были погибнуть от своего оружия. Следовательно, и в судебном поединке громовержец даровал победу правой стороне и обессиливал оружие ее противника, защищавшего неправое дело. Учитывая то, что остальные два вида божьего суда в статье 22 «Русской Правды» Пространной редакции были напрямую связаны с Перуном, можно предположить, что первоначально в языческом праве на первом месте стоял судебный поединок, замененный впоследствии по ассоциации на испытание железом. Итак, следует заключить, что данная статья восходит к языческим правовым представлениям, но была подвергнута существенным изменениям в христианский период. Судебный поединок был известен не только в языческой Руси или, в более поздний период, в Псковской республике, но и в Московской Руси, где он проходил в столице государства: «На берегу ручья, там, где сейчас Рождественка пересекает Театральный проезд, располагалась поляна, на которой в древности обычно происходило „поле“. В Древней Руси под этим понимали судебный поединок… Принимать вызов на поединок обязаны были все без исключения: никакие обстоятельства и соображения не принимались во внимание. В этом смысле очень показательно одно судебное дело времени Василия III, когда дети боярские (так называли тогда дворян) отказались драться с крестьянами и требовали, чтобы ответчики выставили против них также детей боярских. Но судьи не уважили это требование и в итоге именно из-за отказа от поединка признали истцов виновными. ‹…› Перед началом оба противника приносили присягу: обвинитель – в справедливости своего обвинения, обвиняемый – в своей невиновности, и бой начинался»[422]. И в этом описании мы видим следы былых языческих представлений: как место проведения судебного поединка у ручья, в непосредственной близости от воды, стихии, непосредственно связанной с Перуном, который был не только богом войны, но и один из двух верховных божеств-хранителей вселенского закона, так и присягу перед началом поединка, напоминающую нам о том, что на своей заключительной стадии рота уже тесно связывалась с этой торжественной процедурой, когда каждая из сторон призывала богов в свидетели истинности своих слов.
Статья «о муже кроваве» (§ 10 «Русской Правды» Краткой редакции, § 31 «Русской Правды» Пространной редакции, § 2 «Русской Правды» Сокращенной редакции и розенкампофский список) была рассмотрена выше в плане связи роты с гаданием. Ее правовая суть заключалась в том, что если один человек наносил другому побои, не оставлявшие видимых следов, а потерпевший не мог найти свидетелей, но был уверен в правоте своего дела, он, идя на роту, брал в свидетели бога.
В следующий раз рота встречается нам в статье 37 «Русской Правды» Пространной редакции: «§ 37. О татбе. Паки ли будеть что татебно купил в торгу, или конь, или порт, или скотину, то выведеть свободна мужа два или мытника, аже начнеть не знати, у кого купил, то ити немь тем видокам на роту, а истьцю свое лице взята…»[423] – «Если человек купил на торгу какую-либо краденую вещь, то ему надо было выставить двух свободных человек или мытника, а если он не знал, у кого купил краденое, то эти свидетели должны были идти на роту в его пользу, а истец – взять обнаруженную вещь». Здесь мы впервые видим, что на роту могли идти не только истец или ответчик, но и свидетели, которые таким путем должны были подтвердить добропорядочность человека, купившего по неведению краденое.
Далее в данной редакции «Русской Правды» идет блок из трех статей, во всех которых упоминается рота: «§ 47. Оже кто скота взищетъ. Аже кто взищеть кун за друзе, а он ся начнеть запирати, то оже на нь выведеть послуси, то ти поидуть на роту, а он возметь свое куны; зане же не дал ему за много лет, то платити ему за обиду 3 гривны.
§ 48. Аже кто купець купцю дасть в куплю куны или в гостьбу, то купцю пред послухи кун не имети, послуси ему не надобе, но ити ему самому роте, аже ся почнеть запирати.
§ 49. О поклажаи. Аже кто поклажаи кладеть у кого-любо, то ту послуха нетуть, но оже начнеть болыпимь клепати, тому ити роте, у кого то лежал товар: а толко если у мене положил, зане же ему в бологодел и хоронил товар того»[424].
Статья 47 определяла порядок взыскания денег. Если должник начнет запираться, то истец должен был выставить свидетелей, которые бы пошли на роту, после чего мог взять свои деньги и взыскать еще с должника вознаграждение в 3 гривны. На этой статье «Русской Правды» была основана статья 10 договора Новгорода с Готским берегом и немецкими городами 1189–1199 гг., определявшая число свидетелей: «§ 10. Оже емати скот варягу на русине или русину на варязе, а ся его заприть, то 12 мужь послухы, идеть рота възметь свое»[425]. Очевидно, такое большое количество свидетелей, необходимых для разрешения спора, возникающего при нарушении долгового обязательства, объясняется тем, что одной из сторон договора займа был иностранец.
По всей видимости, именно подобную ситуацию торгового оборота отражает и новгородская берестяная грамота № 877/572. Текст грамоты сохранился не полностью, в результате чего изложенную в ней ситуацию мы можем понять только в общих чертах. Автор сообщает некоему Петроку, что, когда он попробовал выполнить его поручение и взять у Розвадича гривну, тот отказался, сославшись, что платить ее должны какие-то полудикие люди. Когда автор грамоты потребовал гривну у этих полудиких, те также отказались платить, после чего автор информирует Петрока: «А славъNъ Nе ходи ротѣ Nи…» – «А в Славне (?) не приносят роты (клятвы) ни[кто]»[426]. Возможно, что для получения долга автор грамоты попробовал найти свидетелей, которые бы подтвердили, что Розвадич или полудикие люди должны гривну Петроку, однако никто не захотел свидетельствовать факт долга хождением по роте.
Статья 48 исходит из реалий торгового оборота Древней Руси. Поскольку в ходе торговли деньги могли потребоваться немедленно, купец мог их занять у другого купца в отсутствие свидетелей. В таком случае истцу для взыскания своих денег не нужны были свидетели, ему достаточно было пойти на роту в случае, если ответчик начинал запираться и отказываться отдавать долг. Данная статья, основанная на обряде роты, практически в точности совпадает с псковской легендой о спущенной с неба цепи над горой Судома. К горе приходили соперники в случае спора или бездоказательного обвинения – и в этой статье истец возбуждает дело при отсутствии свидетелей и каких-либо доказательств. В легенде побеждает та из сторон, которая сможет дотронуться до цепи, допускающей сделать это только праведной руке; в статье одна из сторон для доказания собственной правоты должна идти на роту, т. е. также призвать к себе в свидетели небесные силы. И тут, и там при отсутствии доказательств и свидетелей боги определяют правого. В легенде, правда, говорится о воровстве денег, но разве неотдача долга не была одной из форм воровства?
Представление о боге как о незримом свидетеле человеческих дел, в том числе и торговых, встречается нам и в новгородских берестяных грамотах, отражающих повседневную жизнь и представления жителей этого города. Так, например в грамоте № 675 читаем: «… (къ миля) т(ѣ б) рать милято Киевѣ бгъ мьжи Nама послоухо былъ: фофоудьи былъ твоихъ Θ рыклъ я собѣ» – «[От… к Миляте]. Брат Милята! В Киеве Бог был свидетелем между нами: из твоих фофудий девять выговорил я себе»[427]. В другой грамоте № 548 автор, взывая не только к совести своих адресатов, но и к богу, призывает их вернуть припрятанный ими товар: «(от) … бъга. къ моиславоу. и къ миките. цьму бра(те ба не б) ъишися. а я вьде ожь. у васъ есте тъваръ ольскы (Nъ) … [а] язо е еди о. быль. яромиръ а и ихо моуже. г. …[ъ] а правите. имъ тьваро. ба ся бояць». – «От… бога к Моиславу и к Миките. Почему ты, брат… [Бога не] боишься? Я же знаю, что у вас есть товар Олески (Олексы)… А я не один был,[когда видел это], – [был еще] Яромир и трое других людей… Так отдайте же (доставьте же) товар, побойтесь Бога»[428]. Рисуемое этими грамотами XII – начала XIII в. повседневное представление о боге, которого с помощью роты можно было призвать в свидетели правдивости своих слов, подтверждают произведенную выше реконструкцию представлений, лежащих в основе использования роты в древнерусском судебном процессе.
Статья 49 определяет, что при отдаче товара на сохранение свидетели не нужны. Если же положивший на хранение человек станет взыскивать больше, чем дал, то тот, у кого на сохранении находился товар, должен был идти на роту, сказав: «ты у мене положил лишь столько (не более)», ибо он уже тем оказал истцу благодеяние, что хранил его товар.
Затем рота упоминает в разделе о процентах: «§ 52. Послухов ли не будеть, а будеть кун 3 гривны, то ити ему про свое куны роте; будеть ли боле кун, то речи ему тако: промиловался еси, оже еси не поставил послухов»[429]. Итак, если свидетелей не будет, а иск будет в три гривны, то для взыскания своих денег заимодавцу достаточно будет идти к роте, а если иск будет на большую сумму, то следует ему сказать: «Сам виноват, что не выставил послухов (при даче денег взаймы)». С одной стороны, данная статья также соответствует псковской легенде, хоть и в несколько меньшей степени, чем статья 48. С другой стороны, в ней уже прослеживается тенденция ограничить роль роты, определив, что она действенна только при разрешении споров на сумму не более 3 гривен. Тем не менее, и эта статья противоречит более поздней статье 22 «Русской Правды» в ее окончательной редакции, дозволявшей применять в качестве доказательств роту лишь при иске менее 2 гривен.
Последний раз этот термин встречается в «Русской Правде» в статье, определяющей размеры пошлин, установленных за совершение на суде роты: «§ 109. Уроци ротнии. А се уроци ротнии: от головы 30 кун, а от бортьное земли 30 кун бес трии кун; тако же и от ролеиное земли. А от свободы 9 кун»[430]. – За хождение по роте в делах по обвинению в убийстве устанавливалась судебная пошлина в 30 кун, с дел о бортном угодье и о пашенной земле – 27 кун и с дел, касающихся свободы человека от холопства, – 9 кун. Любопытно сравнить эти расценки с собственно судебными пошлинами, зафиксированными в статье 107 «Русской Правды». Там с дела об обвинении в убийстве полагалось платить пошлину всего в 9 кун, с дела о бортном угодье – 30 кун, а с других дел – 4 куны. Вырисовывается достаточно странная картина: пошлина за хождение по роте в деле об убийстве более чем в три раза превышает судебную пошлину за само рассмотрение дела; в деле о бортном угодье ротная и судебная пошлины примерно равны (последняя превышает первую всего на 3 куны, т. е. на 10 %); в деле о свободе человека от холопства ротная пошлина снова более чем в два раза превышает судебную. Вероятно, подобное неожиданное соотношение является следом былого значения роты, сохранившимся в «Русской Правде», несмотря на господствовавшую в ней тенденцию принижения значения данного института. Объяснить эти странные расценки можно тем, что прикосновение к высшей, космической правде и справедливости ценилось в Древней Руси гораздо выше, в том числе и в материальном плане, чем прикосновение к низшей, человеческой справедливости, олицетворением которой выступал земной суд. Однако остается непонятным, почему в статье 109 указаны ротные пошлины только по четырем конкретным делам и не приведены пошлины за хождение по роте по другим делам, предусмотренным иными статьями «Русской Правды». С другой стороны, это говорит о том, что к сакральному ритуалу установления истины могли прибегать и в тех случаях, когда подобная возможность не оговаривалась непосредственно в тексте той или иной конкретной статьи.
Однако даже в столь сниженном, приземленном виде рота категорически не устраивала церковь. Несмотря на то, что древний обычай был официально признан и санкционирован светской властью, митрополит Фотий в 1422 г. категорично утверждал: «Не ротою судити повелѣно есть, но по Христову евангельскому… слову судяще: предъ двѣма или треми свѣдѣтели, да станет всякъ глаголъ»[431]. Великолепно осознавая языческую сущность роты, духовное лицо еще в XV в. однозначно противопоставляет ее Христову евангельскому слову и во имя последнего требует отказаться от первого. Однако все эти призывы не возымели немедленного воздействия, и в том же столетии составляется последний крупный юридический памятник средневековой Руси, предусматривающий широкое использование роты. Им стала Псковская судная грамота XV в., которая, как предполагают некоторые специалисты, могла основываться на «Правде» Александра Невского 1241 г.
Впервые рота фигурирует в Псковской судной грамоте в статье 34: «§ 34. А у которого псковитянина у какова учинится татба в Пскове или на пригороди, или в сели на во(ло) сти, – ино явить старостам, или околным суседом, или иным сторонным людем, а в пиру, – ино к пировому старосте или пивцам явити, а государю пировому (целованья) нет, а псковитину (человека из) волости во Пскове на волну роту не взяти, весть ему к роте, на кого ему не любовь.
Кто из церкви, где татба учинилася; тако же и пригорожане, или селянин псковитин на пригороде, или на роту не звати, вести ему к роте псковитину, где татба учинилася»[432] – «Если какой-либо пскович будет обкраден во Пскове, или в пригороде, или в сельской местности, то (следует) заявить об этом старостам, соседям или (вообще) посторонним людям; если (воровство случится) на пиру, то (следует) заявить организатору или участникам пира; хозяина помещения, где происходит пир, (к присяге) не приводить; и пскович (человека из псковской) волости, (подозреваемого в воровстве), во Пскове к добровольной роте не приводит: ему (следует человека), которого он подозревает (в воровстве), привести на роту к церкви, расположенной (в местности), где произошла кража. Также и житель пригорода и села не может вызвать псковича для (совершения) роты в пригород, ему следует отвести псковича для роты (туда), где произошла кража». Необходимо отметить, что эта статья из Псковской судной грамоты в точности соответствует рассмотренной выше псковской легенде о небесной цепи над горой Судомой. И тут, и там говорится об обвинении в воровстве. И в юридическом памятнике, и в легенде истец для окончательного выяснения того, действительно ли обвиняемый вор или нет, в условиях отсутствия достоверных доказательств прибегает к помощи высших небесных сил. В легенде обвиняемый должен был дотянуться рукой до цепи, в судной грамоте – пойти на роту. Учитывая все сказанное о роте, обвиняемый, если он действительно был виновен, вполне мог и отказаться идти на это испытание, предпочитая признать себя виновным, чем обречь себя на неизбежную кару со стороны божества за преступление роты. В Псковской судной грамоте впервые предусмотрены юридические последствия (в «Русской Правде» их нет) отказа от роты, что доказывает существование этого явления, носившего явно не единичный характер: «§ 99. А которой истец на суднеи роте не станет, – ино ему заплатит без целованья; а цена ему, что искали на нем»[433]. – Итак, если какая-либо сторона не являлась на суд для принесения роты, то она проигрывала процесс и должна была заплатить искомое другой стороне, которая освобождалась от крестного целованья. При этом платилось все сполна в соответствии с претензиями истца. Уклонение от обряда роты приравнивалось к признанию своей неправоты.
Также впервые в Псковской судной грамоте различается вольная или добровольная рота и судная рота – рота, приносимая на суде по требованию этого органа. Однако вполне вероятно, что если человек добровольно не шел на роту, то по требованию противоположной стороны его могли привлечь к этому в судебном порядке, а если он не шел и на судебную роту, то всем становилась очевидной его вина и наступали уже известные последствия. Показательно и то, что статья 34 Псковской судной грамоты специально подчеркивает, что рота должна совершаться не где угодно, а в церкви той местности, где произошла кража. Этот немаловажный момент в «Русской Правде» тоже отсутствует. Храм для христианина – наиболее сакральное место, и именно в этом месте человек должен соприкоснуться со вселенским законом. Особое, заранее строго определенное место прикосновения к небесной цепи справедливости оговорено и в псковской легенде – это гора Судома. Известно, что язычники почитали горы, зачастую помещая на них жилища богов (гора Олимп в Греции, Меру в Индии). Гора воспринималась как модель вселенной, расположенная в центре мира в месте прохождения мировой оси, связывающей небо и землю. Очевидно, что для псковитян-язычников гора Судома также была символом наибольшей чистоты и святости. Разумеется, что для язычников, в отличие от христиан, местом наибольшей сакральности была отнюдь не церковь, а место их культа. Единственное место, конкретно указанное в летописи как связанное с обрядом хождения по роте при заключении международного договора в языческую эпоху, – это холм с идолом Перуна в Киеве. Для язычника Игоря и его дружины именно это капище было местом наибольшей сакральности, и именно там они ходили по роте в 944 г. Со своей стороны, вторая псковская легенда связывает с горой Судомой двух богатырей, в которых без особого труда угадываются черты пары Перун-Волос. Таким образом, мы можем констатировать полную однозначность как в правовом, так и в мифологическом смыслах роты Псковской судной грамоты и небесной цепи псковской легенды. Корни связанных с ротой представлений были столь глубоки в Псковской области, что несмотря на все протесты церкви она упоминается в местном юридическом документе почти через полтысячелетия после введения христианства, а ее несколько завуалированный мифологический образ дожил там в устном народном творчестве до XIX в., оказав при этом влияние на произведения А.С. Пушкина.
В самой же Псковской судной грамоте рота в последний раз упоминается в статье 116: «§ 116. А кто зажоги на ком учнет сочит, а долики ни каковы не будет, ино на волною роту позвать вольно»[434]. – Если кто-либо предъявит кому-нибудь обвинение в поджоге, а прямых улик никаких не обнаружится, то истец может вызвать обвиняемого для совершения вольной роты. Вновь бросается в глаза параллель с псковской легендой: там к цепи приходили в случае бездоказательного обвинения, а в статье к роте прибегали в случае отсутствия улик данного преступления. Обвиняемый мог снять с себя подозрение в поджоге с помощью добровольной роты. Следует отметить, что это было крайне серьезное преступление, и статья 7 Псковской судной грамоты предусматривала за поджог смертную казнь. То, что благодаря роте обвиняемый избавлялся от смерти, однозначно указывает на огромную важность обряда хождения по роте в глазах как судей, так и всего населения средневековой Руси. Это в гораздо большей степени, нежели положения хронологически более ранней «Русской Правды», соответствует истинному значению роты. Указанное обстоятельство вполне согласуется с данными других источников, указывающих на большую степень сохранения языческих представлений именно на севере Руси. Необходимо подчеркнуть и то, что, несмотря на более позднее время своей фиксации, Псковская судная грамота в ряде случаев содержит более архаичные элементы, восходящие к русскому языческому праву, чем предшествовавшая ей «Русская Правда».
Письменные источники упоминают роту при совершении наиболее важных и ответственных событий – заключении международных договоров Руси с другими государствами, межкняжеских соглашений внутри самой Руси или, по крайней мере, судебной процедуры, прямым предназначением которой являлось поддержание внутреннего мира и порядка в обществе. Все эти события происходили на государственном или общественном уровне. Однако сфера применения этого сакрального понятия была, судя по всему, гораздо шире и захватывала, по крайней мере частично, следующий уровень отношений между людьми – семейный. Поучение св. отца Василия Кесарийского рисует следующую безрадостную для церкви картину: «многи бо суть жены. егда въ болѣзни моужь боудеть. хощетъ даяти Бога ради имѣнiя. жена же плачеть оумильно лжющи. дабы моужъ не раздаялъ имѣнiя. ротитъ бо ся много и глаголетъ. сѣсти (остаться вдовой. – М.С.) по тобѣ хощу или постригоуся. но не исполняютъ того многи жены»[435]. Согласно этому известию, не редка была ситуация, когда умирающий муж хотел завещать свое имущество церкви, но жена, плача и ротясь, убеждала его не делать этого, обещая после его смерти хранить вдовство или постричься в монастырь. Негодование церкви вызывало не столько то, что торжественно данная умирающему рота не исполнялась, а то, что ненавистное и преследуемое ею языческое понятие самовольно использовалось в семейном праве, которое в Средние века целиком и полностью находилось в ведении церкви. Для нас наибольший интерес представляет то обстоятельство, что понятие роты возникает в связи с определением женой своей судьбы после смерти мужа. Если хранение вдовства существовало и в языческие времена (для того времени летопись фиксирует один подобный случай – правление Ольги после гибели Игоря), то уход в монастырь явно представлял собой христианское нововведение. Этой форме отречения от мира в языческой Руси предшествовал обычай самосожжения вдов, свойственный и другим индоевропейским народам от Скандинавии до Индии.
В этом плане заслуживает внимания то обстоятельство, что принятие вдовой решения о добровольном самосожжении определяло судьбу ее души в загробном мире. Описавший похороны знатного руса на Волге Ибн Фадлан зафиксировал и весьма характерные действия жены или наложницы умершего, вызвавшейся быть с ним и в загробном мире: «Когда настало среднее время между полуднем и закатом, в пятницу, повели они девушку к чему-то, сделанному ими наподобие карниза у дверей, она поставила ноги на руки мужчин, поднялась на этот карниз, сказала что-то на своем языке и была спущена. Затем подняли ее вторично, она сделала то же самое, что и в первый раз, и ее спустили; подняли ее в третий раз, и она делала как в первые два раза. Потом подали ей курицу, она отрубила ей голову и бросила ее, курицу же взяли и бросили в судно. Я же спросил толмача об ее действии, и он мне ответил: в первый раз она сказала: „вот вижу отца моего и мать мою!“, во второй раз: „вот вижу всех умерших родственников сидящими!“, в третий же раз сказала она: „вот вижу моего господина сидящим в раю (собственно: в саду), а рай прекрасен, зелен; с ним находятся взрослые мужчины и мальчики, он зовет меня, посему ведите меня к нему“»[436]. Не исключено, что в языческий рай женщина могла попасть не иначе, как добровольно последовав за мужем. Такой вывод следует из сообщения другого арабского автора, аль-Масуди о погребальных обычаях русов: «И если умирает мужчина, то с ним сжигается жена, в то время, как она (еще жива), а если умирает женщина, то мужчина не сжигается. Если из их числа умирает холостой, то его женят после его смерти, и женщины страстно желают сжечь себя, чтобы войти им, по их (женщин) мнению, в рай»[437]. Там она присоединялась к мужу и своим ранее умершим родственникам. Поскольку сфера загробного мира находилась в ведении хранителя роты Перуна, а в Индии рита регулировала судьбу человеческих душ после смерти, мы со значительной степенью вероятности можем предположить, что в языческой Руси решение жены последовать за своим мужем на погребальный костер также соприкасалось с понятием вселенского закона. Однако в таком случае логично предположить, что рота регулировала и само заключение брачного союза, тем более что в Индии космический закон напрямую соотносился с рождением детей. Вовлеченность семейных отношений в сферу действия роты лишний раз показывает тотальность воздействия вселенского закона на самые разнообразные стороны жизни Древней Руси.
В один из последних раз рота упоминается в письменном источнике XVI века: «Грѣ ес закладатися на роту или на поле или на огнь или на море»[438]. При этом смысловой контекст употребления данного термина уже достаточно туманен и неясен. И.И. Срезневский выражение «закладатися на роту» предположительно перевел как «биться о заклад», но, не будучи полностью уверен в правильности своего перевода, поставил знак вопроса. В силу единичности данного оборота во всей древнерусской литературе точный перевод пока затруднителен, но бесспорно одно: вновь, как и раньше, в этом предложении с ротой связывается идея греха с христианской точки зрения. Обращают на себя внимание и соседствующие с ротой понятия – поле, огонь, море. С одной стороны, в этом можно видеть отзвук связей с различными стихиями богов – ее хранителей: Перун соотносился с огнем и морем, а Волос – с землей (полем). С другой стороны, все четыре понятия, разделенные союзом «или», в данном контексте выступают как взаимозаменяемые, и рота здесь фигурирует как один из основополагающих элементов мироздания (и притом самый первый). С учетом широко распространенного у различных индоевропейских народов представления о том, что весь мир состоит из четырех первоэлементов (огня, воды, земли и воздуха), можно предположить, что в загадочном предложении речь идет именно о них. Огонь там назван прямо, море – это вода, поле тогда может соответствовать земле, а на том месте, где должен быть воздух, упоминается рота. Вселенский закон был связан со словом и речью, и эта ассоциация могла переноситься и на воздух, необходимый для их произнесения. Для окончательного решения по данному конкретному вопросу явно не хватает материала, тем не менее наряду с огнем и водой вселенский закон вполне мог быть связан и с воздухом.
Вероятно, последним интересующий нас термин при описании исторических событий применил в XVIII в. Феофан Прокопович, обличая в своей книге попытку членов Верховного тайного совета в 1730 г. установить в России режим конституционной монархии. Рассказывая о действиях своих политических противников, церковный автор пишет: «Начали же призывать к себе первейших из противной компании и принимать их с ласкосердием и к общему сословию преклонять, ротяся и присягая, что они за собственным своим интересом не гонятся…»[439]. Как видим, вплоть до самого последнего времени употребления интересующего нас термина русские авторы четко отличали его как от клятвы, так и от присяги. Нам сейчас трудно судить, использовал ли Феофан Прокопович разговорный оборот своего времени или же, будучи достаточно хорошо образованным архиепископом Новгородским, позаимствовал его из древнерусских летописей. Несомненно одно: указывая на роту заговорщиков, автор подчеркивал не только антигосударственный (точнее, антисамодержавный, но для Феофана Прокоповича это было одно и то же) характер их замысла, но и его антихристианскую сущность. Последнее вытекает из того, что, по Библии, всякая власть исходит от бога, а царь или царица является его наместником на земле. Следовательно, любая попытка ограничить их богом данную власть представлялась христианству опасным покушением и на основы собственной религии. Этими обстоятельствами и объясняется появление у Феофана Прокоповича языческого термина, который при всех других обстоятельствах его коллеги старательно вымарывали из летописей.
Хоть церковь в конце концов добилась своего и термин рота полностью исчез из правовой практики, письменных источников и, в конечном итоге, живой разговорной речи в масштабах всей страны, однако в различных областных диалектах русского языка это слово доживает практически до сегодняшнего дня. В составленном В. Далем словаре имеется целый ряд примеров употребления этого корня, в частности: роты – обл. вост., сев., сиб. «божба, клятва», ротитъ – влгд., сиб. «бранить, ругать, клясть, проклинать», ротитъся – «божиться, клясться, заклинаться». Особенно часто, по свидетельству В. Даля, слово рота использовалось в смысле «заклинания» типа «отсохни рука» (если неправду говорю), «чтоб мне провалиться», «не видать детей», «дай Бог лопнуть». В ряде случаев в Сибири слово рота означало «обет, обещание, зарок, клятва Богу»[440]. Относительно последнего значения отметим, что и в Индии обозначающее обет слово rata было явно образовано от термина puma (см., например, РВ I.51.9). Как уже отмечалось в третьей главе, ведийская рита была связана, с одной стороны, с речью, причем речью сакральной, а, с другой стороны, этимологически несла на себе отпечаток идеи соединения и соответствия различных частей Вселенной. В силу этого становится понятной отмеченная Людерсом связь риты с клятвой как выражение верности (соответствия) соединяемым элементам и, следовательно, как образом и самой rta и управляемого ею Космоса[441].
Подобное независимое друг от друга эволюционирование в сторону «снижения» исходного смысла, наблюдаемое и у индийской риты, и у русской роты, лишний раз свидетельствует о едином индоевропейском происхождении обоих терминов и примерном единстве заложенных в них многообразии смыслов, предопределившем весьма сходное изменение их семантического содержания – от обозначения управляющего всем мирозданием единого всеохватывающего закона до человеческой клятвы.
Итак, в сознании русских крестьян XIX в. слово рота по-прежнему было тесно связано с Богом, клятвой, заклятьем, проклятьем и идеей божьей кары в случае произнесения в ходе роты неправды. Мы видим, что за исключением значения вселенского закона слово рота в живых диалектах XIX–XX вв. имело те же значения, что и в языческой Руси. Хорошо известно, что в языке народа не остается ничего случайного, наносного. Все, что в нем сохраняется, представляет для народа значительную ценность, определяется его мировоззрением и имеет в его сознании глубокие корни. В этом плане особо показательно то, что слово рота, как мы можем судить на основании памятников письменности, сохранялось в русском языке более тысячелетия (как минимум), и притом вопреки всем настойчивым попыткам православной церкви уничтожить его на протяжении большей части этого периода. Весьма важно и то, что рота дошла до нас не только в письменных источниках, но и в живых диалектах русского языка. Этот факт является одним из наиболее ярких и наглядных свидетельств того, какое огромное значение придавал русский народ роте и какое место занимал этот закон правды и справедливости в его духовной и нравственной жизни.
Размышляя о Вселенском законе
Вместо заключения, которое в принципе не может быть окончено…
Русское слово рота напрямую восходит к однокорневому индоевропейскому термину, обозначавшему вселенский закон. Судя по тому, что этот термин соотносился с некоторыми материальными предметами (тетивой лука, нитью), понятие вселенского закона было известно индоевропейцам уже в каменном веке. Чтобы в должной мере осознать всю потрясающую значимость этого факта, следует отметить, что современная наука и философия даже не ставят перед собой цели открытия единого закона, объясняющего всю цельнокуп-ность бытия. Современная физика, как отмечает выдающийся английский исследователь в этой области Д. Бом, стремится к созданию Великой единой теории, способной объединить все и описать Вселенную одним уравнением, однако эта цель до сих пор все еще не достигнута. Между прочим, в ответ на вопрос американского философа Р. Уэбер о том, что же заставляет ученых искать один универсальный закон природы, английский ученый предположил, что в каждом из нас скрыта духовная потребность к этому, что и заставляет людей искать себя в мистицизме, религии или искусстве. Даже марксистская диалектика, гордо претендовавшая на объяснение всего и вся, была вынуждена исходить из трех основополагающих законов, не пытаясь свести их к одному. То, о чем современное человечество не смеет даже и мечтать, за многие тысячелетия до него удалось нашим далеким индоевропейским предкам, которые открыли существование единого вселенского закона, лежащего в основе всего. Этот великий закон в силу своей природы не может быть выражен ни в привычных современной эпохе словесных выражениях (да и как обычный человеческий язык может адекватно передать хотя бы пение соловья, не говоря уже о более глобальных явлениях?), ни в математических формулах. Однако древние понимали его интуитивно, во всей его цельности, и при необходимости указывали прямо или намеками на его присутствие в тех или иных частных проявлениях сущего либо на факт нарушения или искривления этого основополагающего принципа.
Великолепно понимая, что в словах мы даже отдаленно не сможем адекватно выразить суть вселенского закона, попытаемся хотя бы в самых общих чертах определить, как воспринимали его индоевропейцы, и проследить начальные этапы его эволюции. Картина и здесь с неизбежностью будет неполной, поскольку, во-первых, их мирочувствование отнюдь не полностью нашло свое отражение в устных и письменных памятниках, созданных уже после распада индоевропейского единства, и, во-вторых, далеко не все эти памятники сквозь тысячелетия дошли до наших дней. К этому следует добавить, что часть сохранившихся памятников фиксирует весьма позднюю стадию бытования интересующего нас термина, когда уже вовсю шел процесс забвения и «снижения» вкладывавшегося в него смысла. Тем не менее, исходное мирочувствование индоевропейцев в отношении вселенского закона выразилось в произведениях последующих эпох с достаточной полнотой, чтобы очертить его основные контуры, а сравнительный анализ наследия различных индоевропейских народов позволяет вычленить изначальный круг связанных с обозначающим вселенский закон словом представлений, которые впоследствии могли по-разному развиваться у каждого из этих народов. Внимательно изучая и сравнивая между собой творения индоевропейской духовной культуры, мы сможем хотя бы в общих чертах понять, как наши далекие предки представляли себе Высшую Реальность Вселенной, делающую ее именно такой, какая она есть.
Как видно из самой этимологии названия вселенского закона у индоевропейцев, при возникновении данного понятия оно было тесно связано с движением или течением. По всей видимости, первоначально имелось в виду течение мировых вод, почему управляющее ими божество и становится одним из двух богов – хранителей вселенского закона. Впоследствии оно было перенесено на движение светил по небосводу и, если брать шире, закономерность любого движения во Вселенной. С освоением человеком огня вселенский закон начинает ассоциироваться и с этой стихией, однако устойчивая его связь с идеей движения косвенно указывает на то, что данный первопринцип был открыт первобытным человеком еще до начала использования им огня, который, как показывает археология, был ему известен еще 700 тысяч лет назад (впрочем, последние археологические открытия в Кении указывают на знакомство первобытного человека с огнем вообще 2,5 миллиона лет тому назад). Понятно, что у современного человека слово движение в первую очередь ассоциируется с механическим движением физических тел, однако у древнего человека принцип движения связывался с духовной или даже мистической сферой ничуть не меньше, чем с физической. Впрочем, само деление мира на материальный и духовный – это особенность современного сознания, совершенно несвойственная первобытному человеку, воспринимавшему окружавший его мир в его цельнокупности. Важно отметить, что движение это в основе своей носит не беспорядочный и хаотичный, а круговой и цикличный характер, благодаря которому в Космосе и поддерживается организованный порядок и он не распадается на уничтожающие друг друга части. Принцип круговращения Вселенной автоматически предполагает наличие некоего центра, вокруг которого она движется и который поддерживает это движение. В видимом астрономическом плане подобным центром Космоса являлась Полярная звезда, входившая в созвездие Большой Медведицы, которое воспринималась индоевропейцами как колесница и через это ассоциировалось со вселенским законом. В более общем, невидимом человеческим глазом плане, подобным центром является вселенский закон, организующий и поддерживающий это глобальное упорядоченное движение, благодаря которому только и становится возможно само существование и развитие макро– и микрокосмоса, Вселенной и человека. Основополагающее значение вселенского закона для существования живой природы и человека как неотъемлемой ее части однозначно подчеркивалось ведийскими ришами: «Благодаря закону давно приводятся в движение жизненные силы» (РВ IV, 23, 9). Зримым образом движения была дорога, путь, причем путь прямой, отождествляемый на человеческом уровне с прямотой Правды, и в историческую эпоху у многих индоевропейских народов мы видим мифологему пути вселенского закона, понимаемого одновременно и в физическом, и в нравственном плане. Когда же было изобретено колесо и на его основе создана колесница, благодаря чему скорость передвижения человека возросла многократно, оба эти символа стремительного перемещения в пространстве также начинают ассоциироваться со вселенским законом. Поскольку, по мнению большинства исследователей, приручили коня и изобрели колесницы именно индоевропейцы, то становится понятным, почему данная символика появляется в первую очередь в мифологии именно тех народов, которые вышли из данной языковой семьи. Возникновение новых технических достижений, с которыми теперь ассоциировался вселенский закон, не вытеснило у индоевропейцев память о тех элементах мироздания, с которыми он был связан изначально. Наоборот, эта связь дополнительно подчеркивается отнесением к небосводу новшеств бронзового века: зодиак естественным образом представляется в виде круга или колеса, на колеснице бог солнца совершает свой ежедневный путь по небу, а когда дневное светило заходило, на ночном небе взорам индоевропейцев представала другая колесница, угадывавшаяся ими в очертаниях Большой Медведицы, одна из звезд которой символизировала ту незримую ось, вокруг которой неустанно вращается вся Вселенная. Наконец, вселенский закон мог ассоциироваться и с течением человеческой речи, хоть во всем своем бесконечном многообразии он в принципе был невыразим в словах.
Своим движением небесные светила определяли меру пространства и времени, и вселенский закон естественным образом оказался связанным с этими двумя основополагающими понятиями, определяющими условия существования организованного Космоса. Поскольку одним из свойств пространства является его измеряемость, нить или шнур, представлявший из себя первый открытый человеком измерительный инструмент, становится одним из древнейших символов вселенского закона и атрибутом, хранящим его богов. На древность порождаемых нитью ассоциаций указывает наличие мифа об измерении ею космоса верховными богами– хранителями вселенского закона в индийской и восточнославянской традициях. Если в Индии и на Руси мы видим образ нити вселенского закона, то в Греции перед нами предстает неразрывно связанное с нитью веретено Ананки, благодаря движению которого вращается вся Вселенная и которое само представляет собой образ этой Вселенной в пространстве и времени. Попутно отметим, что в описании этого мифа Платоном на каждом из кругов веретена сидело по сирене, голоса которых создавали созвучие вселенской гармонии. С другой стороны, натянутая нить была не только измерительным прибором, но и одним из древнейших музыкальных инструментов, с помощью которого человек оказался способен воспроизводить на своем земном уровне музыку вселенского закона, создаваемого, согласно пифагорейской традиции, движением небесных тел. С вступлением человека в век металлов образ нити получает свое дальнейшее логическое продолжение в образе цепи, сам внешний вид которой еще больше подчеркивает идею соединенности, сцепленности различных составляющих ее элементов в единое целое. Как в Греции, так и на Руси нам встречается образ спускающейся с неба цепи, подчеркивающий высшее происхождение вселенского закона, равно как и то, что он пронизывает собой обе половины мироздания. Что касается времени, то данные индийского, иранского и, в меньшей степени, греческого языков наглядно демонстрируют теснейшую этимологическую связь понятия вселенского закона и определенного временного интервала, что подкрепляется тем, что солнце, луна и круг зодиакальных созвездий в своем движении являются для человека естественными мерами времени. Весьма показательно, что иранский термин рату обозначает одновременно и «измеряющее начало», применительно к суткам, и «главный, начальник» или даже «судья», применительно к сообществу богов, людей или другим явлениям окружающего их мира. Верховные боги – хранители вселенского закона оказываются одновременно и «богами-измерителями», стоящими во главе соответствующих пантеонов, а у людей главенствующее положение занимали цари и жрецы, одной из главнейших функций которых было давать обществу истинную ориентацию в пространстве и времени, располагая для этого соответствующими знаниями. Если первоначально царь-жрец измерял пространство и время, определяя наиболее благоприятные условия для процветания своих соплеменников, то впоследствии он начинает оценивать и поведение самих людей на предмет соответствия его всленскому закону, обретая при этом функции судьи. Данный процесс как раз и отражает иранский термин во всем многообразии своего значения.
Однако воплощенный в движении вселенский закон проявлялся не только в пространстве и времени – двух основных характеристиках, определяющих условия существования всей Вселенной и каждого ее элемента в отдельности, – но и в каждом явлении мироздания. Истоки данной уверенности древних станут для нас более понятными, если мы обратимся к современной науке. Практически каждый частный закон из любой отрасли современного знания описывает различные формы движения в пространстве и времени. «Закон, – дает определение этому понятию „Философская энциклопедия“, – необходимая, внутренне присущая природе явлений реального мира тенденция изменения, движения, развития, определяющая общие этапы и формы процесса становления и самоорганизации конкретных развивающихся систем явлений природы, общества и духовной культуры человечества»[442]. Если естественные науки формулируют движение различных объектов материального мира, то такие сферы знания, как математика, логика, философия и т. д., описывают движение нематериальных начал – проявления различных форм человеческого сознания.
Таким образом, с момента Большого космического взрыва, если говорить языком современной науки, или расчленения Первобога, если обращаться к мифологическим образам, движение становится неотъемлемым атрибутом всего мироздания в целом и каждой отдельной его части, вне зависимости от того, носит она материальный или духовный характер. «Все возникает по противоположности и всею цельностью течет, как река»[443], – сказал по этому поводу Гераклит Эфесский. Этому же древнегреческому философу принадлежит утверждение, что нельзя в одну и ту же реку войти дважды, в результате чего его воззрения по поводу изменчивости мироздания действительно могут быть определены известной фразой «Все течет, все меняется». Еще точнее по поводу всеобщности движения выразился Аристотель, подчеркивавший, что «незнание движения необходимо влечет за собой незнание природы» («Физика», III, 1, 200в). Наконец, уже в новое время Дж. Толанд доводит эту мысль до логического конца, одновременно постулируя следующее соображение: «Движение есть существенное свойство материи… неотделимое от ее природы»[444]. Однако, как показывает этимология самого названия вселенского закона у индоевропейцев, наши далекие предки осознали данный глобальный факт за многие тысячелетия до появления первых древнегреческих философов. И этот вселенский закон не только напрямую был связан с пространством и временем, но и незримо присутствует в самой основе любого явления Вселенной. Хоть древние источники прямо этого не говорят, попробуем показать, что данный вывод логическим образом вытекает из всей системы древнего мировоззрения.
Чтобы читателю было легче понять, оттолкнемся от современных представлений. В современном понимании закон – это некая абстракция человеческого ума, описывающая повторяющиеся свойства того или иного объекта или связи между разными объектами. Хоть закон в том виде, как его формулирует человек, разумеется, не присутствует в предметах, тем не менее эта формулировка человеческого ума отражает некие закономерности, объективно присущие явлению и реализующиеся через внутренние свойства того объекта, на который данный закон распространяется. Возьмем, например, закон всемирного тяготения. Понятно, что в виде привычной формулы из школьного учебника его нельзя найти ни в одном теле, однако при взаимодействии двух тел большая масса имеет свойство притягивать к себе меньшую. Таким образом, данный закон незримо присутствует в этих двух телах и проявляется при определенных условиях. Древнему человеку, как отмечают специалисты, абстрактное мышление в современном смысле этого слова было несвойственно, и, как показывают различные примеры уже из исторической эпохи, такие отвлеченные понятия, как обида, скверна, удача, красота, слава и т. п., воспринимались им как конкретные, объективно существующие начала. С этой точки зрения вселенский закон тем более должен был присутствовать в каждом элементе мироздания. Мало этого – вселенский закон присутствовал не только во всех элементах Вселенной, но и в их отношениях друг с другом. В этом плане он реализуется как универсальный порядок во всех его проявлениях, обеспечивающий устойчивость соединенных, подходящих и прилаженных друг к другу благодаря ему различных элементов, которые могли мыслиться даже незримо связанные между собою.
Поскольку выше уже было показано наличие идеи измерения в комплексе связанных со вселенским законом представлений, то благодаря этому становится понятным, как этимологически с интересующим нас термином оказываются связаны членения, числа и, наконец, арифметика как наука об этих числах. Являясь очередными этапами эманации изначального вселенского закона, они позволяли человеческому уму не только делить целое на части, но и соединять части в целое, одновременно исследуя как отношения части к целому, так и частей друг к другу. Наряду с этим развивается и другая цепочка ассоциаций: благодаря вселенскому закону все элементы Вселенной не просто соединены друг с другом, но соединены наилучшим образом, причем не только с точки зрения прочности, но и красоты.
Таким образом, красота и гармония также оказываются частными проявлениями этого универсального принципа, предопределившего, в частности, способность человека воспринимать красоту окружающего его мироздания, а впоследствии и воспроизводить ее. Не присутствуй вселенский закон во всех элементах мироздания, он вряд ли мог оказывать на них и свое воздействие. Поскольку индийская традиция в наибольшей степени сохранила исходные индоевропейские представления о вселенском законе, вспомним те определения, которые давались рите исследователями данного вопроса. Все, что совершается во Вселенной, подчеркивал С. Радхакришнан, имеет своим началом вселенский закон, который, оставаясь неизменным, проявляет себя через различные сменяющие друг друга феномены нашего мира. К схожему выводу пришли Г. Людерс и Я. Гонда, отмечавшие, что частные и повсеместные проявления риты способствуют сохранению соответствующего должному положению вещей статуса Вселенной и составляющих ее элементов. Другое дело, что, определяя изнутри статус всего мироздания, вселенский закон оказывался недоступен человеческому взору и действовал на Вселенную не непосредственно, а через другие, порождаемые им более частные законы. «Законом сокрыт закон» – так авторитетно говорит по этому поводу Ригведа, и уже одно это наглядно свидетельствует о том, какой колоссальный путь в познании окружающего мира прошла человеческая мысль ко времени распада индоевропейской общности.
Как конкретно вселенский закон проявляет себя вовне, ведийские гимны не сообщают, ограничиваясь лишь таинственным намеком, что с помощью майи Варуны, одного из двух верховных богов – хранителей вселенского закона, была натянута нить риты (РВ IX. 73. 9). Майя является важным понятием ведийской мифологии, означая видимость, иллюзию, в своем дальнейшем развитии – иллюзорность бытия вообще, магическую способность преобразовывать друг в друга вещи и события видимого мира или, как считают другие специалисты, мистическую спосбность изменять и создавать новые формы. Развивая различные стороны заложенного в этом понятии значения, последующая индийская философия выдвинула три концепции сущности майи. Согласно первой, «энергетической» концепции, майя понималась как божественная творческая сила, ассциируемая с порождающим женским началом. Вторая, «материальная» концепция трактовала майю как «ткань», основу любой деятельности и одновременно как конечный продукт этой деятельности. В третьей, «психологической» концепции майя оказывается синонимом игры психических сил, иллюзорности всего воспринимаемого и мыслимого, своеобразной завесой, скрывающей от человеческого взора высшую сущность бытия. Возвращаясь к ведийской эпохе, важно подчеркнуть, что Варуна с помощью своей майи натягивает нить вселенского закона, но отнюдь ее не создает. Поскольку благодаря рите боги являются богами и следуют ей в своей деятельности, вселенский закон носит даже не божественный, а, если можно так выразиться, надбожественный характер, являясь высшим началом даже по отношению к богам. Все эти данные говорят о том, что во всей своей вселенской полноте данный закон вряд ли может быть в принципе адекватно понят ограниченным человеческим сознанием, которое в состоянии воспринять этот универсальный принцип лишь на своем уровне.
Следует отметить и ту чрезвычайно важную особенность вселенского закона применительно к любым объектам, как наличие у него статичной и динамичной сторон. Вселенский закон, присутствуя в оболочке многочисленных порожденных им вторичных законов и определяя существование каждого явления мироздания, обеспечивает то, что данное явление является именно им и ничем иным. Это первая, статичная сторона вселенского закона. Поскольку данный закон связан с движением вообще, то из этого следует его связь с процессом развития, этой разновидности движения во времени. Применительно к живой природе и, в частности, к человеку, исключительное значение начинает приобретать то обстоятельство, сумело то или иное существо развить заложенные в него начала или нет. Это определяет как бы второй, более высокий уровень соответствия явления самому себе. В свете этого человек является человеком не просто потому, что биологически он принадлежит к данному виду живых существ (это первое, формальное соответствие явления самому себе на уровне статики, определяемой его физиологической конструкцией), но и потому, что в процессе своего духовного и интеллектуального развития он смог развить свои изначальные задатки, которые и делают его человеком. Этот второй, динамичный уровень соответствия предполагает в каждом элементе мироздания не только некоего потенциала, но и программы внутреннего развития, некоего конечного идеального результата, эйдоса древнегреческой философии, и, исходя из данного аспекта вселенского закона, то или иное явление будет соответствовать себе только тогда, когда оно будет не просто развиваться в каком-нибудь направлении, а направится в своем развитии по тому одному-единственному пути максимальной реализации заложенных в нем возможностей, который в данном случае и для данного явления и будет являться путем вселенского закона.
То, насколько трудно найти этот путь, показывает элементарная математическая модель: если принять каждый градус за один возможный путь движения и предположить, что любой путь будет абсолютно прямым, безо всяких поворотов, то перед любым предметом в двухмерном пространстве открывается 360 потенциальных путей движения, а если поместить его в трехмерное пространство, то количество таких путей возрастает до 129600. Все это относится к чисто механическому движению по прямой линии, а если обратиться к потенциальным возможностям движения в пространстве и времени сложных явлений или если взять развитие живого объекта, то тогда число возможных путей вообще будет приближаться к бесконечности. И из этого бесчисленного количества потенциальных путей движения истинным будет являться лишь единственный. «Есть лишь один путь, это путь праведности (арты), все остальное – беспутье», – авторитетно утверждает по этому поводу иранская «Авеста». Отыскать этот единственный путь оказывается возможным лишь благодаря задаткам, изначально присутствующим в каждом элементе мироздания в силу вселенского закона. Хоть важную роль в поиске этого истинного пути для человека играет его разум, тем не менее, в силу неизбежной ограниченности ума перед лицом огромного числа потенциальных путей движения решающая роль неизбежно принадлежит интуиции, которая несравненно точнее разума чувствует присутствующие в человеке задатки и их соответствие вселенскому закону. Тем не менее, найти этот путь удается далеко не всегда и не всем, в результате чего наряду с организованным Космосом существует Хаос, а закону противостоит беззаконие. Подобное соотношение этих полярных начал делает подвижной и границу между ними. С одной стороны, в центре картины мира древнего человека однозначно господствовал организованный Космос, однако Хаос не был уничтожен окончательно, а оказывался лишь оттесненным на перифирию. С другой стороны, в определенные моменты времени организованный порядок грозил распасться, и само его существование находилось под угрозой поглощения Хаосом. Это сочетание порядка и хаоса оказывалось свойственно не только всему мирозданию в целом, но и каждому его элементу, в том числе и человеку. В зависимости от поведения каждой конкретной частицы мироздания, от того, по какому пути развития она пойдет, могли усиливаться как Закон, так и Беззаконие. В силу этого все части мироздания не только зависят от вселенского закона, но своими конкретными действиями могут как усиливать, так и ослаблять этот универсальный принцип в конкретный момент времени. Весьма показательно, что ведийские гимны неустанно подчеркивают, что вселенский закон поддерживается не только богами, но и смертными. Если Митра-Варуна, верховные боги – хранители закона, некогда поместили Беззаконие за пределы Закона (РВ I. 139. 2), то и автор одного из священных гимнов с гордостью говорит о себе, что, сжигая великие силы лжи, «оба мира я очищаю законом» (РВ I. 133, 1).
На человеческом уровне вселенский закон оказывается тождественен с такими понятиями, как Истина, Правда, Право, взятыми в их самом высоком значении. В том случае, если человек следует пути вселенского закона, в мире царят порядок и справедливость, обеспечивающие наилучшие условия для существования самого человека, а если отклоняется от данного пути – хаос и беззаконие. Любое проявление лжи, несправедливости, зла несовместимо с этим универсальным принципом: «Творящие зло не пересекают пути закона» (РВ IX. 73. 6). Отступление от этого единственно правильного пути неизбежно влечет для человека утрату своей самости и духовное превращение в животное, многочисленные примеры чего все мы имели возможность наблюдать в XX веке. Далеко не всем задача отыскать истинный путь оказывалась по плечу, и, как отдельные люди, так и целые народы, не нашедшие или сознательно отвернувшиеся от пути вселенского закона, сворачивали на многочисленные пути кривды, умножая своими неправедными деяниями зло и беззаконие в этом мире. С одной стороны, подобное нарушение вселенского закона вело самих нарушителей к гибели, поскольку их карали хранящие его боги, а в древнерусской традиции мы встречаем даже представление, что вселенский закон сам «ял», т. е. схватывал преступивших его людей. С другой стороны, все эти преступления ослабляли вселенский закон, расширяли в мире сферу беззакония, в связи с чем в большинстве индоевропейских традиций мы встречаем примеры казни нарушителей вселенского закона через их ритуальное расчленение, воспроизводящее таинство рождения вселенной в результате расчленения Первобога и, путем этого, восстанавливающие силы этого универсального первопринципа.
У греков жить добродетельно означало жить, согласуя свои предрасположения с природой, как считали стоики, или же правильно реализуя свои основные биологические инстинкты, на чем настаивал Платон. Индо-иранский мир в своем стремлении к Высшему Началу пошел дальше. Поскольку вселенский закон заложен в самой природе человека, пылающий зов закона способен пробудить человека (РВ IV. 23. 8) от духовного сна и тогда услышавший призыв становился носителем даже не божественного (поскольку и боги живут в соответствии со вселенским законом, являясь лишь его хранителями), а еще более высшего огня и света. Познавшие вселенский закон боги и люди способствуют дальнейшему распространению его пределов в этом мире, по мере сил все дальше отодвигая беззаконие. Применительно к человеку мудрость вселенского закона оказывается в том, чтобы весь век исполнять благочестивые дела (РВ I. 68. 5–6). Понятно, что в древности не существовало перечня благочестивых и неблагочестивых дел. Представляется, что благодаря присутствующему в них вселенскому закону люди не столько благодаря разуму, сколько благодаря интуиции чувствовали, какое их дело соответствует универсальному принципу и является в силу этого благим, а какое – нет. Деятельность человека еще в древности носила многообразный характер, но любая из ее форм предполагала, что человек, если так можно выразиться, станет виртуозом в своем деле, переведет потенциальные свои возможности в возможности реализованные, усиливающие Закон. В соответствии со вселенским законом в старину люди стремились к святости, совершали поклонение богам, побеждали врагов, обрабатывали землю, пасли скот, творили, рождали детей, хоронили и почитали умерших и т. п., но все это многообразие форм деятельности вело к одной цели – реализации предназначения человека на этой Земле. Однако, чтобы найти присущий именно ему один-единственный верный путь, человек должен был для начала познать свою истинную сущность, найти разгадку тайны своего бытия в этом мире. «Познай самого себя», – гласила знаменитая надпись в Дельфийском храме, но истоки восприятия этого мира и самого себя в нем как великой загадки, как было показано в исследовании о «Голубиной книге», восходят опять-таки к эпохе индоевропейской общности. Лишь через познание собственной природы человек мог найти принадлежащее ему место в этом мире. Поскольку далеко не все справлялись с этим испытанием и, соответственно, шли по пути зла. Вся жизнь, таким образом, оказывалась полем борьбы между Законом и Беззаконием, Правдой и Кривдой во всех ее проявлениях.
Помочь человеку определить свое место в этом противостоянии была призвана неразрывная триада «благая (в своем конечном проявлении – святая) мысль – благое слово – благое дело», сохранившаяся в индоиранской традиции целиком и фрагментарно – у других индоевропейских народов. Соблюдать это правило должен был каждый человек, идущий по пути Правды. Хоть вселенский закон во всей своей полноте был в принципе невыразим в словах и понимался древними скорее интуитивно, однако благая мысль рождалась в сознании человека лишь благодаря ему, озвучивалась в благом слове, а совершавшееся в соответствии со вселенским законом дело автоматически становилось благим. Это единство мысли – слова – дела обеспечивало продвижение человека по пути Правды, ограждая его от Лжи, в одном из своих проявлений являвшейся разладом между словами и делами. Однако для человека путь вселенского закона был не только прямым, но и устремленным вверх в прямом и переносном смысле. Эта устремленность обеспечивалась описанной выше динамичной стороной данного универсального принципа.
Поскольку вселенский закон незримо определял соответствие любого явления самому себе, в том числе и в его развитии согласно собственному предназначению, то из этого вытекает, что он присутствует и в человеке в качестве его высшего призвания и потенциальных задатков, подкрепленных необходимыми средствами их воплощения. Соответственно, следование вселенскому закону предполагало сознательное развитие как отдельным человеком, так и целым народом заложенным в них благих начал. Необходимой предпосылкой данного развития было самопознание, поиск своего истинного предназначения. В силу этого трудно было найти истинный, т. е. предназначенный для тебя путь, но, когда его наконец удавалось обнаружить, следовать по нему человеку было уже легко. Живущий в соответствии со вселенским законом человек не только реализовывал свою истинную сущность, но, верша благие дела, одновременно с этим в меру своих сил усиливал и само присутствие вселенского закона в нашем мире. Из этих дел, совершаемых в соответствии со вселенским законом, даже не возникала, а скорее проявлялась изначально заложенная в нашем мире святость. В связи с этим уместно будет вспомнить, что в санкскрите слово рита обозначало не только «вселенский закон», «порядок», «истину», «правду», но и «святость». В идеале люди, благодаря максимальному развитию заложенных в них в соответствии со вселенским законом способностей должны будут прийти к состоянию святости мира, в котором зло и беззаконие должны будут окончательно исчезнуть. Что именно наши далекие предки изначально понимали под святостью, будет рассмотрено в исследовании о Дажьбоге, а пока отметим, что следы этого грандиозного устремления человеческого духа, встречаемые у различных индоевропейских народов, достигли одного из наиболее ярких выражений именно у нашего народа, у которого оно выкристаллизовалось в идеале Святой Руси.
В соответствии со вселенским законом должна была организовываться жизнь не только отдельного человека, но и всего общества, поскольку благодаря ему возникает не только семья, но и дружба, союз между людьми во всех своих проявлениях. Когда же возникает государство, то, по представлению древних, «наряд», или внутреннее устройство этого политического института, обязательно должен был соответствовать этому универсальному первопринципу. Святость была конечным идеалом и общественного бытия, но, пока она оставалась недостижимой, жизнь человеческого коллектива должна была основываться на Правде как более частном проявлении вселенского закона. Лишь благодаря Правде человек мог жить по-человечески, и на основе этого принципа строились отношения как внутри отдельного народа, так и между различными народами. В обоих случаях для закрепления достигнутой договоренности людьми приносились клятвы, которые также являлись частными проявлениями вселенского закона, соблюдение которых сторонами гарантировалось верховными богами – хранителями этого универсального начала. Как государственные законы, так и человеческие клятвы черпали свою силу во вселенском законе, будучи встроенными в его великий поток. Помимо внутриобщественных отношений и отношений с иноплеменниками, человек был вовлечен еще как минимум в два глобальных цикличных кругооборота, также являвшихся частными проявлениями универсального первопринципа.
Во-первых, как было показано в исследовании о Свароге[445], уже в эпоху индоевропейской общности возникает представление о нисхождении человеческой души на Землю с небесных тел и ее последующем возвращении на небо после смерти тела. Тем самым человеческая душа включалась в космический кругооборот жизненного начала, в свете которого само пребывание ее на нашей планете оказывалось лишь частью ее вселенского движения. Сама земная жизнь человека однозначно оказывалась предопределенной вселенским законом: в соответствии с ним человек рождался, достигал расцвета сил и в конце концов умирал. «Сверх закона богов не проживет и тот, у кого сто жизней», – категорично утверждает ведийский гимн (РВ Х.33.9). Посмертная же судьба души во многом определялась именно ее земной жизнью, во время которой она следовала путем вселенского закона или шла дорогой беззаконий. Хоть наиболее однозначные свидетельства неразрывной связи посмертной судьбы человека с этим универсальным принципом встречаются нам опять-таки в индоиранской традиции, следы данных представлений можно обнаружить и у других индоевропейских народов.
Во-вторых, еще при жизни как отдельный человек, так и общество в целом оказывались вовлеченными в глобальный кругооборот жертв и даров, благодаря которому человеческий мир оказывался тесно связан с миром божественным. Чтобы приносимая жертва попала к адресату, ее следовало принести в определенном месте в определенное время, в результате чего ритуал уже становился частным проявлением вселенского закона, что подчеркивается этимологическим родством обоих терминов. Поскольку жертвы приносились регулярно, ритуал воспроизводил космическую цикличность на человеческом уровне. За полученную в срок жертву боги даровали жертвователю некий дар, в результате чего возникал кругооборот жертв и даров между божеством и человеком, окончательно закреплявший подобие этого обряда вселенского закона. Как видим, движение, с которым неразрывно ассоциировался этот универсальный первопринцип, распространялось не только на объекты материального мира, но и, в двух последних случаях, на тот невидимый мир, где жили боги и умершие предки, связывая оба мира воедино.
Само наличие у индоевропейцев интуитивного представления о вселенском законе на заре их истории может быть объяснено наличием в их психике слоя вселенского бессознательного, предположение о котором было высказано в начале первой главы этой книги. Помимо самого представления о вселенском законе, это предположение подкрепляется рассмотренным в части I книги «„Голубиная книга“ – священное сказание русского народа» мифом о возникновении Вселенной в результате расчленения на части Первобога, который мыслился первоначально зооморфным, а ко времени распада индоевропейской общности – антропоморфным. Хотя во всех вариантах тело Первобожества соотносится с Солнцем, Луной, звездами и Землей, а в «Голубиной книге» еще и с Венерой, весьма вероятно, что само это представление или идея (по объективным причинам для этого явления весьма трудно подобрать адекватное определение) гораздо древнее возникновения самой Солнечной системы. Если абстрагироваться от конкретных небесных объектов, то сама сущность древнего мифа весьма напоминает современную научную концепцию Большого космического взрыва, когда вся Вселенная образовалась в результате разделения на части некоего единого объекта, но изложенную принципиально отличным от научного мифопоэтическим языком.
Как ни невероятно это звучит, но, по всей видимости, некая форма сознания возникла в нашем мире одновременно с материей, в результате чего информация об этом основополагающем событии должна быть зафиксирована у всех живых существ, а с возникновением человека – закрепиться в его вселенском бессознательном. Наличие у индоевропейцев в эпоху их единства представления о вселенском законе вместе с существованием у них мифа об образовании Вселенной путем расчленения Первобога позволяет предположить существование в человеческой психике не только индивидуального и коллективного подсознательного, открытых З. Фрейдом и К.Г. Юнгом, но и уровня вселенского бессознательного, обеспечивающего возможность для человека интуитивного познания глобальных констант мироздания. Между прочим, В.Н. Пушкина, обращаясь к наследию великого русского ученого и мыслителя В.И. Вернадского, отметила, что его работы показали, что живое вещество не могло возникнуть из косной материи и, следовательно, жизнь во Вселенной вечна так же, как и сама Вселенная. Уже упоминавшийся выше современный английский физик Д. Бом во время интервью с Р. Уэбер так сформулировал свои взгляды на интересующий нас вопрос: «Из этого следует, что разум постоянно присутствует во всех формах материи, даже в простейших. У электрона в таком случае, есть очень примитивная форма разума, наш разум находится на другом уровне, и, возможно, на каком-то ином уровне находится разум выше нашего, и так далее до бесконечности»[446]. Затем, когда в ходе создания мифов были актуализированы различные слои бессознательного, это изначально существовавшее в психике человека представление было спроецировано на светила Солнечной системы – самое великое и значимое из всего окружающего мира, что могло видеть ограниченное рамками нашей планеты человеческое существо. В принципе, поскольку и наша Солнечная система в конечном итоге образовалась в результате Большого взрыва, такой перенос, вызванный объективными обстоятельствами, даже не противоречил истине. Очевидно, что рано или поздно человеческая мысль вновь обратится к поискам единого вселенского закона, формулируемого на уровне научных достижений той эпохи. Отталкиваясь от интуитивных прозрений древних, можно высказать предположение: если когда-нибудь наука на присущем ей языке сумеет сформулировать этот закон, объясняющий все мироздание, то он, по всей видимости, будет включать в себя пространственно-временные параметры изначального космического объекта в их развитии, присутствующее наряду с материей некое духовное начало с его сознанием, музыкальную гармонию, а также само понятие закона. Такой закон-универсум, если он когда-либо будет сформулирован, сможет объяснить все мироздание от Вселенной до атома, а его частные проявления – различные отрасли человеческого знания наподобие химии, физики, астрономии, музыки, строения общества и т. п.
Индоевропейцы на заре своей истории смогли не только интуитивно почувствовать вселенский закон, но и найти для него вербальное обозначение. Славянская рота (равно как и индийская puma, иранская арта, греческая арета, латинская веритас, скандинавское реттр) – это слово-универсум (производный из латыни философский термин, обозначающий «мир как целое» или «все сущее»), выражающее основополагающий принцип, который обеспечивает существование и движение всей видимой Вселенной (материального мира), невидимой ее части (нравственно-этические и религиозные воззрения человека, круговорот человеческих душ и обычно невидимых взору смертных богов), а также регулирует их сохранение и кругооборот частных законов, в основе которых лежит один великий универсальный закон, всецело охватывающий три перечисленные здесь составляющие. Духовный прорыв первых веков был настолько велик, что этому явлению, с трудом поддающемуся осмыслению, было найдено название, тем или иным образом отражающее на множестве семантических уровней единую сущность. По сути, тогда произошло самое настоящее чудо: одно-единственное Слово вместило в себя без остатка целый Мир. Подобные великие духовные прорывы случались у отдельных индоевропейских народов позднее и могли параллельно происходить и у неиндоевропейских народов, в результате чего в человеческой культуре появились типологически похожие слова-универсумы типа греческого Логоса или китайского Дао.
Представляется бесспорным, что все перечисленные здесь термины различных индоевропейских народов и этимологически, и семантически восходят к единому исходному термину, обозначавшему вселенский закон у индоевропейцев в эпоху их общности. В исторический период мы наблюдаем постепенное забвение и «снижение» значения этого исходного великого понятия у большинства народов данной языковой семьи. Подобное движение от высшего смысла к более низкому в рассматриваемом здесь случае заставляет нас вспомнить одну высказанную Ж. Дюмезилем мысль о том, что изначальная протоиндоевропейская религия была исторически гораздо более утонченной и сложной, чем более поздние индоевропейские религии, произошедшие от нее[447].
Слово, обозначившее вселенский закон, стало одним из наиболее важных ключевых понятий индоевропейской модели мира, предопределявшим восприятие и отношение народов данной языковой семьи ко всему многообразию явлений материального и духовного порядка. Поскольку представление об этом великом законе находится у людей в сфере их вселенского бессознательного, истинным оказывается одно из любимых утверждений Платона о том, что знание есть припоминание. Однако подобное положение неизбежно имеет и свою оборотную сторону – забвение. С течением времени вселенский закон объективно не исчезает – в противном случае Вселенная уже давно погибла бы, – однако постепенно исчезает память людей о нем. По мере забвения человечество на земном уровне все больше и больше отклоняется от вселенского закона, а его жизнь, лишенная этого знания, все больше и больше входит в диссонанс с универсальным первопринципом, неизбежно ослабляя его. Наиболее отчетливо осознавали это в Индии, где изменения действия закона на земном уровне (дхармы) были однозначно привязаны к четырем югам – великим эпохам в развитии человечества, характеризующимся постепенным упадком продолжительности жизни и нравственности:
Полностью на четырех ногах стоит Закон (дхарма) и Правда в Крити-Югу (Золотой век. – М.С.). (Тогда) не бывает кривды, все вне ее происходит. В последующих (югах) из-за развития (кривды) четверть (одна нога) Закона (дхармы) убывает Из-за воровства, кривды, обмана беззаконие возрастает[448].Нашла Индия и рецепт против подобной нравственной деградации. На поле Курукшетра (где произошла, согласно «Махабхарате», великая битва между Пандавами и Кауравами, знаменовавшая собой наступление современной Кали-Юги) бог Кришна, «унаследовавший» черты Первобога, так объясняет Арджуне свою миссию: «Когда на земле религия (дхармасья) приходит в упадок и воцаряется безбожие (адхармасья, букв. „безверие“, „отсутствие дхармы“), Я нисхожу Сам, о потомок Бхараты. Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить религиозные принципы (дхарма), Я Сам спускаюсь на землю из века в век»[449]. Однако даже без божественного вмешательства память о вселенском законе могла существовать весьма длительный промежуток времени. В этом нас убеждает пример Греции, где несмотря на отсутствие профессионального жречества связанные с аретой вселенские представления сохраняются с момента распада индоевропейской общности до времени Платона. Следует отметить, что память о вселенском законе в ходе забывания не исчезает полностью, а погружается в глубины бессознательного, откуда, однако, она вполне способна пробудиться под воздействием внешнего импульса.
Представления индоевропейцев о космическом и производном от него земном порядке, правде и законе были неразрывно связаны с их религией и комплексом мифологических воззрений. Показательно, что даже боги подчиняются вселенскому закону и именно ему обязаны своим рождением и могуществом. На самом раннем этапе два верховных бога индоевропейцев, противостояние которых носило неантагонистический характер, объединяются своей главной функцией – охраной вселенского закона. В индийском пантеоне хранителями риты были Варуна и Митра, зафиксированные «Ригведой», а в русском – Перун и Волос; эта пара была зафиксирована в качестве хранителей и гарантов роты в договорах языческой Руси с Византией. Данный комплекс представлений также достаточно крепко запечатлелся в глубинах коллективного бессознательного индоевропейцев. Ж. Дюмезиль в своем исследовании полагает, что мифологические представления о двух верховных богах были спроецированы латинами на двух первых римских царей – Ромула и Нуму. Отметим, что в данном случае могло происходить не только перенесение римлянами своих глубинных мифологических представлений на конкретные исторические личности, но и бессознательное руководство первых царей этими мифологическими архетипами, либо то и другое вместе. Поскольку проблема историчности Ромула и Нумы носит дискуссионный характер, можно привести другой, гораздо более близкий к нам пример. Когда со смертью в 1598 г. Федора Ивановича пресеклась династия Рюриковичей и страна в ходе последовавшего вскоре Смутного времени скатилась в хаос гражданской войны и иностранной интервенции, поставившей Русь на грань гибели в качестве независимого государства, спасти страну и восстановить в ней порядок смог не единоличный вождь, что было бы наиболее естественно в сложившейся обстановке, а два предводителя народного ополчения – Минин и Пожарский. Разумеется, к началу XVII в. ни князь, ни купец, ни пошедшие за ними люди явно не помнили уже о языческих Перуне и Волосе, однако в ситуации, когда Космос должен был вот-вот рухнуть под напором Хаоса, в народном мирочувствовании неожиданно сработал не осознаваемый самими участниками этого процесса древний архетип двух богов – хранителей вселенского порядка, который во всей своей русской специфике (Волос как бог богатства и торговли) весьма точно воплотился в паре Минин-Пожарский.
Как показало проведенное исследование, наиболее тесно был связан с ротой Перун (в Индии соответственно Варуна), безжалостно каравший любого ее нарушителя, обрекая его на смерть в этом мире и на рабство в загробном. Кроме того, на Руси было зафиксировано явно архаичное представление, не встречавшееся ни у одного другого индоевропейского народа, согласно которому погубить преступившего закон могла непосредственно сама рота. Любое нарушение ослабляло вселенский закон, расшатывало устои, на которых держался Космос и воспроизводящее его строение человеческое общество, поэтому сама смерть преступника для восстановления силы космического закона должна была носить характер ритуального жертвоприношения, воспроизводящего акт первотворения путем расчленения на части Первобога. Поскольку человек и человеческое общество были лишь малой частью Вселенной, они должны были органически вписаться в нее, подчиняясь тем же законам, которым подчинялась Вселенная. Все основные действия человека также должны были соответствовать этому закону, отступление от которого было чревато гибелью. Космический закон всеобъемлющ, он суть всех вещей и присутствует в каждом правильном природном или социальном явлении. Он – в восходе и закате солнца, в чередовании дня и ночи, в дожде и ветре. Международный договор, состояние мира, заключение политического союза, справедливая война, правильное разрешение гражданских и уголовных дел – все это частные проявления роты.
Мы видим, что вселенский закон пронизывает почти все стороны жизни языческой Руси – от международных договоров до семейно-имущественных отношений. Ему следует основная часть населения нашей страны, и письменные источники, изначально фрагментарно отражающие действительность, рисуют нам картину, когда по роте ходят князья, их дружины, купцы и простые свободные люди. Это наглядно показывает степень распространенности роты и то, какое огромное влияние она оказывала на самые разнообразные стороны жизни древнерусского общества. Одной из важнейших ипостасей роты была Правда и основанная на ней справедливость. И государство, и его законы обязательно должны основываться на Правде – таково было глубочайшее нравственное убеждение русского народа, обусловленное языческим мирочувствованием. Мы видим это убеждение уже в эпоху, предшествующую созданию русской государственности, и знаменитое призвание варягов, с которого и начался новый период в истории Руси, было во многом обусловлено стремлением создать Государство Правды. Хотя уже при правнуке Рюрика духовную власть в стране захватывает христианство и происходит сильнейшее искажение основополагающих принципов Святой Руси, новая религия, активно проповедующая, что всякая власть от бога, а главная добродетель подданных – терпение, не смогла искоренить этого убеждения, которое каждое последующее поколение передавало своим потомкам, благодаря чему вера в это хотя бы частично присутствует в русском народе и в настоящий момент.
«Есть ценности христианские и есть – благородные…» – прозорливо отметил в свое время Ф. Ницше. Поскольку вселенский закон явно относился к благородным ценностям, христианство немедленно начало против него ожесточенную борьбу, стремясь любой ценой вытравить воспоминания о нем из народной памяти и полностью исключить любые случаи его применения в человеческой жизни. Уничтожить в сознании людей языческий вселенский закон Правды, превратив их тем самым в «Иванов, не помнящих родства», которым затем можно было бы легко навязать библейский закон, – такова была стратегическая цель христианства. Способы достижения этого могли быть самые разнообразные: в Греции христианство подменило понятие ареты, присвоив себе древний термин и вложив в него абсолютно иное понятие добродетели, принципиально отличающееся от изначального; в новообращенной Моравии Мефодий решительно требовал продавать людей в рабство за приверженность к своему отеческому закону; на Руси, правители которой сами придерживались роты и официально закрепили ее использование в юридических памятниках, церковь была вынуждена ограничиться гневными призывами, запугиванием божьей карой, увещеваниями да подчистками задним числом летописей, неуклонно стремясь вывести из употребления само слово рота. «Именую христианство одним сплошным великим проклятием, одной-единственной порчей, одним сплошным инстинктом мщения, для которого нет средств слишком мелких, тайных, ядовитых, слишком подпольных; именую христианство одним-единственным несмываемым позорным пятном на теле человечества…»[450] Эти слова были сказаны Ницше совсем по другому поводу, однако вполне подходят и к рассматриваемому случаю. Хотя стремление к установлению Правды на Земле христианство так и не смогло уничтожить в сердце русского народа, понятие вселенского закона его стараниями было в конечном итоге погружено в сферу бессознательного.
Однако в понятие роты входила не только идея универсального первопринципа мироздания, но и священный обряд, позволявший включать действия людей в поток космического закона. В связи с ожесточенными нападками церкви и невозможностью с принятием христианства исполнять языческий обряд в прежнем виде на основе роты в XI в. возникает обряд крестного целования, приспособивший к своим потребностям основной символ христианства. Церковь, великолепно понимая языческий генезис нового ритуала, первоначально осуждает его и борется с ним, как и с ротой, но в конечном итоге вынуждена пойти на этот компромисс, и целование креста получает широчайшее распространение в средневековой Руси. Однако в отношении самой роты позиция церкви продолжает оставаться непримиримой, в результате чего память о ней как о вселенском законе исчезает, ее роль в судебной процедуре неуклонно снижается, а сама она в последний раз упоминается в юридическом памятнике в XV в. Уже к XVI–XIX вв. это слово пропадает из самого русского языка в масштабе всей страны, сохраняясь лишь в ряде областных диалектов. Одновременно исчезает и самобытное восприятие и осмысление окружающего мироздания. Тем не менее, в силу одного того, что мы являемся потомками наших далеких языческих предков, универсальное понятие вселенского закона присутствует и в нас на подсознательном уровне. Благодаря этому русский народ, несмотря ни на что, сохраняет возможность вернуть себе как повторное осознание этого высшего начала, так и свое самобытное мирочувствование и, опираясь на это, возможность решающим образом изменить свое место в мире. Для приобщения к основам основ космоса в нынешнюю эпоху необходим тотальный прорыв как на духовном, так и на интеллектуальном уровне. Сумев обрести вновь безжалостно уничтоженное христианством интуитивное осознание вселенского закона, мы сможем возродить секрет единения человека с окружающим его мирозданием (в свете вышеизложенного вряд ли можно согласиться с расхожим мнением, что человеку следует жить в гармонии с природой, поскольку это все равно предполагает взгляд на человека и природу как два разделенных и противостоящих друг другу начала; на мой взгляд, предназначением человека является развитие лучшей стороны своей собственной природы, которая является неотъемлемой частью глобальной природы Космоса), так и переустроить на началах Правды, этого частного воплощения роты, само наше общество. Путь вселенского закона очень трудно отыскать, но не следовать ему – значит идти по пути беззакония. Путей этих, как показывает исторический опыт, может быть чрезвычайно много, однако все они, в конечном итоге, ведут к одному и тому же, а именно гибели – как духовной, так и физической. И не найдя этой забытой дороги вселенского закона, по которой некогда гордо шли наши предки, мы вряд ли сможем вырваться из заколдованного круга тотального разрушения и саморазрушения. Проблема универсального первопринципа имеет не академический интерес, как это может показаться на первый взгляд, а самое прямое отношение к каждому человеку и, если взять шире, к вопросу сохранения индоевропейских народов в качестве самих себя. Поскольку постоянное и систематическое нарушение человеком всеохватывающего закона мироздания не может не повлечь за собой все нарастающий конфликт современного общества с окружающим миром и самим собой, речь идет, в конечном итоге, о проблеме сохранения человека в собственном смысле этого слова на нашей Земле.
Список сокращений
ВДИ – Вестник древней истории
ВИ – Вопросы истории
ВЯ – Вопросы языкознания
ИОРЯС – Известия отделения русского языка и словесности РАН
МИА – Материалы и исследования по археологии
ПВЛ – Повесть временных лет
ПРП – Памятники русского права
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
СА – Советская археология
СЭ – Советская этнография
Примечания
1
Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. – Тбилиси, 1984. – Т. 2. – С. 865.
(обратно)2
Здесь и далее все ссылки на «Ригведу» даются по изданию: Ригведа. Мандалы I–IV. – М., 1989; Ригведа. Мандалы V–VIII. – М., 1995; Ригведа. Мандалы IX–X. – М., 1999.
(обратно)3
Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. – М., 1975. – С. 213–214.
(обратно)4
Безсонов П. Калеки перехожие. – М., 1861. – Вып. 2. – С. 287.
(обратно)5
Руберт И.Б. Становление и развитие английских регулятивных текстов. Диссертация… докт. филолог. наук. – СПб., 1996. – С. 203.
(обратно)6
Иванов В.В., Топоров В.Н. О языке древнего славянского права // Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. – М., 1978. – С. 232, прим. 25.
(обратно)7
Огибенин Б.Л. Структура мифологических текстов «Ригведы». – М., 1968. – С. 50.
(обратно)8
Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. – М., 1986. – С. 43.
(обратно)9
Там же. С. 55
(обратно)10
Кейпер Ф.Б.Я. Труды по ведийской мифологии. – М., 1986. – С. 53–54.
(обратно)11
Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. – М., 1986. – С. 46.
(обратно)12
Там же. С. 55.
(обратно)13
Широкова Н.С. Культура кельтов и нордическая традиция античности. СПб., 2000. – С. 143.
(обратно)14
Исландские саги. – М., 1956. – С. 173.
(обратно)15
ПВЛ. – М.; Л., 1950. – Ч. 1. – С. 25.
(обратно)16
Там же. С. 52.
(обратно)17
Там же. С. 52.
(обратно)18
Меркулова В.А. Народные названия болезней // Этимология, 1970. – М., 1972. – С. 196.
(обратно)19
ПВЛ. – С. 38.
(обратно)20
Там же. С. 39.
(обратно)21
Там же. С. 38–39.
(обратно)22
Мартынов В.В. Глоттогенез славян // ВЯ. – 1985. – № 6. – С. 48.
(обратно)23
Стасюлевич М. История средних веков. – СПб., 1886. – Т. 2. – С. 652.
(обратно)24
Аничков Е.В. Язычество и древняя Русь. – СПб., 1914. – С. 94.
(обратно)25
Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Руси. – М., 1988. – С. 201.
(обратно)26
Гельмольд. Славянская хроника. – М., 1963. – С. 130.
(обратно)27
Там же. С. 186.
(обратно)28
Седакова И.А. Структура и семантика болгарских проклятий (постановка проблемы) // Этнолингвистика текста. Семиотика малых форм фольклора. 1. – М., 1988. – С. 118.
(обратно)29
Гесиод. Полное собрание текстов. – М., 2001. – С. 27.
(обратно)30
Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. – М., 1995. – С. 339.
(обратно)31
Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. – М., 1974. – С. 61–62.
(обратно)32
Фрагменты ранних греческих философов. – М., 1989. – Ч. 1. – С. 237.
(обратно)33
Ершов В. «Он не спас его от грому, от молнии…» // Наука и религия. – 1986. – № 9. – С. 18
(обратно)34
Щапов А.П. Сочинения. – СПб., 1906. – Т. 1. – С. 59.
(обратно)35
Там же. С. 58.
(обратно)36
Там же. С. 546.
(обратно)37
Лев Диакон. История. – М., 1988. – С. 78.
(обратно)38
Этимологический словарь славянских языков. – М., 1990. – Вып. 16. – С. 174.
(обратно)39
ПВЛ. – С. 56.
(обратно)40
Константин Багрянородный. Об управлении империей. – М., 1989. – С. 47.
(обратно)41
Иванов И. Культ Перуна у южных славян // Известия отделения русского языка и словесности. – 1903. – Кн. 8, Ч. 4. – С. 152.
(обратно)42
Щапов А.П. Сочинения. – СПб., 1906. – Т. 1. – С. 57.
(обратно)43
Там же. С. 59.
(обратно)44
Аничков Е.В. Язычество и древняя Русь. – СПб., 1914. – С. 39
(обратно)45
Там же. С. 314.
(обратно)46
Хрестоматия по истории Древнего Востока. – М., 1963. – С. 366.
(обратно)47
Соколова В.К. Весенне-летние обряды русских, украинцев и белорусов XIX – начала XX в. – М., 1979. – С. 98.
(обратно)48
Назаренко Н.В. Немецкие латиноязычные источники. – М., 1993. – С. 141.
(обратно)49
Прокопий из Кесарии. Война с готами. – М., 1950. – С. 297.
(обратно)50
Былины. – Л., 1984. – С. 356–359.
(обратно)51
Песни, собранные П.Н. Рыбниковым. – М., 1910. – Т. 2. – № 124.
(обратно)52
Майков Л. Великорусские заклинания. – СПб., 1869. – С. 100.
(обратно)53
Виноградов В. Заговоры, обереги, спасительные молитвы и проч. – СПб., 1908. – Вып. 1. – С. 35–36.
(обратно)54
Седов В.В. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья // МИА. – М., 1970. – № 163. – С. 94, 96.
(обратно)55
ПВЛ. – С. 35.
(обратно)56
Гусева Н.Р. Индуизм. – М., 1977. – С. 73.
(обратно)57
Топоров В.Н. Ведийское rta-: к соотношению смысловой структуры и этимологии // Этимология. – 1979. – М. 1981. – С. 155.
(обратно)58
Чернецов А.В. Двоеверие: мираж или реальность? // Живая старина. – 1994. – № 4. – С. 17.
(обратно)59
Гусев В.Е. Освободительная борьба славянских народов в партизанских песнях // Славянский фольклор и историческая действительность. – М., 1965. – С. 216.
(обратно)60
Лев Диакон. История. – М., 1988. – С. 79–80.
(обратно)61
Памятники истории Киевского государства. – Л., 1936. – С. 51–52.
(обратно)62
Гаркави А.Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских. – СПб., 1870. – С. 101.
(обратно)63
ПСРЛ. – СПб., 1851. – Т. 5. – С. 121.
(обратно)64
Махабхарата. Дронапарва. – СПб., 1992. – С. 157.
(обратно)65
Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. – М., 1865. – Т. 1. – С. 589.
(обратно)66
Там же. С. 589.
(обратно)67
Якушкин П. Путевые заметки из Новгородской и Псковской губерний. – СПб., 1860. – С. 119.
(обратно)68
Василенко В.М. Образ дракона-змия в новгородских деревянных ковшах // Древности славян и Руси. – М., 1978. – С. 330.
(обратно)69
Гаркави А.Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских. – СПб., 1870. – С. 95–96.
(обратно)70
Повести Древней Руси. – Л., 1983. – С. 379.
(обратно)71
Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. – С. 64.
(обратно)72
Мифы народов мира. – М., 1992. – Т. 2. – С. 450.
(обратно)73
Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. – С. 45.
(обратно)74
Лаучюте Ю.-С.А. О методике балто-славянских исследований // Славяне. Этногенез и этническая история. – Л., 1989. – С. 32.
(обратно)75
Велюс Н. Velnio banda: «стадо Вяльниса» // Балто-славянские исследования 1980. – М., 1981. – С. 260.
(обратно)76
Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка. – М., 1959. – Т. 2. – С. 216; Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. – М., 1989. – Т. 3. Ч. 1. – С. 176; Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. – М., 1971. – Т. 3. – С. 507.
(обратно)77
Срезневский И.И. Договоры с греками // ИОРЯС. – 1854. – Т. 3. – Стб. 298.
(обратно)78
ПВЛ. – М.; Л., 1950. – Ч. 1. – С. 35.
(обратно)79
Там же. С. 52.
(обратно)80
Там же. С. 59.
(обратно)81
Кирдан П.Д. Формула «невозможного» в славянских песнях карпатской зоны // История, культура, этнография и фольклор славянских народов. IX Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. – М., 1983. – С. 218–219.
(обратно)82
Православный собеседник. – 1859, май. – С. 314.
(обратно)83
Чернецов А.В. Двоеверие: мираж или реальность? // Живая старина. – 1994. – № 4. – С. 18.
(обратно)84
Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. – М., 1995. – С. 337.
(обратно)85
Атхарваведа. Избранное. – М., 1989. – С. 160.
(обратно)86
ПВЛ. – С. 184–185.
(обратно)87
Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. – М., 1967. – Т. 2. – С. 125.
(обратно)88
Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. – Т. 3. Ч. 1. – С. 102.
(обратно)89
Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. – М., 1967. – Т. 2. – С. 96.
(обратно)90
Гельмольд. Славянская хроника. – М., 1963. – С. 77.
(обратно)91
Словарь русского языка XI–XVII вв. – М., 1997. – Вып. 22. – С. 50.
(обратно)92
Былины. – Л., 1984. – С. 72.
(обратно)93
Там же. С. 101.
(обратно)94
Там же. С. 87.
(обратно)95
Исторические песни XIII–XVI вв. – М.; Л., 1960. – С. 78.
(обратно)96
Лев Диакон. История. – М., 1988. – С. 57.
(обратно)97
Лихачев Д.С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. – М. – Л., 1947. – С. 135.
(обратно)98
Там же. С. 137.
(обратно)99
Тит Ливий. История Рима от основания города. – М., 1989. – Т. 1. – С. 36.
(обратно)100
Плутарх. Избранные жизнеописания. – М. 1987. – Т. 2. – С. 406.
(обратно)101
Широкова Н.С. Культура кельтов и нордическая традиция античности. – СПб., 2000. – С. 317–319.
(обратно)102
Костомаров Н. Историческое значение южно-русского народного песенного творчества // Беседа. – 1872. – Кн. IV. – С. 49–50.
(обратно)103
Шейн П.В. Белорусские народные песни. – СПб., 1874. – С. 293.
(обратно)104
Виноградова Л.Н. Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян. – М., 2000. – С. 351
(обратно)105
Шеппинг Д. Мифы славянского язычества. – М., 1997. – С. 15.
(обратно)106
Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1976. – С. 179.
(обратно)107
Трубачев О.Н. История славянских терминов родства, – М., 1959. – С. 171.
(обратно)108
Словарь русского языка XI–XVII веков. – М., 1975. – Вып. 2. – С. 82.
(обратно)109
Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. – М., 1989. – Т. 1. Ч. 1. – С. 461.
(обратно)110
Словарь русского языка XI–XVII веков – М., 1975. – Вып. 2. – С. 82.
(обратно)111
Там же. С. 83.
(обратно)112
ПСРЛ. Т.III. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. – М., 2000. – С. 489.
(обратно)113
Этимологический словарь славянских языков. – М., 1992. – Вып. 18. – С. 193.
(обратно)114
Кавелин К.Д. Некоторые извлечения из собираемых в И.Р.Г. Обществе этнографических материалов о России, с заметками о их многосторонней занимательности и пользе для науки // Географические известия. – 1850. – Вып. 3. – С. 327.
(обратно)115
Маковский М.М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках. – М., 1996. – С. 187.
(обратно)116
Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. – М., 1995. – С. 309.
(обратно)117
Ларионов И. Легенды озера Чудского, преданья Псковской старины. – Псков, 1959. – С. 49–50.
(обратно)118
Пушкин А.С. Сочинения. – М., 1949. – С. 209.
(обратно)119
Повести Древней Руси. – Л., 1983. – С. 378.
(обратно)120
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. – М., 1955. – Т. 4. – С. 579.
(обратно)121
Святский Д.О. Очерки истории астрономии в Древней Руси // Историко-астрономические исследования. – М., 1961. – Вып. 7. – Ч. 1. – С. 122.
(обратно)122
Там же. С. 123.
(обратно)123
Фрагменты ранних греческих философов. – М., 1989. – Ч. 1. – С. 54.
(обратно)124
Гомер. Илиада. – Л., 1990. – С. 104.
(обратно)125
Платон. Законы. – М., 1999. – С. 93.
(обратно)126
Упанишады. Брихадараньяка Упанишада. – М., 1992. – Кн.1. – С. 102–103.
(обратно)127
Элиаде М. Мефистофиль и Андрогин. – СПб., 1998. – С. 325.
(обратно)128
Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. – М., 1967. – Т. 2. – С. 105.
(обратно)129
Гаркави А.Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских. – СПб., 1870. – С. 141.
(обратно)130
Здесь и далее все ссылки на Библию даются по изд.: Библия, Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. – М., 1976.
(обратно)131
Словарь русского языка XI–XVII вв. – М., 1997. – Вып. 22. – С. 222.
(обратно)132
ПВЛ. – С. 27.
(обратно)133
ПРП. – М., 1952. – Вып. 1. – С. 210–211.
(обратно)134
Былины. – Л., 1984. – С. 156.
(обратно)135
ПРП. – М., 1952. – Вып. 1. – С. 78.
(обратно)136
Там же. С. 197.
(обратно)137
ПРП. – М., 1953. – Вып. 2. – С. 126.
(обратно)138
Там же. С. 129.
(обратно)139
Закон Судный людям. Краткой редакции. – М., 1961. – С. 35.
(обратно)140
Владимиров П.В. Поучения против древнерусского язычества и народных суеверий // Памятники древнерусской церковно-учительской литературы. – СПб., 1897. – Вып. 3. – С. 81–82.
(обратно)141
Гальковский Н. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Т. 2: Древнерусские слова и поучения, направленные против остатков язычества в народе // Записки императорского Московского археологического института. – М., 1913. – Т. 18. – С. 138.
(обратно)142
Там же. С. 138–139.
(обратно)143
Русская историческая библиотека. – Т. 6. – Стб. 61–62, § 22.
(обратно)144
ПВЛ. – С. 109.
(обратно)145
Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. – М.; Л., 1950. – С. 183.
(обратно)146
Гиляров Ф. Предания начальной русской летописи. – М., 1878. – С. 205.
(обратно)147
ПСРЛ. Ипатьевская летопись. – М., 2001. – Т. 2. – Стб. 451.
(обратно)148
Там же. Стб. 462
(обратно)149
ПСРЛ. Лаврентьевская летопись. М., 2001. – Т. 1. – С. 376.
(обратно)150
Воинские повести Древней Руси. – Л., 1985. – С. 147.
(обратно)151
Гальковский Н. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Т. 2: Древнерусские слова и поучения, направленные против остатков язычества в народе // Записки императорского Московского археологического института. – М., 1913. – Т. 2. – С. 107–108.
(обратно)152
Там же. С. 110
(обратно)153
Там же. С. 107–108.
(обратно)154
Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. – Т. 3. Ч. 1. – С. 176.
(обратно)155
Там же. С. 178.
(обратно)156
Словарь русского языка XI–XVII вв. – М., 1994. – Вып. 22. – С. 221.
(обратно)157
Словарь русского языка XI–XVII вв. – М., 1994. – Вып. 19. – С. 60.
(обратно)158
Федотов Г. Стихи духовные. – М., 1991. – С. 75.
(обратно)159
Словарь русского языка XI–XVII вв. – М., 1994. – Вып. 19. – С. 60.
(обратно)160
ПСРЛ. Лаврентьевская летопись. – М., 2001. – Т. 1. – С. 417–418.
(обратно)161
Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. – Т. 3. Ч. 1. – С. 178.
(обратно)162
Там же. С. 178.
(обратно)163
Словарь русского языка XI–XVII вв. – М., 1994. – Вып. 22. – С. 221.
(обратно)164
Там же. С. 220.
(обратно)165
Франчук В.Ю. Языческие мотивы древнерусского летописания // Древности славян и Руси. – М., 1988. – С. 156.
(обратно)166
Там же. С. 157.
(обратно)167
Подобедова О.И. Миниатюры русских исторических рукописей. – М., 1965. – С. 287.
(обратно)168
ПВЛ. – С. 109, 112, 115, 150, 171, 172, 174, 178, 182.
(обратно)169
Татищев В.Н. История российская. – М., 1995. – Ч. 2. – С. 82, 83, 85, 105, 110–118, 122.
(обратно)170
Дерфер Г. Можно ли проблемы родства алтайских языков разрешить с позиции индоевропеистики? // ВЯ. – 1973. – № 3. – С. 50–51.
(обратно)171
Вопросы методики сравнительного изучения индоевропейских языков. – М., 1956. – С. 100.
(обратно)172
Радхакришнан С. Индийская философия. – М., 1956. – Т. 1. – С. 62–63.
(обратно)173
Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. – М., 1986. – С. 212–213.
(обратно)174
Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. – М., 1995. – С. 299–300.
(обратно)175
Гусева Н.Р. Индуизм. – М., 1977. – С. 69.
(обратно)176
Ригведа. Мандалы I–IV. – М., 1989. – С. 680.
(обратно)177
Там же. С. 513.
(обратно)178
Елизаренкова Т.Я. Мир идей ариев Ригведы // Ригведа. Мандалы V–VIII. – М., 1995. – С. 456–458.
(обратно)179
Топоров В.Н. Ведийское rta-: к соотношению смысловой структуры и этимологии // Этимология. – 1979. – М., 1981. – С. 143.
(обратно)180
Там же. С. 145–146.
(обратно)181
Там же. С. 146–147.
(обратно)182
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. – М., 1967. – Т. 2. – С. 75, 140, 307.
(обратно)183
Топоров В.Н. Ведийское rta-: к соотношению смысловой структуры и этимологии // Этимология. – 1979. – М. 1981. – С. 153.
(обратно)184
Там же. С. 154, прим. 37.
(обратно)185
Там же. С. 150–151.
(обратно)186
Там же. С. 151–152.
(обратно)187
Там же. С. 152.
(обратно)188
Топоров В.Н. Ведийское rta-: к соотношению смысловой структуры и этимологии // Этимология. – 1979. – М., 1981. – С. 154–155.
(обратно)189
Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. – М., 1865. – Т. 1. – С. 37.
(обратно)190
Высоцкий С.А. Средневековые надписи Софии Киевской. – К., 1976. – С. 86.
(обратно)191
Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. – М., 1995. – С. 309.
(обратно)192
Там же. С. 337.
(обратно)193
Топоров В.Н. Ведийское rta-: к соотношению смысловой структуры и этимологии // Этимология. – 1979. – М., 1981. – С.155
(обратно)194
Елизаренкова Т.Я. Мир идей ариев Ригведы // Ригведа. Мандалы V–VIII. – М., 1995. – С. 461.
(обратно)195
Там же. С. 471.
(обратно)196
Гоголев А.И. Отражение древних алтае-индоевропейских связей в культуре и языке якутов // ВИ. – 1998. – № 11–12. – С. 116.
(обратно)197
Соколов С.Н. Авестийский язык. – М., 1961. – С. 112.
(обратно)198
Брагинский И.С. Из истории персидской и таджикской литератур. – М., 1972. – С. 127.
(обратно)199
Дьяконов И.М. Восточный Иран до Кира // История иранского государства и культуры. – М., 1971. – С. 139.
(обратно)200
Авеста в русских переводах (1861–1996). – СПб., 1998. – С. 97.
(обратно)201
Брагинский И.С. Из истории персидской и таджикской литератур. – М., 1972. – С. 122.
(обратно)202
Там же. С. 53.
(обратно)203
Там же. С. 120.
(обратно)204
Там же. С. 128.
(обратно)205
Авеста… – С. 60.
(обратно)206
Брагинский И.С. Из истории персидской и таджикской литератур. – М., 1972. – С. 73–74.
(обратно)207
Дандамаев М.А., Луконин В.Г. Культура и экономика древнего Ирана. – М., 1980. – С. 336–337.
(обратно)208
Авеста в русских переводах (1861–1996). – СПб., 1998. – С. 202.
(обратно)209
Соколов С.Н. Авестийский язык. – М., 1961. – С. 107.
(обратно)210
История таджикского народа. – М., 1963. – Т. 1. – С. 514.
(обратно)211
Авеста в русских переводах (1861–1996). – СПб., 1998. – С. 158
(обратно)212
Геродот. История. – М., 1993. – С. 332
(обратно)213
История таджикского народа. – М., 1963. – Т. 1. – С. 185.
(обратно)214
Авеста в русских переводах (1861–1996). – СПб., 1998. – С. 365.
(обратно)215
Топоров В.Н. Ведийское rta-: к соотношению смысловой структуры и этимологии // Этимология. – 1979. – М., 1981. – С. 147.
(обратно)216
Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. – М.-Л., 1938. – С. 402.
(обратно)217
Кузьмина Е.Е. Распространение коневодства и культа коня у ирано язычных племен Средней Азии и у других народов Старого Света // Средняя Азия в древности и средневековье. – М., 1977. – С. 40.
(обратно)218
Иванов В.В. История славянских и балканских названий металлов. – М., 1983. – С. 34.
(обратно)219
Святский Д.О. Очерки истории астрономии в Древней Руси. Ч. 1 // Историко-астрономические исследования. – М., 1961. – Вып. 7. – С. 113.
(обратно)220
Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. – М., 1865. – Т. 1. – С. 763.
(обратно)221
Гиндин Л.А. Некоторые ареальные характеристики хеттского // Этимология. – 1970. – М., 1972.
(обратно)222
Луна, упавшая с неба. – М., 1977. – С. 106.
(обратно)223
Там же. С. 230.
(обратно)224
Плутарх. Избранные жизнеописания. – М., 1987. – Т. 1. – С. 105.
(обратно)225
Там же. С. 97.
(обратно)226
Там же. С. 104.
(обратно)227
Там же. С. 155.
(обратно)228
Платон. Законы. – М., 1999. – С. 78.
(обратно)229
Еврипид. Трагедии. – М., 1980. – Т. 1. – С. 143.
(обратно)230
Плутарх. Избранные жизнеописания. – М., 1987. – Т. 1. – С. 475.
(обратно)231
Гомер. Одиссея. – СПб., 2000. – С. 369.
(обратно)232
Лосев А.Ф. // Платон. Апология Сократа; Критон; Ион; Протагор. – М., 1999. – С. 789. – (Примечания).
(обратно)233
Зайцев А.И. Культурный переворот в Древней Греции VIII–V вв. до н. э. – СПб., 2001. – С. 107.
(обратно)234
Платон. Апология Сократа; Критон; Ион; Протагор. – М., 1999. – С. 640.
(обратно)235
Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. – М., 1994. – Кн. 2. – С. 288.
(обратно)236
Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. – М., 1993. – С. 42–46.
(обратно)237
Фрагменты ранних греческих философов. – М., 1989. – Ч. 1. – С. 487.
(обратно)238
Ямвлих. Жизнь Пифагора. – М., 1998. – С. 54–55.
(обратно)239
Фрагменты ранних греческих философов. – М., 1989. – Ч. 1. – С. 197–198.
(обратно)240
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М., 1979. – С. 295–296.
(обратно)241
Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. – М., 1986. – С. 23.
(обратно)242
Фрагменты ранних греческих философов. – М., 1989. – Ч. 1. – С. 256–257.
(обратно)243
Там же. С. 256.
(обратно)244
Античные гимны. – М., 1988. – С. 244.
(обратно)245
Платон. Законы. – М., 1999. – С. 436.
(обратно)246
Там же. С. 437.
(обратно)247
Платон. Апология Сократа; Критон; Ион; Протагор. – М., 1999. – С. 612.
(обратно)248
Платон. Законы. – М., 1999. – С. 90.
(обратно)249
Платон. Апология Сократа; Критон; Ион; Протагор. – М., 1999. – С. 651.
(обратно)250
Плутарх. Избранные жизнеописания. – М., 1987. – Т. 1. – С. 83.
(обратно)251
Гомер. Илиада. – Л., 1990. – С. 289.
(обратно)252
Лосев А.Ф. Гомер. – М., 1960. – С. 177.
(обратно)253
Эллинские поэты. – М., 1963. – С. 150.
(обратно)254
Платон. Законы. – М., 1999. – С. 179.
(обратно)255
Платон. Федон; Пир; Федр; Парменид. – М., 1999. – С. 122.
(обратно)256
Платон. Филеб; Государство; Тимей; Критий. – М., 1999. – С. 412.
(обратно)257
Платон. Законы. – М., 1999. – С. 369.
(обратно)258
Там же. С. 366–367.
(обратно)259
Там же. С. 365.
(обратно)260
Там же. С. 366.
(обратно)261
Там же. С. 210.
(обратно)262
Платон. Филеб; Государство; Тимей; Критий. – М., 1999. – С. 415–416.
(обратно)263
Платон. Законы. – М., 1999. – С. 159.
(обратно)264
Платон. Апология Сократа; Критон; Ион; Протагор. – М., 1999. – С. 436.
(обратно)265
Платон. Законы. – М., 1999. – С. 281.
(обратно)266
Платон. Диалоги. – М., 1998. – С. 219.
(обратно)267
Платон. Законы. – М., 1999. – С. 57.
(обратно)268
Там же. С. 201.
(обратно)269
Платон. Апология Сократа; Критон; Ион; Протагор. – М., 1999. – С. 429.
(обратно)270
Там же. С. 433.
(обратно)271
Платон. Филеб; Государство; Тимей; Критий. – М., 1999. – С. 417.
(обратно)272
Платон. Законы. – М., 1999. – С. 415.
(обратно)273
Эллинские поэты. – С. 304.
(обратно)274
Платон. Законы. – М., 1999. – С. 195.
(обратно)275
Платон. Апология Сократа; Критон; Ион; Протагор. – М., 1999. – С. 599.
(обратно)276
Платон. Законы. – М., 1999. – С. 443.
(обратно)277
Платон. Апология Сократа; Критон; Ион; Протагор. – М., 1999. – С. 434.
(обратно)278
Платон. Законы. – М., 1999. – С. 431–432.
(обратно)279
Там же. С. 455.
(обратно)280
Платон. Филеб; Государство; Тимей; Критий. – М., 1999. – С. 220.
(обратно)281
Платон. Законы. – М., 1999. – С. 100.
(обратно)282
Там же. С. 235.
(обратно)283
Там же. С. 92.
(обратно)284
Там же. С. 452.
(обратно)285
Аристотель. Сочинения. В 4 т. – М., 1983. – Т. 4. – С. 191.
(обратно)286
Там же. С. 342.
(обратно)287
Там же. С. 84.
(обратно)288
Там же. С. 357.
(обратно)289
Там же. С. 78.
(обратно)290
Там же. С. 304.
(обратно)291
Там же. С. 308.
(обратно)292
Там же. С. 92.
(обратно)293
Тит Ливий. История Рима от основания города. – М., 1989. – Т. 1. – С. 39.
(обратно)294
Плутарх. – С. 389.
(обратно)295
Утченко В.И. Две шкалы римской системы ценностей // Вопросы древней истории. – 1972. – № 4. – С. 22.
(обратно)296
Кнабе Г.С. Рим Тита Ливия – образ, миф и история // Тит Ливий. История Рима от основания города. – М., 1994. – Т. 3. – С. 624.
(обратно)297
Гай Саллюстий Крисп. Сочинения. – М., 1981. – С. 34.
(обратно)298
Там же. С. 8.
(обратно)299
Там же. С. 5.
(обратно)300
Там же. С. 5.
(обратно)301
Там же. С. 132.
(обратно)302
Там же. С. 31.
(обратно)303
Там же. С. 134.
(обратно)304
Там же. С. 105.
(обратно)305
Там же. С. 133.
(обратно)306
Там же. С. 5.
(обратно)307
Там же. С. 40.
(обратно)308
Там же. С. 93.
(обратно)309
Там же. С. 87.
(обратно)310
Там же. С. 140.
(обратно)311
Там же. С 40.
(обратно)312
Там же. С. 89.
(обратно)313
Там же. С. 136.
(обратно)314
Там же. С. 132.
(обратно)315
Там же. С. 9–10.
(обратно)316
Там же. С. 9.
(обратно)317
Там же. С. 87.
(обратно)318
Там же. С. 135.
(обратно)319
Там же. С. 41.
(обратно)320
Там же. С. 143.
(обратно)321
Там же. С. 89.
(обратно)322
Там же. С. 88.
(обратно)323
Там же. С. 88.
(обратно)324
Там же. С. 41.
(обратно)325
Там же. С. 137.
(обратно)326
Там же. С. 41.
(обратно)327
Там же. С. 10.
(обратно)328
Там же. С. 132.
(обратно)329
Там же. С. 6.
(обратно)330
Там же. С. 133.
(обратно)331
Цицерон. Эстетика. Трактаты, речи, письма. – М., 1994. – С. 385.
(обратно)332
Цицерон. Диалоги. – М., 1966. – С. 41.
(обратно)333
Цицерон. Философские трактаты. – М. 1997. – С. 47–48.
(обратно)334
Там же. С. 59.
(обратно)335
Там же. С. 74.
(обратно)336
Цицерон. Диалоги. – М. 1966. С. 7–8.
(обратно)337
Там же. С. 7.
(обратно)338
Там же. С. 107.
(обратно)339
Там же. С. 108.
(обратно)340
Там же. С. 116.
(обратно)341
Там же. С. 105.
(обратно)342
Там же. С. 104.
(обратно)343
Цицерон. Диалоги. – М., 1966. – С. 14.
(обратно)344
Лишевский В. Дайте мне точку опоры… // Наука и жизнь. – 1989. – № 1. – С. 78.
(обратно)345
Бицилли П.М. Место Ренессанса в истории культуры. – СПб., 1996. – С. 39–40.
(обратно)346
Хоружий С.С. Род или недород? Заметки к онтологии виртуальности // Вопросы философии. – 1977. – № 6. – С. 66.
(обратно)347
Там же. С. 67.
(обратно)348
Полибий. Всеобщая история. – СПб., 1994. – Т. 1. – С. 194.
(обратно)349
История Европы. – М., 1988. – Т. 1. – С. 570.
(обратно)350
Исландские саги. – М., 1956. – С. 560.
(обратно)351
Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М., 1972. – С. 143.
(обратно)352
Прокопий из Кесарии. Война с готами. – М., 1950. – С. 357–358.
(обратно)353
Свод древнейших письменных известий о славянах. – М., 1995. – Т. 2. – С. 489.
(обратно)354
Там же. С. 487.
(обратно)355
Хеннинг Р. Неведомые земли. – М., 1961. – Т. 2. – С. 128.
(обратно)356
Гильфердинг А. Собрание сочинений. История балтийских славян. – СПб., 1874. – Т. 4. – С. 53.
(обратно)357
Там же. С. 53.
(обратно)358
Хеннинг Р. Неведомые земли. – М., 1961. – Т. 2. – С. 125.
(обратно)359
Пашуто В.Т. Международное значение Древней Руси // История, культура, этнография и фольклор славянских народов. IX Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. – М., 1983. – С. 56.
(обратно)360
Мишулин А.В. Древние славяне в отрывках греко-римских и византийских писателей по VII в. н. э. // ВДИ. – 1941. – № 1. – С. 248.
(обратно)361
Трубачев О.Н. Лингвистическая периферия древнейшего славянства. Индоарийцы в Северном Причерноморье // ВЯ. – 1977. – № 6. – С. 25.
(обратно)362
Трубачев О.Н. Indoarica в Северном Причерноморье. Источники. Интерпретация. Реконструкция // ВЯ. – 1981. – № 2. – С. 17.
(обратно)363
Гаркави А.Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских. – СПб., 1870. – С. 193.
(обратно)364
Новосельцев А.П., Пашуто В.Т., Черепнин Л.В. и др. Древнерусское государство и его международное значение. – М., 1965. – С. 413.
(обратно)365
Арриан. Поход Александра. – М., 1993. – С. 199.
(обратно)366
Флавий Филострат Жизнь Аполлония Тианского. – М., 1985. – С. 46.
(обратно)367
Там же. С. 55–56.
(обратно)368
Там же. С. 56.
(обратно)369
Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. – М., 1967. – Т. 2. – С. 93.
(обратно)370
Топоров В.Н. Пространство и текст // Исследование по структуре текста. – М., 1987. – С. 256.
(обратно)371
Серяков М.Л. Русская дохристианская письменность. – СПб., 1997. – С. 60.
(обратно)372
Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. – М., 1989. – Т. 2. Ч. 1. – С. 326–327.
(обратно)373
Там же. С. 326.
(обратно)374
Былины. – Л., 1984. – С. 222.
(обратно)375
Шахматов М.В. Государство Правды // Евразийский временник. – Берлин, 1925. – Кн. 4. – С. 68.
(обратно)376
Аристофан. Комедии. Фрагменты. – М., 2000 – С. 200–201.
(обратно)377
Сербские народные песни из собрания Вука Стефановича Караджича. – М., 1987. – С. 33.
(обратно)378
Иванов В.В., Топоров В.Н. О языке древнего славянского права // Славянское языкознание. VIII международный съезд славистов. Доклады советской делегации. – М., 1978. – С. 235.
(обратно)379
ПСРЛ. Лаврентьевская летопись. – М., 2001. – Т. 1. – С. 47.
(обратно)380
Там же. С. 53.
(обратно)381
Словарь русского языка XI–XVII вв. – Вып. 18. – М., 1992. – С. 97.
(обратно)382
Гильфердинг А. Собрание сочинений. История сербов и болгар. Кирилл и Мефодий. Обзор чешской истории. – СПб., 1868. – Т. 1. – С. 350.
(обратно)383
Татищев В.Н. История российская. – М.; Л., 1962. – Т. 1. – С. 110.
(обратно)384
Лейст О.Э. Три концепции права // Советское государство и право. – 1991. – № 12. – С. 9.
(обратно)385
ПВЛ. – М.; Л., 1950. – Ч. 1. – С. 55.
(обратно)386
Словарь русского языка XI–XVII вв. – М., 1997. – Вып. 22. – С. 222.
(обратно)387
Там же. С. 220.
(обратно)388
Там же. С. 220–221.
(обратно)389
ПВЛ. – С. 180.
(обратно)390
Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. – М., 1989. – Т. 3. Ч. 1. – С. 176.
(обратно)391
ПСРЛ. – М., 1908. – Т. 2. – С. 359.
(обратно)392
Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. – М.; Л., 1950. – С. 25.
(обратно)393
ПСРЛ. – Т. 2. – С. 507.
(обратно)394
Там же. С. 533.
(обратно)395
Романов Б.А. Люди и нравы древней Руси. – М.; Л., 1966. – С. 134.
(обратно)396
Словарь русского языка XI–XVII вв. – М., 1997. – Вып. 22. – С. 220.
(обратно)397
Татищев В.Н. История российская. – М.; Л., 1964. – Т. 3. – С. 28.
(обратно)398
Там же. С. 36.
(обратно)399
Там же. С. 61–62.
(обратно)400
Там же. С. 103.
(обратно)401
Там же. С. 157.
(обратно)402
Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. – М., 1989. – Т. 3. Ч. 1. – С. 177.
(обратно)403
ПВЛ. – С. 148.
(обратно)404
ПСРЛ. – Т. 2. – С. 356.
(обратно)405
Там же. С. 533.
(обратно)406
Там же. С. 538.
(обратно)407
Там же. С. 668–669.
(обратно)408
Там же. С. 674.
(обратно)409
Словарь русского языка XI–XVII вв. – М., 1997. – Вып. 22. – С. 221.
(обратно)410
Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. – М., 1989. – Т. 3. Ч. 1. – С. 176.
(обратно)411
Словарь русского языка XI–XVII вв. – М., 1997. – Вып. 22. – С. 220.
(обратно)412
ПВЛ. – С. 27.
(обратно)413
Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. – М., 1989. – Т. 3. Ч. 1. – С. 176.
(обратно)414
ПВЛ. – С. 36.
(обратно)415
ПРП. – М., 1952. – Вып. 1. – С. 120.
(обратно)416
Иванов В.В., Топоров В.Н. О языке древнего славянского права // Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. – М., 1978. – С. 227.
(обратно)417
ПРП. – Вып. 1. – С. 110.
(обратно)418
Владимиров П.В. Поучения против язычества и народных суеверий // Памятники древнерусской церковно-учительской литературы. – СПб., 1897. – Вып. 3. – С. 203.
(обратно)419
Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. – М., 1967. – Т. 2. – С. 95.
(обратно)420
ПРП. – М., 1953. – Вып. 2. – С. 291.
(обратно)421
Там же. С. 309.
(обратно)422
Лубянка, 2. – М., 1999. – С. 12–13.
(обратно)423
ПРП. – Вып. 2. – С. 111–112.
(обратно)424
Там же. С. 113.
(обратно)425
ПРП. – Вып. 2. – С. 126.
(обратно)426
Рыбина Е.А. Торговля средневекового Новгорода. – Великий Новгород, 2001. – С. 324.
(обратно)427
Там же. С. 324.
(обратно)428
Там же. С. 322.
(обратно)429
ПРП. – Вып. 1. – С. 113.
(обратно)430
Там же. С. 135.
(обратно)431
Словарь русского языка XI–XVII вв. – М., 1997. – Вып. 22. – С. 220.
(обратно)432
ПРП. – Вып. 2. – С. 290–291.
(обратно)433
Там же. С. 298.
(обратно)434
Там же. С. 301.
(обратно)435
Православный собеседник. – 1858, сентябрь. – С. 510.
(обратно)436
Гаркави А.Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских. – СПб., 1870. – С. 98–99.
(обратно)437
Ковалевский А.П. Славяне и их соседи в первой половине Х в., по данным аль-Масуди // Вопросы историографии и источниковедения славяно-германских отношений. – М., 1973. – С. 67.
(обратно)438
Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. – М., 1989. – Т. 3. Ч. 1. – С. 177.
(обратно)439
Гордин Я. Меж рабством и свободой. – СПб., 1994. – С. 204.
(обратно)440
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. – М., 1955. – Т. 4. – С. 105.
(обратно)441
Luders Y. Varuna, 1 (Varuna und das Rta). – Gottingen, 1951. – S. 655.
(обратно)442
Философская энциклопедия. – М., 1962. – Т. 2. – С. 92.
(обратно)443
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М., 1979. – С. 361.
(обратно)444
Толанд Дж. Избранные сочинения. – М.-Л., 1927. – С. 92.
(обратно)445
Серяков М.Л. Сварог. – М., 2005.
(обратно)446
Бом Д. Математика – волшебное зеркало ученого // Наука и религия. – 1989. – № 6. – С. 25.
(обратно)447
Dumezil G. Gods of the Ancient Nortmen. – Berkley, 1973.
(обратно)448
Махабхарата. Мокшадхарма. – Ашхабад-Ылым, 1983. – Вып. 5. Кн. 1. – С. 227.
(обратно)449
Бхагавад-Гита как она есть. – М.; Л.; Калькутта и др., 1984. – С. 221–223.
(обратно)450
Ницше Ф. Антихристианин // Сумерки богов. – М., 1990. – С. 93.
(обратно)



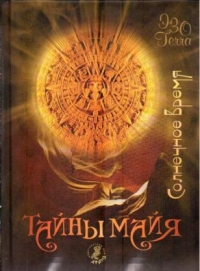

Комментарии к книге «Великий закон славян», Михаил Леонидович Серяков
Всего 0 комментариев