Павел Васильевич Кочемаров Энергетика истории
© П. В. Кочемаров, 2017
Теория этногенеза является новым оригинальным подходом к анализу исторического процесса. Прежние концепции обращали внимание на самые разные его аспекты – изучали деяния великих личностей, социальные и экономические процессы, плоды культурного развития, политическую историю…
А силы, создавшие эти культурные продукты, оставались в тени, законы их действия были не выяснены, – лишь изредка мыслители слегка касались этой темы. Так что в исследовании исторических процессов оставалась огромная дыра, которую официальная наука заполняла всякого рода натяжками и ретушью…
…Этносы – субъекты истории.
История творится в рамках этнических коллективов и взаимодействия этих коллективов. Каждый из этих коллективов проходит закономерный путь развития. Закономерности этногенетического развития определяются взаимодействием различных энергий, присущих этнической общности. Этими энергиями движимы силы, вершащие исторические события. результатом их действий и являются различные политические, экономические, социальные, культурные события и процессы, которые в иных исторических теориях фигурируют в качестве причин.
Предисловие
Данная работа есть попытка внести определённый порядок в огромную груду материала, накопленного исторической и общественной наукой, в которую каждый новый день добавляет свою порцию. А вместе с тем и попытка чётче прояснить некоторые основные понятия, смысл которых весьма туманен и противоречив, несмотря на то что они находятся в самом широком обращении, употребляются сплошь и рядом. Без всего этого просто невозможно понять – что происходит в нашей стране и в мире? Почему происходит? И что будет происходить далее?
Для отдельного человека нет никакой физической возможности не то что переварить, но даже бегло ознакомиться со всей массой информации, поставляемой ежегодно и ежедневно в этой обширной области знания. Так что, очевидно, задача заключается в том, чтобы найти метод, с помощью которого можно было любой исторический факт, попавший в поле вашего зрения, поставить на своё определённое место.
Попытаться разрабатывать такую фундаментальную тему, по поводу которой написано бесчисленное количество томов, на голом месте – означает почти с неизбежностью ещё раз изобрести велосипед. Гораздо продуктивнее взять за основу наработки какого-либо из предшествующих направлений исторической мысли. Ни старая, марксистско-ленинская теория, ни новая (для постсоветской России) либерально-западная идеология меня решительно не удовлетворяли. В конце концов единственным питательным источником оказалась традиционная русская культурно-историческая школа и теория этногенеза Льва Гумилёва, которая мной рассматривается как естественное продолжение и развитие идей этой школы.
Далеко не все положения теории Гумилёва оказались, на мой взгляд, верными. Это потребовало определённой пере– и доработки; результаты её изложены в первой части, – с ними необходимо ознакомиться для верного понимания выводов.
Во второй части с позиций обновлённой теории этногенеза рассматриваются конкретные исторические явления и процессы.
Засим, памятуя мудрое изречение одного пожилого человека о том, что достоинства предисловий измеряются их краткостью, позвольте завершить вступление и перейти к делу.
Энергетика истории Этнополитическое исследование Теория этногенеза
Часть первая Теория этногенеза
Глава 1 Этнос
Слово «этнос» стало в последнее время весьма популярным с лёгкой руки Льва Гумилёва. Что же оно означает?
В общетеоретическом смысле этнос – не только центральное понятие этнологии, но и одна из фундаментальных категорий обществознания вообще. Эта категория находится в тесных отношениях с другими важнейшими категориями общественных наук, как то: нация, государство, политика, культура и т. д. Поэтому без чёткого прояснения понятия «этнос» очень трудно правильно определить и другие важнейшие понятия и их взаимные отношения. Невозможно также без этого уяснить суть таких явлений, как национализм, демократия, глобализация; причины и направление развития процессов либерализации, демократизации, национальных движений и конфликтов, которые составляют основное содержание современной мировой политики и общественной жизни. Излишне объяснять, как дорого обходится народам непонимание либо игнорирование политиками этнических закономерностей.
Важность проблемы этноса хорошо осознаётся учёным сообществом. У понятия «этнос» не было недостатка во внимании исследователей. За минувшее время создано множество теорий и дано множество определений. Однако с этой темой происходило нечто странное: суть феномена «этноса» неизменно, с дьявольской неуловимостью ускользала из рук. Само количество определений говорит о решительной неудовлетворённости достигнутыми результатами.
Нет ни возможности, ни смысла перечислять и анализировать все многочисленные определения этноса. Ведь они, в сущности, довольно однообразны и все сводятся к классификации либо по какому-то внешнему признаку, либо по той или иной сумме таких признаков. Как типичный образец, для примера можно привести официально принятое в советское время определение Бромлея: «исторически сложившаяся на определённой территории устойчивая совокупность людей, обладающих общими, относительно стабильными особенностями языка, культуры и психики, а также сознанием своего единства и отличия от других подобных образований, фиксированным в самоназвании (этноним)»[1].
В этом определении, как и во множестве ему подобных, правильно перечислены признаки этнического коллектива, но нет самого главного. Слово «этнос» имеет два основных значения: во-первых, так называют некий людской коллектив, этническую общность (синоним понятия «народ»); во-вторых, «этнос» – это связь, объединяющая людей в данный коллектив. Причём самое важное и коренное в понятии «этнос» – именно этническая связь. Достаточно выявить специфический характер этнической связи, и этнос будет уже невозможно спутать ни с каким другим людским коллективом. Именно потому до сих пор не было дано удовлетворительного определения этноса, что искомая специфика постоянно ускользала.
Легко показать и многократно уже было показано, что этническая связь не идентична ни одному из вышеперечисленных признаков, – ни язык, ни культура, ни религия, гражданство, общность территории и т. д. не являются универсальным этническим определителем. То есть ни один из них не содержит в себе собственно этническое. А если этнического нет ни в одном из признаков, то его не будет и в совокупности этих признаков: сумма нулей равна нулю.
Да и вообще, уподобление этноса одному из признаков социальной классификации равнозначно отрицанию этноса как реальности. Кое-кто из философов и социологов, поняв, что этнос не существует как социальный феномен, поторопились объявить его явлением мнимым, не существующим. Но это ошибка, так как отсюда следует лишь тот вывод, что если этнос реален, то он имеет не социальную природу.
Некоторое оживление в это унылое положение дел внёс Лев Гумилёв, объявивший этнос феноменом биосферы. Он верно определил, что этнос – явление не социальное, что «этнос и социум понятия несоизмеримые и лежат в разных плоскостях». Но гумилёвское определение этноса вряд ли можно признать удачным. Вот одно из них: «Этнос – феномен биосферы или системная целостность дискретного типа, работающая на геобиохимической энергии живого вещества в согласии с принципом второго начала термодинамики»[2].
На первый взгляд очень сложно и заумно. Но, присмотревшись внимательнее, замечаешь, что за сложной терминологией скрывается элементарная суть. Под определение, данное Гумилёвым, подпадает практически любая биосистема, – поскольку все они феномены биосферы и представляют собой системные целости. Все биосистемы работают на энергии живого вещества; в каждой из них выполняется второе начало термодинамики (равно как первое и третье). Но при чём тут этнос? Стремясь вырваться из рамок шаблонного определения, Гумилёв ещё более необозримо расширил его границы. Если под официально признанное определение подпадают разного рода социальные системные общности, то под определение Гумилёва подпадают вдобавок и множество биологических систем.
Разумеется, раз этнос существует в природе, то он «феномен биосферы». Такой же феномен биосферы, как и любой другой объект, существующий в природе и оказывающий воздействие на окружающую среду. В таком качестве этносом могут заинтересоваться биологи, экологи и географы. И тогда возникнет отрасль естественных наук под названием этнобиология или этноэкология, или ещё какая-нибудь, которая и займётся разработкой данной темы.
Однако наука этнология, сама по себе, есть нечто совершенно иное. Определять её как «естественную», «географическую» – есть просто недоразумение. В России этнология традиционно являлась составной частью исторической науки. И это не случайно: этнос, прежде всего, явление историческое и за пределами исторического процесса неизвестен. При этом надо исходить из понимания исторического процесса, как в основе своей, процесса становления личности. В природе же всё переходит во всё, царит вечное превращение и вечное возвращение к самому себе, а потому и не существует никакой истории.
Возможность применения в этнологии методики естественных наук не делает её (вопреки мнению Гумилёва) естественной наукой. Ведь та или иная методика является общим достоянием науки как таковой. Если какие-то методы были впервые выработаны в рамках одной дисциплины, это не значит, что они – её исключительное достояние. С равным успехом они могут быть использованы в других науках, и между естественными и гуманитарными дисциплинами здесь принципиальной разницы нет. Николай Данилевский и Константин Леонтьев применили естественную систематику и категории к разработке исторического процесса и на основе этого добились известных значительных результатов. Но предмет их рассмотрения не изменился – история осталась историей.
Лев Гумилёв утверждал, что этнология – наука естественная, потому что существование этноса связано с изменением ландшафта. Насчёт изменения ландшафта, конечно, верно, – но тут смотря что поставить во главу угла. Если предмет рассмотрения – ландшафт, а этнос трактуется как сила, воздействующая на оный, – тогда это действительно естественная, географическая наука… но не этнология, а ландшафтоведение. Если нас интересует жизнедеятельность организмов и биосистем, а воздействие этноса – лишь один из факторов, влияющих на них, – то это опять-таки естественная наука, но не этнология, а экология. Если же предмет нашего рассмотрения этнос, а его взаимодействие с ландшафтом или биосферой есть лишь аспект его существования в той или иной стадии этногенеза, то здесь перед нами именно этнология – историческая наука, так как предмет её – исторический феномен. Что, впрочем, Гумилёв и сам невольно подтверждает, разрабатывая свою концепцию этногенеза исключительно на историческом материале, поскольку иного просто не существует.
Другое определение Гумилёва: «Этнос – коллектив особей, имеющий неповторимую структуру и оригинальный стереотип поведения»[3]. Здесь уже знакомое нам перечисление признаков, оставляющее в стороне суть проблемы.
Итак, в историческом аспекте определение Гумилёва не даёт ничего конструктивного. Однако, несмотря на неудачу итогового определения, Гумилёвым сделано для выяснения понятия этнического кое-что важное. В истоке его поиска были верные интуиции, он только свернул не на ту дорогу. Он чётко понял не социальный характер этнического феномена. Отсюда Гумилёв сделал вывод о его природном характере. Он только не понял, в чём заключается особая этническая «природность». Вместо поиска собственно этнической природы Гумилёв углубился в географию и биологию.
А ведь Лев Гумилёв находился в одном шаге от разгадки: «В основе этнической диагностики лежит ощущение»[4]. И далее в его трактате приводится цитата, где прямо говорится о сути дела: «Европейские интеллигенты, переселившиеся в Америку… часто лучше, чем американцы, знали её историю, законы и обычаи. Однако эти люди обладали „знанием“ американской жизни, но не „знакомством“ с ней. Они были не способны понять много такого, что любой ребёнок, выросший в США, чувствует интуитивно»[5]. Да, этнос именно таков. В сознании человека этнос имеет интуитивный, непосредственный, дорациональный характер. Этническое содержание, разумеется, можно разумно осмыслять, но сам по себе этнос внерационален.
При чём же здесь какая-то природность? А вот при чём. В цитированном выше отрывке обратите внимание, что взрослый человек не может органически приобщиться к этносу, частью которого он не был с детства; и любой объём знаний о культуре чужого этноса здесь ничего не изменит. Не имеет никакого значения и субъективное отношение эмигранта к новой этнической среде: нравится она ему или нет, но он таки не станет её органической частью. Русские недаром комически воспринимали «русский патриотизм» немцев, служивших российскому престолу; он казался им чем-то невыразимо неуклюжим, хотя немцы нередко были вполне искренны.
Взрослый эмигрант не станет «своим» в новом этническом коллективе, а дети его станут, – вот в чём дело. Этнос закладывается в человека в его детстве, более всего и глубже всего – в самые первые годы, – «при рождении». Под рождением тут, разумеется, следует понимать не биологическое рождение, а рождение личности. Если ребёнка, родившегося в Италии, в младенческом возрасте перевезти в Америку и там вырастить и воспитать, то он будет американцем, а не итальянцем (исключение составляет случай искусственной изоляции). Для этнической идентификации не важно, где ты родился и кто были твои родители; важно – в какой этнической среде прошло становление твоей личности. В этом и состоит «природность» этноса для человека. Этнос даётся человеку в раннем возрасте помимо его сознательного выбора раз и навсегда. Человек может сменить страну, гражданство, язык, а этнос – нет; родителей не выбирают, этнос – тоже.
«Природная» данность принадлежит к самому ядру понятия этноса, это то, «без чего нет». Но что же такое этнос по содержанию? Этнос представляет собой некоторый коллектив людей, объединённых особой связью. А каждый человек есть личность. «Личность же предполагает, прежде всего, самосознание. Личность именно этим и отличается от вещи»[6]. Вообще, этнос немыслим без личности. Этнос выражается только через личность, через её сознание. Не будь его, ничего нельзя было бы сказать не только о том или ином этносе, но и о самом существовании данного феномена. По моему глубокому убеждению, этнос определим только через категорию «личности».
Итак, этнос есть некая общность личностей. А это значит, что в сознании каждой из этих личностей существует некоторая точка, в которой тождественны все личности, принадлежащие к данному этносу. В этой точке они совпадают до неразличимости. Этнос, как связь между людьми, есть особая точка, с которой личность смотрит на мир (в том числе и на саму себя); причём эта точка обща для всех личностей-индивидов, входящих в данный этнос. Для наглядности можно представить это геометрически: если изобразить личность в пространстве в качестве прямой или луча, то этнос будет точкой пересечения всего множества прямых или общей вершиной всех лучей.
В то же время в каждой личности этнос дан целиком и полностью: в отдельной личности присутствует вся полнота этнического содержания. С особенной силой этнос выражается в личностях выдающихся – гениях. Это же имеется в виду, когда говорят о ком-то: «Он русский (француз, американец) с головы до пят». Но и заурядные люди несут в себе свой этнос во всей полноте, – разница только в силе выражения, в степени этнической напряжённости. Но полное тождество личности и её этнического содержания означает, что этнос – явление органическое. Потому что именно организм является реальным тождеством между идеей и телом, идеей и её носителем.
Своей органической природой этнос коренным образом отличается от социума, – поскольку всякий социум есть не организм, а механизм. И этнос, и социум представляют собой людские коллективы, поэтому их часто путают, вернее, пытаются подвести этнос под социальные рамки. Но природа этих двух общностей совершенно различна. Отличие этноса от социума есть просто-напросто отличие организма от механизма. Что такое механизм? Вот как определяет его философ Алексей Лосев: «…имеется общее, но выражается оно так, что ничего частного не привлекается для понимания этого общего. Частное имеет целью только показать общее, голое общее, которое по смыслу своему чуждо всякого частного. Таков всякий механизм. Идея механизма не становится богаче от прибавления к ней отдельных и всех, вместе взятых, частей механизма. Равным образом и отдельные части механизма, будучи объединены одной общей идеей, получают эту идею совершенно в отвлечённом и общем виде. Она их нисколько не изменяет как таковых, а лишь даёт свой метод их объединения. Механизм воплощает на себе чуждую своему материалу идею»[7].
Отсюда понятна разница между этносом и социумом. Изменяет ли этнос человеческую личность? Конечно, ещё как! Можно утверждать, что поведение человека в любой ситуации во многом предопределено его этническим происхождением. Люди, принадлежащие к разным этносам, по-разному реагируют на одну и ту же ситуацию. А в социуме? Нужна ли ему вообще личность? Да нисколько! Для любой социальной системы необходим лишь послушный исполнитель – «винтик». Личность же вносит в идеальный социальный порядок нежелательный сумбур. Недаром Платон изгнал поэтов из своего идеального государства! Социальная система в своём идеале стремится к сообществу компьютеризованных роботов. Чем меньше личности, тем лучше, – тем отлаженнее работает социальный механизм. «Нам нужны не гении, а добрые подданные», – изрёк австрийский император. И эти слова служат девизом любой социальной системы. А вот этносу нужны гении, – они являются наиболее яркими и полными выразителями его содержания. Много ли можно было сказать о русском этносе без Рублёва, Пушкина, Суворова, Петра Великого, Мусоргского, Сергия Радонежского? В плане социума человек – функционер, в плане этноса человек – герой.
А теперь подойдём к проблеме с другой стороны. Как отметил Л. Гумилёв, «этническая принадлежность в сознании явление всеобщее»[8]. Попросту говоря, всякий может назвать свой этнос. А если не может, то только потому, что находится под влиянием ложной теории этноса. Широко бытует, к примеру, теория, что национальность человека определяется национальностью его родителей; так что человек, чьи родители разных национальностей или не знающий национальности своих родителей (сирота), находится в затруднении. Но, как мы уже выяснили, этнос человека определяется доминирующей этнической средой в пору становления его личности.
Таким образом, этнос для личного сознания – явление универсальное: нет личности без этноса, хотя последний дан с разной степенью интенсивности. Но «если звёзды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно»! Коль скоро этнос неотъемлемо присущ личности, значит, он ей зачем-то жизненно необходим. Зачем же? Подумаем вот о чём: что для личности самое важное? – Безусловно, самоутверждение. Личность явление разноплановое, существующее в разных планах бытия. И она жаждет утвердиться во всех аспектах своего существования. Важнейшие планы личного бытия, с которыми связаны наиболее острые личные переживания, – это временные планы – план времени и план вечности. Здесь не место для анализа этих сложных философских категорий. Необходимо лишь подчеркнуть стремление всякой личности утвердить своё существование прежде всего в этих важнейших планах бытия. Кратковременность, текучесть, конечность существования человеческой личности всегда волновала и потрясала людей, вносила ноту трагизма в их бытие. Иллюстрацией чему служит почти вся художественная литература.
В плане вечности личность самоутверждается через религию. «Религия есть всегда то или иное самоутверждение личности в вечности. Она есть та или иная попытка утвердить личность в бытии вечном, связать её навсегда с бытием абсолютным»[9]. Но личность существует и в плане времени, в истории, которая есть не что иное, как «становление личного бытия»[10]. И в этом плане ей также требуется самоутверждение. И вот в истории личность самоутверждается через этнос. Этнос есть форма утверждения личности в истории.
Самоутвердиться в истории индивид может только в рамках определённого коллектива, между всеми членами которого существует некоторое реальное тождество. Данный исторический коллектив и есть народ (этнос). Этническая связь – единственная реальная органическая связь между индивидами в историческом плане бытия. Не будь её, личность была бы совершенно одинока в истории. В самом деле, что фиксируется прежде всего этнонациональным сознанием? «Я француз», «я русский», «я китаец» – означает принадлежность к какому-то крупному историческому телу с неизмеримо более длительным сроком существования, нежели у отдельного человека. В результате приобщения к такому крупному телу отдельная личность расширяет узкий мирок индивидуального бытия до целой исторической эпохи, наполняет своё существование историческим смыслом, выходит из бытия атомизированного и укореняется в мире.
Следует заметить, что существует ещё один вид общности, данный личности природно, – это семья. Однако семья не стала историческим феноменом. Причина, видимо, в маломощности и неустойчивости, кратковременности срока существования этого малого коллектива, – в силу чего он не удовлетворяет цели исторического самоутверждения. Семья является лишь многофункциональной ячейкой этносоциальной структуры. Личность впитывает этническое содержание во многом посредством семьи, но оно не является продуктом семьи. Этнос общность надродовая, и русское этническое сознание чётко зафиксировало этот факт в слове «НАРОД».
Этнос – это не обычаи и обряды, не культура и т. п. Этнос – особый оригинальный угол зрения, под которым рассматривается мир. А уже из этого рассмотрения проистекают взгляды, чувства, идеи, законы, обряды, обычаи, эпос, музыка, орнамент и проч. Оригинальное мировоззрение этноса находит выражение в национальной культуре, которая закрепляет и долговременно сохраняет его в качестве традиции. На базе этноса возникает социально-политическая организация (государство), регулирующая отношения между его членами, отстаивающая интересы этнического коллектива в иноэтническом окружении, защищающая его существование от угроз извне и изнутри.
Итак, итоговое определение этноса как особой связи будет кратко: этнос есть историческая общность, данная человеческой личности природно (при её рождении).
Глава 2 Этногенез. Основные понятия
Этногенезом мы называем процесс становления и развития этноса от момента его возникновения до исчезновения. Процесс этот характеризуется закономерной сменой определённых состояний этноса – фаз этногенеза. Мировая этническая история есть череда этногенезов множества отдельных этносов. Многие из них уже завершили своё существование, другие существуют и сейчас; третьи, возможно, ещё не появились на свет божий. Одни этносы оставили богатое культурное наследство, следы других едва заметны в истории; одни прошли полный цикл этногенеза, существование других было прервано неблагоприятными обстоятельствами до естественного конца.
Мы согласны с Л. Гумилёвым в определении начального момента этногенеза. Этносы в истории появляются как бы внезапно (в масштабе исторического времени). На обширной территории долгое время существует некий этнический субстрат; существует стабильно в равновесии с окружающей средой, лишь воспроизводя себя из поколения в поколение. Люди озабочены повседневными нуждами, на большее не дерзают; интересы не выходят за пределы своей семьи, самое большее – своей деревни. Вдруг, в какой-то момент в сравнительно небольшом регионе появляется коллектив людей, обладающий сознанием своей общности и проявляющий явные признаки активности. Он стремится к расширению – завоеванию и освоению окрестных земель, к утверждению своего понимания справедливости и красоты, строит города и храмы, создаёт философские системы и религиозные учения. Возникает качественно новое явление истории.
Появление нового этноса – это качественное изменение исторической среды. И для того чтобы произвести такое изменение, требуется затрата энергии. Поэтому наличие некоего энергетического импульса для запуска процесса этногенеза представляется совершенно необходимым. Всякое качественное изменение в мире имеет скачкообразный характер. Этот скачок, этот энергетический импульс мы вслед за Л. Гумилёвым называем этническим толчком.
Но одной энергии для возникновения этноса ещё недостаточно. Новый этнос – это новая культура, т. е. новое идеальное содержание, которое отсутствует в этническом субстрате. И это содержание должно быть сообщено этническому коллективу в начальный момент этногенеза; это необходимое требование для реальности существования этноса. Если этнос есть нечто реально существующее, то он представляет собой некую целость, становящуюся в процессе этногенеза. В этническом субстрате, до появления нового этноса, её ещё нет, а в момент этнического толчка она уже присутствует полностью. Ведь «что такое всякое становление и течение и что нужно для такого становления и течения? Во-первых, необходим предмет, который во все моменты своего становления остаётся тем же самым. Если нет этой абсолютной неподвижности предмета, тогда нет никакого и изменения, ибо нечему тогда и меняться, становиться. Так называемое изменение было бы попросту рядом ничем не связанных между собой совершенно различных предметов, и никакого изменения одного и того же предмета не могло бы и состояться»[11].
Мнение о постепенном образовании нового этноса из механического взаимодействия и слияния различных этнических компонентов неизбежно ведёт к признанию категории этноса нереальной, а этноса, как исторического феномена, – несуществующим. Ведь в старых этносах новое этническое содержание отсутствует. Поэтому из любого их взаимодействия оно не возникнет. Повторяю, сумма нулей равна нулю. Этническое сознание отживших этносов не наследуется, наследуются лишь продукты культуры. (У Гумилёва этот вопрос не прояснён. У него выходит так, что после этнического толчка индивиды, которым сообщена избыточная энергия, каким-то образом (неизвестно каким) вырабатывают новый стереотип поведения. Несомненно, что для совместного действия и организации этих индивидов уже должна существовать какая-то основа. Они уже видят этот «стереотип», который ещё не реализован в окружающем мире.)
Таким образом, мы установили, что этнический толчок есть импульс не только энергетический, но и информационный. Так его и определим: этнический толчок – это энерго-информационный импульс, дающий начало этногенезу (запускающий процесс).
Исторические данные свидетельствуют, что этносы возникают в небольших по территории областях, широко распространяясь в дальнейшем за их пределы. Римляне возникли в маленькой италийской области Лаций, турки-османы на северо-западе Малой Азии, великорусы – в междуречье Оки и Волги. Такие локальные районы, по-видимому, и являются пространством, на которое воздействует этнический толчок.
Этнический толчок явление кратковременное в историческом масштабе. Этносы же существуют долгие века и даже тысячелетия. Значит, что-то поддерживает их существование, не позволяя им стать быстрой жертвой энтропии. Этот факт приводит к необходимости введения категории этнического поля.
Каждый этнос имеет своё силовое поле, которое возникает в результате этнического толчка и поддерживает существование этноса на всём протяжении его становления, структурно организуя этнос изнутри и осуществляя влияние вовне.
Поле воздействует на каждого индивида данного этноса, задавая определённый, присущий ему ритм. Различные этнические поля имеют различные ритмы. Разные индивиды обладают различной чувствительностью к влиянию поля, к восприятию его ритма, что отражается на их жизненном поведении.
Этническое поле характеризуется напряжённостью, которая закономерно изменяется в процессе этногенеза. Изменение напряжённости этнического поля – один из главных факторов, обусловливающих ход этногенеза и особенности отдельных его фаз. Напряжённостью этнического поля определяется степень силы и целостности этноса. С исчезновением этнического поля исчезает и этнос; этнический коллектив распадается на ничем не связанных друг с другом индивидуумов. В реальности, такие индивиды исчезающего этноса попадают под влияние других, более сильных этнических полей и становятся членами других этнических коллективов.
Таковы основные положения теории этнического поля.
Понятие этнического поля, введённое Львом Гумилёвым, одно из самых важных в теории этногенеза. Оперирование этой категорией очень удобно для анализа хода этногенеза. Физическая природа поля, которую пытался выяснить Гумилёв, – проблема, стоящая за рамками исторической науки. Для историка вполне достаточно зафиксировать на историческом материале сам факт их существования. Вообще, для науки вопрос о реальности всех этих толчков и полей не стоит вовсе; равно как и вопрос о реальности атомов, электронов, электромагнитных полей и проч.[12] Все эти понятия имеют смысл как категории, в которых описываются некоторые реальные процессы. Например, физик доступными ему средствами (органами чувств, приборами) фиксирует какое-то изменение физической среды. Для описания и анализа этого изменения ему необходимы какие-то категории, которые он и вводит на основе обобщения накопленных данных. Так появляются атомы и электроны, которые вовсе не являются реально существующими объектами, хотя многие учёные относятся к ним именно так. Но то уже проблемы этих учёных, не имеющие никакого отношения к чистой науке.
Совершенно также историк, фиксируя изменение исторической этнической среды, нуждается в определённом категориальном аппарате для адекватного теоретического описания процесса таких изменений. Этнические поля столь же реальны и нереальны, как поля электромагнитные и гравитационные. И те и другие служат для описания процессов, происходящих в той или другой области реального мира, которые отслеживаются учёными с помощью доступных им средств научного наблюдения. И те и другие не являются реальными объектами, но имеют смысл как категории для характеристики процессов, протекающих в окружающей среде. И ничего другого для науки, собственно говоря, и не требуется.
Глава 3 Природные и социокультурные условия этногенеза
Этнические толчки неравномерно распределяются по поверхности заселённой части Земли. Исторические факты свидетельствуют о том, что одни районы для них более благоприятны, другие – менее. Географический аспект этой проблемы довольно хорошо разработан Львом Гумилёвым. Он убедительно показал, что с точки зрения природных условий наиболее благоприятными районами для возникновения этносов являются регионы с ландшафтным разнообразием: сочетанием лесов и полей, горно-лесных массивов со степями, пустынь и оазисов и т. д. Притом районы эти должны быть достаточно благоприятны по климату для жизнедеятельности человека; слишком суровые условия станут преградой этногенеза. На пространствах же монотонного ландшафта этногенез беден и невыразителен, едва заметен в истории. Общая закономерность, установленная Гумилёвым, здесь такова – этносы зарождаются в местах с ландшафтным разнообразием, а затем распространяются по обширным территориям однообразных ландшафтов.
Со всем этим можно согласиться, но этого ещё недостаточно.
С теоретической точки зрения всякая граница есть зона повышенного жизненного напряжения, так как здесь на небольшой территории сочетаются условия и элементы всех прилежащих пространств. Большинство крупных городов возникли на границе моря и суши (на морском побережье) либо на берегах крупных рек. Вулканы тянутся цепочками по границам литосферных плит; здесь же громоздятся высочайшие горные хребты. Одним словом, всякая граница – это зона повышенного энергетического напряжения. Поэтому понятно, что именно такие районы служат местами притяжения этнических толчков.
Но границы существуют не только в природе. Лев Гумилёв не обратил внимания на другой аспект зарождения этноса. Для судьбы этноса не меньшее значение, чем природные, имеют этнокультурные, цивилизационные условия его окружения. В этом плане существуют три варианта: этногенез проходит на нецивилизованной территории, вдали от развитых цивилизаций и вне их влияния; этногенез происходит на нецивилизованной территории, но по соседству с цивилизацией; и третий вариант – этногенез на цивилизованной территории.
Из всех вариантов самый благоприятный, пожалуй, второй. В данном случае развивающийся этнос отделён достаточной дистанцией от разрушительного влияния чужеродного этнического поля, но одновременно может заимствовать культурные достижения более развитого общества, что обогащает его культуру и стимулирует рост. В первом случае этногенез идёт более замедленно и в культурном отношении будет, скорее всего, примитивнее и беднее. Однако и этот вариант достаточно плодотворен, а по оригинальности превзойдёт и второй. А вот третий вариант решительно отличается от двух первых в негативную сторону. Дело в том, что для нормального развития зародившегося этноса необходима свобода, т. е. прежде всего свобода от внешнего вмешательства и давления, – а это выполнимо только на нецивилизованной территории. Всякая развитая цивилизация сожрёт новый этнос на корню. Вот почему наиболее благоприятные по природным условиям районы мира – староосвоенные цивилизованные территории так бедны на этническую новизну. Все народы, сыгравшие заметную роль в истории, зародились и окрепли либо вне влияния какой-либо цивилизации, либо вблизи её границ, но на девственной, «варварской» периферии, либо на обломках цивилизаций. Возьмём, к примеру, Средиземноморье: эллины возникают на развалинах микенской цивилизации, римляне появляются по соседству с цивилизованной Этрурией, германцы – вблизи границ Римской империи, славяне – ещё дальше. В цивилизованной Германии доминировали этносы, возникшие на её варварской славянской границе, – австрийцы и пруссаки. Современные народы Западной Европы возникли на обломках Римской империи; а в самой Римской империи на романизированной территории не появилось ни одного нового этноса. И даже напротив, – многие этносы исчезают, растворяются в римском этносе. В одной только Италии исчезают этруски, самниты, галлы, луканы, лигуры, умбры, марсы, вольски, эквы, япиги, бруттии и проч.
Тот же процесс протекает не только в империях, но и в любой цивилизованной стране. В Средние века страны Европы – Германия, Франция, Италия имели на провинциальном уровне пёстрое этническое разнообразие. Сейчас от него мало что осталось; оригинальные субэтнические черты стёрлись, сохранились лишь как воспоминание либо исчезли вовсе. И так везде. Всюду в рамках цивилизации идёт упрощение и обеднение этнических систем. Это «вторичное упрощение» ещё в конце XIX века оплакивал Константин Леонтьев.
Значит, цивилизация враждебна этногенезу. Она не только не способствует возникновению новых этносов, но и пожирает те, что оказались на её территории. Что же происходит? Попробуем найти объяснение в терминах теории этногенеза. После этнического толчка напряжённость этнического поля нарастает, но требуется некоторое время, чтобы поле набрало силу, способную оказывать сопротивление иноэтническому влиянию. Если этнос возникает на территории развитой цивилизации, он сразу же оказывается под мощным влиянием этнического поля старого этноса. Новое этническое поле в таких условиях либо разрушается, либо угнетается на самой ранней стадии развития. Новый этнос либо прекращает своё существование, либо включается в старую систему на более низком, субэтническом уровне.
Однако, несмотря на процесс этнической аннигиляции, в мире до сих пор поддерживается высокая степень этнического многообразия. На смену исчезнувшим этносам всегда приходили новые. Означает ли это, что процесс мирового этногенеза бесконечен, по крайней мере до тех пор, пока существует человечество?
На территории, занятой развитой цивилизацией, процесс этногенеза замирает. Но до сих пор ни одна цивилизация не охватывала весь мир. Все цивилизации, существовавшие прежде в истории, – например, египетская, вавилонская, китайская, эллинская, римская, – были локальными. Наряду с цивилизованной территорией всегда существовала обширная нецивилизованная периферия, где имелся полный простор для зарождения и развития новых этносов.
По-видимому, условием прекращения мирового этногенеза должно быть появление такой цивилизации, которая охватит весь мир. Гумилёв, утверждавший биогеографический характер феномена этноса, считал, что «для создания единого этноса на всей планете нужно уничтожить зональность, циклонические движения атмосферы, разницу между лесом и степью и, уж конечно, горы и долины. Но, к счастью, это невозможно»[13]. Однако тем, кто не считает этнос феноменом биологическим, нельзя разделить оптимизм Гумилёва. Конец мирового этнического становления – вещь вполне мыслимая. Если какая-либо цивилизация займёт весь мир, то возникновение новых этносов прекратится, – для нового этногенеза просто не будет свободного пространства. Человечество станет этнически стареть. Процесс мирового этногенеза устремится к своему концу по мере завершения этногенеза уже существующих этносов. И этот конец будет не чем иным, как концом истории.
Глава 4 Множественность этнических толчков
По мнению Льва Гумилёва, этнический толчок явление редкое: «Возникают толчки редко – два или три за тысячу лет»[14]. Так что за три тысячелетия Гумилёв насчитал девять толчков:
I (XVIII век до н. э.);
II (XI век до н. э.);
III. (VIII век до н. э.);
IV. (III век до н. э.);
V (I век н. э.);
VI (VI век н. э.);
VII (VIII век н. э.);
VIII (XI век н. э.);
IX (XIII век н. э.)[15].
Посмотрим, насколько соответствует действительности группировка Гумилёва.
Этнический толчок происходит скрытно от глаз истории. Однако его можно приблизительно датировать и уж во всяком случае адекватно сопоставлять датировки для различных этносов, имея в виду следующее: активность новорождённого этноса начинает проявляться не сразу, а лет через сто; через 150–200 лет с момента толчка этнос разворачивает активную экспансию.
Оставим без внимания первые два толчка. 2-е тысячелетие до н. э. время достаточно тёмное, исторических фактов от него дошло немного, а датировка их варьируется в широких пределах. При таких условиях теоретические построения будут носить скорее гадательный характер.
Рассмотрим лучше 1-е тысячелетие до н. э., о котором историческая наука говорит гораздо увереннее. Итак, III этнический толчок (VIII век до н. э.). Гумилёв считал, что этот толчок дал начало римлянам, самнитам, эквам, галлам, эллинам, лидийцам, киликийцам, персам.
Нам нет нужды подробно рассматривать этногенез каждой из перечисленных народностей, ограничимся лишь некоторыми замечаниями. Если принять традиционную дату основания Рима – 753 год до н. э., то римляне соответствуют этому толчку. О прочих италиках мало что можно сказать уверенно. Однако, судя по тому, что римляне одержали над ними победу и ассимилировали в конечном счёте, все эти вольски и эквы были всё-таки этносами более старыми.
Галлы, вне всякого сомнения, были этносом более древним, чем римляне. Экспансия галлов развернулась в Европе лет на двести раньше римской. В то время, когда римляне только набирали силу, галлы находились в расцвете своей мощи, – в 387 году до н. э. они разбили римлян и заняли Рим. Когда же римляне вступили в пору расцвета, галлы уже постарели и ослабли и не смогли сдержать напора римлян. Таким образом, этнический толчок галлов не мог быть позднее X или IX века до н. э.
Эллины в VIII веке до н. э. уже развернули активную экспансию в Средиземноморье. Поэтому этнический толчок, давший начало Элладе, следует отнести, скорее всего, к X–XI векам до н. э. Примерно в то же время возникли и лидийцы; в начале VII века до н. э. они уже основали своё царство. Персы в середине VI века до н. э. основали великую империю. Значит, их толчок был не позднее IX века до н. э.
Подведём итоги: вместо одного толчка VIII века до н. э. мы получили как минимум VIII, IX, X, XI века до н. э. – группировка Гумилёва рассыпается на глазах.
Теперь возьмём 1-е тысячелетие н. э., VII толчок по Гумилёву – VIII век н. э.: испанцы (Астурия), французы, немцы (саксы), скандинавы (даны и норвежцы).
Если называть испанцами тот этнос, который объединил Пиренейский полуостров, т. е. кастильцев, – то их в то время ещё не было; они появляются лишь на рубеже X–XI веков. Если подразумевать под испанцами астуров, которые дали отпор арабам в VIII веке и положили начало Реконкисте (эти события, по-видимому, и имеет в виду Гумилёв), то, раз этнос ярко проявил себя в начале VIII века, значит, зародился он как минимум лет за сто до того – не позднее рубежа VI–VII веков; ведь ему необходимо было какое-то время, чтобы набрать силы.
Поскольку надлом французского этноса начался во второй половине XIV века, то этнический толчок, давший ему начало, нужно датировать XI веком. В VIII же веке на территории Франции была полиэтническая мешанина с преобладанием галло-римлян, но французов ещё не было. Неясно также, что Гумилёв имеет в виду, говоря о немцах. Если он говорит о саксах, то саксы уже в V веке завоевали Англию. Значит, их этнический толчок приходится на II–III века. Если же Гумилёв имеет в виду древнегерманский этнос, подразумевая, что начало ему положили саксы, – то хотя такая конструкция вполне возможна, но произойти это могло не ранее IX века, так как сами саксы вошли в состав европейского суперэтноса лишь на исходе VIII века, будучи завоёваны Карлом Великим. И, наконец, о скандинавах: Гумилёв здесь ведёт речь, конечно же, об «эпохе викингов»; но ведь совершенно ясно, что до такого бурного проявления этнос должен пройти несколько веков (как минимум) развития. В лучшем случае толчок произошёл в V–VI веках, а если «эпоха викингов» – фаза обскурации, то ещё много раньше.
В итоге по VII толчку Гумилёва имеем – III, VI, X, XI века, – вновь полный разброс.
В заключение ещё один пример: в рамках IX толчка (XIII век) Гумилёв объединяет литовцев и великорусов. Но если великорусы действительно появились в XIII веке, то литовцы уже в конце XII века повели экспансию на русские земли; а в то время, когда великорусы выходят на пик своего подъёма, Литва погружается в глубокий упадок и фактически исчезает как величина политическая. Несовпадение этногенезов очевидно.
Думаю, этого достаточно. Исторические факты неумолимо опровергают искусственные построения Гумилёва. Вместо концентрированного, сжатого во времени толчка или скопления толчков мы видим более или менее равномерный их разброс. Факты свидетельствуют о том, что этнические толчки происходили в истории достаточно постоянно, что это явление совсем не редкое.
Этнический толчок мы определили как энерго-информационный импульс. Но каждый этнос своеобразен, каждый этнос – оригинальная информационно-идеологическая структура. А это значит, что каждому этносу соответствует единственный этнический толчок и каждый этнический толчок порождает единственный этнос. Положение Гумилёва о том, что от одного толчка возникает несколько этносов, следует признать ошибочным. Эта ошибка – следствие исключительного внимания Гумилёва к энергетической стороне процесса и невнимания к информационному его содержанию.
Поскольку каждый толчок порождает только один этнос, а в мире их насчитывается сейчас несколько тысяч во всех уголках земного шара, то отсюда вытекает множественность этнических толчков в пространстве и времени. Чтобы представить масштабы этой множественности, надо отметить ещё несколько моментов. Во-первых, кроме этносов существуют ещё множество субэтносов, которых гораздо больше, нежели этносов, потому что каждый этнос имеет в своём составе хотя бы несколько субэтнических групп, а крупные этносы – и по нескольку десятков. Но ведь субэтносы – это, в сущности, тоже этносы со всеми присущими им свойствами. А раз так, то и возникают они таким же образом, т. е. в результате этнического толчка, – хотя бы и микротолчка по сравнению с этносом более высокого уровня. Во-вторых, этнических толчков, вероятно, гораздо больше, чем реально существующих этносов: нужно вспомнить о том, что этносы, рождающиеся в неблагоприятной природной и социокультурной среде, часто гибнут в зародыше. Возможно, этносов в мире рождается столь же много, как мальков в период нереста, но лишь немногим из них суждено стать взрослой крупной рыбой. В процессе этнического становления толчки происходят постоянно и повсюду. Но реализуются их потенции только там, где для этого есть благоприятные условия. Это жёсткий закон жизни вообще и этногенеза как её частного проявления.
Глава 5 Взаимодействие этносов
Этносы, существующие в мире, сильно отличаются друг от друга по историческим и культурным результатам, достигнутым в ходе своего развития. Одни живут долго, распространяются широко, гремят в истории своими деяниями, оставляют потомкам массу культурных продуктов; другие существуют скромно и незаметно и так же незаметно сходят с исторической сцены, «не бросивши векам ни мысли плодовитой, ни гением начатого труда».
В чём причина этого отличия? Причин, очевидно, две. Во-первых, толчки различаются по силе: более мощный импульс вызывает к жизни и более сильный этнос. Во-вторых, сказывается степень благоприятности окружающей среды. Об этом мы уже говорили. Развитие этноса, попавшего в неблагоприятные условия, угнетается. Малочисленность и небольшие материальные ресурсы какого-либо этноса ещё не критерий богатства его информационного содержания: некоторые «отсталые» народы имеют богатую мифологию, тонкую и выразительную эстетическую культуру. Просто этносы, развивающиеся в неблагоприятных природных условиях, не имеют возможности концентрации – необходимого условия политического усиления и роста цивилизации. Вследствие этого их культура не получает большого развития и распространения.
В неблагоприятном этнокультурном окружении этногенез новорождённого этноса угнетается внешним более сильным этническим полем либо до полного уничтожения, либо амплитуда его этногенеза укорачивается, и он прозябает на более низком энергетическом уровне. Этносы, как и организмы в живой природе, ведут борьбу за существование, и горе побеждённому (!).
Таким образом, в результате различных условий появления и развития возникает сложная картина борьбы и сосуществования множества различных этносов.
Этнические толчки захватывают небольшие районы, но затем, по мере роста, этнос начинает территориальную экспансию. На своём пути он встречает другие этносы и вступает с ними в различного рода контакты. Происходит взаимодействие разных этнических полей, каждое из которых характеризуется различной степенью напряжённости и собственным оригинальным ритмом. Различные ритмы могут либо гармонировать, либо дисгармонировать.
Здесь теоретически возможны четыре типа этнического взаимодействия:
Первый – взаимодействие равных по силе гармонирующих полей.
Второй – взаимодействие равных по силе дисгармонирующих полей.
Третий – взаимодействие неравных по силе гармонирующих полей.
Четвёртый – взаимодействие неравных по силе дисгармонирующих полей.
Рассмотрим эти случаи по порядку.
Первый вариант относится к разряду чисто теоретических. Даже затрудняюсь привести пример подобного взаимодействия.
Видимо, вероятность встречи во времени двух примерно равных по напряжённости и притом гармонирующих полей слишком мала. Поэтому, поставив здесь знак вопроса, перейдём к более реальным вариантам.
При встрече двух дисгармонирующих этносов неизбежен конфликт. На этнической границе начнётся постоянная борьба (культурная и политическая), которая время от времени будет обостряться вплоть до военных столкновений. Этносы-соперники станут стремиться к расширению за счёт противника, а при удаче и к его полному разгрому и покорению. Но равенство в силах не позволяет кому-либо одержать окончательную победу. И в конечном итоге устанавливается динамическое равновесие: два народа то воюют, то мирятся; заимствуют друг у друга культурные и технические достижения, но при этом остаются самими собой и стабильно сосуществуют. Для иллюстрации можно привести отношения между Францией и Германией или вообще между европейскими державами. Несмотря на вековую вражду, постоянные войны друг с другом, границы между этими странами остались примерно такими же, как и тысячу лет назад.
Теперь рассмотрим сначала четвёртый вариант – взаимодействие неравных по силе дисгармонирующих полей. В этом случае также возникает межэтнический конфликт. Но поскольку один из противников обладает явным превосходством в силах, вероятным исходом борьбы будет полное уничтожение другого её участника. То есть это означает не обязательно физическое истребление представителей более слабой этнической общности, но их ассимиляцию. Уничтожение этноса – это распад и исчезновение его этнического поля, в результате чего индивиды, входившие в его состав, поглощаются этносом-победителем. Пример такого взаимодействия представляет борьба между германцами и славянскими племенами Поморья и Полабья (ободриты, лютичи, руяне, вагры и проч.), которые обитали на территории нынешней Восточной Германии. В XII веке они были окончательно покорены немцами. И хотя физического истребления славян не было, перечисленные этносы практически исчезли. Лишь небольшая группа лужичан сохранила слабое воспоминание о своём происхождении; абсолютное большинство подверглось полной ассимиляции, так что восточные немцы – в значительной степени потомки западных славян. Подобных примеров в истории немало.
Глава 6 Этническая иерархия. Природа суперэтноса
Третий вариант этнического контакта – взаимодействие неравных по силе гармонирующих полей рассмотрим отдельно. Ибо этот вариант самый интересный и плодотворный. Из такого взаимодействия рождается этническая иерархия – уровневая этническая система.
К счастью, отношения между этносами не сводятся только к противоборству, – между ними возможны мир и сосуществование. Насколько редок вариант контакта двух равно напряжённых гармонирующих этнических полей, настолько же распространён контакт подобных полей, неравных по силе.
Суть дела сводится к следующему: когда гармонирующие этнические поля вступают во взаимодействие, ритмы более слабого этнического поля каким-то образом встраиваются в ритмику более сильного; или, иначе говоря, ритмы более сильного поля надстраиваются над ритмами более слабого. Таким образом, становится возможным сосуществование различных этносов в одной этнической системе. Почти любой этнос, кроме самых небольших, представляет собой иерархическую этническую систему.
Как правило, выделяют два уровня этнической иерархии – этнос и субэтнос. Под субэтносом понимают общность, в которую входит часть индивидов этноса, объединённых особенностью местных культурно-бытовых, языковых, конфессиональных и прочих признаков. Индивиды, входящие в субэтнос, с одной стороны являются членами этноса, с другой – имеют этнические отличия от прочих его индивидов.
Так, в составе великорусского этноса (русские) издавна выделялись своеобразием хозяйственно-бытового уклада жители побережья Белого моря – поморы; на основе религиозно-культурных отличий обособились в субэтносы различные группы старообрядцев, расселившиеся по медвежьим углам России; значительным культурно-бытовым своеобразием выделялись среди русских казачьи общества, возникшие на южных границах государства. Субэтнические различия, по крайней мере, в старое время существовали и в Центральной России. Например, Иван Тургенев в своём известном рассказе «Хорь и Калиныч» обратил внимание на резкое отличие во внешнем облике и образе жизни мужиков двух соседних губерний – Орловской и Калужской. В наше время, когда культурно-бытовые особенности во многом нивелированы, обширность территории России и разнообразие природных условий отдельных регионов, сохранившиеся остатки местных традиций всё ещё служат почвой для поддержания отличий на субэтническом уровне.
С точки зрения теории этногенеза субэтнос – тоже этнос, только обладающий существенно меньшей энергетикой, на порядок ниже энергетики этноса, в состав которого он входит. Механизм образования субэтноса следующий – этнический толчок, дающий ему начало, происходит в сфере воздействия поля существующего этноса, которое тормозит рост нового поля. Поскольку ритмы полей гармонируют, полного уничтожения новорождённого поля не происходит, – оно встраивается в наличную структуру и существует на своём уровне.
Возможен и другой вариант образования субэтноса, когда его субстратом служит иноэтническое население. Этнические поля древних самобытных этносов постепенно слабеют, разрушаются, теряют часть оригинальной ритмики. Это создаёт условия для вхождения их в другие этнические системы.
Прежде сильный и самостоятельный, а теперь ослабевший этнос может целиком или частично войти в состав другого этноса на субэтническом уровне. В ходе этнической экспансии французский этнос включил в свою систему многие соседние этносы: гасконцев, провансальцев, бретонцев, эльзасцев, фламандцев и др. Все эти этносы изначально были самостоятельны по отношению к французам. Очутившись в пределах Франции, они постепенно сошли на уровень субэтнических групп французского народа.
Лев Гумилёв обосновал реальность существования суперэтнической общности. Этот феномен проявляется в том, что члены нескольких различных этносов реально осознают своё единство по отношению ко всем прочим этносам. Например, какие бы различия и противоречия ни разделяли немцев, французов и англичан, но по отношению, скажем, к мусульманам – они обнаруживают общность сознания и поведения. И окружающие воспринимают их как некую цельность – европейцы, «франки», «немцы». На наш взгляд, реальность данного феномена не вызывает сомнений. Возможно даже, что суперэтнический уровень – не наивысший и существуют общности ещё более высокого порядка – мегаэтносы: например, Христианский мир, включающий в себя суперэтносы Европейский, Византийский, Российский; или, скажем, такой мегаэтнос, как Исламский мир (суперэтносы – Арабский, Персидский, Туркомусульманский и т. д.). Эта проблема требует дальнейшего прояснения.
По мнению Гумилёва, суперэтнос есть «группа этносов, возникших одновременно в одном регионе и проявляющая себя в истории как мозаичная целость»[16]. Общность этносов обусловлена тем, что все они возникли от одного толчка: «Поскольку все они получили один и тот же импульс, они обнаруживают черты сходства. Это их и объединяет в суперэтнос».
Данная гипотеза совершенно опровергается историческими фактами. Последние ясно говорят, что суперэтническая система, возникнув в некотором регионе, отнюдь не ограничивается этим регионом, а расширяется далеко за его пределы. Например, мусульманский суперэтнос, возникнув в Аравии, захватил в свой ареал Северную Африку, Малую Азию, Сирию, Палестину, всю Переднюю и Центральную Азию вплоть до Индии. Этнический толчок, породивший мусульманский суперэтнос, согласно схеме самого Гумилёва, оставил в стороне все эти регионы. То есть суперэтническую целость составили этносы, возникшие не в одном регионе и не одновременно. То же самое в Европе: толчок, создавший суперэтнос, по схеме Гумилёва не захватил ни центральную и восточную её части, ни Апеннины; а между тем в европейский суперэтнос входят поляки, чехи, австрийцы, итальянцы, венгры. Российский суперэтнос объединил множество разных этносов ВосточноЕвропейской равнины, Кавказа, Сибири, Урала и Севера. Таким образом, на самом деле суперэтнические общности составляют этносы, возникшие не в одном регионе, не одновременно и от различных этнических толчков.
Однако если всё вышеперечисленное не объединяет этносы, входящие в суперэтнос, то какое-то сходство между ними всё же должно существовать. Это сходство коренится в ритмике этнических полей. Если этносы принадлежат к одной этнической системе, значит, в их этнических полях присутствует некий общий ритм, – что и объединяет их в целость в противопоставление всем другим этносам.
Очевидно, что механизм возникновения суперэтноса совершенно иной, нежели описанный Гумилёвым. Суперэтнос возникает, как и всякий этнос, от толчка в локальном регионе, а затем широко распространяется. Видимо, это столь мощный толчок, что создаётся очень сильное поле, обладающее разнообразной и гибкой ритмикой, способной гармонировать со многими другими полями. В отличие от обыкновенного этнического поля напряженность суперэтнического поля на порядок больше, поэтому оно способно вовлекать в сферу своего влияния вполне сложившиеся сильные этнические поля. В результате возникает крупная этническая система более высокого уровня.
Хотя процессы образования субэтнического и суперэтнического уровней по сути своей одинаковы и соответствуют третьему варианту этнического взаимодействия, но между ними есть и отличие. Если суперэтническое поле обычно распространяется на уже существующие этносы, то субэтносы чаще всего возникают уже после возникновения этноса – от новых толчков, случившихся в зоне влияния поля этноса. Так появились в России казаки, поморы, чалдоны и другие субэтнические группы русского этноса. На Дон и Терек, в Сибирь пришли великорусы из Центральной России, и лишь впоследствии они приобрели этнические особенности.
Таким образом, из взаимодействия этнических полей с гармонирующими ритмами возникает трёхуровневая этническая иерархия.
Суперэтнос
|
Этносы
|
Субэтносы
Выделение более низких или более высоких уровней проблематично теоретически и малопродуктивно практически. Трёх уровней этнической иерархии вполне достаточно, чтобы адекватно описать любую этническую систему.
В процессе развития этнические системы проходят стадии роста и упадка. В стадии роста система усложняется: этнос активно выделяет субэтносы, суперэтнос захватывает в своё поле всё новые этносы. В стадии упадка системы, напротив, – с ослаблением суперэтнического поля этносы откалываются от него, субэтносы растворяются в общей этнической массе. Чем сложнее и насыщеннее структура этносистемы, тем сильнее её энергетика, тем она жизнеспособнее. Это и понятно, ведь при истощении энергетических ресурсов одних элементов системы она может воспользоваться возможностями других. С ослаблением и исчерпанием творческих потенций одного этноса (субэтноса) в рамках суперэтнической (этнической) системы инициативу в решении системных проблем на новом историческом этапе подхватывает другой этнос (субэтнос). «Владычество переходит от народа к народу», а система в целом остаётся жизнеспособной. Так, в Европе лидирующая роль переходила от одной державы к другой: от Испании к Франции, от Франции к Англии, от Англии к Германии. Китай, благодаря богатству и разнообразию своей суперсистемы, неоднократно возрождался из пепла, восстанавливая государственное единство и силу. При ослаблении и упрощении иерархии с превращением всех индивидов системы в однообразную этническую массу упадок доминирующего этноса означает и упадок системы в целом.
Элементы этнической системы могут переходить с одного уровня на другой. С ослаблением этнического поля прежде самостоятельный этнос может перейти на субэтнический уровень: так случилось с каталонцами и галисийцами в Испании, бретонцами во Франции, кашубами в Польше. С другой стороны, при распаде этнической системы какой-либо субэтнос может развиться в самостоятельный этнос, выделив в свою очередь субэтнические группы или подчинив другие субэтносы; может он и перейти в другую систему в том же качестве.
Процесс образования суперэтноса, т. е. перехода этноса на суперэтнический уровень, мы уже рассмотрели. С ослаблением суперэтнического поля идёт обратный процесс, – с расколом поля и упрощением структуры суперэтнос станет рядовым этносом: такую эволюцию в XX веке пережил турецкий этнос, а за пять веков до того и практически в том же месте – греко-византийский.
Соответственно этнической иерархии, иерархийно и этническое сознание человека. Одноуровневое этническое сознание присутствует разве что у небольших этносов – изолятов. Прочие люди имеют двух-, трёхуровневое этническое сознание, сочетающее в одном человеке несколько этнических ипостасей. Популярные кое у кого в России в последнее время противопоставления типа казак – или русский, помор – или русский несостоятельны так же, как подобные антитезы, скажем, в Европе: нормандец или француз, арагонец или испанец, саксонец или немец. Противопоставлению подлежат лишь предметы, находящиеся на одном уровне этнической иерархии. Так, во Франции вполне естественно отличать гасконцев от овернцев, нормандцев от бретонцев, – но на более высоком этническом уровне все они являются французами, соединяются в одну цельную общность. Так и в России законно ставить наравне друг с другом этнические группы казаков и поморов, казаков донских и казаков кубанских; сибиряков, волжан, уральцев; каменщиков и «поляков» (те и другие – различные группы старообрядцев). Но на следующей по высоте ступени этнической иерархии представители всех этих групп выступают как великорусы (кроме кубанских казаков малороссийского происхождения). Причём принадлежность к более крупной этнической общности не только не уничтожает оригинальную самобытность культурного облика той или иной этнической группы, но, напротив, является залогом её сохранения. Если малый этнос в силу каких-то обстоятельств потеряет охранительный покров своего суперэтноса, то самый вероятный исход его существования – быстрая нивелировка его своеобразия в рамках так называемой общечеловеческой цивилизации. Особая значимость феномена этнической иерархии заключается в том, что она даёт возможность мирного сосуществования совместно проживающих этносов. В целостной системе возможна борьба на одном уровне этнической иерархии. Но в вертикальной проекции этносы не вытесняют, а взаимно дополняют и поддерживают друг друга.
Глава 7 График этногенеза
Ход этногенеза, т. е. становление этноса от момента его появления до исчезновения, лучше всего представить в виде графика. Лев Гумилёв даёт такой график[17]:
Рис. 1
По оси абсцисс отложены временные фазы этногенеза, а по оси ординат – уровни пассионарного напряжения этноса, которое (по Гумилёву) определяет весь ход процесса.
В целом график выглядит довольно убедительно: действительно, «этногенез – инерционный процесс, где первоначальный заряд энергии расходуется вследствие сопротивления среды»[18].
В результате энергетического импульса, запускающего процесс, возникает поле, напряжённость которого поначалу резко нарастает, а затем постепенно понижается, рассеивается; и в какой-то момент исчезает совершенно. Графиком такого процесса будет асимметричная кривая. Гумилёв красочно сравнивает её с кривой, описывающей сгорание костра или взрыв порохового погреба: «Костёр вспыхнул с одного края. Пламя охватывает сучья кругом и быстро поглощает кислород внутри костра. Температура падает, и окружающий кислород воздуха врывается внутрь поленницы, заставляя угли вновь вспыхнуть. После нескольких вспышек остаются угольки, медленно остывающие и превращающиеся в пепел. Для повторения процесса нужен новый хворост и новая вспышка пламени»[19].
Всё это очень образно и красиво, но перейдём к рассмотрению конкретной разбивки по осям. Ось ординат не стоит большого внимания, поскольку степень «пассионарного напряжения этнической системы» величина вполне умозрительная. По данному параметру график может быть довольно значительно изменён так или этак, лишь бы была сохранена его общая форма.
Гораздо важнее ось абсцисс, временное деление по фазам. Оно делается на основе обобщения исторических фактов и имеет вполне конкретный и объективный характер. Всего Гумилёв выделяет шесть фаз: фаза подъёма (300 лет), акматическая (столько же), фаза надлома (150–200 лет), фаза инерции и фаза обскурации (сильно варьируются в зависимости от исторической судьбы) и последняя фаза – мемориальная (при благоприятных условиях длится неопределённо долго)[20].
Схема требует хотя бы краткого пояснения. Слово Гумилёву:
«Первая фаза – фаза пассионарного подъёма этноса, вызванная пассионарным толчком» (этнос растёт, крепнет, развивается и расширяет свои пределы). «Наибольший подъём пассионарности – акматическая фаза этногенеза – вызывает стремление людей не создавать ценности, а, напротив, „быть самими собой“: не подчиняться общим установлениям, считаться лишь с собственной природой. Обычно в истории эта фаза сопровождается таким внутренним соперничеством и резнёй, что ход этногенеза на время тормозится.
Постепенно вследствие резни пассионарный заряд этноса сокращается, ибо люди физически истребляют друг друга. Начинаются гражданские войны, и такую фазу мы назовём фазой надлома. Как правило, она сопровождается огромным рассеиванием энергии, кристаллизующейся в памятниках культуры и искусства. Но внешний расцвет культуры соответствует спаду пассионарности, а не её подъёму. Кончается эта фаза обычно кровопролитием; система выбрасывает из себя излишнюю пассионарность, и в обществе восстанавливается видимое равновесие.
Этнос начинает жить „по инерции“ благодаря приобретённым ценностям. Эту фазу мы назовём инерционной. Вновь идёт взаимное подчинение людей друг другу, происходит образование больших государств, создание и накопление материальных благ.
Постепенно пассионарность иссякает. Когда энергии в системе становится мало, ведущее положение в обществе занимают субпассионарии – люди с пониженной пассионарностью. Наступает фаза обскурации, при которой процессы распада в этносоциальной системе становятся необратимыми. Везде господствуют люди вялые и эгоистичные, руководствующиеся потребительской психологией. А после того как субпассионарии проедят и пропьют всё ценное, наступает последняя фаза этногенеза – мемориальная, когда этнос сохраняет лишь память о своей исторической традиции. Затем исчезает и память: приходит время равновесия с природой (гомеостаза), когда люди живут в гармонии с родным ландшафтом и предпочитают великим замыслам обывательский покой.
Пассионарности людей в этой фазе хватает лишь на то, чтобы поддерживать налаженное предками хозяйство»[21].
Весьма живописно и несколько сбивчиво, как это нередко у Гумилёва. Сколько ни пытается он выглядеть очень учёным, нагружая читателя сложной терминологией, но объяснения его скорее напоминают экстатические восклицания пророка или шамана, когда среди словесного сумбура вдруг являются прозрения истины.
Впрочем, пока ещё рано разбирать этот сумбур и объяснять ход этногенеза в целом; скажем лишь без комментариев, что в общем виде фазовую схему Гумилёва можно принять. Но одно существенное исправление нужно внести уже сейчас. Если внимательно присмотреться к определениям фаз акматической и надлома, становится совершенно ясно, что они представляют собой два определения одного и того же. Эти фазы по существу ничем не отличаются и похожи как близнецы. В самом деле, тут льётся кровь рекой и там то же самое. В акматической фазе чрезвычайное «внутреннее соперничество и резня», а фаза надлома начинается и заканчивается кровопролитием и резнёй – гражданскими войнами. Эти две фазы резко отличаются от смежных: с одной стороны – от фазы подъёма, с другой стороны – от фазы инерции, которые в целом являются периодами внутреннего мира и конструктивного созидания. Но как же их разграничить между собой? Неизвестно. Правда, Гумилёв находит одно отличие – уровень пассионарности: в акматической фазе, утверждает он, этот уровень наивысший, а в фазе надлома он резко падает. Но это утверждение не обосновано никакими объективными данными, носит совершенно умозрительный характер, а значит, вполне возможно, что разница тут мнимая. Ведь если бы отличие существовало, то должно же оно как-то проявляться в исторической действительности? А если оно никак не проявляется, что о нём можно сказать и откуда оно вообще возникло? Если бы нам не сообщил об этом Гумилёв, мы бы о нём и не подозревали. Но мы не обязаны верить Гумилёву на слово, всякое утверждение должно быть подкреплено фактами.
Прежде всего, вдумаемся в смысл самого понятия «акматическая фаза». Греческое слово «акме» означает «вершина».
Понятно, что в применении ко времени «вершина» – это какой-то достаточно короткий его период. А тут – целых 300 лет намерено! Это уже не вершина, не пик, а какое-то обширное плато получается!
Гумилёв и сам чувствовал, что акматическая фаза как-то не складывается в одно целое, и потому снабдил её таким комментарием: «Акматическая фаза особенно часто является весьма пёстрой и разнородной по характеру, доминантам и интенсивности протекающих этнических процессов»[22].
Чтобы разобраться в проблеме, рассмотрим пару конкретных примеров. Возьмём для начала акматическую фазу великорусского этноса; по Гумилёву она продолжалась с 1500 по 1800 год. За это время в России сменилось несколько разнохарактерных периодов:
бурная экспансия XVI века с его великими завоеваниями и страшным террором Ивана Грозного;
«бунташный» XVII век, насыщенный внутренними конфликтами и смутами;
XVIII – век успешных войн, раздвижения внешних границ империи, устойчивого роста экономики и культуры.
И всё это собрано Гумилёвым в одну фазу. Не просматривается внутрен него единства, рассыпается как-то всё. К тому же отсутствуют и чёткие границы этой акматической фазы. Достаточно сказать, что XIX век в России по своему характеру очень напоминает XVIII век, – пожалуй, является его прямым продолжением. Те же успешные внешние войны и завоевания, тот же стабиль ный рост экономики, расцвет культуры, та же относительная внутренняя стабильность. А у Гумилёва эти два столь сходных столетия разведены по разным фазам. Уж если что-то объединять и разъединять в русской истории, то XVIII век нужно объединить именно с XIX веком и оба вместе резко отделить от XVI и XVII веков.
Но, может быть, акматическая фаза всё-таки существует, но Гумилёв только неправильно её поместил? Период XVIII и XIX веков никак не похож на фазу надлома, скорее это инерция. Тогда XVI и XVII века придутся на надлом, а акматическая фаза займёт XIII–XV века, т. е. в основном период монголо-татарского ига. Судите сами, насколько это время похоже на акматическую фазу. Кроме того, тогда подъём великорусского этноса будет проходить одновременно с подьёмом и расцветом Киевской Руси, что уже слишком явно противоречит реальности.
Посмотрим ещё на этногенез римлян. Период с середины II века до н. э. до конца I века н. э. Гумилёв считает фазой надлома. Допустим, что это так. Действительно, данное время насыщено кровопролитными гражданскими войнами. Достаточно упомянуть движение Гракхов, Союзническую войну в Италии, террор марианцев и Суллы, гражданские войны Цезаря и второго триумвирата. Согласно периодизации Гумилёва, фазе надлома должна предшествовать акматическая фаза: 300 лет от середины V века до н. э. до середины II века до н. э. Однако при всём желании невозможно обнаружить никаких её следов. Все три столетия происходит мощный поступательный рост Римской державы; римское гражданское общество очень сплочённо; внутренние конфликты случаются, но разрешаются они вполне конструктивно, никакой «резни» нет и в помине. Словом, если II–I века до н. э. – это надлом, то предыдущее время можно определить лишь как фазу подъёма.
Мы рассмотрели два примера и не обнаружили никакой акматической фазы. Можно приводить ещё примеры – результат будет тот же. Давайте так и запишем, – фаза надлома следует непосредственно за фазой подъёма. Акматическую же фазу нужно исключить из схемы как несуществующую; мы, во всяком случае, намерены обходиться без неё.
Но в системе Гумилёва есть и более существенный дефект. Посмотрим опять на график – кривую этногенеза. Как уже было сказано, на первый взгляд он вполне убедителен. Однако в ходе конкретной разработки этногенеза того или иного этноса по данной схеме приходит неудовлетворённость; картина не складывается, а почему – ясно становится не сразу…
Данный график показывает изменение пассионарного напряжения этнической системы. Весь ход этногенеза – последовательная смена фаз – объясняется этим изменением с течением времени. А теперь внимательно посмотрим на этот график. Если провести прямую, параллельную оси абсцисс (см. рис. 1), на которой откладывается длительность и моменты смены фаз, то она пересечёт кривую графика этногенеза в двух точках. В этих точках значения пассионарного напряжения этнической системы будут равны в разные моменты времени. А поскольку пассионарное напряжение – главный фактор, объясняющий изменения состояния этнической системы в ходе этногенеза, то резонно заключить, что при примерно равных значениях этого фактора система должна находиться в приблизительно сходных состояниях.
Но как раз это-то условие и не соблюдается. Например, проведём прямую параллельно оси абсцисс так, чтобы она пересекла график в фазе подъёма и в фазе надлома. Разница состояний этноса в той и в другой фазе очевидна: в фазе подъёма – мощный и уверенный рост, этнос набирает силу и концентрируется, внутренние конфликты преодолеваются в основном мирно и в конструктивном духе, этнос утверждает свои ценности и уверенно смотрит в будущее; эпоха же надлома характерно выделяется прежде всего жестокими гражданскими войнами, огромным кровопролитием, пессимизмом и разочарованием. Проведём другую прямую, которая пересечёт график в фазе подъёма и фазе инерции. Фаза инерции есть период стабильного благополучного существования, но без порыва и напора фазы подъёма. Накапливаются материальные блага, процветает культура, – но всё это на фоне упадка этноса, постепенного распада этносоциального коллектива. Опять налицо несходство ситуаций.
Вывод напрашивается сам собой, – раз столь различным состояниям этноса соответствует одинаковое значение пассионарного напряжения, значит, либо этот параметр не имеет существенного значения для процесса этногенеза, либо он недостаточен, т. е. должен существовать ещё по крайней мере один параметр, от которого зависят вышеозначенные изменения.
Глава 8 Что такое пассионарность?
Для решения возникшей проблемы необходимо проанализировать основания теории Гумилёва – основные понятия, на которых строится график процесса этногенеза.
Среди этих понятий в центре стоит, безусловно, понятие пассионарности. Оно выступает в теории Гумилёва в нескольких значениях. Во-первых, как широко распространённое историческое явление чрезвычайно активной деятельности жертвенного характера, так как в результате этой деятельности носитель пассионарности часто гибнет, причём зачастую в погоне за иллюзорными целями. Пассионарная деятельность – это завоевательные походы, экспедиции первооткрывателей-землепроходцев, дальние плавания и разного рода авантюрные предприятия; подвиги героев во имя своего народа, родины, веры, верности. Девизом пассионариев всех времён и народов могут служить слова Александра Македонского: «Людям, которые переносят труды и опасности ради великой цели, сладостно жить в доблести и умирать, оставляя о себе бессмертную славу. Что совершили бы мы великого и прекрасного, если бы сидели в Македонии и считали, что с нас хватит жить спокойно» (Арриан. Поход Александра. V. 26–27).
Пассионарная деятельность не имеет обязательно морального характера. Воры тоже могут быть пассионариями (или, лучше сказать, пассионарии могут быть ворами). Погоня за миражом богатства во время золотой лихорадки – яркий пример пассионарного поведения. Главный отличительный признак пассионариев тот, что они «не могут жить повседневными заботами без увлекающей их цели». Художники, писатели, учёные, жертвенно служащие своему искусству или науке, – тоже пассионарии, но меньшего напряжения, чем люди жизненного действия.
Существование явления пассионарности в истории сомнения не вызывает. Примеров личной и коллективной пассионарности можно привести множество. И у Гумилёва немало страниц посвящено ярким выпуклым образам пассионариев.
Гумилёв делает гениальную догадку о том, что пассионарные проявления неразрывно связаны с процессом этногенеза. Но на этом он не останавливается, а ставит пассионарность краеугольным камнем всей своей системы. Появляются термины пассионарного поля, пассионарного напряжения, пассионарной энергии, пассионарного толчка и т. д.
Разберёмся. Значит, пассионарность неотъемлемый признак процесса этногенеза. При этом она должна проявляться как признак не отдельных личностей, а целого коллектива (ведь «дело не в личном героизме, а создании этнической доминанты, которая организует пассионарность системы и направляет её к намеченной цели»[23]). Отсюда Гумилёв делает вывод, что существует особая пассионарная энергия, импульс которой (пассионарный толчок) и запускает процесс этногенеза. После толчка пассионарная энергия не исчезает, но сохраняется в продолжение всего этногенеза в виде пассионарного поля. Причём степень напряжённости этого поля определяет течение и смену фаз этногенеза. Чем больше её значение, тем сильнее этнос. И кроме того: «Импульс пассионарности бывает столь силён, что носители этого признака – пассионарии не могут рассчитать последствия своих поступков. Это очень важное обстоятельство, указывающее, что пассионарность – атрибут не сознания, а подсознания»[24].
Что же такое эта самая пассионарность? Вопрос риторический. Очевидно, что пассионарная энергия вполне тождественна энергии этнического поля, пассионарное поле – этническому полю, пассионарный толчок – этническому толчку. Таким образом, мы с Гумилёвым пошли разными путями, а пришли к одному и тому же: он – отталкиваясь от явления пассионарности в истории, мы – разрабатывая категорию этнического поля. Главный итог таков: график изменения пассионарного напряжения этнической системы есть не что иное, как график изменения напряжённости этнического поля; в общем виде он вполне правилен и применим.
Итак, этническое поле и пассионарное поле – синонимы. И те и другие термины применимы. Но описывать процесс в терминах этнического поля, полагаю, будет более корректно. Ведь пассионарность – это, прежде всего, конкретное явление, ясно выраженное лишь у немногих индивидов этноса. А этническое поле действует на всех – и на тех, у кого пассионарность ясно видна; и на тех, у кого она внешне незаметна. Несколько странно рассуждать, к примеру, об уровне пассионарности тех людей, у кого она вообще никак не проявляется. Так что этот термин применим не всегда, но иногда он очень кстати, как более краткий и выразительный синоним понятия уровня напряжённости этнического поля.
Мы констатировали полное тождество пассионарной энергии с энергией этнического поля. Но Гумилёв отождествляет её с совсем другим видом энергии. Вот его определение: «Пассионарность как энергия – избыток биохимической энергии живого вещества»[25]. И ещё одно: «Пассионарность как характеристика поведения – эффект избытка биохимической энергии живого вещества, порождающий жертвенность часто ради иллюзорной цели»[26].
Как это понять? Второе определение, справедливо оно или нет, всё же не лишено смысла, – это определение пассионарности как явления, которое тут связывается с избытком биохимической энергии. Но первое? Пассионарная энергия – «избыток биохимической энергии». Даже если нам удастся определить, что такое «избыток» биохимической энергии, то всё равно понятно, что много этой энергии или мало, но это будет, независимо от количества, всё та же биохимическая энергия, а не какая-либо другая. С другой стороны, если пассионарности нет в малом количестве биохимической энергии, то откуда же она возьмётся при увеличении её количества? Электрическая энергия малого генератора и электрическая энергия Красноярской ГЭС есть всё та же электрическая энергия. С увеличением количества она не переходит в качественно иной вид энергии. Так что понятно, что «избыток» здесь совсем ни при чём, а какой-то смысл определение получает, если только прямо отождествить пассионарность не с избытком, а с биохимической энергией вообще, с любым её количеством.
А что вообще такое – биохимическая энергия живого вещества? Уже из её наименования можно заключить, что она присуща всякой живой материи, всякому живому существу. Путём нехитрого силлогизма получаем вывод, что пассионарность как энергия присуща всякому живому существу, включая бактерии. Тут должна быть какая-то граница, но у Гумилёва её нет. Но предположим, что она существует, и, чтобы не обсуждать пассионарное напряжение насекомых и рептилий, поговорим о биохимической энергии только живых существ – людей.
Каждый человек, как живое существо, наделён каким-то количеством этой энергии или способностью её вырабатывать. Гумилёв считал, что с превышением количества биохимической энергии некоего уровня человек начинает вести себя жертвенно. Но это ни на чём не основанная гипотеза. А почему, собственно, он должен вести себя жертвенно? Ну, допустим, что нормальный, обычный уровень биохимической энергии позволяет человеку захватывать определённый объём жизненных благ. Что произойдёт, если этот уровень повысить? Человек с повышенным уровнем биохимической энергии, очевидно, сможет захватывать больше жизненных благ, чем люди с обычным уровнем. То есть такой человек потеснит в жизненном пространстве своих соседей. И всё! При чём же тут жертвенность и откуда ей взяться? Ведь жертвенность предполагает какое-то сознание, хотя бы и подсознание, благодаря которому человек осознаёт ничтожность своего отъединённого обыденного существования и стремится к чему-то большему, приносит своё мелкое существование в жертву чему-то высшему. Ведь пассионарность – это свойство этноса, а этнос есть реальная связь. Но с повышением биохимической энергетики особи никакой новой связи у неё с окружающими не возникает, она становится только более сильным хищником.
И в том случае, если уровень биохимической энергии повысится не у одной, а у группы особей, – тоже не возникнет никакой связи. Это приведёт лишь к обострению конкуренции между ними. Каждый будет грести под себя, каждый будет с удвоенной силой грызть другого. Откуда же возьмётся единство, организация? Откуда угодно, только не из биохимической энергии. Ибо в биологическом царстве между людьми нет никакого реального единства. Здесь, как и всюду в природной среде, – война всех против всех. Люди с «избытком биохимической энергии», но лишённые сознания – это не пассионарии, а сильные, ловкие и нахрапистые дельцы, прохиндеи, хищники, – этакие Павлуши Чичиковы. Они будут жертвовать чем и кем угодно, но только не своей особой. По существу, они полная антитеза пассионариям.
Мы считаем, что гипотеза Гумилёва о тождестве пассионарной и биохимической энергии живого вещества ничем не подтверждена и не соответствует действительности.
Пассионарность есть эффект воздействия на человеческую личность и коллектив этнического поля. Пассионарии – люди, в наибольшей степени подверженные такому воздействию. Жертвенность, присутствующая в явлении пассионарности, порождена интуитивно воспринимаемым этническим сознанием. Рациональное осмысление жертвенности как долга тоже возможно, но интуитивное восприятие всегда первично.
При такой концепции отпадает необходимость пускаться во все тяжкие, живописуя альковные способы передачи и размножения пассионарности. Теория о передаче пассионарности через генетическую наследственность не подтверждается и фактически. Многие пассионарии рано погибают, не оставив потомства; а если и оставляют его, то оно, как правило, вполне заурядное, никуда не стремящееся, ничем не напоминающее своих талантливых предков. Потомки великих людей, как правило, вполне заурядны: таково, к примеру, потомство Пушкина, Толстого, Тургенева; сын энергичного Кромвеля был совершенно не способен стать преемником отца, как и сын Богдана Хмельницкого; никто из потомков Суворова не стал великим полководцем; потомков отважных русских землепроходцев обижали чукчи; а потомки американских пионеров, прошедших от океана до океана, вели скудное растительное существование в прибрежных орегонских горах. Можно привести множество примеров такого рода.
Этническое поле постоянно и воздействует на всех индивидов этноса помимо всякой наследственности. Особая восприимчивость к его воздействию определяется каким-то особым свойством личности, своего рода талантом, проявляется как пассионарность и не имеет ничего общего с биологией.
Глава 9 Новый фактор этногенеза
Вспомним о графике этногенеза. В предыдущей главе мы установили, что это есть график изменения напряжённости этнического поля и как таковой он в целом верен. И этот фактор имеет существенное значение в процессе этногенеза.
Но мы также помним, что данный фактор недостаточен для удовлетворительного объяснения смены фаз в ходе этого процесса. Это означает, что уравнение этногенеза имеет не одну, а как минимум две переменные. Гумилёв нашёл «икс», но этого оказалось недостаточно. Чтобы решить уравнение, необходимо найти «игрек».
Вернёмся к биохимической энергии живого вещества. Только что было показано, что она не имеет ничего общего с пассионарностью. Но это не значит, что она не играет никакой роли в процессе этногенеза. Ведь отдельные личности этноса в то же время и существа биологические, а их биоэнергетические характеристики складываются в энергетическую характеристику этноса. Пассионарная деятельность требует от индивидов этноса большой активности и отдачи сил, что напрямую связано с биоэнергетическим состоянием их организмов.
«Биохимическая энергия живого вещества» название слишком длинное и слишком учёное. Ведь это просто энергия жизнедеятельности всякого организма. А раз так, то и назвать её можно, скажем, витальной энергией, энергией жизни. А тот или иной уровень этой энергии обозначить термином витальность.
Витальность – это характеристика энергетического состояния самого организма человека, его способности вырабатывать энергию жизнедеятельности из некоторого объёма вещества, получаемого извне. Витальность выше у того организма, который из равного количества получаемого вещества вырабатывает больше энергии жизнедеятельности; или, что то же самое, вырабатывает столько же энергии, но из меньшего количества вещества. Такой организм более активен, энергиен. Именно «энергиен», а не энергичен. Под энергичностью обычно понимается активная внешняя деятельность. Понятие же витальности характеризует не внешнюю активность человека, а внутренние энергетические возможности его организма. Витальный человек не обязательно более деятелен в жизни, чем низковитальный. Если он получает из внешнего мира удовлетворительное количество жизненных благ, он может вести вполне пассивное существование. И наоборот, человек низковитальный, именно вследствие неудовлетворённости малым количеством энергии, вырабатываемым его организмом, может в какой-то период развернуть бурную деятельность по захвату жизненных благ во внешнем мире.
Не следует также путать витальность с физической силой. Витальность – это скорее выносливость, биологическая жизнестойкость организма. Чтобы проиллюстрировать вышесказанное, приведу отрывок из французского отчёта XVII века, в котором среди прочих преимуществ голландского флота приводятся и преимущества голландских моряков перед французами:
«Французы вынуждены держать четырёх или пять человек экипажа на корабле в 20 или 30 тонн для его управления; голландцы держат двух, самое большее трёх человек. На корабль от 150 до 200 тонн французы ставят 10–12 человек; голландцы – всего 7 или 8; французы ставят 18, 20, 25 человек на корабль в 250, 300 или 400 тонн, а голландцы – только 12–16, самое большее 18.
Французский матрос получает 12, 16, 18–20 ливров в месяц, а голландец довольствуется 10–12 ливрами. И офицеры соответственно.
Для рациона французских матросов требуется хлеб, вино, сухари, чисто пшеничные и вполне белые, свежее и солёное мясо, треска, сельдь, масло, горох и фасоль. А когда они едят рыбу, надобно, чтобы она была приправлена, а то они не хотят её есть, разве что по постным дням. Голландцы же довольствуются пивом, ржаным хлебом и сухарями, зачастую очень чёрными, но отличного вкуса, сыром, яйцами, маслом, небольшим количеством солонины, горохом, кашей и едят много вяленой рыбы без приправы каждый день, не различая постный или скоромный, а это стоит намного меньше, нежели мясо.
Французы… едят четыре раза в день. Голландцы едят два, самое большее – три раза»[27].
Приведённый текст показывает, что витальность голландских моряков в описываемое время была куда выше французов: голландцы не только довольствовались простой и неприхотливой пищей, но и получали меньше жалованья, выполняя ту же работу гораздо меньшим числом людей.
Мы имеем право говорить о витальности не только отдельных организмов, но и совокупности организмов, в том числе о витальности этноса как об усреднённом значении витальностей всех его индивидов.
Люди обладают витальной энергией всегда и всюду, пока они живы. То есть витальная энергия присутствует и до этнического толчка, и после. Каким же образом изменяется витальность в процессе этногенеза? Растёт она или падает? Здесь нужно иметь в виду, что пассионарная деятельность, связанная с возникновением и развитием этноса, повышает требования к людям по сравнению с их прежним существованием. Она связана со сверхнапряжением и большими энергетическими затратами. Если прежде люди жили обычными бытовыми заботами, добывали средства к существованию для своей семьи, – то после этнического толчка они ходят в далёкие походы, строят замки и пирамиды, несут тяжёлый груз государственной службы и повинностей. Увеличивается активность жизни – увеличиваются и затраты энергии.
По теории Гумилёва, этнический толчок повышает уровень витальной (биохимической) энергии. Этим и объясняется увеличение энергозатрат. Но мы уже эту гипотезу отвергли. Этнический толчок создаёт этническое поле, энергия которого совершенно отлична от витальной энергии. А раз так, то этнический толчок как будто ничего не даёт в плане роста витальности. Этническое поле ложится на тот уровень витальности, который существовал до его появления. Значит, необходимо объяснить, каким образом человек может тратить больше энергии, чем обычно, не получая прибавки извне.
Понять ход мысли Гумилёва нетрудно. Он рассуждал примерно так: совершение большей работы требует затраты большого количества энергии; а поскольку такая ситуация возникает после этнического (пассионарного) толчка, – значит, этот толчок и привносит дополнительную энергию в этнический коллектив.
Но дело может обстоять иначе. Повышенная энергия, проявляемая в ходе этногенеза после этнического толчка, может быть привнесена толчком, а может быть и высвобождена этим толчком. Гумилёв упустил из виду то обстоятельство, что энергия бывает не только кинетическая, но и потенциальная и что увеличение уровня одной из них, при прочих равных условиях, предполагает уменьшение уровня другой. Пример: камень, покоящийся на вершине горы, обладает огромной потенциальной энергией, но он не виден и не слышен, пока его не стронуть с места и он не начнёт скатываться. Тогда, падая и сметая всё на своём пути, он издаёт грохот, и эхо разносит шум падения далеко окрест. Кинетическая энергия его резко возрастает, но в то же самое время он теряет свою потенциальную энергию. У скатившегося к подножию горы камня она равна нулю. Река течёт неспешно и лениво по равнине, раскинувшись плёсами и едва журча на перекатах. Но вот она достигла водопада и с рёвом обрушивается всей своей водной массой с уступа и… теряет свою потенциальную энергию.
Не то же ли происходит в момент пассионарного взрыва? Пастухи, которые спокойно пасли свои отары по бескрайним степям Азии, вдруг собираются в сплочённые массы и, преодолевая тысячевёрстные расстояния, обрушиваются на цветущие города – режут, грабят, разрушают. Славяне, которые, по словам византийского хрониста, «не знали оружия и не дерзали показываться из своих лесов», организуются в отряды и насквозь проходят Византийскую империю, как нож сквозь масло. Причём теряют свою энергию они столь же быстро, как падающие камни и вода. Вандалы, бывшие в V веке грозой средиземноморских побережий, менее чем 100 лет спустя разгромлены небольшим византийским войском. Славяне, ещё недавно хозяева Балкан, попадают в полную зависимость к василевсам, и те по своей воле переселяют их в Малую Азию. Суровые римские пахари, что, сплочённые в железные легионы, повергли к своим ногам все державы и народы Средиземноморья, с устрашающей для современных наблюдателей быстротой превратились в разнузданную и развращённую толпу люмпенов. Не правда ли, как это напоминает процессы, происходящие в природе? И тут и там вначале тишь и гладь и огромный запас потенциальной энергии. Затем быстрая растрата её с шумом и громом (кинетическая энергия в ходе процесса резко увеличивается). И, наконец, опять – тишь и гладь, но уже при упавшем энергетическом потенциале (падает и та энергия и другая). Итак, пассионарная работа сопровождается растратой потенциальной энергии этнического коллектива.
А если предположить, что в обычном (непассионарном) состоянии организм человека выкладывается не на полную катушку, а работает с запасом, оставляя значительную часть своих возможностей как бы в потенции? В этом случае после этнического толчка, при активизации деятельности человека, его организм реализует весь свой потенциал, пускает в ход все свои возможности, ранее находившиеся в запасе. За счёт этого запаса пассионарий и имеет возможность тратить больше энергии, чем человек в обычном состоянии, совершать большее количество работы. Не толчок даёт энергию, а эта энергия была уже и до толчка, но в потенциальном состоянии. Толчок же только переводит потенциальную энергию в кинетическую.
Значит, в процессе этногенеза индивиды этноса расходуют запасы витальной энергии, накопленные их предками. Но если заниматься этим постоянно, то запасы рано или поздно будут исчерпаны. А что после этого? Если воздействие этнического поля продолжается, то индивиды этноса по-прежнему будут сверхнапрягаться, выкладываясь до предела. И, значит, они будут в эту работу вкладывать уже не потенциальную энергию, а энергию, необходимую для повседневной нормальной жизнедеятельности. А это значит, что витальная энергия организма пассионария станет истощаться, уровень витальности начнёт падать. В ходе пассионарной работы из поколения в поколение организмы этнических индивидов постепенно снашиваются. Уровень их энергетики падает.
Мы установили очень важный факт: в ходе этногенеза уровень витальности индивидов этноса падает. Великие исторические деяния и культурное творчество истощают витальный потенциал этноса.
Теперь становится понятно, почему пассионарии так часто и так рано погибают. Перенапряжение в погоне за какой-либо целью приводит к витальному истощению их организма. Ведь тот потенциальный запас витальной энергии, который организм хранит в обычном состоянии, вовсе не лишний. Он хранится на случай попадания организма в экстремальную ситуацию, включается в такой ситуации и помогает её пережить. После этого организм опять попадает в нормальную обстановку и снова работает в экономном режиме, восстанавливая энергетический потенциал.
Сравните с этим пассионарную деятельность, которая есть постоянная экстремальная ситуация! Истощённый организм пассионария становится лёгкой жертвой любой инфекции. Большинство солдат в старину погибали от болезней, а не от оружия врага. Известен факт, что спортсмены, очень сильные и здоровые люди, на пике своей формы, когда они переносят повышенные нагрузки, чрезвычайно подвержены простудным заболеваниям. В ходе военных действий XX века был замечен любопытный феномен: боевые раны легче всего заживали и оставляли менее всего осложнений у представителей северных народностей. По этнической принадлежности это представители реликтовых этносов, которых некогда оттеснили в тундру и тайгу более сильные соседи. Там они долгое время вели существование вне цивилизации, не участвовали в войнах (представителей народностей Севера и Сибири не призывали в царскую армию). Проживая на исторической обочине, не испытывая тяжёлых нагрузок, которые процесс этногенеза и порождаемая им цивилизация накладывают на людей, они восстановили свой витальный потенциал до высокой степени. О чём свидетельствует и то, что они вполне довольствуются скудными дарами суровой северной природы. Приведённый пример ещё раз убеждает в правильности наших выводов о направлении изменения витальности в ходе этногенеза.
Однако не всё так однозначно. Если культурно-цивилизационное строительство в ходе этногенеза, несомненно, требует огромных энергетических затрат и понижает витальный потенциал людей, то, в то же время, воздействие этнического поля повышает, поддерживает его. Это происходит за счёт того, что этнос создаёт для человека комфортную психологическую среду обитания. Ведь человек живёт не только в природной среде, но и в обществе, и его самочувствие существенным образом зависит от атмосферы, царящей в нём. Сильное этническое поле облегчает взаимопонимание в коллективе. Человек чувствует себя в родной среде, у себя дома, связанным с окружающими неразрывной кровной связью. Этнос даёт своим индивидам сплочённость и чувство локтя.
Степень комфортности психологической обстановки, несомненно, связана с общим состоянием и здоровьем организма. И если она высока, то повышает и биологические его возможности. Возьмём, к примеру, чрезвычайно распространённое в наше время заболевание – аллергию. При данном заболевании организм человека даёт реакцию отторжения на, казалось бы, совершенно безобидные, а то и жизненно необходимые вещества. Общепризнано, что аллергия – «болезнь цивилизации». В примитивном обществе аллергия практически неизвестна. До начала прошлого века отмечались только редкие случаи. Зато в XX столетии она стала нарастать как снежный ком, причём более всего в самых развитых и цивилизованных странах. Точные причины этого явления наукой не установлены.
В свете теории этногенеза можно выдвинуть следующую гипотезу. Цивилизация всегда возникает на исходе этногенеза: это общество с весьма слабым этническим напряжением. Люди цивилизованного общества ведут атомизированное существование, – всё более отчуждаясь как от природы, так и от окружающих людей. Лишённый органических связей с природой и исторической почвой человек начинает воспринимать окружающий мир как сугубо чуждый и враждебный. Под влиянием такого психологического ощущения природный генный механизм распознавания полезных, безобидных и вредных воздействий расстраивается. Организм человека начинает воспринимать как враждебные всё большее количество веществ внешнего мира. Это может привести даже к физической смерти вследствие того, что аллергенами становятся практически все продукты питания.
На это можно возразить, что люди со слабым этническим сознанием существуют и в примитивных обществах: различные этнические реликты, обитающие более или менее изолированно в труднодоступных районах земного шара. Несмотря на слабость этноса, у них никаких проявлений аллергии не заметно.
Дело в том, что в подобных обществах уровень витальности поднимается до нормального за счёт восстановления равновесия с природной средой обитания. А комфортность человеческих отношений достигается установлением достаточной дистанции, которой отделяются в жизненном пространстве кровнородственные семьи и общины друг от друга, – в отличие от противоестественной скученности людей в мегаполисах и городских агломерациях цивилизованного мира. Кроме того, в примитивных обществах отсутствуют искусственные средства поддержания существования нежизнеспособных индивидов, – слабые просто погибают в ходе естественного отбора, что повышает общий уровень витальности.
Пока этническое сознание сильно, повышенная концентрация людских особей на ограниченной территории не воспринимается людьми как раздражитель, так как этнос сплачивает людей, компенсирует бытовые неудобства большим расположением, терпимостью и взаимопониманием между членами этнического коллектива. Но с ослаблением этнического сознания прежние условия обитания и тесного сожительства становятся непереносимыми. Возникает потребность снижения демографической нагрузки. Люди стремятся из городов – на природу, от деревенского – к хуторскому образу жизни (господство подобного типа поселения верный признак этнической слабости). Там же, где данная потребность не получает удовлетворения, начинается деградация психического и физического здоровья людей.
Таким образом, этнический толчок всё же повышает на какое-то время уровень витальности людей, на которых воздействует. Или, во всяком случае, его воздействие равнозначно такому повышению. Правда, повышение витальности этноса сверх нормального уровня, по-видимому, кратковременно и приходится на первоначальный скрытый период этнического подъёма – до начала активной деятельности этноса, требующей сверхнормативной затраты энергии. Повышение витальности на первом этапе позволяет этносу резко увеличить численность населения на ограниченной территории и тем самым сконцентрировать силы для последующего распространения, с переходом к которому уровень витальной энергии этноса опускается к норме и ниже.
Глава 10 График витальности
Мы установили новый фактор, имеющий существенное значение в процессе этногенеза, – витальность этноса. Теперь нужно рассмотреть, как этот фактор изменяется в ходе процесса, т. е. определить форму графика витальности.
Из сказанного в предыдущей главе следует, что наивысшего значения витальность этноса достигает в момент этнического толчка на начальной стадии подъёма. В дальнейшем витальность в ходе этногенеза снижается, поскольку процесс сопровождается значительной нагрузкой на вовлечённых в него людей, что приводит к истощению их сил.
Однако снижение витальности в ходе этногенеза – это лишь общая тенденция. Витальность этноса понижается, пока он находится в стабильном состоянии. Но в случае перехода системы в динамическое состояние и обратно вектор витальности в ходе этногенеза может неоднократно сменить своё направление.
Известно, что всякий этнос стремится к расширению своей территории и в определённые периоды своей истории осуществляет экспансию. Каким образом изменяется уровень витальной энергии этноса в этом случае?
Существуют два основных способа роста этнической системы, обычно тесно связанные друг с другом, – инкорпорация и территориальное расширение.
Инкорпорация представляет собой вхождение в состав этноса (этнической системы) иноэтнических индивидов (иноплеменников) через ассимиляцию либо через образование суперэтнической системы. В ходе инкорпорации витальность этноса обычно возрастает, потому что инкорпорируемые иноплеменники, как правило, принадлежат к более слабым этносам со слабым этническим полем. Давление цивилизации на человека в них невелико, вследствие чего витальность поднялась до более высоких значений, чем у поглощающего этноса. Инкорпорируемые индивиды белее витальны, чем этнические старожилы, что повышает общую витальность этноса.
Территориальное расширение также имеет своим результатом повышение витальности этноса. Ведь когда присоединяются новые земли, осваивать их уходят те, кому не нашлось места под солнцем на родине, самые беспокойные и неудовлетворённые элементы общества – люди с ослабленной витальностью. Во вновь обретённых землях, вдали от центральной власти, давление социально-политической организации этноса на его индивидов гораздо слабее; здесь люди с ослабленной витальностью имеют возможность её восстановить. А это повышает энергетику этноса в целом. В то же время в результате переселения большого количества людей на окраины спадает демографическое напряжение и в староосвоенном центре, что также поддерживает витальность остающейся здесь части этноса. Понятно, что степень повышения витальности в ходе этих процессов в каждом случае зависит от конкретных исторических условий.
Расширение этнической системы – не единственная возможность роста витальности. Стихийные бедствия, такие как голод и эпидемии, также её повышают. Ведь во время по бедствий гибнут прежде всего наименее витальные инд К исходу периодов бедствий относительная доля вит индивидов в этносе возрастает, т. е. повышается витал этноса в целом.
Таким образом, график витальности этнического коллектива в процессе этногенеза представляет собой волнообразную кривую, описывающую повышение и понижение уровня вит энергии этноса в зависимости от смены фаз этногенеза. Общая тенденция на протяжении большей части процесса этногенеза – к понижению. Но с некоторого момента в части этногенеза витальность снова возрастает. Максимумы витальности приходятся на начало и конец процесса этногенеза, а между ними она понижается и повышается при более значениях.
Рис. 2
Ось абсцисс – время процесса;
ось ординат – уровень витальности;
0-уровень – витальная норма в состоянии равновесия
Глава 11 Обскурационный процесс
Длительность существования этносов различна. Она простирается от нескольких сот до нескольких тысяч лет. Но при любой длительности этногенеза сохраняется одна закономерность. График напряжённости этнического поля отражает тот факт, что весь временной отрезок этногенеза разбивается на две неравные части – относительно короткий подъём (всплеск) и длительный период инерции этнического толчка, постепенного затухания.
Этнический спад выражается различным образом в социально-политической системе, культуре, духовном мире этноса. В сфере социально-политической нарастает конфликтность, утрачивается целостность системы, – её всё более приходится скреплять обручами насилия. Растёт либерализация общества; появляются лица и целые классы, которые, обладая привилегиями, не несут серьёзных обязанностей и фактически паразитируют на этносоциальном организме. В сфере духовного мира и культуры этнические индивиды утрачивают жизнеутверждающую уверенность в своих силах и будущем своего народа. Члены этноса, прежде объединённые живой духовной связью, превращаются в атомизированную массу обывателей. Творческие потенции этноса постепенно истощаются. В культуру проникает всё больше чужих, иноэтнических элементов; она теряет свою оригинальность и всё более отрывается от традиции, распадается на примитивную массовую культуру и внутренне пустой эстетизированный декаданс для узкого круга гурманов.
График этногенеза объясняет эти изменения падением напряжённости этнического поля, рассеиванием и исчезновением его энергии. Для людей, членов этнического коллектива, это означает притупление этнического сознания. Оригинальное этническое мировосприятие теряет живость и остроту, непосредственную данность своего содержания. На смену им приходит рациональное осмысление и изучение народной традиции, её искусственное культивирование. Вместо живой причастности к своей этнической культуре остаётся воспоминание об этническом происхождении. Люди больше не сочиняют народных песен, былин, баллад, а лишь поют старые, пока ещё не забытые. В поисках их учёные обшаривают глухие уголки страны, а найденное сохраняется как археологическая ценность. В худшем случае время стирает в людской памяти даже воспоминание.
Данный процесс общ для всех этносов, никто его не минует. Одну из фаз этногенеза в своей периодизации Лев Гумилёв назвал обскурационной – от латинского слова со значением «затемнять». Полагаю, было бы уместно весь этот процесс этнического спада и потемнения этнического сознания называть обскурационным.
Обскурационный процесс начинается с окончанием этнического подъёма, а заканчивается прекращением этногенеза, исчезновением этноса. Он разворачивается постепенно и неуклонно. Длительность его зависит от силы этнического поля. Чем сильнее поле, тем дольше длится обскурационный процесс, тем больше времени проходит до момента исчезновения этноса.
Этническое сознание угасает в людях, входящих в этнос, неравномерно. На всех этапах этногенеза есть люди с сильным и слабым этническим сознанием. Люди с сильным этническим сознанием получили название пассионариев. Им противопоставляются люди со слабым этническим сознанием (говоря о сознании, мы везде имеем в виду интуитивное, а не рациональное сознание), – таких людей Гумилёв назвал субпассионариями. Термин, на мой взгляд, не совсем удачный. В применении к таким людям ни о какой пассионарности не приходится и говорить, даже о малой её степени. Пассионарии вообще, как правило, составляют незначительное меньшинство в этническом коллективе; тогда, по смыслу термина, к субпассионариям нужно отнести всю остальную его массу, без различия. Чтобы выделить из этнического коллектива людей с особенно слабым этническим сознанием, лучше назвать эту категорию в соответствии с названием обскурационного процесса – обскурантами (в этническом, а не просветительском смысле).
Обскуранты во многом противоположность пассионариям. Если последние всегда в каком-то смысле личности жертвенные, то обскуранты замкнуты на своей персоне. Если пассионарии своей жертвенностью поддерживают существование этноса, то обскуранты нацелены на паразитическое (в этническом плане) существование. Суть в том, что слабость этнической интуиции переживается человеком как отсутствие реальной связи с миром и другими людьми. Стройная, иерархически организованная картина мира, которую вносит в человеческое сознание этнос, распадается. Этот распад мира в человеческой душе, когда люди и вещи теряют присущую им смысловую раздельность и своё определённое место (до того, что вещи одухотворяются, а люди, наоборот, воспринимаются как неодушевлённые предметы) и обращаются в одну неупорядоченную массу внешних тел, от которой человек абсолютно отчуждён и которая постепенно окружает его и путём сложной игры неотвратимо уничтожает, – с гениальной силой отображён в набоковской «Защите Лужина». Человек ощущает неукоренённость и полное одиночество. Мир противостоит ему как полностью враждебная среда. Единственно возможным способом существования обскуранту представляется война с миром. Он стремится жить за счёт этого чуждого мира, по возможности больше урвать, не давая ничего взамен.
Обскуранты не виноваты в своей ущербности. Обскурационное сознание – это не вина, а беда человека. Впрочем, положение не безнадёжно. Человек существо разумное и многого может добиться через разум и волевое усилие, которые выходят на первый план, когда слабеет непосредственное чувство. В том числе, с их помощью он может восстановить утраченную историческую связь, хотя это потребует большого труда. Обскуранты избирают различные пути самоутверждения в мире: одни пытаются отвоевать жизненное пространство у враждебного окружения; другие стремятся вновь отыскать, восстановить утраченную родственную связь с миром через погружение в историю и религию. В зависимости от избранного направления различны и результаты таких усилий.
Однако то, что возможно для отдельных личностей, – невозможно для этноса в целом. В масштабе этнического коллектива обскурационный процесс необратим. По завершении фазы подъёма число обскурантов от фазы к фазе неуклонно возрастает и в заключительной стадии этногенеза абсолютно преобладает. Обскуранты разрушают целостность этносоциальной системы и пожирают накопленные ею ценности. Торжеству обскурации кладёт предел только новый этнический толчок и новый этногенез.
Глава 12 Пассионарии, витальные, обскуранты…
Прежде чем двигаться дальше, можно теперь уточнить типологию этнических индивидов. Мы должны это сделать с учётом новой установленной нами категории – витальности.
Лев Гумилёв в своё время немало внимания уделил этому вопросу. Как известно, он выделил три типа этнических индивидов: пассионарии – люди, у которых тяга к действию и жертвенная устремлённость сильнее, чем чувство самосохранения; гармоничные – физически и интеллектуально полноценные члены общества, обладающие энергией достаточной для постоянного размеренного труда и стабильного воспроизводства в потомстве, но – в отличие от пассионариев, пассивные и консервативные; субпассионарии – это те, кто не способен собственным трудом добывать себе средства к существованию, – люди, которые «не изменяют мир и не сохраняют его, а существуют за его счёт»[28].
Гумилёв разработал свою типологию на базе только одной категории пассионарности, а у нас их две – пассионарность и витальность. Следовательно, должны существовать четыре типа, в различных комбинациях сочетающие высокий и низкий уровень обеих характеристик: по признаку пассионарности выделяются пассионарии и обскуранты; по признаку витальности – витальные и низковитальные индивиды. Вряд ли целесообразно выделять ещё промежуточные ступени, лучше сосредоточиться на чётком определении полюсов; каждый индивид этноса более или менее тяготеет к одному из них. Отсюда получаются, таким образом, четыре типа: витальные пассионарии, низковитальные пассионарии, витальные обскуранты, низковитальные обскуранты.
Мы уже имеем представление, чем отличаются пассионарии и обскуранты, люди с сильным и слабым этническим восприятием. Теперь нужно выяснить, чем отличаются витальные и низковитальные индивиды. Витальные, по определению, – люди, внутренняя энергетика которых сильнее, вследствие чего они могут выполнять больше работы при том же объёме вещества и энергии, поступающих извне, либо довольствоваться меньшим при том же количестве работы; либо, наконец, выдавать больше работы при меньшем потреблении. Ясно, что при прочих равных условиях такие люди имеют явное преимущество в борьбе за место под солнцем. Они способны к длительным напряжениям и могут упорно добиваться поставленной цели; они терпеливо переносят трудности, довольствуясь малым. В конце концов, кого возьмёт хозяин на работу? Конечно того, кто согласен исполнять её за меньшую плату. С другой стороны, раз они извлекают больше энергии из приходящего извне вещества, то и удовлетворения достигают легче и быстрее. То есть витальные люди сравнительно легко достигают определённого минимально приемлемого уровня жизненного удовлетворения и легко довольствуются им впоследствии.
Люди с малой витальностью труднее устраиваются в жизни. В соответствии с их конституцией им требуется больший объём благ из внешнего мира, чем витальным, а они и малого уровня достигают с трудом из-за конкуренции со стороны последних. Отсюда можно заключить, что это категория людей постоянно неудовлетворённых и беспокойных. В их положении возможны два исхода: либо они постепенно опускаются на жизненное дно, либо открывают или завоёвывают какой-то новый источник необходимых им благ и энергии. В обычной жизни они, при прочих равных, обречены на низкое положение, они – аутсайдеры. Чтобы занять положение высокое, им нужно выбиться из инерции устоявшегося порядка и сделать чрезвычайное усилие в новом направлении. А на сравнительно короткое напряжение способны и низковитальные люди. Это рискованная игра, – в случае проигрыша их ожидает истощение сил, а нередко и гибель; но приз столь заманчив, что в неё играют многие.
А теперь поглядим, как всё это сочетается с пассионарностью. Попробуем разобраться на конкретном примере. Основную силу греческого полиса составляли полноправные граждане – земледельцы. Это были собственники небольших участков земли в несколько гектаров. Свои участки они обрабатывали сами с членами своих семей; даже если у них имелись один-два раба, их роль в хозяйстве была вспомогательной. Такое хозяйство обеспечивало только прожиточный минимум для семьи земледельца. Кроме тяжёлого земледельческого труда, обязанностью гражданина была защита своего полиса: здоровые, физически крепкие земледельцы составляли тяжёлую фалангу – основу греческого войска. Как полноправные граждане они также должны были участвовать в работе народных собраний и выборных органов власти. Таким образом, земледельцы-граждане несли тройной груз обязанностей и за всё получали весьма скромное вознаграждение.
То, что мы видим перед собой людей витальных, понятно без долгих слов. Постоянно трудиться на земле, получая в итоге своих трудов жизненный минимум продуктов, другие и не смогут. Но являются ли они вместе с тем пассионариями? По типологии Гумилёва – нет: это люди консервативные, живущие привычным укладом и довольные им, никуда особенно не стремящиеся. Но не будем спешить с выводами. Эти греческие земледельцы-граждане ведь не только работали, но ещё и выполняли общественные обязанности, не связанные с каким-либо вознаграждением, а то и просто опасные для жизни; и выполняли их, по-видимому, добровольно. Зачем бы такому крестьянину надевать панцирь, брать в руки копьё, идти на войну? Ну, убрал себе урожай, – сиди теперь в хижине в тепле и в сытости да радуйся – авось, и без тебя с врагом справятся! Конечно, можно возразить, что если бы он добром не пошёл, то его могли и силой заставить. – Могли. Но только в том случае, если соседи его поступали не так, как он. А если и соседи были бы такими же, то, пожалуй, фалангу собрать бы не удалось. А если и удалось, то фаланга из таких людей разбежалась бы при первом натиске врага. И если стояла фаланга в бою как стена, если каждый её воин был твёрдо уверен в надёжности рядом стоящего товарища, то верно присутствовало в душах этих людей сознание своей прочной связи, этническое сознание. И не согласились бы эти земледельцы нести на себе такой груз разных обязанностей и трудов, если бы не были они людьми этнически напряжёнными, т. е. пассионариями.
У Гумилёва в качестве примеров пассионариев приведены вожди, полководцы, как наиболее выразительные образцы этой породы. Но понятно, что они были лишь единицами в общей пассионарной массе. Ведь если бы эти вожди были единственными пассионариями, то мы перейдём к теории героев и толпы, которая прямо противоположна концепции этногенеза. Сила этноса заключается прежде всего в рядовой пассионарной массе, которая каждодневно тащит тяжёлый груз различных обязанностей. Описанные выше эллины-земледельцы и были такими пассионариями. И если они не очень заметны в жизни, то этим обязаны своей высокой витальности, благодаря которой довольствуются малым, не претендуя на почести.
Обратимся теперь от рядовой массы к вождям. Сравним с рядовыми солдатами, скажем, Наполеона, или Цезаря, или Александра Македонского. Что отличает таких людей, так это их постоянная неудовлетворённость, хроническая несытость. Любое положение, любые достигнутые результаты не приносят им довольства и успокоения. Цезарь, достигнув доминирующего положения в Римской республике, стремился ещё и к царскому титулу; одержав уже в своей жизни множество побед, он вынашивал планы разгрома Парфянской державы. Александр Македонский, покоривший множество земель, стал несчастен оттого, что ему не суждено было покорить Индию. Кроме того, складывается впечатление, что те завоевания, которым они посвятили свою жизнь, были для них не только прихотью, но жизненной необходимостью, – без новых побед, без новых впечатлений такие люди быстро чахнут и умирают. Вспомним Александра Македонского, стойко переносившего все тяготы походной жизни и многочисленные ранения и скончавшегося сразу же по возвращении из своего похода. Его убила не болезнь, а невозможность дальнейшего движения на восток. Умирать он начал, когда его армия повернула назад. Лишённый империи Наполеон тоже недолго протянул на своём острове. Не правда ли, создаётся впечатление, что только новые победы и завоевания, всё новые рискованные предприятия и поддерживали их силы, давали им необходимую жизненную энергию? Лишаясь всего этого, они лишаются источника своего существования.
Как это отличается от судьбы простого человека, рядового пассионария, который ежедневно, как вол, тащит свой тяжёлый воз, пополняя силы растительной жвачкой. Но ведь эта постоянная жажда и несытость есть отличительное свойство людей с низкой витальностью. Видимо, упомянутые личности и есть такие люди. Хотя в каждом конкретном случае и нельзя поручиться за источник человеческой активности – есть ли то недостаток витальности или чрезвычайно высокая пассионарность. Но для теории этногенеза этого не требуется, – в рамках её мы оперируем усреднёнными характеристиками больших масс людей.
Таким образом, наиболее активные и беспокойные пассионарии – это люди с низкой витальностью. В отличие от людей витальных, которые, достигнув определённой цели, легко удовлетворяются достигнутым, – люди низковитальные в силу своей малой внутренней энергийности никогда надолго не бывают удовлетворены. Каждое новое достижение им быстро приедается, они ищут чего-то ещё – всё новых впечатлений, завоеваний, побед. Они живут полной жизнью, пока этот процесс продолжается, и резко падают, когда он останавливается.
Но не надо думать, что все выдающиеся исторические деятели – люди низковитальные. Таковы лишь те, кто по своей воле стремится к своей беспокойной судьбе. Есть и другие, – кто попал в исторические герои в силу обстоятельств, по воле судьбы. Таковы, к примеру, протопоп Аввакум или Жанна д’Арк. Это положительные, созидательные, витальные натуры, которые, скорее всего, прожили бы свою жизнь незаметно, если бы исторические обстоятельства не призвали их к активной роли и не бросили в водоворот событий.
Без сомнения, много низковитальных пассионариев среди писателей, художников. Общая черта многих из них – неукоренённость в обыденной жизни, тоска и неудовлетворённость в её рамках. Всё это признаки низкой витальности.
А теперь обратимся к обскурантам. Представим себе тех же греческих земледельцев – потомков граждан полиса, о которых мы говорили выше, но несколько веков спустя. За прошедшее время этническое напряжение спало. Эти люди по-прежнему обрабатывают свои участки, кое-как кормятся, платят налоги, но они уже не являются ни воинами, ни гражданами; они просто соседи. Каждый думает себе, о своей семье, – с прочими людьми его, в сущности, ничего не связывает. В общем, это мирные обыватели, ведущие размеренный трудовой образ жизни. Таковы витальные обскуранты. Эти люди умеют жить, умеют работать, вести дела, но безо всякого полёта и увлечения. Стремятся они только, по возможности, к большему достатку и комфорту: «жена, да квартира, да счёт текущий» – вот круг их интересов.
Хороший образец данного типа – Марьяна из толстовских «Казаков». Родись она в аристократической семье, – быть ей светской львицей, царицей балов и раутов. Но Марьяна родилась в семье казака-крестьянина, и она до конца жизни будет ходить за волами, доить коров, косить сено и давить виноград, – и будет вполне довольна своей жизнью. Таков же и Лукашка, искренне дивящийся барской причуде, – как можно из своего богатого поместья добровольно уехать чёрт знает куда! Это отсутствие порыва, способность довольствоваться любой судьбой, любой внешней обстановкой, – есть характерная черта данного типа. Люди витальные, как растения, растут и цветут там, где упало семечко: на клумбе – хорошо, на пустыре – тоже годится. Сравните это с вечной неуспокоенностью тоже витального, но пассионария – лесковского очарованного странника, – и вам будет совершенно ясна разница этих двух типов. Ещё один пример витального обскуранта Стива Облонский – человек здоровый, красивый, наделённый недюжинной способностью мгновенно оценить ситуацию и примениться к любой обстановке, – но абсолютно никуда не стремящийся, разве что к месту с жалованьем побольше. Стива родился барином, но его легко представить и лакеем; можно не сомневаться – он везде бы неплохо устроился.
Иную картину представляют собой низковитальные обскуранты. В массе своей это паразиты по натуре либо хищники, стремящиеся только к тому, чтобы побольше ухватить, причём стремление это в них постоянно. Они не интересуются ни своей страной, народом, верой, ни даже своей семьёй или работой; они вполне равнодушны к профессиональной гордости и совершенству. Им всё равно, чем заниматься, лишь бы побольше получать. На службе они заняты главным образом брюзжанием и перемыванием косточек своих сослуживцев, начальников и окружающих вообще: все-то у них – дураки и лодыри, а сами они делают меньше всех, да и делать толком ничего не умеют. Их нос постоянно вынюхивает – где бы чего ухватить на халяву; и если бы мир рухнул, но они поимели бы оттого хоть малую выгоду, то без колебаний приветствовали бы это событие.
Когда же судьба улыбается низковитальным обскурантам и им удаётся сделать карьеру, они обращаются в рвачей-чиновников или рвачей-бизнесменов. Предприниматели, вообще, делятся на две категории. Одни заняты каким-либо конкретным делом – предприятием и работают не только ради дохода (а иногда и не столько ради него), но для процветания своего «дела». И есть предприниматели другого рода – люди, никаким конкретным делом не занятые. Их интересует лишь доход, нажива: поживиться как можно больше от какого-либо предприятия (фирмы, страны), обобрать их до нитки; затем бросить и вцепиться в другое, – и с ним сделать то же самое и т. д.; вырученные деньги вывезти в офшор и вновь пустить в спекулятивный оборот. Такие также относятся к типу низковитальных обскурантов. Пожалуй, и довольно о них.
В заключение соотнесём нашу этническую типологию с типологией Гумилёва. Понятно, что его «гармоничные» – это прежде всего люди витальные, в зависимости от уровня этнической напряжённости являющиеся либо пассионариями, либо обскурантами. Пассионарии Гумилёва остаются пассионариями и для нас, с тем уточнением, что это, главным образом, низковитальные пассионарии. Но вот категория субпассионариев (обскурантов) вызывает некоторые возражения. Гумилёв скопом зачислил туда бродяг и вырожденцев, люмпенов и обывателей, а также и профессиональных солдат-наёмников.
Во-первых, от всех прочих перечисленных групп по своему образу жизни резко отличаются «обыватели». Обыватели, живущие своим трудом, как мы установили, – это витальные обскуранты. Всех остальных можно объединить тем, что они ведут паразитический образ жизни, кормятся за чужой счёт. Но ведь паразитизм этнический и паразитизм социальный – это разные вещи. Скажем, профессор-либерал в социальном плане совсем не паразит, а в этническом плане вполне может быть паразитом, – если для него не существуют национальные интересы, ни прошлое, ни будущее своего народа, которым он вскормлен, – а существуют только его индивидуальные права и потребности. Если он полагает, что народ веками трудился, воевал, терпел лишения лишь для удовлетворения оных. Это и есть этнический паразитизм, когда человек как бы выпадает из исторического плана бытия и пытается утвердить свой индивидуализм как абсолютную ценность. И наоборот, Диоген, праздно живущий в своей бочке, с точки зрения обывателя – типичный паразит, «бич», «бомж», ведущий «антиобщественный образ жизни». А вот в истории своего этноса он остался как выдающаяся личность, один из его ярких символов.
Да и вообще, пассионарии по своим вкусам и поведению как-то очень похожи на субпассионариев: «Если бы я не был Александром – я хотел бы быть Диогеном», – заявил Александр Македонский после встречи с философом. Пассионариев также можно обвинять в паразитизме, как и наёмников, – ведь ради своего честолюбия они развязывали опустошительные войны.
Напрасно Гумилёв также немилосерден и к бродягам. Франсуа Вийон был бродягой. Обыватели бродяг, конечно, не любят, но во все времена среди них были и поэты, и философы, и святые. Короче говоря, после исключения обывателей все остальные группы гумилёвских субпассионариев можно объединить лишь одним – всё это люди с низкой витальностью. Из их числа, пожалуй, только люмпенов можно без оговорок причислить к обскурантам. А среди солдат-наёмников и бродяг в массе обскурантов встречаются и пассионарии.
Для этноса, разумеется, самый лучший тип – витальные пассионарии. Сочетание достаточного количества пассионариев с массой витальных обскурантов тоже неплохо: последние несут физическую нагрузку, а первые – организуют и направляют систему. Преобладание низковитальных индивидов приводит к внутреннему кризису, но если пассионарность ещё высока, то и этот вариант для этногенеза плодотворен, так как пассионарии всегда способны найти выход из кризиса, в результате чего витальность повысится, а внутриэтническая обста ка стабилизируется. Хуже всего, когда пассионариев ма низковитальных обскурантов много. В этом случае после получают преобладание и пожирают всё, что только возмо а этносоциальная система быстро деградирует.
Глава 13 Ход этногенеза
Теперь у нас есть всё необходимое для описания схемы процесса этногенеза. Мы установили два основных параметра, характеризующие этот процесс, – степень напряжённости этнического поля и уровень витальной энергии этноса. Нам известны в общих чертах формы графиков изменения каждого из этих параметров. Для удовлетворительного истолкования процесса этногенеза необходимо объединить эти графики в одной схеме и проследить их изменения на протяжении всех фаз этногенеза.
Рис. 3
Процесс этногенеза состоит из пяти фаз: подъём (нормальная продолжительность 300 лет), надлом, инерция, обскурация (в среднем по 200 плюс-минус 50 лет каждая – в зависимости от конкретных условий), мемориальная (неопределённо долго). В общем, число, продолжительность, названия, внутреннее содержание фаз сохранены по Гумилёву. Исключение составляет акматическая фаза, которую, как вы помните, мы устранили, как не основанное на фактах ошибочное построение.
Обозначим вкратце основные характерные черты всех фаз.
Фаза подъёма начинается с момента этнического толчка. Фаза роста, концентрации, подъёма сил этноса. Характеризуется цельностью социальной структуры и культурной среды. Создаётся оригинальная социально-политическая структура. К концу фазы, как правило, достигается политическая централизация этнического коллектива. Начинается и широко разворачивается экспансия этноса. Этнос легко поглощает и включает в свой состав иноэтнических индивидов. Произведения культуры и искусства немногочисленны, но отличаются наиболее оригинальным характером. Мировосприятие членов этнического коллектива дышит уверенностью в своих силах и будущем своего народа.
Фаза надлома – время острого социального кризиса, кровопролитных конфликтов и гражданских войн. Тяга к внешней экспансии достигает своего пика, но экспансия далеко не всегда бывает успешной. Начинается обскурационный процесс. Социальная структура теряет цельность. Резко падает способность к ассимиляции иноэтнических элементов. Культурное творчество богато. В культурную среду проникают и всё более распространяются чужеродные элементы. В сознании людей преобладает трагичность, пессимизм, прежняя уверенность в своих силах утрачена.
В фазе инерции внутренняя ситуация стабилизируется. Прекращение междоусобиц способствует развитию хозяйства и культуры, накоплению материальных и культурных ценностей. Это фаза стабильного в целом развития. Территориальная экспансия становится более умеренной и заключается во внешних присоединениях без ассимиляции вновь покорённых. Широко распространяются продукты и ценности чужих культур. Преобладают настроения довольства и оптимизма.
В фазе обскурации вновь усиливается тяга к экспансии в территориальном (образование империй) и человеческом (насильственная ассимиляция) планах. Обскурационный процесс становится подавляющим. При неудаче экспансии социальные конфликты переходят в жестокие гражданские войны. Этнос переживает крупные бедствия и несёт большие материальные и людские потери. Культурное творчество по-прежнему богато, но в нём нарастают настроения декаданса и «заката». Быстро прогрессирует разложение общественных отношений и забвение традиционной культуры.
Мемориальная фаза. Резкое ослабление этнополитической организации и её давления на индивида. Прекращение этнической экспансии: отныне этнос лишь обороняет достигнутые рубежи. Общество атомизировано, – в нём господствует отчуждённость между людьми, а также между людьми и официальными структурами. Окончательное угасание оригинального творчества и торжество космополитической масскультуры. Этнос лишь сохраняет свои ценности и пытается возродить старые традиции, живёт воспоминаниями о былом величии (реальном или воображаемом). В благоприятных условиях этого достаточно для ещё очень долгого существования и даже некоторого национально-культурного ренессанса.
Все эти политические, культурные, экономические, идеологические перемены обусловлены глубинными изменениями в энергетике этноса, изменением уровней различных её составляющих. Они определяют рост и упадок этнической системы, степень её стабильности, переходы в состояние расширения и возвращение к стабильному состоянию.
Пора перейти к конкретному рассмотрению этих изменений.
Глава 14 Фаза подъёма
Момент этнического толчка в истории незаметен и может быть определён лишь приблизительно из анализа складывающихся необходимых для него условий и последующего развития этноса. Первые 100 лет, по крайней мере, новорождённый этнос ещё ничем существенным себя не проявляет. В результате этнического толчка образуется этническое поле, напряжённость которого быстро нарастает. Этот резкий подъём этнического напряжения составляет характерную особенность энергетики фазы подъёма и определяет её конкретное содержание.
Под действием этнического поля возрастает активность людей, захваченных толчком. Это выражается в росте рождаемости (демографический подъём), а также в усиленном хозяйственном освоении ресурсов территории этноса. Впрочем, эти черты не составляют исключительную особенность фазы подъёма, – они встречаются и на других этапах этногенеза. Главное – это новое миросозерцание этнических индивидов, свежий взгляд на мир. Высокий уровень напряжённости этнического поля в душах людей проявляется как совершенная утверждённость в основах бытия своего общества, абсолютная уверенность в справедливости и правильности его законов, в стремлении утвердить их в окружающем мире.
Постепенно прорисовывается оригинальная социально-политическая организация этноса, новые способы хозяйствования, начинается подъём эстетического творчества. Этнос стремится распространить свою политическую систему на окрестные земли и включить проживающих там людей в свой этнический коллектив. Таким образом, после столетнего периода концентрации начинается этническая экспансия. Главная движущая сила экспансии на данном этапе – растущая пассионарность этноса, стремление утвердить вовне свои взгляды на мир. Возросшее этническое напряжение повышает запросы к жизни: пассионарию хочется уже не только сытной еды и красивой одежды, но и власти, славы, новых горизонтов и ощущений. Этносу становится душно на ограниченной территории своего месторазвития, и он стремится раздвинуть её пределы. Новая организация и крепкая сплочённость этнического коллектива делают возможным осуществление этого стремления.
Этногенез может быть прерван в самом начале. Если молодой этнос наткнётся на сильного противника, он может просто разбиться об него. Но предположим, что этнос находится в благоприятной ситуации: его окружают старые этносы, обладающие низким уровнем напряжённости этнического поля. В таком случае этнос будет распространяться без большого труда, овладевая территориями и ассимилируя их население. Инкорпорация происходит за счёт пассионарной индукции. Немногочисленные, но пассионарно напряжённые индивиды нового этноса увлекают за собой пассивную реликтовую этническую массу. Захваченные более напряжённым полем иноэтнические элементы быстро поглощаются и становятся органической частью новой этнической системы. Таким способом расширение происходит настолько, насколько оно возможно.
Особенно успешно идёт этот процесс, если экспансия разворачивается в отношении этнически близкого населения. Представим себе такую ситуацию. На территории Древней Аравии появляется новый арабо-мусульманский этнос. По мере роста он начинает свою экспансию во всех направлениях. Поначалу объектом её становится арабское же население – этнический реликт какого-то более древнего арабского этноса. Понятно, что среди людей близких арабам-мусульманам по языку и обычаям экспансия и ассимиляция продвигаются гораздо легче и быстрее, чем когда арабы вторглись в пределы Африки и Ирана (последний арабизировать так и не удалось).
Определяющим фактором является всё-таки не этническая близость, а разница в уровнях напряжённости этнических полей контактирующих этносов. Пока она достаточно велика, экспансия идёт успешно. Но рано или поздно осуществляющий экспансию этнос наталкивается на сопротивление сильной этнической системы, и его наступление приостанавливается. Дальнейшее продвижение требует уже гораздо больших усилий, и даже сверхусилий. Однако этнос продолжает экспансию не считаясь с жертвами, так как при высоком пассионарном напряжении страсть к открытию и преобразованию мира на свой лад остаётся неизменной.
Нормальная продолжительность фазы подъёма около 300 лет. Неблагоприятные условия развития могут её значительно сократить. Намного короче она у субэтносов. Но и самостоятельные этносы могут пострадать. В фазе подъёма этносу может грозить опасность чрезмерной инкорпорации. Если поток обскурационного этнического материала в поднимающийся этнос слишком велик, то этнос не успевает его переварить. Нахлынувшие обскуранты дестабилизируют социальную обстановку раньше положенного времени. В этом случае надлом наступает слишком скоро, фаза подъёма укорачивается, а значит, уменьшается амплитуда всего процесса. Не успевший нормально развиться этнос выходит на историческую арену ослабленным, срок его существования короче, этногенез менее выразителен. К таким последствиям приводит влияние близлежащей цивилизации, которая, собственно, и является источником обскурационного материала.
Ярким примером подобного развития событий является Америка. Слабый североамериканский этнос (США) с самого начала постоянно пополнялся большим количеством эмигрантов, через которых Европа оказывала на молодой этнос угнетающее цивилизационное влияние. В результате фаза подъёма сократилась по продолжительности вдвое; надлом наступил уже в конце XVIII века (его начало – Война за независимость). Соответственно укоротилась продолжительность и последующих фаз. Фаза надлома заняла 100 лет (завершилась Гражданской войной и реконструкцией Юга). Из-за ущербности своего развития американский этнос оказался довольно примитивным и слабым, очень зависимым от Европы в духовно-культурном отношении. Судьба американского этноса, по существу, трагична. Он возник слишком поздно, в слишком тесном контакте с цивилизацией и не получил простора для развития во времени.
Глава 15 Фаза надлома
В это время на ходе этногенеза всё более сказывается другой фактор. Скачок витальности, вызванный этническим толчком, обусловливает быстрый рост численности нового этноса. Плотность населения на занимаемой им территории в короткий срок резко увеличивается, так как территория эта невелика. Скоро обнаруживается демографическая перегрузка, чрезмерная теснота становится ощутимой даже при более высокой витальности. Дальнейшее перенаселение уже понижает витальный уровень этнического коллектива. Люди чувствуют, что ресурсы жизнедеятельности скудеют. Чтобы снять растущее напряжение, этнос вынужден перейти к расширению занимаемой территории, к захвату необходимых жизненных ресурсов во внешнем мире.
Но территориальная экспансия, даже успешная, сама по себе поглощает немало энергии. Пассионарная деятельность растущего этноса требует от членов этнического коллектива всё больших усилий и жертв. Они расточают свою энергию и здоровье в военных походах и освоении новых земель. Всё больше ресурсов уходит на создание государственной организации и его содержание. Пока экспансия продвигается сравнительно легко, положение остаётся стабильным, так как убыток витальности этнических старожилов всё время пополняется за счёт витальной энергии вновь ассимилированных индивидов. Но как только продвижение приостанавливается, витальность этноса начинает снижаться ускоренным темпом.
Эффект падения витальности усиливается внешним фактором – истощением природных ресурсов коренной территории этноса. Ведь с началом этногенеза значительно увеличивается интенсивность их эксплуатации. Численность населения растёт, растут аппетиты, а территория и количество ресурсов на первом этапе остаются неизменными. Увеличение отдачи достигается за счёт все большего освоения данной территории. Но по достижении какого-то порога усиленная эксплуатация не только не даёт нового прироста, но истощает ресурсы. Сигизмунд Герберштейн в начале XVI века характеризует природные условия земель, окружающих Москву, как скудные: неплодородная почва, в лесах нет зверя и мёду; река Москва не очень рыбная, в ней не водится никакой рыбы, кроме «дешёвой и обыкновенной». Нет сомнения, что двумя-тремя веками ранее, когда этногенез великорусского этноса только начинался, ресурсы Московской области были гораздо богаче.
Таким образом, снижение витальности, истощение природных ресурсов побуждают этнос мобилизовать все силы для продолжения экспансии. Необходимость её диктуется уже не столько стремлением изменить мир, сколько подлинным энергетическим голодом. Наступает фаза надлома, начало которой характеризуется резким падением витальности этноса.
Однако предпринимаемые усилия часто дают слишком незначительный результат. Энергетические затраты в ходе экспансии оказываются гораздо большими, чем энергетические поступления. В таких условиях индивиды этноса начинают искать удовлетворения своих потребностей уже не вовне, в внутри собственной этнической системы, за счёт своих соплеменников. Внутреннее напряжение быстро нарастает. Острое соперничество личностей, сословий, группировок, партий, этнических групп разражается большим кровопролитием. Чередой идут заговоры, бунты, попытки переворотов, гражданские войны. Террор истребляет общественную элиту.
Внутренние войны перемежаются с внешними. Расстройство хозяйственного механизма ведёт к падению производства продовольствия и проблемам с его транспортировкой, – так что в это время случаются катастрофические голодовки. Происходят опустошительные эпидемии, так как при снижении уровня витальности истощённый организм слабо сопротивляется инфекции. Самые страшные эпидемии чумы в Европе происходили как раз в эпоху надлома. Одним словом, это период истории, наполненный громкими событиями и народными бедствиями. В Европе это XIV–XVI века – Столетняя война и Религиозные войны во Франции; Война Алой и Белой розы в Англии; двухвековые феодальные смуты в Испании; время княжеских междоусобиц и бессилия центральной власти в Германии. В Риме это эпоха борьбы патрициев и плебеев; в Элладе – Великая греческая колонизация и ранняя тирания; в Византии период иконоборчества.
Такие переломные эпохи оставляют глубокий след в памяти народа. Этнический подъём гораздо менее заметен. Именно период надлома, как правило, ярче всего запечатлевается в национальной памяти. Образы этого времени являются символами первой величины на всю оставшуюся этносу жизнь: Робин Гуд и вольные стрелки в Англии, Жанна д’Арк во Франции; Иван Грозный, Разин, Ермак – в России.
Но и успехи внешней экспансии далеко не сразу разряжают остроту внутреннего кризиса. Россия, к примеру, в фазе надлома присоединила Поволжье и Сибирь, – несмотря на это, её ещё долго сотрясали смуты и восстания. Дело здесь, видимо, в том, что для освоения ресурсов новоприобретённых территорий требуется определённое время. Эффект от их эксплуатации сказывается только на последующей стадии этногенеза.
На протяжении фазы надлома уровень напряжённости этнического поля резко понижается. И это снижение реально выражается в значительном падении способности этноса к инкорпорации иноплеменников. В фазе подъёма инкорпорируемые индивиды полностью теряли свой прежний этнический облик и становились всецелыми членами нового этноса. В стадии надлома образуются суперэтнические системы, в которых покорённые этносы уже не теряют своей особенности, но сохраняют её на этническом или субэтническом уровне.
Что касается витальности этноса, то она проходит в данной фазе свой минимум, а затем, к концу фазы начинает повышаться. Происходит это прежде всего за счёт больших людских потерь. В стихийных бедствиях и социальных катаклизмах фазы надлома гибнут более всего низковитальные индивиды. Пассионарии погибают во внутренних и внешних войнах. Низковитальные обскуранты массово гибнут в периоды эпидемий и голода. Кроме того, во время бедствий данного периода функционирование социально-политической системы расстраивается. В связи с этим груз повинностей, который она налагает на индивидов этноса, уменьшается, – что также способствует подъёму витальности. В период надлома численность населения страны часто уменьшается, а, как известно, «меньше народу – больше кислороду» (больше земли и ресурсов). Людей гибнет много, но уцелевшим жить становится легче.
Кризис надлома по-разному протекает в централизованных и децентрализованных этнических системах. В тех системах, где субэтнический уровень сравнительно слаб, поддерживается высокая степень политической централизации. Такой системе легче сконцентрировать силы и ресурсы этноса для решения насущных задач, – в данном случае – задачи расширения, захвата энергии во внешнем мире. Такие системы в деле экспансии обладают гораздо большими шансами на успех. Великорусы в эпоху надлома захватили огромные территории, то же и турки. Успехи же децентрализованных систем, где сильный субэтнический уровень слабо перекрывается этносом, были гораздо скромнее. Североитальянский этнос остался, что называется, при своих, если не считать некоторые завоевания Генуи и Венеции в Средиземноморье, впоследствии потерянные. Немцы добились весьма умеренных успехов на северо-востоке, в землях славянских и балтских язычников.
По-иному протекает и внутренний кризис. В централизованных системах внутренние катаклизмы достигают гораздо большего масштаба, но кризисная эпоха заметно короче. В России, к примеру, фаза надлома заняла порядка 150 лет и сопровождалась внутренними бедствиями огромного размаха – опричнина, Смута, крестьянская война Разина. В децентрализованных системах внутренний кризис выражается событиями более мелкими, как бы дробится на множество локальных конфликтов. В странах Европы это приняло форму политической анархии и феодальных усобиц, – так обстояли дела в Германии, Италии, Испании, Польше… Причём фаза надлома затянулась в этих странах лет на двести и более.
Глава 16 Фаза инерции
В ходе бурных событий и бедствий фазы надлома погибает большое количество наиболее амбициозных индивидов этноса. Другие, уцелевшие, удовлетворяют полностью или частично свои претензии. Пассионарное напряжение в системе спадает, витальность повышается уже в конце фазы надлома. В начале фазы инерции её повышение продолжается. Это позволяет стабилизировать ситуацию в этносоциальной системе. Масса населения, испытав на себе бедствия периода междоусобиц, начинает больше ценить покой и простые житейские радости. Жизнь входит в мирное русло. Начинается инерционная фаза.
Общая стабилизация – господствующая тенденция этой фазы, но конкретный характер её протекания зависит от итогов фазы надлома, от того, увенчалась успехом экспансия этноса в фазе надлома или нет. Здесь возможны три случая: очень большие успехи, частичный успех, полная неудача. Разберём каждый случай на конкретном примере.
Ситуация, когда в фазе надлома экспансия этноса развивалась успешно, наиболее благоприятна для развития этноса. Фаза надлома древнегреческого этноса приходится на VIII–VI века до н. э. То была эпоха Великой греческой колонизации. Берега Средиземного и Чёрного морей покрылись сотнями греческих колоний. Местные племена не оказали серьёзного сопротивления грекам, и колонии можно было заводить без больших проблем. Сицилия и Южная Италия были так густо усеяны ими, что получили название «Великая Греция». В колонии ушли миллионы греков. Это были и обнищавшие, потерявшие землю бедняки, и потерпевшие поражение в политической борьбе, – все, кто был обделён на родине или недоволен тамошними порядками, имели возможность начать новую жизнь на новом месте. Греция сбросила в колонии избыток своего населения, притом самого беспокойного и недовольного. Результатом стал продолжительный экономический и культурный подъём. Колонии поставляли необходимые Греции ресурсы: зерно и скот, металлы и рабов – и в то же время служили обширным рынком сбыта продукции высокоразвитого греческого ремесла и сельского хозяйства. В это же время расцвела и величайшая греческая эстетическая культура. Таким образом, успешная экспансия разом убивает двух зайцев – сбрасывает внутреннее напряжение и снабжает необходимыми ресурсами. Конечно, желанный результат достигается лишь в том случае, если захваченная в результате экспансии территория достаточно благоприятна. Если бы греки расселялись не на благодатных средиземноморских побережьях, а на арктических островах, последствия были бы не столь блестящи.
Из европейских стран наибольших успехов экспансии в рассматриваемый период добилась Испания. Её этногенез был весьма своеобразен. Стадия надлома в Испании растянулась более чем на два столетия. В испанской этнической системе всегда был силён субэтнический уровень, слабо перекрываемый кастильским этносом. Поэтому центральная власть была слаба, а всё время надлома заняли феодальные смуты. Лишь к исходу его кастильцы объединили Пиренейский полуостров, за исключением Португалии. За всё это время единственным территориальным приращением Испании стал юг полуострова – отбитая у арабов Гранада. Но тут испанцам крупно повезло. Экспедиция, посланная испанским королём, открыла Новый Свет, и перед Испанией открылись необозримые колониальные перспективы. Сопротивление туземцев было слабым, так что испанцы добились ошеломляющих успехов: в 1520 году они овладели Антильскими островами, а уже к 1540 году покорили Мексику и Перу. Через 100 лет после начала Конкисты владения Испании раскинулись от Рио-Гранде на севере до устья Ла-Платы на юге. В Испанию из завоёванных колоний хлынули золото и серебро, ценные тропические товары. Однако это не принесло стране процветания. Скорее, наоборот, к исходу XVI века она переживала глубокий экономический упадок, который продлился до XVIII века. В чём тут дело? Почему присоединение обширных богатых земель вместо процветания и подъёма принесло упадок и разорение?
Испанский этнос в XVI веке занимал лидирующее положение в европейской суперэтнической системе, и его энергетические ресурсы нещадно эксплуатировались. Испанцы были главной силой в борьбе католицизма с Реформацией на севере и в центре Европы. Они же возглавляли отпор турецкой экспансии в Средиземноморье. К этому добавилось соперничество с Францией за лидерство в европейской системе. В то же время большие силы были брошены на завоевание Нового Света. Испанские солдаты дрались с повстанцами в Нидерландах, с протестантами в Германии, с турецкими корсарами в Средиземноморье и Африке, с индейцами в Америке, с французами в Италии, с гугенотами во Франции. А чтобы финансово обеспечить все эти войны и грандиозные предприятия вроде Непобедимой Армады, не хватало даже и американского золота. Испанские крестьяне и ремесленники были задавлены непомерными налогами.
Понятно, что такая усиленная эксплуатация быстро истощила витальный потенциал этноса. Испанское производство стало неконкурентоспособным. Если греки практически не испытывали конкуренции в эпоху расцвета после завоевания своих колоний, то испанские производители были окружены конкурентами. Падение витальности в сочетании с усилением налогового гнёта свели на нет испанскую промышленность во второй половине XVI века. Всякий производительный труд стал невыгоден. Крестьяне массово покидали свои наделы, а ремесленники бросали свои занятия. Король и знать не заботились о защите национального производителя, они покупали иностранные товары на американское золото. И такая политика почти не встречала сопротивления. Американские сокровища питали не только знать и купцов, но и многочисленных церковников, крохи их перепадали нищим идальго и просто нищим. Тот, кто был беден, но храбр, мог попытать счастья в Новом Свете или солдатскую фортуну в Нидерландах. А низковитальные обскуранты становились бродягами, нищими, монахами; наполняя города и дороги, они создавали впечатление всеобщего безделья. «Большинство испанцев превратилось в бездельников, – писал современник, – одни в бездельников-дворян, другие в бездельников-нищих». Не станем осуждать за это испанцев. В XVI веке они совершили столько, сколько иному народу хватит на всё его существование. Прекращение активной деятельности есть способ восстановления витальности этноса. В XVII и XVIII веках она повышается вплоть до начала фазы обскурации.
Несмотря на своеобразие испанского этногенеза фазы инерции, одно остаётся неизменным, – успешная экспансия приводит к внутренней стабильности этносоциального организма. Со времени восстания комунерос 1520 года в Испании на три столетия воцарилось затишье, лишь изредка прерываемое провинциальными мятежами, когда король пытался наступить на местные обычаи.
Случай частично успешной экспансии иллюстрирует пример Франции. В Столетней войне французам удалось отстоять земли юга страны и другие окраины королевства, которые ещё далеко не полностью «офранцузились». И это можно считать успехом, хотя, конечно, и недостаточным для долговременной стабилизации. Затем французы развернули экспансию в направлении Италии – самой богатой и культурной страны тогдашней Европы. Италия сама по себе не могла оказать серьёзного сопротивления. Но противники Франции, опасаясь её усиления, объединились и дали французам сильный отпор. Многолетние итальянские войны окончились для Франции полной неудачей. И сразу же по их окончании страну охватил острый обскурационный кризис – Религиозные войны, которые заняли почти всю вторую половину XVI века и отличались большим ожесточением и кровопролитностью. Эти войны на время разрядили напряжение, что позволило вновь централизовать страну и сделать новую попытку внешней экспансии. На этот раз она была более удачной. Ришелье и Людовик XIV несколько раздвинули границы за счёт соседей: были присоединены Эльзас, Франш-Конте, Лотарингия, часть Фландрии, Русильон. Французы приступили к колониальной экспансии – захватили острова Вест-Индии, в Америке – Канаду и Луизиану; базы и фактории в Индии и Африке. И всё-таки экспансия продвигалась туго, давала недостаточно. В результате страна находилась в постоянном напряжении, которое то и дело прорывалось восстаниями: 1625–1629 годы – восстание гугенотов, 1632 год – мятеж аристократов, 1648–1653 годы – Фронда, череда народных восстаний 60–70-х годов XVII века, 1675 год – восстание в Бретани, 1702–1707 годы – восстание в Севеннах, 1707 год – восстание в Керси.
Таким образом, недостаточно успешная экспансия приводит к повышению внутреннего напряжения в системе. Хотя страна при этом может поступательно развиваться, – XVII и XVIII века были для Франции плодотворны в политическом, экономическом и культурном отношении.
В качестве примера для третьего случая напрашивается Италия. Североитальянский этнос представлял собой децентрализованную систему с ярко выраженным субэтническим уровнем, на котором и оформилась его политическая организация. В этих условиях итальянцы, по большей части, воевали друг с другом и не могли собрать силы для внешнего присоединения. Правда, два итальянских субэтноса – венецианцы и генуэзцы осуществляли энергичную морскую и торговую экспансию в Средиземноморье. Но усиление Османской империи положило конец их успехам. К исходу XVII века Венеция теряет последние свои средиземноморские владения. Итальянская этнополитическая система всё более слабеет. Италия прозябает на положении не субъекта, а объекта европейской политики: она – арена для выяснения отношений между иностранными державами, она – желанный трофей для победителя, её делят и переделяют. Даже во многом искусственное её, в конце концов, объединение произошло лишь с иностранной помощью.
Подведём краткий итог. При всех вариантах развития событий общее содержание фазы инерции неизменно. Начинается она ростом витальности, но при успешном решении задачи расширения этот рост сопровождается укреплением и расширением этнополитической системы, а при неудаче – её ослаблением и упадком. При этом важно подчеркнуть, что при любом развитии событий, независимо от политического усиления или ослабления, это время богатого культурного творчества. В Италии, в условиях её политической ничтожности, расцветало Высокое и Позднее Возрождение: Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Веронезе, Тинторетто, Тициан; в Испании – Сервантес, Лопе де Вега, Эль Греко, Веласкес; в Англии – Шекспир. Экономика в фазе инерции развивается по-разному, в зависимости от конкретной ситуации, но чаще всего это время экономического подъёма, роста промышленности и торговли, товарно-денежных отношений, градостроительства. Словом, в истории это период «расцвета». А всякий расцвет культуры и экономический подъём происходит за счёт усиленной эксплуатации витальной энергии этноса. Значит, по истечении определённого времени в эпоху такого расцвета витальность этноса понижается. И такое понижение знаменует окончание фазы инерции и переход к фазе обскурации.
Глава 17 Фаза обскурации
К концу фазы инерции этнос, как правило, полностью осваивает и, в значительной части, исчерпывает ресурсы территорий, приобретённых на предыдущих этапах этногенеза. Земли распахиваются и выпахиваются, леса вырубаются, дичь и рыба истребляются, наиболее богатые руды вычерпываются, а углубляться в землю уже значительно дороже.
Естественные ресурсы убывают, а население в спокойные и стабильные времена фазы инерции значительно вырастает. В народе всё больше начинает ощущаться нехватка жизненных благ и жизненного простора. В обществе копится недовольство и неудовлетворённость жизнью. Нарастает социальное напряжение. Как уже было сказано, витальность этноса во второй половине фазы инерции понижается. А это значит, что члены этнического коллектива всё менее расположены мириться с неудовлетворённостью своих потребностей. Следовательно, этническая система нуждается в новом притоке ресурсов и энергии, этносу вновь остро необходима дальнейшая экспансия.
В то же время за 200 лет инерции напряжённость этнического поля значительно снизилась. Это ещё одно определяющее отличие, отделяющее фазу обскурации от фазы инерции. Грань между ними в истории не всегда заметна отчётливо. Бывают случаи, когда она еле различима. Если этнос имел благоприятные возможности к расширению на стадии инерции, то он не испытывает недостатка в ресурсах; уровень витальности его заметно не падает. Именно так обстояло дело с англичанами, которые при переходе к фазе обскурации получили практически неограниченные возможности внешней экспансии. Поэтому дальнейшее течение этногенеза не ознаменовано у них какими-либо крупными социальными катаклизмами. Зато другая особенность фазы обскурации – резкое падение пассионарности в этносе – сохраняется всегда. Имело силу это правило и для Англии. Пока Англия забавлялась колониальными войнами с туземцами, пока Киплинг воспевал «бремя белого человека» и победную поступь колониальных легионов, казалось, что с пассионарностью в Англии полный порядок. Но когда она столкнулась с действительно серьёзным противником – Германией в Первую мировую, – сразу стала ясна её слабость. Англичане имели на фронте самую малочисленную из трёх держав Антанты армию, значительную часть которой составляли солдаты из колоний и доминионов. И в кризисный момент борьбы, когда Россия вышла из войны, англичане не смогли сделать решительное усилие, ресурсами для которого они, в принципе, располагали. Вместо этого они возложили все свои упования на прибытие американцев.
Преобладание массы обскурантов становится явно заметным в этой фазе. И они начинают подрывать силы этноса изнутри. Случай с англичанами – исключительный; абсолютное большинство этносов в стадии обскурации испытывают острый дефицит ресурсов и упадок витальности. Так что тяга к экспансии резко нарастает, а вот способность к ней и к освоению нового пространства, наоборот, существенно падает. В фазе надлома также была ситуация упадка витальности, но тогда напряжённость этнического поля была значительно выше. Этнос был сильнее, значительно больше была его способность к перенесению сверхнагрузок по завоеванию и освоению новых земель, по включению в свою систему чужих этносов, ассимиляции инородцев. Возможности этноса в этом плане в фазе обскурации серьёзно уменьшаются. В фазе обскурации этнос уже не способен к длительным напряжениям. Если усилия, прилагаемые в целях экспансии, не дают быстрый результат, – незамедлительно следует острейший внутренний кризис. Редко кто проходит данную фазу сравнительно гладко, как упомянутые англичане.
Территориальные приобретения в обскурационной фазе присоединяются и удерживаются чисто механически, не становятся органической частью этнической системы. Ресурсы колоний выкачиваются в метрополию. Эксплуатация колоний позволяет поддерживать силы стареющей этнической системы. Наиболее успешно удалось осуществить такую схему англичанам, – им волею судьбы удалось создать империю, «в которой никогда не заходило солнце». Другие не были столь счастливы. Французы вступили в фазу обскурации с крайне истощённым витальным потенциалом. Французская экспансия в XVIII веке провалилась, – англичане отобрали большую часть французских колоний. А так как аппетиты французской знати и буржуазии росли, то рабочие и крестьяне подвергались нещадной эксплуатации; их витальный потенциал истощился до предела. Результатом стал жесточайший внутренний кризис – Великая французская революция. А после провала наполеоновской экспансии вдогонку последовали ещё три революции. И лишь когда пассионарное напряжение было сброшено, а колониальная экспансия развернулась во всю ширь, революции во Франции прекращаются. Испанцы в фазе обскурации пережили целую череду гражданских войн, а в конце фазы – последнюю, чрезвычайно ожесточённую и кровопролитную войну 1936–1939 годов. К этому же ряду явлений относится и революция 1917 года в России.
С рассеиванием этнического поля деградирует – упрощается и распадается – оригинальная этносоциальная структура. В Византии в фазе обскурации прогрессирует феодализация общественной структуры, что было явным упадком в сравнении с гражданским обществом прежних времён. Иногда этнос делает судорожные попытки преодолеть наступающий распад через резкое усиление государственной власти. Именно в этой фазе этногенеза появляются тоталитарные режимы в Германии, Италии, России. Именно в данной фазе возникла первая известная истории тоталитарная система китайского царства Цинь. В начале обскурационной фазы греческого этноса Платон сочинил свою тоталитарную утопию.
Но всё напрасно. Тоталитарные режимы могут добиваться крупных внешнеполитических успехов, но они недолговечны, так как ускоренным темпом истощают последние витальные резервы этноса. Недолговечны и завоевания этих режимов. Впрочем, последнее относится не только к тоталитарным режимам. Любые приобретения в фазе обскурации непрочны. С угасанием этнической напряжённости этнос теряет способность органического усвоения завоёванного пространства. Либеральные Англия и Франция утратили свои колониальные империи так же, как и тоталитарная Германия.
Искусство этноса в данной фазе ещё богато и выразительно. На первый взгляд, это странно – в эпоху этнического упадка. Но всё объясняется просто. Упадок характеризует состояние этноса в целом. Среди массы обскурантов встречается ещё немало пассионариев, которые даже получают дополнительный стимул к занятию художественным творчеством, философией и наукой, – ведь в фазе обскурации они часто не находят себе места в активной жизни и волей-неволей выталкиваются в интеллектуальную сферу, где ещё их таланты находят себе применение. Их трудами и была создана богатейшая европейская литература романтизма и реализма. Монументальное искусство в это время в упадке: в архитектуре уже не появляется ничего оригинального, господствует смешение стилей. Зато декоративное и прикладное искусство переживают расцвет. В Византии расцветает искусство мозаики, эмали, фрески, миниатюры; любимые темы живописцев сунского Китая – пейзажи, животные, цветы.
На фоне этого декоративного расцвета происходит деградация общественной жизни. В обществе нарастает индивидуализм и отчуждение от официальных институтов власти. Противостояние человеческой личности внешнему миру, обществу, неотвратимо и быстро погружающемуся в маразм, – центральная тема европейской культуры XX века.
В конце фазы обскурации, как и в фазе надлома, витальность этноса возрастает, что связано с ослаблением давления социально-политической системы на индивидов этноса.
Глава 18 Мемориальная фаза
Заключительная фаза этногенеза. Напряжённость этнического поля уже на очень низком уровне, что обусловливает утрату большинством индивидов этноса живости этнического сознания. Этносоциальный организм ослабевает, общество распадается на индивидуумов и частные корпорации по интересам. Преобладает индивидуальная деятельность и частные связи. Ослабление этнополитической организации приводит к полному прекращению внешней территориальной экспансии. Значительно понижается также способность противостоять иноэтническому влиянию и агрессии. Поэтому в прежние времена, когда процесс мирового этногенеза был гораздо более бурным, редко какой этнос долго пребывал в данной стадии. Он быстро поглощался более молодым и сильным этносом. И только в особых условиях изоляции старый этнос мог продлить своё существование. В наше время мировой этногенез затухает, и, чтобы наблюдать народы, переживающие мемориальную фазу процесса, уже не нужно пробираться в труднодоступные горные долины Алтая или Памира, – в неё вступили уже большинство народов Европы.
При низком уровне этнической напряжённости дальнейшее снижение его идёт уже очень медленно, что отражено на графике этногенеза постепенным выпрямлением кривой при приближении её к оси абсцисс. Это значит, что мемориальная фаза в благоприятных условиях может продлиться неопределённо долго – дольше, чем все предыдущие фазы, вместе взятые. И в самом деле, в истории есть примеры очень долгого существования этносов: евреи и армяне, если даже не принимать во внимание легендарные времена, существуют уже более 2 тысяч лет; китайская суперэтническая система существует три тысячелетия. Древние египтяне провели в мемориальной фазе более тысячелетия. Рядом с ними современные европейские этносы-старички смотрятся ещё довольно моложаво. По-видимому, чем сильнее этническое поле, чем оригинальнее этническое содержание, тем дольше длится инерция обскурационного процесса.
Несмотря на упадок, в котором находится угасающая этническая система, этнос всё ещё ведёт историческое существование. Живость этнического восприятия утрачена, но остались воспоминания. Единство этнического коллектива поддерживает память об общем происхождении, славных свершениях прошлого и культурное наследие. Это наследие тщательно изучают, сохраняют, иногда извлекают на свет божий, как бабушкины наряды из сундука. В Византии последних веков существования появилось немало тонких знатоков и комментаторов античных текстов. Сами же византийцы той поры ничего заметного не создали. То же самое чехи в XIX веке, – тщательное изучение славянских древностей и полное отсутствие оригинальной этнической жизни. А как сказал один русский философ, «от понимания прошедшего до творчества в настоящем ещё целая бездна бессилия»[29].
Представители различных этносов, давно уже вступивших в эту фазу, нередко как-то схожи по характеру. Как правило, им присущи аккуратность, прагматизм, страсть к порядку в быту, любовь к чистоте, порядочность в обыденной жизни, культ семьи. Эта внешняя привлекательная сторона общества обскурантов очень подкупала русских, попавших на Запад. В то же время для них характерны мелочность, предельный рационализм во всех сферах жизни – от быта до религии, узость кругозора.
Витальная энергия этноса в начале фазы растёт после большого падения в фазе обскурации. Достигнув существенно более высокого уровня, чем в предыдущий период, она в дальнейшем колеблется, опускаясь и поднимаясь в зависимости от конкретных обстоятельств. По окончании периода обскурации источники роста витальности этноса за счёт расширения территории и инкорпорации исчерпаны. Остаётся только путь резкого снижения государственной нагрузки на этнических индивидов – либерализация этносоциальной системы. Жить становится легче в том смысле, что государство перестаёт чрезмерно давить на человека. Отныне он волен напрягаться в погоне за материальными благами либо влачить скудное существование на обочине жизни, – никому до него нет дела. С ростом витальности налаживается экономика, укрепляется трудовая дисциплина, – ведь запасы, накопленные этносом, потреблены в обскурационной фазе и теперь народу приходится жить на то, что он каждодневно создаёт своим трудом. Жизнь иногда благополучная, иногда нет, и всегда – довольно скучная. Так этнос постепенно тащится к своему концу.
* * *
Описанный пятифазный процесс этногенеза представляет собой процесс полного цикла. Такой путь проходит этнос, сохранивший свою самостоятельность на всём протяжении существования, создавший собственную этническую систему. Этногенез может быть прерван внешней разрушительной силой на любой стадии. Этносы, ставшие элементами более сильных этнических систем или усечённые по амплитуде, также проходят эти фазы; но надо иметь в виду, что их этногенез имеет менее выразительный, смазанный характер. Для таких случаев нередко трудно определить границы между фазами; с некоторого момента их развитие становится еле различимым и, чтобы найти, что о нём сказать, нужно пристальное скрупулёзное всматривание.
Протекание процесса этногенеза определяется взаимодействием двух энергий – энергии этнического поля и витальной энергии индивидов этнического коллектива. Этническое поле оказывает силовое действие на людей, вовлекая их в исторический процесс для реализации некоторого идеального содержания. Данный процесс работает на витальной энергии индивидов этноса, которую этнос эксплуатирует и истощает. Но для самих людей такая эксплуатация не является чуждой, ведь взамен они получают уверенность и утверждённость в своём историческом бытии, что равнозначно мощному притоку энергии более высокого порядка. Этническое поле с одной стороны служит источником энергии для индивидов этноса, с другой – требует затраты витальной энергии на этническую организацию. Оно и даёт и забирает, и в процессе своего существования как бы преобразует для своих этнических индивидов энергию низшего порядка – в более высшую.
В плане же витальной энергетики, благодаря прочной организации этнического коллектива, этнос делает возможным захват витальной энергии вовне. Это поддерживает витальные силы этнического коллектива в процессе этногенеза, пока напряжённость этнического поля достаточно велика. В разгар этногенеза происходит как бы смена источника витальной энергии (вернее, смена акцента) с внутреннего на внешний. С угасанием этноса происходит возвращение на круги своя, переориентация с внешнего на внутренний.
Глава 19 Антисистема в этносе
Последние главы своего трактата Л. Гумилёв посвятил рассмотрению понятия антисистемы. И надо сказать, прежде всего, что сама постановка данной проблемы, независимо от того, насколько ему удалось её решить, есть большое достижение.
По Гумилёву, «антисистема – это системная целость людей с негативным мироощущением»[30]. В качестве примеров таких «негативных систем» им приводятся различные религиозные и философские учения и секты на их основе: манихеи, павликиане, богумилы, альбигойцы, карматы, исмаилиты, гностики, некоторые течения буддизма, экзистенциализм. В основе всех этих и других, подобных им, учений лежит, как считал Гумилёв, негативное отношение к реальному существованию. Почти всем им присуща дуалистическая доктрина: в мире вечно противостоят друг другу два начала – зло и добро; добро отождествляется с духом, зло – с материей и всем материальным. А раз так, то разрушение, уничтожение окружающего мира, который всецело материален, – дело благое. В человеке сочетаются оба начала: доброе – душа и злое – материальное тело. Человеческая жизнь – это мучение души, заключённой в материальную оболочку, страдание. Спасение от страданий жизни в том, чтобы отделить дух от материи и таким образом прекратить существование, умереть. Смерть в таких учениях воспринималась положительно, как средство спасения, так что по сути своей они были в полном смысле слова жизнененавистническими.
Легко понять, что все материально-нравственные критерии и ориентиры здесь сдвигаются и приходят в хаос. Ведь «раз не существует реальной жизни, которая рассматривается либо как иллюзия (тантризм), либо как мираж в зеркальном отражении (исмаилизм), либо как творение сатаны (манихейство), то некого жалеть – ведь объекта жалости нет; и незачем жалеть – бога не признают, значит, не перед кем держать отчёт, и нельзя жалеть, потому что это значит продлевать мнимые, но болезненные страдания существа, которое на самом деле призрачно. А если так, то при отсутствии объекта ложь равна истине, и можно в своих целях использовать ту и другую»[31]. Добавлю, что если в подобной системе всё-таки присутствует бог, то она производит ужаснейшее лицемерие и фарисейство.
И действительно, проповедники негативных систем нередко практиковали и оправдывали убийство, ложь, разврат. Но дело даже не в этом. Для подобных учений «ложь как принцип существования» неизбежна. Ведь если в основе лежит ненависть к существованию, то единственно честный способ поведения – возможно скорее это существование, т. е. своё собственное личное существование, прекратить. А между тем они не только не спешат этого делать, но и вербуют новых приверженцев, всячески распространяют своё влияние и власть, – стремятся к усилению и процветанию, к тому самому существованию, отвергаемому ими в теории.
В итоге антисистемные общности обращаются в подлинные чёрные дыры в этнических системах, в пределах которых они существуют. Люди, входящие в них, будучи порождёнными и вскормленными своим народом и всем в жизни ему обязанные, ничего не дают взамен, паразитируют на своём этносе да вдобавок ненавидят его и всячески ему вредят. Антисистемы паразитируют на этническом организме и с его смертью умирают сами.
Такова, вкратце, суть гумилёвской концепции антисистем, положения которой нами в целом разделяются. Но феномен антисистемы гораздо серьёзнее и универсальнее, чем это представлялось Гумилёву. Как этнос есть некая самостоятельно существующая структура, в отличие от коллектива людей, объединённых этнической связью на его основе; так и антисистема является самостоятельной структурой, на основе которой возникают антисистемные общности людей. Антисистема противостоит этносу, как негативная общность противостоит этнической общности.
Подумаем вот о чём, – вспомним, что в ходе обскурационного процесса напряжённость этнического поля постепенно падает, этническая энергия рассеивается и исчезает. А почему, собственно, это происходит? И куда исчезает энергия этноса? Для Гумилёва здесь вопроса не было. Ведь он отождествлял этническую энергию с энергией жизнедеятельности: «Этногенез – инерционный процесс, где первоначальный заряд энергии расходуется вследствие сопротивления среды»[32]. То есть энергия этноса, по его мнению, расходуется в процессе жизнедеятельности организмов. Но мы знаем, что в процессе жизнедеятельности расходуется только витальная энергия, а не энергия этнического поля. Почему же такие поля не существуют вечно?
Сказать, что пассионарность рассеивается, «кристаллизуясь в памятниках культуры и искусства», означает лишь изящный литературный оборот, не проясняющий сути дела. Если энергия этнического поля исчезает, то причиной этого может служить только структура того же порядка, но иной природы. И если на этническом коллективе людей паразитирует антисистемный коллектив, то на этносе паразитирует антисистема как таковая. На основе вышеизложенного мы имеем право предположить, что этническая энергия поглощается антисистемой, являющейся для этноса той средой, сопротивление которой он преодолевает. Антисистема – это тот «вакуум», та «бездна», где пропадает энергия этнического поля. С момента своего появления этническое поле начинает бороться с антисистемой, существует некоторое время, сначала нарастая, а затем ослабевая, и исчезает, истратив всю свою энергию; уступает место на фронте борьбы с пустотой новому этносу.
Таким образом, антисистема в этносе – феномен глобальный, а не случайный продукт этнического контакта. Обскурационный процесс – следствие действия антисистемы против этноса. Обскурационное сознание – продукт её деятельности в человеческом обществе. Антисистема находит выражение через идеологии и коллективы людей, объединённых на их основе. Общая черта этих идеологий – негативное отношение к существованию: иногда – к существованию вообще, но всегда – к историческому существованию.
Антисистема творит своё разрушительное дело в каждой этнической системе. Так что положение Гумилёва о том, что антисистемные общности возникают в зоне этнического контакта, теряет свою силу: они могут возникнуть где угодно. Зоны контакта в этом смысле могут иметь значение лишь как регионы наиболее активного протекания этногенетического процесса с постоянным столкновением разнородных элементов и ускоренной этнической аннигиляцией при их несовместимости.
Если использовать известную антитезу Шпенглера, то этнос можно отождествить с культурой, а антисистему – с цивилизацией. Чем дальше заходит обскурационный процесс, тем меньше в этносе культуры и тем больше цивилизации. Ещё когда мы рассматривали социокультурные условия этногенеза, то отмечали враждебность всякого цивилизованного общества этногенезу. Мы отметили тот факт, что на цивилизованной территории новые этносы практически не возникают, а существующие слабеют и исчезают. Цивилизация словно пожирает этносы, оказавшиеся на её территории. Мы тогда предположили, что этнические поля новорождённых этносов разрушаются более сильным этническим полем этноса-старожила. Но данная гипотеза недостаточна. Если она ещё приемлемо объясняла прекращение нового этногенеза, то совершенно неясно, почему быстро слабеет этнос – создатель цивилизации. Концепция антисистемы позволяет прояснить дело. Прекращение нового этногенеза в границах цивилизации – результат воздействия антисистемы, враждебной всякому этногенезу. Она пожирает систему старого этноса, а на закуску обламывает едва появившиеся молодые побеги этногенеза нового. Едва появившиеся и ещё не окрепшие этнические коллективы сразу же оказываются под воздействием антисистемных общностей, укоренившихся и выросших в рамках старой этнической структуры.
Вполне очевидно, что основной контингент антисистемных общностей составляют обскуранты. Человек с потемнённым этническим сознанием теряет живую связь с миром, с людьми, его окружающими, с природой, со своей страной и народом. Окружающий мир становится для него источником угрозы, враждебной территорией. Для обскуранта естественно относиться к нему негативно. Все стремления обскуранта сосредоточены на том, чтобы по возможности избежать страдания и приобрести возможно больше чувственного наслаждения (утилитаризм! – возник в обскурационной фазе европейского этногенеза) или более умеренной его формы – комфорта. Понятно, что среди людей такого склада негативные идеологии находят благоприятную среду. Но и низковитальные пассионарии нередко попадают в тенета негативных систем. Ведь в соответствии с принципом лжи негативные идеологии проповедуют совсем не то, чем они являются на самом деле. Вряд ли кого-то соблазнят лозунги типа «Да здравствует чёрная дыра!», «Даёшь царство пустоты, мрака и нечеловеческого холода!», «Вперёд к абсолютному одиночеству!». – Нет. Негативные общности провозглашают: «Да здравствует свобода!», «Свобода, равенство, братство!». Они проповедуют «справедливость», учат «истине» и обещают «спасение». Такие и многие другие лживые приманки используют антисистемы, чтобы втянуть в себя энергию пассионариев, использовать её в своих целях. И немало людей соблазняются. Это особенно трагичный случай, когда пассионарий буквально сгорает, принося себя в жертву на чёрном алтаре негативной веры, антисистемной утопии. Так, немало пассионарных личностей затянуло в водоворот террора в русском народовольческом движении.
Приводимые Гумилёвым антисистемные общности являются только верхушкой айсберга. Негативные идеологии появляются в кризисные моменты истории, когда людям особенно худо и для обскуранта акцент смещается с комфорта к бегству от страдания. Именно так возникли все эти манихеи, богумилы, павликиане… Но бывают периоды стабильные и спокойные, когда обскуранту живётся в целом неплохо, – тогда он может проповедовать, к примеру, «наибольшее счастье для наибольшего числа людей».
Большинство обскурантов, разумеется, вовсе не обременены какой-либо идеологией, если не считать за таковую лозунг «Хлеба и зрелищ!». И тем не менее они составляли определённые общности антисистемного типа. Прежде всего, это, конечно, «мировые города», переполненные обскурантской массой. Для обскурантов естественно скапливаться там, где можно прожить, прилагая минимум усилий. Олицетворением таких городов является Древний Рим. Город, наполненный массой люмпенов-паразитов, ничего не делавших, но пожиравших огромное количество продовольствия. Многие тысячи египетских феллахов гнули спины, чтобы прокормить эту прожорливую толпу. Огромные средства шли на устройство для неё зрелищ. Удивительно, но и всесильные императоры должны были с ней считаться. Если запросы люмпенов не удовлетворялись, они тут же демонстрировали силу своей многочисленности и организации. Вследствие близости к центру власти волнения и беспорядки этой толпы были весьма опасны. Императоры избавились от её влияния, только перенеся свою столицу из Рима – подальше, на Восток. Но и в Константинополе скоро образовалась своя толпа люмпенов.
Да и в других более или менее крупных античных городах было то же самое. Все они были набиты паразитами: паразитами-люмпенами и паразитами-собственниками, рабовладельцами и землевладельцами; паразитами-интеллигентами, пресмыкавшимися в богатых домах. Всех их, независимо от социального положения, объединяло одно – психология потребительства. Они изысканно жрали и сладко пили (перечитайте Петрония, Апулея и Лукиана); наслаждались и грубым развратом, и продуктами античной культуры. Несмотря на имперский деспотизм, их умонастроение было радужно и оптимистично. Всё это цивилизованное свинство покоилось на рабском труде. Честное слово, испытываешь глубокое удовлетворение, глядя, как варвары сокрушают этот цивилизованный бедлам.
Таким образом, негативные системы в этногенезе – это не только негативные идеологии. Последние – лишь тонкая плёнка, идеологи своего общества. В форме сект негативные образования существуют лишь там, где этносы ещё достаточно сильны, чтобы ограничить их рост, а то и уничтожить (как это произошло с альбигойцами и павликианами). В конце этногенеза антисистемные сообщества разрастаются в сложные социальные системы, существующие в рамках цивилизации и паразитирующие на последних остатках энергии своего этноса. Или пытаясь эксплуатировать энергию других этносов путём силового захвата либо распространяя на них влияние своей цивилизации.
Старые цивилизации всегда подпитывались энергией с варварской периферии. Оттуда шёл поток рабов, покрывавший нехватку рабочей силы в цивилизованной экономике. Поскольку масса обскурантов даёт мало хороших солдат, то цивилизованные империи вынуждены были обращаться к услугам варваров для собственной защиты. Рим в больших количествах нанимал варварские отряды. А из числа его собственных граждан в армии служили в основном фракийцы, иллирийцы, галлы, а не разложившиеся италики. Также эксплуатировал энергию варваров и Китай. Расцветы китайской цивилизации следовали за установлением политической централизации. А эту централизацию Китаю давали новые этносы, возникавшие на его варварской периферии, – чжоусцы, цинцы, тобгачи, маньчжуры. Отдав свою энергию китайской суперсистеме, они бесследно в ней растворялись, а система ввергалась в очередной кризис, пока не подключалась к новому внешнему источнику питания.
Когда же источник этнической энергии исчерпан, негативная система неизбежно гибнет, ибо, будучи паразитической структурой, не способна к самостоятельному существованию. И в этом оптимистическая сторона процесса. По мере ослабления старой этнической системы цивилизация её приходит в упадок. Возможности паразитизма для антисистемы уменьшаются, – с упадком цивилизации слабеет и она. В таком положении негативная система легко может быть опрокинута и уничтожена новым этническим толчком, новым этногенезом, который вновь утвердит существование мира.
Часть вторая Этногенез в истории и политике
Глава 1 Экспансия
В предыдущем рассмотрении процесса этногенеза постоянно фигурировало одно интересное явление, важность которого невозможно переоценить. Речь идёт о феномене экспансии этноса. Он наблюдается на всём протяжении этногенеза, за исключением короткого отрезка начала фазы подъёма, в которой происходит концентрация в месте рождения. Этнос находится в состоянии экспансии всё время, пока он ведёт мало-мальски активное историческое существование: он либо прямо осуществляет её, либо более или менее стремится к её осуществлению, но сдерживается в своём стремлении неблагоприятными внешними условиями.
Мы уже немало говорили об экспансии по ходу дела, но из-за своей важности эта тема нуждается в некотором обобщении. Поскольку этнос постоянно стремится к экспансии, значит, она жизненно важна для него. Все народы, оставившие заметный политический и культурный след в истории, осуществляли её в широких масштабах. Те же этносы, кому она не удалась, рано сошли с исторической сцены или были на ней статистами.
Экспансия необходимое условие развития этнической системы. Она имеет для существования этноса столь важное значение, что впору вслед за Сесилом Родсом воскликнуть: «Экспансия – это всё!»
На вопрос о причинах теория этногенеза даёт однозначный ответ – главной причиной этнической экспансии является истощение энергетических и природных ресурсов в процессе этногенеза, стремление восполнить убыток. Во-первых, появление сильного этнического поля после толчка воздействует на индивидов этноса в направлении повышения их жизненной активности. Под воздействием напряжённого этнического поля люди становятся более деятельны, совершают больше работы и тратят больше энергии, чем расходовали раньше, – когда этническое напряжение отсутствовало и они вели внеисторическое растительное существование. В процессе активизированной деятельности они быстро истощают потенциальные резервы витальной энергии, и витальность этноса понижается. Экспансия позволяет поднять витальность этноса двумя путями – через включение в этнический коллектив более витальных иноплеменников и через расселение этнических старожилов на новых территориях, за счёт ресурсов которых они могут восстановить свою истощённую энергетику. Уровень витальной энергии всегда выше на периферии: в провинциях – а не в центре, в деревне – а не в городе.
Во-вторых, активизация жизнедеятельности и повышение потребностей с началом процесса этногенеза приводит к усиленной эксплуатации природных ресурсов территории место-развития этноса. До начала нового этногенеза люди жили в равновесии с природной средой, – теперь они берут из неё больше, чем она может восполнить. Такой характер использования приводит к истощению восстанавливаемых и исчерпанию невосстановимых природных ресурсов. Острая необходимость в притоке новых ресурсов – вторая важная причина экспансии. Методы при этом используются самые разнообразные: если ранее главным методом был территориальный захват, то теперь в ходу, главным образом, методы идеологические, экономические, информационные, культурные – всё это, разумеется, при силовой поддержке.
В-третьих, обскурационный процесс приводит к оскудению пассионарности этноса, т. е. добровольной активной деятельности и жертвенности этнического плана. Когда этнос вовлекает в своё поле новые людские массы, некоторая часть из этих новичков становится пассионариями и пополняет пассионарную элиту этноса.
Всё это, вместе взятое, позволяет этносу за счёт внешних источников укреплять свои силы и сбрасывать внутреннее напряжение. И чем успешнее решаются эти проблемы, тем более процветающее существование ведёт этнос. Для нормального развития и процветания этносу необходимы стабильность и внутренний мир. Экспансия – средство их достижения.
Особенно отчётливо связь между внешней экспансией и внутренней стабильностью проявляется в истории английского этноса. Поэтому есть резон дать здесь краткий очерк этой истории.
Английский этнос возник на субстрате из англосаксов и скандинавов на рубеже X–XI веков. Опустим первые два столетия его подъёма, так как они не имеют отношения к нашей теме. В XIII веке этнический подъём в Англии становится явно заметен. Бурный рост населения увеличил его численность в 2,5–3 раза. Во многих районах страны стал ощутим земельный голод, возросли цены на землю. Активно росли города. В связи с ростом населения и возросшей хозяйственной активностью происходила широкая внутренняя колонизация, расчищались леса и пустоши, осушались болота.
На стадии подъёма английский этнос в политическом отношении находился под властью державы Плантагенетов – «Анжуйской империи». Другую часть данной империи составляла добрая половина Франции – родовые земли английских королей и земли, присоединённые ими путём династического брака. Пребывание в составе Анжуйской империи было благоприятно для развития английского этноса. Король и его двор получали значительную часть своих доходов из Франции, а это ослабляло налоговое давление на английское население.
Но поднимающийся по другую сторону Ла-Манша французский этнос развернул экспансию на территории Анжуйской империи. К середине XIII века английские короли потеряли почти все свои французские владения и поступавшие оттуда доходы. И сделали попытку компенсировать эти потери увеличением поборов с Англии. Это вызвало серьёзный кризис уже в правление Иоанна Безземельного. При Генрихе III постоянные поборы и вымогательства, расточительная щедрость по адресу своих родственников и фаворитов привели к восстанию баронов. Они собрались в Оксфорде и выработали программу, прямо устанавливающую режим баронской олигархии. Отныне центральная власть должна была находиться под контролем баронов. Однако это совсем не понравилось рыцарям. Они обвинили баронов в том, что те «ничего не сделали на пользу государству, как обещали, и имеют в виду только собственную выгоду». Рыцари съехались в Вестминстер и выдвинули собственные требования. Часть баронов во главе с Симоном де Монфором присоединилась к рыцарям. Обе партии вступили в противоборство, а король отказался выполнять требования как тех, так и других. Началась гражданская война. В 1264 году Монфор разгромил королевское войско при Льюисе. В следующем году он впервые созвал собрание, на которое кроме баронов пригласил по два рыцаря от каждого графства и по два горожанина от крупных городов, – так родился английский парламент. Между тем социальный конфликт ширился. Массы крестьян стали громить усадьбы знати. Испуганные феодалы быстро перешли на сторону короля и сплотились вокруг него. Монфор потерпел поражение и погиб. Вскоре было подавлено последнее сопротивление его сторонников.
Перед нами картина острого социального кризиса, свидетельствующая о том, что английский этнос вступал в фазу надлома. После урегулирования кризиса тяга этноса к экспансии явно увеличивается. В первой половине 80-х годов XIII века был покорён Уэльс. Захваченные земли разделили между английскими баронами. Вскоре началось завоевание Шотландии. Но там дело продвигалось туго, шотландцы оказывали сильное сопротивление. Король Эдуард I разбил шотландское войско и провозгласил себя шотландским королём, но вскоре вспыхнуло восстание под предводительством Уоллеса. Война затянулась. Шотландия была вновь завоёвана к 1307 году, но, несмотря на гибель Уоллеса, сопротивление продолжалось. Новый король Шотландии Роберт Брюс наголову разгромил английское войско в битве при Баннокберне (1314). Следствием этого поражения было признание Англией независимости Шотландии.
Неудачи внешней экспансии вызвали внутренний кризис. В ходе ожесточённой гражданской войны король взял верх над мятежниками, но уже через пять лет в результате заговора был свергнут и убит. Ещё через три года были свергнуты захватившие власть регенты, и на престол вступил Эдуард III, который немедленно возобновил завоевание Шотландии. Несмотря на некоторые успехи, направление экспансии вскоре сменилось, – Эдуард III выдвинул претензию на престол Франции. Богатая Франция обещала гораздо больше выгоды, чем северная гористая Шотландия. Во Франции англичане неожиданно добились большого успеха, разгромив цвет французского рыцарства при Креси и Пуатье.
Тем временем в состоянии английского этноса произошли значительные перемены. Прирост населения существенно замедлился. Характерной чертой времени было, что спрос на наёмный труд в сельском хозяйстве стал превышать его предложение, несмотря на продолжающийся процесс личного освобождения крестьянства. Это означает, что хозяйство страны гораздо быстрее поглощало силы народа, чем они восстанавливались естественным путём. В это же время заметен большой прилив населения в города и на север. Крестьяне уходили в леса и горы севера, где жизнь была вольнее, куда труднее было дотянуться хищным феодалам и королевским чиновникам. Все перечисленные факты говорят о явном падении витальности английского этноса. В 1348 году разразилась эпидемия чумы, унёсшая не менее трети населения. Видимо, столь большая смертность была следствием того, что эпидемия пришлась именно на период глубокого витального упадка.
Большая убыль населения резко повысила спрос на рабочие руки и заработную плату. Но «рабочее законодательство» короля, вышедшее сразу после эпидемии и подтверждённое несколько раз за вторую половину века, предписывало работникам наниматься за ту же плату, которая существовала до чумы. В хозяйствах феодалов восстанавливалась барщина. К тому же резко усилился налоговый гнёт. Война во Франции потребовала от английского народа больших жертв, если не человеческих, то финансовых. Содержание на континенте в течение многих лет армии в несколько десятков тысяч человек было тяжким бременем для англичан. Усиление эксплуатации привело к нарастанию волнений среди крестьян. Усилилось их бегство в леса. Именно в это время появляются знаменитые вольные стрелки, сказания о народном герое Робин Гуде. Для полноты картины следует упомянуть начавшееся движение за реформу церкви. Джон Виклиф выдвигает протестантскую антипапскую программу. Бедные священники лолларды вели уравнительную пропаганду в народной среде.
Некоторое время развитие кризиса сдерживалось успехами англичан во Франции. Но французы вскоре оправились и под руководством коннетабля Бертрана дю Геклена вытеснили англичан из своей страны. К 1380 году от всех английских владений во Франции остались лишь пять портов с клочками прилегающей территории. Провал экспансии в период надлома обычно вызывает острый внутренний кризис. И он не замедлил себя ждать. В 1381 году произошло крупнейшее крестьянское восстание во главе с Уотом Тайлером. Главным требованием крестьян была отмена личной зависимости, барщины, «рабочих законов». Восстание было подавлено, но требования крестьян частично удовлетворены. После смерти Эдуарда III в 1377 году центральная власть стала игрушкой в руках баронов. В стране происходили постоянные беспорядки, мятежи, восстания. Внушительно выглядит перечень только самых крупных: «восстание лордов-апеллянтов», разгромивших короля в 1387 году; свержение короля Ричарда II в 1399-м, мятеж сторонников Ричарда II (1400), восстание в Уэльсе 1402–1409 годов, мятежи северных баронов во главе с семейством Перси 1403–1408 годов, восстание лоллардов 1413–1414 годов.
Выйти из смутного периода позволил только новый успех внешней экспансии. В 1415 году Генрих VI разгромил французов при Азенкуре (битва-близнец сражения при Креси), а затем овладел Северной Францией. Но Орлеанская дева отстояла от англичан Орлеан, после чего они быстро утратили все свои приобретения. Экспансия во Францию потерпела окончательную неудачу, в 1453 году англичан окончательно вышибли с континента.
С окончанием войны прекратились доходы английской знати и рыцарей от оплаты военных услуг, от приобретённых во Франции земель, выкупов за пленных, мародёрства. Английская военщина вынуждена была вернуться на родину, где незамедлительно вцепилась друг другу в глотки. Беспорядки в стране уже усиливались по мере английских поражений и вылились наконец в восстание Джека Кэда против политического засилья знати, налогового гнёта и произвола королевских чиновников. Повстанцы захватили и разграбили Лондон, но были выбиты из города. Король обещал им прощение, и они разошлись по домам. Но главным бедственным следствием провала экспансии стала истребительная тридцатилетняя Война Алой и Белой розы. В ходе её была истреблена большая часть знати и самого воинственного рыцарства.
В конце XV века фаза надлома завершилась. Английский этнос вступил в инерционную фазу этногенеза. Итоги фазы надлома были неутешительными: экспансия на континент полностью провалилась, английский этнос оставался в узких пределах своей островной родины. В результате Войны роз внутреннее напряжение временно спало и положение несколько стабилизировалось. Средние слои сплотились вокруг короля, и в Англии установился абсолютизм. Начался хозяйственный подъём. Но обстановка в стране оставалась достаточно напряжённой. Постоянно происходило глухое брожение, разражавшееся временами мятежами северной знати, волнениями крестьян против огораживаний, заговорами и восстаниями католиков. Чтобы поддержать порядок, правительству приходилось прибегать к драконовским мерам против беспокойных и мятежных элементов общества, вроде «кровавого законодательства» против бродяг.
В середине XVI века наметился выход из сложной внутренней ситуации. И этот выход, как и следовало ожидать, дала новая экспансия. Теперь она изменила свою форму: после провала наступления в континентальную Европу, где англичане встретили сильный отпор, они развернули морскую, колониальную и торговую экспансию. Со времени большой кораблестроительной программы Генриха VIII Англия сосредоточивает свои усилия на завоевании моря. Именно там стали добывать средства к жизни всё большее число англичан. Лишённые земли в результате огораживаний крестьяне перемещаются на палубы кораблей. Основными видами морской экспансии были создание монопольных компаний по торговле с различными регионами мира (Московская, Гвинейская, Левантийская, Ост-Индская); работорговля, контрабанда, пиратство. Основным объектом экспансии на первом этапе служила колониальная империя Испании. Английские пираты нападали на испанские корабли и порты, захватывали огромные галеоны с сокровищами Америки. Борьба с испанцами на море стала основным содержанием внешней политики Англии во второй половине XVI века. В этой борьбе она добилась немалых успехов, – можно лишь упомянуть отражение Непобедимой Армады и уничтожение испанского флота в гавани Кадиса. Вообще, именно в эту Елизаветинскую эпоху сформировалась традиционная английская политика: основные усилия прилагать для достижения господства на море, а на континент посылать лишь незначительные силы на помощь союзникам, оказывая им, главным образом, финансовую поддержку.
Однако начатая столь успешно экспансия в первой половине XVII века замедлилась. За всё это время были основаны только две-три колонии: пуританская Новая Англия, Виргиния и Барбадос. Причина крылась в политике Стюартов, симпатизировавших католической партии Европы и пренебрегавших английскими национальными интересами. Абсолютизм стал тормозом на пути дальнейшей экспансии английского этноса. В результате её приостановки напряжение в стране стало нарастать. В конце концов разразился жестокий кризис, вошедший в историю под названием Английской буржуазной революции. Эта революция покончила с абсолютизмом в Англии. Буржуазия прочно овладела властью в стране, и все препоны на пути экспансии были устранены. Уже в ходе самого кризиса она получила сильный толчок в виде программы строительства флота Кромвеля. Была ещё раз завоёвана и активно колонизовалась Ирландия, у испанцев захвачена Ямайка. В войнах с Голландией англичане отстояли статус крупной морской державы. База для дальнейшей успешной экспансии была создана. После небольшой послекризисной паузы она развернулась во всю силу уже в следующем, XVIII веке. В результате упадка Голландии у англичан оставался только один серьёзный конкурент на море и в колониях – Франция. В нескольких войнах на протяжении XVIII века он был полностью побеждён. Англия добилась безраздельного господства на море. Она овладела Канадой, вытеснила французов и голландцев из Индии, укрепила позиции в Вест-Индии, начала колонизацию Австралии, в самом конце века захватила Цейлон и Южную Африку.
Эти успехи привели к тому, что обскурационная фаза английского этноса, хоть началась рано и бурно, на всём остальном протяжении удалась на удивление тихой. За всё время XVIII–XIX веков не случилось даже крупного мятежа, не то что гражданской войны. Столетие после «славной революции» было для Англии самым спокойным и благополучным. Парламентские бури в стакане воды его почти не нарушали. Постепенно росло население. Быстрый рост колониальной торговли и экспортных отраслей промышленности давал ему необходимые жизненные ресурсы. Избыток недостаточно витального или слишком пассионарного населения уходил в колонии. Это поддерживало в стране социальную стабильность. Даже потеря североамериканских колоний не слишком сказалась на положении Англии. Они по-прежнему остались для бывшей метрополии выпускным клапаном накапливающегося социального напряжения – местом, куда могли уехать недовольные.
XIX век стал вершиной промышленного, торгового, финансового преобладания Великобритании, её морского и колониального могущества. Витальность этноса в это время уже понижалась. Явственным признаком этого стало падение конкурентоспособности английских товаров к концу века в сравнении с главными конкурентами – Америкой и Германией. Главной причиной снижения витальности была интенсивная эксплуатация английских рабочих капиталистической промышленностью. Другая важная причина – растущая нагрузка на этнос в связи с продолжением колониальной экспансии и борьбой за мировую гегемонию. По мере продвижения английская колониальная империя вошла в соприкосновение с могущественными соперниками: с Россией – в Азии, с Германией – на Ближнем Востоке, с Францией – в Африке, с США – в Латинской Америке. Обширные колониальные владения стали более уязвимы. Реальная возможность со стороны России разрушить британское господство в Индии становится навязчивым кошмаром английских империалистов. Сам факт существования колоний вызывал многочисленные пограничные конфликты. Завоевание Индии повлекло за собой афганские войны, которые принесли только геостратегические выгоды, а стоили очень дорого. Пришлось вести затяжные войны с маори, с африканскими племенами. Обеспечение коммуникаций с Индией потребовало оккупации Египта и тяжёлой войны в Судане. Колонии в Тропической Африке гораздо больше поглощали средств на содержание гарнизонов и администрации, чем давали реальной отдачи. Колониальные войны шли практически непрерывно, но большинство их приносило только славу, но не приток материальных ресурсов.
И всё же огромная империя сослужила Англии хорошую службу. Даже когда витальность в обскурационной фазе упала, Англия жила за счёт империи до наступления мемориальной фазы в начале XX века, и переход в неё не сопровождался потрясениями.
Успехи и достижения цивилизации в Англии западные историки и публицисты чаще всего склонны связывать с преимуществами либеральной системы в экономике, или парламентской системы в политике, или с особыми свойствами «лучшей в мире» английской нации. При этом остаётся в тени та выдающаяся роль, которую сыграли в подъёме Англии исключительно благоприятные возможности экспансии, обеспечившей долговременный стабильный цивилизационный рост.
Совсем иначе складываются судьбы этносов, неспособных расширить свои пределы. Германия к XV веку была одной из самых развитых и процветающих стран Европы. Бурно развивались промышленность и торговля, расцвели города, где проживала значительная часть населения страны. Германские ткани и металлоизделия славились по всей Европе. В горном деле Германия занимала ведущие позиции. Быстро росли новые отрасли – например, книгопечатание. Союз купцов Северной Германии – Ганза господствовал в посреднической торговле на Балтике. Южногерманские города богатели на торговле между Северной и Южной Европой. Англия того времени в сравнении с Германией была страной бедной и слаборазвитой.
В фазах подъёма и надлома германский этнос осуществлял экспансию в основном на юг – в Италию – и на восток. Южное направление оказалось бесплодным, на западе находилась сильная Франция, и только на востоке немцы кое-чего достигли – захватили земли полабских славян, балтийское Поморье и значительную часть Восточной Прибалтики – земли пруссов, ливов и эстов. Однако этих завоеваний для удовлетворения потребностей этноса было недостаточно. Немцы вдобавок осуществляли «мирную колонизацию», заселяя, главным образом, города Чехии, Силезии, Венгрии.
Германская этнополитическая система была слабо централизованной, – в ней доминировали провинциальные субэтносы; потому этнос не мог сконцентрировать свои весьма крупные силы и добиться большего успеха. К началу XV века немецкий «дранг нах остен» выдохся. Его главная сила – Тевтонский орден в 1410 году был разгромлен при Грюнвальде. В других восточноевропейских странах население выражало недовольство немецким засильем. Как отмечал Егер, «в течение XV столетия положение крестьянского сословия в Германии значительно ухудшилось. Возможность переселения избытка сельского населения давно уже исчерпалась, так как в Германии со времён последних Гогенштауфенов не было более свободных земель, не было и первобытных лесов, а с конца XIV века закончилась и колонизация славянских земель»[33].
Истощение ресурсов и упадок витальности делали ситуацию всё более напряжённой. XV век в Германии – время княжеских междоусобиц, рыцарского разбоя, волнений крестьян, недовольных усилением гнёта. Князья, города, рыцари, крестьяне – все боролись друг с другом за место под солнцем. Не находя выхода вовне, напряжение разряжалось кучей больших и малых междоусобиц. Порой происходили крупные потрясения – например, крестьянская война 1524–1525 годов. В период Реформации противоречивые интересы сгруппировались в противостояние двух союзов – Евангелической унии и Католической лиги. Тридцатилетняя война между ними, осложнённая вмешательством соседних держав, опустошила Германию и на долгое время повергла её в экономическое прозябание и политическое ничтожество. Германские князья подвизались на ролях второстепенных союзников в европейских коалициях. Так продолжалось до XIX века. Подъём Германии в этом веке связан с деятельностью восточногерманского (прусского) этноса, который относится к древнегерманскому, как великорусский – к древнерусскому. То была уже несколько другая история и другой этногенез.
Любопытно сравнить также развитие чешского и польского народов. Оба этих западнославянских этноса развивались в сильном этническом окружении и в стадии надлома только отбивались от внешних врагов, не помышляя об экспансии. А значит, вступили в инерционную фазу в ослабленном состоянии. Особенно плохо обстояли дела в Чехии, находившейся под сильным этническим влиянием немцев.
Дальнейшее развитие двух этносов пошло разными путями. Польше удалось повести успешную экспансию на литовско-русские земли, и её этнополитическая система серьёзно усилилась, вплоть до создания во второй половине XVI века польской империи Речи Посполитой. Чехия же, зажатая между Германией, Польшей и Венгрией, так и не смогла расшириться и поддержать этническую энергетику. Экономика процветала, а этнос падал. В XV веке началась ранняя обскурация. Гуситские войны принесли чехам громкие победы, но не ощутимые территориальные приобретения. Эти победы только отсрочили падение Чехии. После поражения в битве на Белой Горе (1620) чешский этнос погружается в «эпоху тьмы», исчезает с политической карты Европы, в то время как Польша была великой державой. Успешная экспансия дала полякам такую энергию, что впоследствии, даже утратив своё государство, поляки ещё долго проявляли политическую активность, восставая то и дело против чужеземной власти. Тогда как чехи к активной исторической жизни так и не возродились (создание национального государства на обломках Австро-Венгерской империи только формально можно считать таким возрождением).
Почему же этническая система, не сумевшая «расшириться», подвержена серьёзному ослаблению? Ведь уровень витальности так или иначе восстанавливается?
Ослабление происходит за счёт падения пассионарной напряжённости. В фазе надлома или в другом кризисном периоде значительная часть пассионариев, которые являются главными носителями этнического сознания, гибнет. Значит, на время падает способность этнической системы к самосохранению, к противодействию чужому влиянию. Если экспансия не удалась, то этносистема находится в близком контакте с посторонними сильными этносами. В период резкого снижения пассионарности разрушительное влияние чужого этнического поля усиливается, ресурсы этноса используются в чуждых интересах. Обскуранты, не встречая сильного пассионарного отпора, пожирают этнос изнутри, иноэтническое окружение – извне. В это время идёт широкое заимствование элементов чужой культуры, иностранное влияние проникает во все поры этносоциального организма. Так Чехия после фазы надлома подверглась усиленной немецкой колонизации. Немцы заселили города и образовали в них господствующий класс населения.
На льготных условиях они колонизовали свободные земли, наводнили чешскую церковь. Этнические обскуранты в такой период легко подпадают под чужеродное влияние и ассимилируются. Например, чешская знать перешла на немецкий язык и обычаи, а древнерусские князья и бояре Малой Руси (Украины) были ополячены.
Но если страна всё же сохранила политическую цельность, то со временем ситуация несколько выправляется. По прошествии некоторого времени появляется новое поколение пассионариев, которое даёт отпор иноэтническому влиянию и засилью чужеземцев. Хуже бывает при разгроме и расчленении страны. В этом случае этнос теряет цельность, резко слабеет и нередко переходит на положение субстрата для нового этногенеза.
Существует и другой способ увеличения массы материальных ресурсов этноса, альтернативный территориальному расширению, – это прогрессивное развитие производительных сил, совершенствование хозяйственной и социальной систем, производственной техники. Однако путь инновационного творчества гораздо сложнее, чем простое расширение. Поэтому прежде всего всегда стремятся использовать возможности экспансии и лишь по исчерпании таковых обращаются к усовершенствованию существующего порядка.
Бывает, что два способа решения внутренних проблем этноса чередуются: потерпев неудачу в экспансии, этнос творчески осваивает более высокую ступень цивилизационно-технического развития, что приносит временное удовлетворение его нужд; затем, используя новые материальные и технические возможности, он вновь обращается к экспансии и ведёт её уже гораздо более успешно.
Легко заметить, что примером подобного развития может служить опять-таки английская история. Англичане потерпели неудачу в своей экспансии на Европейский континент в Средние века. Вынужденно стеснённые на своём острове, они выработали передовую техническую цивилизацию, средствами которой впоследствии создали огромную колониальную империю.
Глава 2 Экспансия и обскурационный процесс
Прежде мы уже выяснили зависимость степени интенсивности экспансии от той или другой фазы этногенеза. Теперь нужно сказать несколько слов о связи между темпом экспансии и обскурационным процессом.
Обскурационный процесс проявляется в ослаблении этнического сознания, во всё нарастающем числе обскурантов. Каким образом это сказывается на поведении этноса? Без сомнения, прогрессирование обскурационного процесса усиливает тягу этноса к экспансии. Для реализации этнического содержания, для повседневной жизнедеятельности этнического коллектива требуются постоянные затраты витальной энергии. Эти затраты со стороны индивидов этноса могут быть либо добровольными, либо принудительными. То, что пассионарий отдаёт этносу добровольно, обскурант отдавать отнюдь не склонен. Чем больше обскурантов, тем меньше ресурсов в распоряжении этноса. В данной ситуации этническая система может получить необходимые ресурсы двумя способами: через ужесточение внутреннего режима, что быстро истощает витальность этноса и усиливает внутреннее напряжение; так что предпочтительнее второй способ – захват ресурсов во внешнем мире.
Всё это достаточно просто. Но подобрать примеры, доказывающие вышеизложенные теоретические выкладки, труднее. Ведь «хотеть» и «мочь» – разные вещи. Одно дело – испытывать потребность в расширении, другое – быть в состоянии эту потребность реализовать. Силы этноса слабеют по мере того, как тяга к расширению усиливается. Внешние условия могут воспрепятствовать этносу осуществить своё стремление (примеров тому уже разобрано достаточно). По счастью, пример, доказывающий наше утверждение, у нас перед глазами. У европейских народов в фазе обскурации было столь подавляющее техническое превосходство над другими народами, что они имели все возможности для успешной экспансии. И они не преминули воспользоваться своими возможностями. Наиболее показателен здесь пример всё той же Англии.
После некоторых важных приобретений на рубеже XVIII–XIX веков, в пору борьбы с Наполеоном, в первой половине XIX века англичане постепенно завоевали Индию. В середине века Англия вступила в заключительную стадию фазы обскурации, – колониальная гонка только взвинтила темп. Приведу без комментариев лишь список (неполный) важнейших колониальных войн и аннексий Англии за середину – вторую половину XIX века:
1839 – захват Адена.
1839–1842 – Первая Афганская война.
1840–1842 – Первая опиумная война. Захват Гонконга.
1843 – захвачен Синд.
1843–1848 – Первая Маорийская война (Новая Зеландия).
1845–1849 – война с сикхами. Покорён Пенджаб.
1850–1878 – Кафрские войны.
1852–1853 – Вторая Бирманская война.
1856–1860 – Вторая опиумная война.
1857–1859 – народное восстание в Индии.
1860–1870 – Вторая Маорийская война.
1865 – Бутанская война.
1873–1874 – Вторая Ашантийская война.
1877 – аннексия Трансвааля.
1878–1880 – Вторая Афганская война.
1879 – война с зулусами.
1880–1881 – первая война с бурами.
1882 – оккупация Египта.
1884 – Британское Сомали.
1885 – новые колонии в Африке – Нигерия и Бечуаналенд. 1885–1895 – Третья Бирманская война (оккупация всей Бирмы).
1888–1891 – захват Южной и Северной Родезии. 1890 – протекторат над Кенией и Занзибаром.
1893 – протекторат над Угандой.
1893–1896 – Третья и Четвёртая Ашантийские войны.
1896–1898 – завоевание Судана.
1897–1899 – завоевание Северной Нигерии.
1899–1902 – Англо-бурская война.
По мере возможности поспешали и другие европейские страны. Французы захватили Индокитай и почти всю Сахару. Даже итальянцы оттяпали себе пустынные степи Сомали и ливийские пески. Полная непригодность таких колоний для практической эксплуатации показывает, что экспансия руководилась не рациональным расчётом, а каким-то безотчётным чувством. То была судорожная попытка умирающего организма цепляться за жизнь. Колониальная экспансия была просто бегством от обскурации, от погружения в сумерки этнического маразма.
То, что по мере дальнейшего развития обскурационного процесса в мемориальной фазе экспансия этноса прекращается, не противоречит нашему выводу. В заключительной фазе этногенеза проводить территориальную экспансию не позволяет уже внутреннее состояние этноса. Значительно понизившееся этническое напряжение делает систему недостаточно сильной и выносливой для такой деятельности. Этнос может предпринимать успешные локальные акции, но не способен к длительной борьбе. Так, англичане растеряли в XX веке всю свою огромную колониальную империю, однако смогли выиграть Фолклендскую войну.
В заключение, с учётом вышеизложенного, можно сформулировать закон, связывающий понятия стабильности этносистемы, экспансии и обскурационного процесса: если в процессе этногенеза темп экспансии не уступает темпу обскурационного процесса, то социально-политическая система этноса пребывает в состоянии внутренней стабильности.
Проиллюстрировать этот закон достаточно просто. В Англии в фазах надлома и инерции экспансия отставала от темпа обскурации, и в данный период произошли все значительные внутренние потрясения британской истории. На выходе из фазы инерции экспансия стала опережать темп обскурации, и это предопределило мирное развитие Англии на протяжении последующего времени. Французы достигли опережения экспансией обскурационного процесса только к концу фазы обскурации, поэтому их история наполнена восстаниями, революциями, гражданскими войнами до последней трети XIX века.
Глава 3 Циклы витальности в истории
Существование народов, государств, цивилизаций всегда подразделялось историографами на периоды «расцвета» и «упадка». Под «расцветом» традиционно понимался подъём экономики и культуры, обеспечиваемый стабильным функционированием сложной социально-политической системы. «Упадок» означал обратное: внутрисоциальные катаклизмы, часто политический распад, деградацию культуры (уменьшение производства предметов искусства и их примитивизацию, исчезновение некоторых видов культурного творчества) и экономики (падение производства, натурализация хозяйства, упадок торговли и товарно-денежных отношений, исчезновение сложноорганизованных специализированных предприятий). Всё это нередко сопровождалось стихийными бедствиями, уносившими множество жизней, так что численность населения серьёзно сокращалась.
Периоды расцвета и упадка в истории чередуются, следуют один за другим. Наиболее явно эта смена заметна в древних цивилизациях с длительной непрерывной историей существования. Рассмотрим два примера таких цивилизаций.
Время жизни египетской цивилизации насчитывает около трёх тысячелетий. Первый период египетского расцвета – Древнее царство. Цари Верхнего Египта захватили Дельту и объединили страну Кемет – «Чёрная», как называли её египтяне по цвету вспаханной почвы Нильской долины. Примерно в то же время возникла иероглифическая письменность. Политическое объединение страны позволило создать единую ирригационную систему на всём протяжении долины реки. Теперь можно было рационально распределять воду, что повышало урожаи. На границе Верхнего и Нижнего Египта была пышно отстроена столица – Мемфис («Белые стены»). Третья и четвёртая царские династии – время монументального строительства. В этот период возведены гигантские пирамиды Джосера, Хеопса, Хефрена – самые величественные символы египетской культуры. Но пирамиды следующей V династии уже очень скромны. И по мере того как понижались пирамиды царей, гробницы правителей областей-номов становились всё более роскошными. Власть мемфисских царей слабеет, их ресурсы скудеют. Борьба номархов за независимость от центра приводит к распаду страны. Наступает пора упадка (Первый Переходный период). Его основные черты – политическая раздробленность, борьба между номами, социальные потрясения, упадок ирригационной системы. Памятники времён VII–X династий полны сообщений о годах голода, о заброшенных пашнях, обезлюдении. Соседние варвары – ливийцы и азиаты вторгаются в незащищённую Дельту.
По прошествии 200 лет Фивам удаётся объединить страну. Наступил новый расцвет – эпоха Среднего царства. Хозяйство страны было восстановлено. Фараоны XII династии предприняли грандиозные ирригационные работы в районе Фаюмского оазиса, который стал новой житницей Египта. Вновь воздвигаются величественные заупокойные храмы, пирамиды (хотя и сравнительно небольшие), был построен знаменитый Лабиринт (поминальный храм Аменемхета III). Вновь активно разрабатываются месторождения металлов и камня. Возобновляются внешние связи Египта: торговля с финикийцами, с Критом, плавания в страну Пунт. Египтяне строго охраняют свои границы и совершают походы в сопредельные страны. Среднее царство – период расцвета разнообразного художественного творчества и литературы.
Период Среднего царства продлился 300 лет, и на смену ему пришёл Второй Переходный период – смутная эпоха, о которой мало что известно. Внутренние беспорядки сменились иноземным вторжением. Кочевники-семиты от набегов перешли к захватам и укрепились на севере страны. Отсюда они совершали набеги на ю г, убивая, грабя, уводя в рабство людей, сжигая города и храмы. Естественно, все эти события сопровождались хозяйственной разрухой. Инициативу в возрождении страны вновь взяли на себя Фивы. Они освободили Египет от захватчиков, что положило начало третьему великому расцвету египетской цивилизации.
Новое царство явилось третьим и последним расцветом Древнего Египта. В этот период была создана великая Египетская империя. Фараоны покорили Нубию, Сирию, Палестину. Владения Египетской державы простирались от Евфрата до Судана. В Египет из покорённых и зависимых стран потоком шли разнообразные ценности: золото Нубии, азиатское серебро, ливанский кедр, благовония, экзотические растения и животные, металлы, рабы, скот. Подъём хозяйства вызвал огромную потребность в рабочей силе, которая во многом удовлетворялась за счёт порабощённых иноземцев. Возрождается грандиозная строительная деятельность, для которой добывалось небывалое количество песчаника в каменоломнях окрестных гор. Из многочисленных грандиозных памятников того времени достаточно упомянуть Карнакский и Луксорский комплексы, «колоссы Мемнона», Абу-Симбел. Сооружён был канал, связавший восточный рукав Нила с Красным морем.
После нескольких столетий процветания последовал упадок, симптомы которого были всё те же: ослабление центральной власти при усилении местного жречества, нарастание внутренних беспорядков, хозяйничанье иноземцев, обеднение культуры, прекращение крупного строительства. В конце 2-го тысячелетия до н. э. страна вновь распадается. Последнее тысячелетие её существования – время постепенного угасания великой культуры.
Обратимся теперь к временам более близким и лучше известным. Итак, ханьский Китай. В конце III века до н. э. народное восстание свергло империю Цинь. Один из предводителей восстания, бывший сельский староста Лю Бан, основал новую династию Хань. Новый император облегчил положение простого народа. В следующем столетии в Китае наблюдался хозяйственный подъём. Сооружались крупные каналы, плотины, дамбы, водохранилища. Интенсивно развивались ремесло и торговля, денежное обращение. Укрепился административный аппарат. К началу I века до н. э. было создано сильное централизованное государство. Монополии на монету, железо, соль, вино, регулирование торговых операций позволили значительно увеличить государственные доходы. Была создана сильная армия и развёрнута активная внешняя экспансия. На рубеже II–I веков до н. э. хунну и тибетцы разбиты и отброшены от границ империи; завоёваны Западный край, территории Южного Китая, покорены Северная Корея и Фергана. Открылся Великий шёлковый путь на Запад. Сыма Цянь писал, что караваны, отправлявшиеся в Давань (Фергана), были столь многочисленны, что «один не выпускал из виду другого».
Расцвет оказался кратковременным. Военная мощь быстро ослабла. После смерти великого императора У-ди (87 до н. э.) за весь I век до н. э. состоялся только один крупный поход – в Согдиану. Хунну подчиняют себе Западный край и перерезают торговые пути в Среднюю Азию. В хозяйстве страны наблюдалась быстрая концентрация земли в руках крупных чиновников, а также «сильных и богатых людей из народа». Разорение общинников привело к резкому сокращению числа налогоплательщиков. Доходы государства упали. Реформы Ван Мана не принесли облегчения народу, а лишь усилили его эксплуатацию государством и до предела обострили ситуацию в стране. Разразившееся восстание «краснобровых» смело его режим, а заодно и правящую династию.
После подавления восстания начался новый цикл подъёма-упадка. С воцарением династии Младшая Хань (25–220) были приняты меры, стабилизирующие положение империи: ограничено рабство и облегчено положение рабов, восстановлены важнейшие ирригационные сооружения. Крестьяне-общинники получили землю. Восстановление хозяйства и усиление централизации позволили возобновить активную внешнюю политику. Китай вернул контроль над Западным краем. Вновь оживилась торговля по Великому шёлковому пути. Однако этот подъём был ещё более краток. Уже в середине II века н. э. Западный край отпал от Китая. Экономический кризис II века привёл к натурализации хозяйства, упадку торговли и товарно-денежных отношений. В начале следующего века деньги вообще были отменены и все налоги собирались натурой. Последовали стихийные бедствия, неурожаи, голодовки. Чиновники доносили, что народ не в состоянии себя прокормить, потому что у него «поля тесны». Зато беспредельно расширились латифундии земельных магнатов. Получили господство замкнутые хозяйственные миры больших поместий, где производилось всё необходимое. Народные восстания бедствующих общинников и рабов в очередной раз положили конец династии. Единое государство распалось, и Китай на три века погрузился в период мятежей, междоусобиц, иноплеменных вторжений, опустошения и разрухи.
Следующий расцвет Китая связан с правлением династии Тан (618–917). И вновь история повторилась. Первые 150–200 лет – подъём экономики, торговли, ремесла, товарно-денежных отношений (появление векселя); рост и процветание городов, новое усиление военной мощи и экспансионизма. Угрожавшие империи тюрки разгромлены. Покорены Западный край, часть Индокитая и Кореи. В 750 году китайцы столкнулись в Средней Азии с арабами. Процветали искусства и литература (династия Тан – золотой век китайской поэзии). А со второй половины VIII века явственно обозначился упадок. Концентрация земель у богатых, неисполнение государственных законов, децентрализация (реальная самостоятельность правителей областей при номинальном подчинении императору). Разорение крестьян приводило к убыли налогоплательщиков. Уменьшение налоговых поступлений власть пыталась компенсировать путём увеличения обложения. Восстания задавленных гнётом крестьян, мятежи наместников и вторжения иноземцев подвели черту под этим периодом.
По такой же схеме развивались события и в период китайского подъёма династии Мин.
Но довольно примеров. Циклы расцвета-увядания (подъёма-упадка) в истории цивилизации явление бесспорное и периодически повторяющееся. Какими же причинами объясняют его философы?
Личные качества правителей могут служить до некоторой степени объяснением лишь для коротких отрезков времени в несколько десятилетий. Длительные периоды устойчивого роста или упадка не могут быть обусловлены этим фактором. Сильные личности на престоле встречаются во все времена. Но в периоды подъёмов они добиваются крупных успехов, а в периоды упадков часто просто гибнут, не успев ничего совершить. Во всяком случае, их достижения явление кратковременное и неустойчивое; плоды их трудов идут прахом сразу после смерти. Такова была судьба великой Литовской империи Витовта. А вот Московское государство при его слабом внуке Василии Васильевиче, который побывал в плену и у татар, и у собственных подданных и был ими ослеплён, значительно усилилось.
Есть ещё ребяческое объяснение (и довольно распространённое), что упадок того или иного государства происходит потому, что правители его принимали не те меры, которые были необходимы. А вот если бы они поступали «правильно», то всё было бы в порядке. Раньше, дескать, правители заботились об армии, – и страна была в безопасности; раньше поощряли развитие хозяйства – и экономика процветала. Нерадивые же их преемники забросили и то и другое, – вот всё и пришло в упадок.
Стоит ли долго объяснять, что подъёмы и упадки зависят не столько от рациональности, сколько от реальных сил – их наличия или отсутствия? Понятно без объяснений, что если армия приходит в упадок, то, видимо, потому, что для её содержания и оснащения не стало хватать реальных ресурсов. Если бы дело было только в разуме, то для беспрерывного процветания достаточно было бы составить для политиков инструкцию на все случаи жизни, обозначив в соответствующих разделах меры для государства полезные и вредные. Макиавелли в своё время как раз такую и составил, но это нимало не помогло Италии выбраться из политического ничтожества. Античность произвела гору политических и моральных трактатов, несмотря на что и Эллада, и Рим пришли в упадок.
Иногда указывают ещё на изменения климата. Это причина серьёзная и действительно способная существенно уменьшить или увеличить объём находящихся в распоряжении этноса ресурсов. Но такие изменения происходят в течение довольно продолжительного времени, достаточного, чтобы к ним приспособиться. Если этнос на подъёме, так оно и происходит. Объектом внимания изменения климата становятся лишь тогда, когда они происходят на фоне упадка.
Внешнее давление, нападения врагов могут быть только дополнительной, но не основной причиной упадка – конечно, если они не имеют катастрофического характера, что случается очень редко. Борьба с внешними врагами ведётся и на стадии упадка, и на стадии подъёма, но в последнем случае – без заметного ущерба. Нападения внешних врагов не могут быть главной причиной хотя бы уже потому, что упадки цивилизаций наблюдаются и там, где они весьма слабы или отсутствуют вовсе (в условиях островной или пустынной изоляции).
Есть ещё историки-марксисты, которые приучены во всех исторических переменах выискивать «конфликт производительных сил и производственных отношений». Однако теория эта в определённом плане приемлема лишь для описания процесса прогрессивного развития, но совершенно непригодна для описания циклических колебаний типа прогресс – регресс. И сколько бы её сторонники ни доказывали «прогрессивность» феодального общества по сравнению с античным, рабовладельческим, но очевидно, что переход от второго к первому сопровождался огромным упадком в экономике и культуре. Если сравнить высококачественное, специализированное, технически сложное ремесленно-промышленное производство греко-римского мира с примитивным и грубым ремеслом, которым пробавлялись европейцы на протяжении первых пяти – семи веков феодализма; если сравнить высокоразвитые товарно-денежные отношения античного общества с натуральным хозяйством раннего Средневековья, – нужны ли ещё какие-то комментарии?
На Востоке, где труд свободного крестьянина-общинника и ремесленника всегда значительно преобладал над рабским, эта теория и вовсе неприменима. Никакого особенно значительного изменения производственных отношений и производительных сил не наблюдалось здесь в течение тысячелетий. А те, что наблюдались, носили именно циклический характер: подъём рабовладения – упадок рабовладения, укрепление общины – разорение и распад общины, централизация – децентрализация. Вот и приходится воспитанникам экономического материализма – изобретение в Китае примитивных водяной мельницы и насоса, которые даже не нашли сколько-нибудь широкого применения в хозяйстве, – объявлять «свидетельством глубоких изменений в экономике и общественных отношениях»! И такими-то «глубокими изменениями» объяснять падение Ханьской империи.
Но чаще всего в исторических учебниках и монографиях применяются общие фразы, типа «в силу ряда внешних и внутренних причин» или «комплекс внешних и внутренних причин» обусловил то-то и то-то. Среди таких причин, к примеру, упадка и гибели государства, называются чаще всего – обострение противоречий между крупнейшими социальными силами, усиление местной знати и администрации, децентрализация; упадок городов, промышленности и торговли, оскудение крестьянства и т. п.
С точки зрения теории этногенеза исторические события определяются прежде всего этногенетическим процессом, который запускается этническим толчком. Этот процесс мы в данной главе не рассматриваем. Но в ходе этого процесса, кроме прогрессирующего изменения напряжённости этнического поля, существуют и циклические явления, обусловленные изменениями уровня витальности индивидов этноса. Все вышеперечисленные «причины», приводимые различными авторами для объяснения изменений в состоянии исторической среды, с нашей точки зрения, вовсе не причины, а симптомы, внешние проявления таких изменений. Подлинные причины кроются в изменениях энергетики исторических коллективов – этносов.
Дело в том, что летописцы и учёные, заворожённые картинами расцветающих цивилизаций, – подъёма хозяйства, расцвета искусств, возведения грандиозных сооружений, дальних походов и блестящих побед, – редко задумываются, какой ценой достигаются эти свершения. А ведь очевиден тот простой факт, что всё это создаётся благодаря усиленной эксплуатации сил, здоровья, энергии людей.
Сравните жизнь какого-нибудь дикого племени, затерянного где-то в дремучих лесах, вдали от исторических перипетий, – с жизнью подданных великой империи. Бедный туземец трудится лишь для того, чтобы обеспечить жизненный минимум для себя и своей семьи. Он тратит ровно столько энергии, сколько необходимо для этой цели – и не более. В согласии с природными циклами он сеет, убирает урожай, работает и отдыхает зимой у тёплого очага от летних трудов. Правда, у него нет большого страхового запаса продовольствия, и в неурожайный год он может умереть с голоду. Но если он выживет, то продолжит своё нехитрое и с точки зрения расхода энергии весьма экономное существование.
Гораздо более тяжёлая нагрузка ложится на имперского подданного. Он собрал урожай? Для своих нужд он имеет право оставить только часть, – нужно платить налоги, нужно кормить чиновников и солдат и ещё много кого, кто сами не пашут и не сеют. Он закончил полевые работы и хочет отдохнуть? – Его мобилизуют на ремонт канала или на строительство дорог, пирамид, на транспортировку грузов, в армейский обоз. И так далее и тому подобное… Для воплощения великих замыслов политиков, полководцев, инженеров, архитекторов, художников требуется большое напряжение сил народа. К тому же всех их нужно обеспечить жизненными благами, ибо сами они производительным трудом не занимаются, а аппетиты имеют весьма большие. При этом мы вовсе не хотим противопоставлять рабочий люд и верхи общества. Последние во времена подъёма также усиленно трудятся: знать проводит своё время на государственной службе – в военных походах, дипломатических миссиях, на административных постах, при дворе; чиновники проворачивают огромный объём бюрократической работы; предприниматели активно развивают промышленность. Периоды расцвета поглощают силы и верхов и низов общества.
Таким образом, в периоды «процветания» витальный потенциал этноса истощается – в этом падении витальности и заключается причина последующего упадка.
Что происходит, когда снижается витальность крестьянина? Прежние налоги и повинности становятся тяжелы для него. Он уже не может отдавать государству столько труда, сколько от него требуют. Он всячески стремится избежать невыносимых для него повинностей – уходит на храмовые земли, пользующиеся налоговым иммунитетом; устраивается на землях знати; наконец, продаётся в рабство – лишь бы избавиться от тяжких государственных повинностей. Государство лишается всё большего числа налогоплательщиков, его доходы сокращаются. Чтобы компенсировать убыток, государство ещё более увеличивает налоги на оставшихся и тем самым делает их жизнь невыносимой. Производительный труд становится невыгодным – замирают или уходят в тень ремесло и торговля, разоряются крестьяне. Недостаток денег в казне приводит к ухудшению работы государственного аппарата; ослабляется армия, на которую тоже нет достаточных средств. Нехватка рабочей силы приводит к тому, что системы ирригации и пути сообщения не ремонтируются. Это, в свою очередь, ведёт к сокращению урожаев, упадку торговли, голоду.
На крестьянина и ремесленника давит не только государство. Витальность чиновника тоже понизилась. Он уже не довольствуется жалованьем и небольшими подношениями, вроде «борзых щенков» или «отреза сукна жене на платье», – ему теперь нужны иномарка и коттедж, а он и жалованье-то получает нерегулярно. Чиновник дерёт три шкуры с подведомственных ему людей. Государственный аппарат разъедает коррупция. Знать также теряет витальность. Она пренебрегает обязанностями службы, не довольствуется прежним поместьем, но стремится к приобретению латифундий с толпой порабощённой челяди, к полной независимости от центральной власти. Она захватывает и скупает земли разоряющихся общинников, присваивает государственные имущества. Не отстают от знати богатые купцы, ростовщики-банкиры, владельцы монопольных предприятий, которые повышают цены, не платят налогов, всеми способами обирают и порабощают должников; используя коррупционные связи, наживаются на ограблении государственной казны, хищении доходов государства.
Измученный многосторонней эксплуатацией и беспросветным существованием народ поднимается на восстания. Из-за падения обороноспособности на территорию страны беспрепятственно вторгаются чужеземцы. Страна погружается в анархию. Центральная власть становится беспомощной. Она только отягощает население, не давая ничего взамен. Местная администрация стремится самостоятельно навести хоть какой-то порядок на своей территории, в противостоянии центру обращается за поддержкой к местному населению и нередко получает её. Страна распадается и погружается в период, именуемый историками – «тёмные века».
Упадочная действительность далеко не всегда бывает столь драматична. Но чтобы лучше высветить явление, надо брать крайний случай.
Представим теперь, что через некоторое время витальность данного этноса повысилась. Это значит, что работники теперь могут работать больше, довольствуясь меньшим. Крестьяне способны кормить не только свои семьи, но и значительное количество людей, не занятых сельским хозяйством: ремесленников, торговцев, чиновников, воинов, интеллигентов. У них хватает энергии не только обрабатывать своё поле, но и трудиться на строительстве дорог и каналов. Ремесленники берут умеренную плату за свои изделия. Чиновники довольствуются скромным жалованьем. Богатые и знатные ограничены в своих прибылях сильным государством и вынуждены умерить свои аппетиты. Государство крепнет, экономика растёт, искусства процветают. Появляются ресурсы и возможности для крупных проектов и предприятий. Словом, наступает новый расцвет, который продлится до очередного упадка.
Существуют и более короткие циклы витальности. Например, если рассмотреть историю России XIX века, то легко заметить, что она делится на четыре примерно равных по времени отрезка, около четверти века каждый. Первая четверть, 1800–1829 годы, время активной экспансии и реформ Александра I: войны с Наполеоном, заграничные походы; присоединение Финляндии, Польши, Бессарабии, Закавказья; восстание декабристов. Вторая четверть, 1829–1853 годы, консервативное, охранительное правление Николая I: прекращение реформ и территориальной экспансии, реакция в общественной жизни. Третья четверть, 1853–1881 годы, вновь период реформ и внешней экспансии: освобождение крестьян, подъём революционного движения, наступление на Балканах, присоединение Приамурья и Приморья, продвижение в Среднюю Азию. Последняя четверть, 1881–1900 годы, приходится в основном на мирное и стабильное правление царя-миротворца Александра III: отсутствие войн, прекращение реформ, спад революционной активности.
Таким образом, на одно столетие российской истории приходятся два отчётливо выраженных витальных цикла.
Из всего вышеизложенного понятно, что вектор витальности имеет направление обратное прогрессу цивилизации. В период её расцвета витальность понижается, в «тёмные века» упадка – наоборот, растёт. Расцвет цивилизации и подъём экономики имеют своей причиной рост витальности в пору упадка (спада). А «тёмные века» наступают вследствие падения витальности в период расцвета. Такова схема цикличности исторического процесса, в которой понятие витальности этноса занимает центральное место.
Глава 4 Витальность в экономике
Этот небольшой экскурс в экономику призван показать, что понятие витальности позволяет прояснить суть процессов, происходящих в самых разных сферах бытия.
Рассмотрим, к примеру, проблему экономического цикла. Это хорошо известное явление заключается в периодической смене подъёмов и спадов уровня экономической активности. Отдельные экономические циклы существенно отличаются друг от друга по продолжительности и интенсивности. Тем не менее все они имеют одни и те же фазы, которые последовательно сменяют друг друга. Обычно выделяют четыре фазы. Разные авторы называют их по-разному; для нашего анализа предлагаю следующие наименования – фазы подъёма, процветания, спада, депрессии (рис. 4).
В фазе подъёма производство и занятость повышаются. По мере оживления экономика может достигнуть полной занятости, когда общественное производство реализует все свои возможности. Это уже фаза процветания. За ней следует фаза спада, когда производство и занятость сокращаются. Наконец спад производства достигает достаточно больших масштабов, и падение приостанавливается. Производство какое-то время пребывает на низком уровне без дальнейшего падения или заметного роста, – это фаза депрессии. Через некоторое время в экономике наступает оживление, и производство вновь начинает расти, – цикл повторяется.
Рис. 4
Существует масса теорий, объясняющих данное явление. Их можно разделить на две категории – чисто экономические и внешние. Внешние теории усматривают причины экономического цикла в различных факторах, лежащих за пределами экономической системы. Наиболее известные внешние теории следующие: теория нововведений, объясняющая цикл появлением и использованием в производстве важных научно-технических открытий и изобретений (таких, например, как железные дороги); психологическая теория, рассматривающая цикл как следствие охватывающих людей волн пессимистического и оптимистического настроения; те согласно которой циклы происходят из-за появления пят солнце; теории, объясняющие цикл политическими событиями, войнами и революциями, открытиями золотых месторождений, новых земель, ростом населения и его миграциями.
Из экономических теорий упомянем теорию колебания инвестиций; денежную теорию, объясняющую цикл неравномерным расширением и сжатием денежной массы, кредита; теория недопотребления и т. д. Разбор и оспаривание всех этих теорий не входит в нашу задачу. Выскажем лишь несколько общих замечаний. Все чисто экономические теории неизбежно односторонни, – все они рассматривают лишь различные аспекты одного и того же процесса. И сами экономисты это давно заметили. Как отмечал Митчелл, при всём различии позиций «исследователи экономических циклов отличаются друг от друга не столько принципиально, сколько тем, на что они обращают преимущественное внимание». «Теоретики, разделяющие кейнсианские взгляды, акцентируют внимание на колебаниях платёжеспособного спроса, сторонники неоклассической школы – на факторах предложения. Если первые анализируют динамику инвестиций, то вторые – движение заработной платы. Практически и те и другие рассматривают соотношения между объёмом производства и накоплением»[34]. «Фактически в обоих случаях речь идёт о взаимодействии потоков и запасов в результате нарушения равновесной пропорции между ними. Для неокейнсианцев это означает, в первую очередь, неравновесие в накопленных запасах основного капитала, для неоклассиков – неравновесие в потоке используемого живого труда»[35].
Учёные-экономисты до странности склонны забывать ту простую истину, что центральное место в экономике занимают всё-таки люди, которые выступают в ней в обеих главных ролях – производителей и потребителей. Экономические процессы протекают в различных людских сообществах со своими взглядами на должное и справедливое, со своими вкусами и потребностями. Вместо этих живых людей и сообществ, оригинальных в каждом конкретном случае, учёные предпочитают оперировать с абстракциями, вроде какого-нибудь «экономического человека» или всяких «вечных законов», и относятся к этим абстракциям собственного изготовления как к высшей реальности.
Процессы производства и потребления прямо определяются качествами, присущими живым людям, задействованным в этих процессах, – их физическими, психологическими, культурными особенностями: силой, здоровьем, выносливостью, степенью их стремления к производительному труду и желания потреблять, предпринимательской активностью. Если мы ищем не условного, а сущностного объяснения явлений общественной (в том числе экономической) жизни, нужно обратиться к этому источнику.
Для наших целей необходимо взять достаточно большие циклы, во-первых, потому, что на их примере яснее проявляется суть дела; во-вторых, потому, что они гораздо меньше зависят от разных случайных обстоятельств, чем малые. Именно таковы «большие циклы конъюнктуры» Кондратьева. Русский учёный Николай Кондратьев в 20-х годах XX века выдвинул идею и убедительно показал, что существуют большие экономические циклы, охватывающие период от 45 до 60 лет. Он обосновал своё утверждение обширным фактическим материалом, полученным на основе анализа динамики экономического развития ведущих стран Европы и США.
Рассмотрев отрезок времени около полутораста лет, Кондратьев выделил три «больших цикла конъюнктуры»: первый – с конца 80-х – начала 90-х годов XVIII века до периода 1844–1851 годов; второй – с 1844–1851 до 1890–1896 годов; третий – с 1890–1896 до 1939–1942 годов (Кондратьев не дожил до этого времени, в своей работе он отметил только повышательную волну подъёма до 1914–1920 годов)[36]. Впоследствии исследователи выделили ещё один, четвёртый цикл, который завершился в 1982–1985 годах. Эти циклы примерно пополам делятся на периоды подъёма и спада с депрессивной паузой между циклами. Как отмечал Самуэльсон: «С конца наполеоновских войн в 1815 г. до середины XIX в. отмечалась тенденция к понижению цен и в целом времена были более тяжёлыми, чем обычно. После открытия в 1850 г. золотых месторождений в Калифорнии и Австралии и частично после Гражданской войны в Америке и Крымской войны цены начали расти. Новая длительная волна понижения цен, последовавшая за депрессией 1873 г., продолжалась вплоть до 90-х годов, когда в результате открытия золота в Африке и на Аляске его производство резко возросло»[37].
Попробуем объяснить это явление на базе наших знаний о феномене витальности. Нам уже достаточно хорошо известен характер изменения витальности, чтобы определиться с колебаниями её уровня в различных фазах экономического цикла. Витальность имеет наивысший уровень в фазе депрессии. Этот уровень снижается в фазах подъёма и процветания, а затем растёт в фазе спада. Каким образом отражаются эти перемены на экономике?
Рис. 5 наглядно демонстрирует соотношение витальных и экономических циклов. Начнём с фазы подъёма. В начале этой фазы уровень витальности высок. Это значит, что люди готовы много трудиться за сравнительно скромное вознаграждение. Это благоприятно для развития производства, потому что товары производятся с небольшими издержками и вследствие этого обладают высокой конкурентоспособностью. По мере подъёма производства витальность постепенно снижается. Поначалу её снижение ещё более стимулирует производство. Ведь понижение витальности сопровождается увеличением потребностей. А значит – растёт потребительский спрос, в то время как способность к напряжённому труду ещё заметно не снизилась. Таким образом, производство растёт, пока не достигает потолка возможностей при данных условиях.
Между тем по мере дальнейшего снижения витальности прирост потребительского спроса начинает обгонять способность к увеличению производства реального продукта. Растут издержки, падает конкурентоспособность производимых товаров, сокращается их сбыт. В этих условиях происходит сокращение инвестиций, что ещё более усугубляет спад производства. Но сокращение производства означает уменьшение трудовой нагрузки на население, уменьшение эксплуатации его энергетического потенциала, – а значит, начинается процесс его восстановления до нормального уровня после истощения в пору усиленной эксплуатации фазы подъёма и процветания. На протяжении фазы спада витальность растёт. Однако повышение уровня витальности сопровождается снижением потребительских запросов. Уменьшение спроса некоторое время сдерживает рост экономики, которая стагнирует в фазе депрессии. Не случайно выход из фазы депрессии, как правило, связан с открывающимися возможностями для внешней либо кредитной экспансии: открытие крупных месторождений золота в середине и конце XIX века, победы Запада во Второй мировой войне в середине и в холодной войне – в конце XX века. Внешняя или кредитная экспансия в данном случае служит толчком к экономическому подъёму.
Рис. 5
Выявление больших экономических циклов обнаруживает интересные связи с экономической политикой. На фоне Великой депрессии на первый план в макроэкономической теории выдвинулось кейнсианство. Главной проблемой в то время был большой спад и безработица. Кейнс предложил свой рецепт выхода из кризиса, основной идеей которого была денежная экспансия для борьбы со спадом, – прежде всего увеличение государственных расходов и инвестиций, чтобы компенсировать низкий уровень потребления частного сектора. Это средство оказалось достаточно эффективным, и с конца 30-х годов кейнсианство господствовало в экономической теории.
До 70-х годов политика, построенная на основе кейнсианства, в целом удовлетворяла потребностям развития стран Запада. Но далее положение изменилось. Главной экономической проблемой стала так называемая «стагфляция» – одновременный рост инфляции и безработицы, которую простая кейнсианская модель объяснить не могла. В такой ситуации оживились критики кейнсианства – монетаристы. Сторонники неоклассической теории доказывали, что кризисные явления в экономике вызваны неразумными действиями государства. Они призывали власти прекратить вмешательство в экономику, что позволит ей самостоятельно выйти на объём производства, соответствующий полной занятости. Монетаристы считали, что роль государства сводится, главным образом, к стабилизации темпов роста денежного предложения, к жёсткому контролю за его ростом.
Фридман даже выступал за законодательное установление монетарного правила, согласно которому денежное предложение расширяется ежегодно примерно настолько, чтобы обеспечить реальный прирост ВВП, т. е. оно должно устойчиво прирастать на 3–5 % в год. На рубеже 70–80-х годов политики стран Запада стали действовать в соответствии с предложениями неоклассиков и добились заметных успехов – инфляция сократилась, возобновился устойчивый рост.
Давайте проанализируем развитие событий с точки зрения витального экономического цикла. К исходу 30-х годов завершился экономический цикл. На протяжении его фазы спада и депрессии уровень витальности восстановился. И главной проблемой был низкий уровень спроса, который сдерживал подъём экономики. В этой ситуации применение кейнсианских методов было как нельзя кстати. Политика денежной экспансии со стороны государства имела результатом реальный рост производства при умеренной инфляции. В фазе подъёма экономического цикла, примерно до середины 60-х годов, такая политика в целом имела успех. Но затем началась фаза спада, и в ней прежняя стимулирующая политика оказалась непригодной. Вместо дальнейшего роста производства, она только наращивала инфляцию и усугубляла естественный процесс спада. И это справедливо отмечали критики кейнсианства. Однако неолиберальные рецепты не дали бы столь блестящего результата, если бы к началу 80-х (т. е. к началу нового цикла) не восстановился уровень витальности. Именно рост витальности позволил сравнительно безболезненно пережить значительное сокращение социальных расходов и рост уровня безработицы в первые годы проведения неолиберальной политики. Что же касается дальнейшего подъёма, то его причина не столько в мерах по дерегулированию частного бизнеса и снижению налогов, сколько в новом витке экспансии Запада, давшем толчок экономическому росту.
В 80-х годах страны Запада пошли в новое наступление во внешней политике. Одним из главных его мероприятий было осуществление программы перевооружения (особенно в США). С этим был связан резкий рост военных расходов государства, который и возместил недостаток спроса со стороны частного потребителя в американской экономике. Предоставим слово авторам «Экономикса»: «Является ли экономическое оживление после 1982 г. результатом проведения в жизнь программы рейганомики? Хотя здесь трудно говорить с определённостью, можно достаточно убедительно показать, что экономический подъём в значительной степени связан со стимулирующим воздействием крупных федеральных дефицитов… а вовсе не с повышением нормы сбережений и инвестиций, возрождением стимулов. Другими словами, это оживление явилось по своей сути „кейнсианским“ феноменом, обусловленным факторами спроса, а вовсе не факторами предложения»[38]. Совершенно естественно, – на выходе из фазы депрессии очередного цикла, как и на рубеже 30–40-х годов, кейнсианские методы бюджетной экспансии вновь пригодились. Только этот факт оказался затушёванным тем, что данная политика проводилась под аккомпанемент неолиберальной риторики.
Таким образом, ни кейнсианство, ни монетаризм не должны быть постоянной политикой, но должны время от времени сменять друг друга в соответствии со сменой фаз экономического цикла, обусловленной ростом и падением витальности людей. Чтобы выйти из депрессии, разумно применять кейнсианские методы, которые полезны на протяжении фазы подъёма. Но в фазе «процветания», в условиях значительного падения витальности, нужно переходить от политики стимулирования спроса, который теперь и без того слишком велик, – к сдерживанию. Политика сдерживания спроса сокращает уровень инфляции и уменьшает размер падения инвестиций, что смягчает неизбежный после «процветания» спад.
Вообще же меры, предлагаемые неолибералами, – снижение налогов и регулирования, ужесточение кредитно-денежной политики, – скорее полезны в фазе спада, а не подъёма. При упавшем уровне витальности снижение налогов способствует его поддержанию и восстановлению. В фазе же подъёма высокая витальность производителя может выдерживать довольно высокие налоги. В этой фазе на первый план выходит не тяжесть налогов, а востребованность труда, проблема спроса. Государству нужно добиваться полной занятости в этот период и брать высокие налоги, – за счёт чего накапливать средства и вкладывать их в инфраструктуру. Эти вложения поддержат уровень жизни в фазе спада, когда реальное производство сократится.
Мы уже отмечали, к чему приводит неуместная в фазе экономического спада политика стимулирования спроса. А к чему может привести столь же неуместная политика монетаризма в фазе подъёма? Ни к чему другому, как к неоправданному ограничению экономического роста. К чему приведёт, например, реализация монетарного правила Фридмана в начальной стадии фазы роста, когда он может составить и 8, и 10, и более процентов? К сокращению темпов роста в 2–3 раза, к торможению экономического развития, к неоправданным материальным потерям. Как видим, всякая политика, игнорирующая циклический характер экономической жизни, неизбежно приводит к вредным последствиям.
Высокий уровень витальности благоприятен для экономической экспансии, построения экспортно ориентированной модели экономики. При низком уровне витальности такая модель совершенно непригодна. Если же проводить эту линию на основе демпинга, то она приведёт к чрезвычайному истощению ресурсов страны. При низком уровне витальности продукция страны неконкурентоспособна на внешнем рынке и, чтобы смягчить спад, необходимы разумные протекционистские меры правительства для сохранения за отечественным производителем основной части внутреннего рынка. Либерализация внешнеэкономических связей в таких условиях ведёт к экономической катастрофе обвального падения производства, что наглядно продемонстрировали российские либеральные реформы.
Итак, наш небольшой анализ ещё раз подтверждает, что разумная политика заключается не в следовании раз и навсегда избранной «единственно истинной» доктрине, – не в протекционизме или фритреде, не в кейнсианстве или монетаризме, а в смене время от времени методов и моделей в зависимости от переживаемой фазы экономического цикла, от конкретного состояния, в котором находится этнос.
Общая тенденция развивается в направлении укорочения циклов. Из перечня общемировых циклов видно, что первый, выделенный Кондратьевым, цикл длился около 60 лет, а последний завершившийся цикл – только чуть более 40 лет. Дыхание мировой экономики становится более коротким. Это многозначительная тенденция, смысл которой заключается в постепенном, но неуклонном истощении витальных ресурсов в системе Запада.
Глава 5 О Византии
Теория этногенеза, изложенная в данной работе, по отношению к истории выступает как инструмент обобщения исторического материала и способ его осмысления, это историософская концепция. Она не отменяет прочие методы исторического исследования, но существенно их дополняет. Теория этногенеза является новым оригинальным подходом к анализу исторического процесса. Прежние концепции обращали внимание на самые разные его аспекты – изучали деяния великих личностей, социальные и экономические процессы, плоды культурного развития, политическую историю. Некоторые поднялись до осознания того, что все культурные плоды исторического процесса есть результат деятельности устойчивых исторических общностей органического типа – цивилизаций, культур, народов. Таковы концепции Н. Данилевского и К. Леонтьева, Шпенглера и Тойнби. Но для всех этих теорий характерно преимущественное внимание к событиям, достижениям и плодам культурного исторического творчества – государственным системам, литературным произведениям, стилям искусства, законам, идеям, техническим новациям, религиям и т. д. А силы, создавшие эти культурные продукты, оставались в тени, законы их действия были не выяснены, – лишь изредка мыслители слегка касались этой темы. Так что в исследовании исторических процессов образовалась огромная дыра, которую официальная наука заполняла всякого рода натяжками и ретушью.
Основатель теории этногенеза Лев Гумилёв раскрыл исторический процесс в новом аспекте. Он обратил внимание к глубинным силам истории – к энергиям, питающим её событийную канву. Это было то, мимо чего исследователи проходили долгое время. И в этой оригинальности подхода главная заслуга Гумилёва.
Теория этногенеза подводит базу под культурно-историческую концепцию мирового развития, так как объект её исследования – реальные создатели всех цивилизаций, государств и культур – этносы, которые являются человеческими коллективами, объединёнными связью органического характера, исторической связью, – в отличие от связей социальных, экономических и проч. В отличие от общностей, сложившихся на основе социальных, экономических, религиозных, бытовых связей, – этнос именно та единственная общность, в которой личность утверждает своё историческое существование. Этносы – субъекты истории.
История творится в рамках этнических коллективов и взаимодействий этих коллективов. Каждый из таких коллективов проходит закономерный путь развития. Закономерности этногенетического развития определяются взаимодействием различных энергий, присущих этнической общности. Этими энергиями движимы силы, вершащие исторические события. Результатом их действия и являются различные политические, экономические, социальные, культурные события и процессы, которые в иных исторических теориях фигурируют в качестве причин.
Этногенетические силы совершают процессы двух видов: циклические колебательные движения, обусловленные изменением уровня витальной энергии этнического коллектива; и линейные процессы, определяемые возникновением этнических полей и изменением уровня их напряжённости. Циклические процессы мы уже осветили выше, в соответствующей главе. Теперь подробнее рассмотрим линейный процесс этногенеза.
Ещё совсем недавно в нашей исторической науке абсолютно господствовала концепция исторического материализма с её закономерной сменой формаций и жёсткой привязкой каждой формации к определённому отрезку мировой истории: первобытно-общинный строй, Древний мир – рабовладение, Средние века – феодализм, Новое время – капитализм. Эта теория была плодом новоевропейского евроцентристского сознания. Она более или менее соответствовала ходу исторического развития только Европы, хотя авторы теории пытались утвердить её универсальное значение.
Но и в Европе существовала страна, созданная как будто для того, чтобы поиздеваться над схемами истмата и создавать их сторонникам всяческий дискомфорт. Эту страну и эту цивилизацию впоследствии, уже после её конца, назовут Византией.
Согласно официальной теории, падение Рима подвело черту под историей Древнего мира, а вместе с ней окончилась и рабовладельческая формация. Однако Восточная Римская империя – Византия преспокойно продолжала существовать, не поколебленная ни варварскими нашествиями, ни внутренними социальными кризисами. И не просто существовала, но и процветала, раздвигала свои границы, едва не захватив всё Средиземноморье.
Дальше пошло ещё хуже. В VII веке рабовладельческое хозяйство в Византии теряет всякое значение, рабство почти исчезает. По официальной теории, вслед за исчезновением рабовладельческого уклада должен обязательно наступить феодализм или хотя бы процесс формирования феодальных отношений, который на Западе начался ещё в эпоху поздней Римской империи. Так вот в Византии с падением рабовладения феодализм не только не стал развиваться, но даже зачаток его – колонат, существовавший ранее, – приказал долго жить.
Это был уже форменный скандал. Напрасно сторонники теории формаций рассуждали о том, что в Византии «раннефеодальная стадия затянулась», – там, где феодализма нет вообще, понятие «раннефеодальный период» лишено всякого смысла.
Ведь что такое, собственно, феодализм? Существуют две основные концепции этого понятия. Одна преимущественно обращает внимание на социально-правовой характер феодального общества. Другая, базирующаяся на экономическом материализме, – на характер отношений собственности и производства. Первая концепция восходит к историкам французской школы, прежде всего к Гизо. Одной из основных черт феодализма, по ней, является условный характер и иерархическая структура феодальной собственности, определяющая иерархию среди феодалов, сеньориально-вассальные связи. Собственность феодала на его поместье обусловливалась определёнными обязательствами: в первую очередь военная служба определённое число дней в году и некоторые другие. И если феодал их не выполнял, его собственность могла быть по праву конфискована. Вторая важнейшая черта феодализма – соединение собственности с политической властью («рассеяние суверенитета»). Феодал был не просто хозяином земли и не просто правителем, – он был «государем». Он облагал население своего владения податями и повинностями, судил и карал его за преступления, предводительствовал ополчением на войне. Даже самый мелкий рыцарь был, по сути дела, королём в своём поместье (бароны и формально имели короны), а население поместья являлось его подданными.
Марксизм упирал прежде всего на экономические особенности феодализма. Главной характерной чертой этого строя марксисты считали монополию собственности класса феодалов на главное общественное богатство – землю и реализацию этой монополии при посредстве мелких производителей – зависимых крестьян. Выделялась ещё восточная модель феодализма (азиатский способ производства), где частные земельные владельцы были слабы, а верховным собственником земли являлось государство. Рента, уплачиваемая крестьянами, сидевшими на государственной земле, в данном случае совпадает с государственным налогом.
Когда мы определяем характер того или иного общества, мы должны брать период его наибольшей зрелости, – когда присущие ему черты полностью оформляются и выражены наиболее отчётливо. Так, римское общество мы определяем как рабовладельческое именно потому, что рассматриваем пору его расцвета (II век до н. э. – II век н. э.), а не раньше, – когда преобладало свободное крестьянство; и не позже, – когда на первый план выходит колонат. В Византии период расцвета, классическая эпоха её цивилизации, когда и определились все те культурные черты, получившие название «византизма», примерно совпадает с правлением Македонской династии (IX – первая половина XI века).
Ни одного из вышеперечисленных феодальных признаков не было в византийском обществе периода его расцвета. Там не было феодально-зависимого крестьянства, как не было и феодальной собственности на землю, связей феодального характера в обществе. Крестьяне были свободным и полноправным сословием. Они не просто самостоятельно вели хозяйство, но и являлись частными собственниками своей земли. С VIII века в документах крестьяне уже не просто «георги» (земледельцы), но «господа», «деревенские господа» (!) Любая форма постоянной зависимости воспринималась крестьянами как рабство, поэтому даже разорившиеся крестьяне упорно не «садились» на чужую землю, предпочитая батрачество или уход в монастырь.
Государство владело большими недвижимыми имуществами. Но, как и в Риме, в Византии не было верховной собственности государства на землю. Поэтому не приходится говорить и о восточном варианте феодализма.
Знать, конечно, существовала и в Византии. Но её земельные владения сравнительно с Западом были невелики. Землёй она владела не условно, а так же, как и крестьяне, – на праве полной частной собственности. И работали во владениях знати батраки и немногочисленные рабы, а не феодально-зависимые крестьяне. «Категория париков – будущих феодально-зависимых крестьян формировалась чрезвычайно медленно»[39], – отмечает известный историк. Могущество и социальный статус византийской знати определялись не столько её земельной собственностью, сколько положением на государственной службе; и основная часть доходов знати поступала из этого источника.
Византийское общество было гражданским обществом. Примат «государственного интереса» сохранялся даже в период упадка, когда набирал силу процесс феодализации. Император выступал защитником интересов «всех», официальная теория права провозглашала императорскую власть «общим достоянием всех граждан». Государственная служба воспринималась как, одновременно, общественная обязанность, долг; личная же служба – как услужение и зависимость. Государство занималось воспитанием у подданных патриотизма. Византийские воины шли в бой за «отечество», когда европейцы ещё и понятия не имели, что это такое. В обществе ценились прежде всего заслуги и личное достоинство, а не родовитость. Император Лев VI писал: «Только люди без личных достоинств заняты поисками своей родословной, чтобы сделать себя славными… преисполненным достоинствами незачем иметь дело с подобными химерами».
Элементы феодализма появляются в Византии лишь в Х веке, но развиваются довольно вяло. Только при Комнинах (XII век) они получили преобладание, а при Палеологах (конец XIII–XIV век) – господство. При этом формы феодализма так и остались недоразвитыми и незавершёнными. Парики – зависимые крестьяне на землях государства, знати и церкви – были зависимы только поземельно, но без личной зависимости. В административно-судебном отношении парики были подчинены государству и общине. Проний и другие разновидности феодального владения – аналоги европейского бенефиция – вплоть до эпохи Палеологов были, как правило, ненаследственными. Проний означал не передачу земель в полное владение прониара, но лишь сбор в свою пользу с данной территории государственных налогов без административной и судебной власти. Феодальная иерархия впервые появляется в форме свиты (этерии), но слой средних и мелких феодалов оставался слабым и недоразвитым до самого конца. Централизованная государственность даже при феодализме преобладала над тенденциями к феодальной раздробленности, которая достаточно сильно проявлялась только на окраинах империи.
Тем не менее на рубеже XIII–XIV веков в Византии господствовал феодализм. И на смену ему по евроцентристской модели должно было идти Возрождение. Но в Византии не было ни малейших признаков Ренессанса. Развитие шло в прямо противоположном направлении. Весь византийский «гуманизм» свёлся к филологическому изучению античных текстов. Робкие попытки неоплатонической философии были тут же задавлены ортодоксальными богословами. Не было зарождения ранне-капиталистических отношений. Города, городское ремесло и торговля чем дальше, тем больше приходили в упадок, а вместе с ними падали и средние слои общества – ремесленники, торговцы, служилая бюрократия, городская интеллигенция, – главная база Ренессанса на Западе. Благоденствовали лишь феодалы и агенты иностранных купцов.
Вскоре наступил конец, который принесли турецкие завоеватели.
Глава 6 Ещё о Византии
Видимо, потому, что история Византии оказалась такой нескладной, не укладывающейся в привычную схему, она и была задвинута на задворки курса истории Средних веков. Хотя русским людям – прямым наследникам византийской культуры – следовало бы не просто выделить её в отдельный предмет, но и изучать его с той же подробностью и на том же уровне, на каком преподаётся история Древней Греции и Рима.
Какими же причинами объясняют эту нескладность историки? Выше мы уже коснулись слегка многих из этих причин (см. «Циклы витальности в истории»). Однако одно универсальное средство, которое всегда находится под рукой, готовое дружески прийти на помощь незадачливому толкователю и заткнуть любую дырку в его построениях, мы упустили. Речь идёт о «выгоде» для кого-то или чего-то, об «интересе» кого-либо к чему-либо, которые сплошь и рядом служат объяснением исторических событий, процессов и явлений. Государство укрепляется? – В этом заинтересованы такие-то и такие-то слои населения, сословия – горожане, крестьяне, ещё кто-то, – им выгодно поддерживать централизацию. Государство распадается? – То же: такие-то группы общества почему-либо заинтересованы в децентрализации или не заинтересованы в поддержании государственного единства. Подъём экономики? – Определённые социальные слои заинтересованы в этом подъёме. Упадок экономики? – Население (вдруг) теряет интерес к труду. И т. д. и т. п.
Заинтересованность – это аргумент, которым можно объяснить что угодно и который, по сути дела, ровным счётом ничего не объясняет. Ибо, ещё раз повторю, – для того, чтобы что-то совершить, одного интереса мало, – нужна сила, а об этом подобные авторы и не заикаются. К примеру, в учебниках истории стало общим местом, что одной из главных причин подъёма централизованной государственности во Франции служит развитие городов, товарно-денежных отношений, ликвидация хозяйственной замкнутости отдельных территорий. Поднимающееся сословие горожан было, дескать, заинтересовано в усилении королевской власти. Опираясь на него, королю удалось взять верх над крупными феодалами.
Что тут можно сказать? Такой же подъём городов несколько раньше или несколько позже происходил и в других странах Европы, однако далеко не везде он привёл к централизации.
В Италии города процветали не меньше, чем во Франции. Возникли специализированное производство и оживлённый рынок. Флоренция и Лука производили отличное сукно, Милан – оружие, Павия – ножи, Венеция – изделия из стекла и шёлк. Появилось многочисленное и зажиточное городское население. То же самое происходило и в Германии. Однако в обеих странах раздробленность даже усилилась. На юге Франции также процветали города, но никакой централизации там не возникло, – напротив, города юга долгие века сопротивлялись централизации, исходящей с севера.
Почему именно майордомам Австразии, а не Нейстрии, Бургундии или Аквитании удалось объединить Франкское государство? «Потому что в Австразии, где крупное землевладение было слабее, чем в других частях королевства, майордомы могли опираться на довольно значительный слой мелких и средних вотчинников, а также свободных аллодистов крестьянского типа, заинтересованных в усилении центральной власти для борьбы с притеснениями крупных землевладельцев, подавления втягивающегося в зависимость крестьянства и для завоевания новых земель»[40].
А вот ещё один пример, взятый из того же, первого подвернувшегося учебника: «Процесс возвращения и колонизации испано-христианскими государствами занятых мусульманами территорий получил название Реконкиста (по-испански – отвоевание). Стабильность этого процесса и его конечная победа в XV веке были обусловлены тем, что все группы населения христианских территорий по тем или иным причинам были заинтересованы в Реконкисте. Феодалы в ходе завоеваний получали новые земли, должности в администрации покорённых областей, укрепляли свою самостоятельность по отношению к центральной власти. Церковь не только получала обширные земельные пожалования, но и учреждала в бывших мусульманских владениях новые приходы, монастыри, епископства, использовала лозунги борьбы христианства против ислама для усиления своего идейного и политического влияния в обществе. Победы над Ал-Андалусом обогащали королевскую казну, упрочивали позиции и престиж короны как внутри страны, так и на международной арене. Крестьянство стремилось найти на новых территориях облегчение от сеньориальных и государственных повинностей, приобрести землю, ещё не поглощённую феодальными вотчинами. Города, которые основывались в ходе Реконкисты или заселялись христианами после отвоевания, пользовались значительными льготами. Общим для всех участников войн с маврами было стремление к захвату богатой добычи»[41]. Благодарим автора за столь подробное объяснение! Жаль только, что обстоятельный автор для полноты картины не объяснил нам, в чём же состояла выгода мавров – терять свои земли, города, паству и доходы?!
Применяются подобные же объяснения и к византийской истории. Так, другой автор в этой же книге утверждает: «Традиции старого Рима, согласно которым даже высшая власть была лишь магистратом, т. е. должностью на службе у подданных, оказались чрезвычайно живучими, так как во все эпохи отвечали интересам высшей имперской знати»[42]. Если интересов высшей имперской знати достаточно для сохранения гражданских традиций, то куда они улетучились в самом Риме и всей западной части империи, вместе с самой империей и её знатью?
Правда, в серьёзных работах историки избегают оборотов, типа «выгодно», «заинтересованы», «стремились». Но тогда им приходится всецело положиться на «комплекс внешних и внутренних причин», всякий раз выуживая из этого комплекса одну или несколько для объяснения той или другой исторической ситуации.
Перейдём к анализу истории Византии с позиций теории этногенеза. А для начала обрисуем сцену действия. К концу IV – началу V века римский суперэтнос находился в завершающей стадии фазы обскурации. Способность империи к отражению внешних ударов резко ослабла. Новые орды варваров вторгались в тело империи с лёгкостью ножа, входящего в масло, и разрывали его на части. Антисистемная общность римской цивилизации, истощавшая силы этноса изнутри, укоренилась, главным образом, в западной части империи. На востоке её влияние было значительно слабее, как и романизация местного населения. Этносы Востока, входящие в римскую суперсистему, сохранили гораздо больше сил, чем этносы Запада, и поздняя империя держалась, главным образом, их энергией. Поэтому, когда Запад рухнул, Восток устоял. Благодаря иллирийцам, фракийцам, исаврам и другим энергичным этносам Балкан и Малой Азии существование Римской империи на востоке было продлено на несколько веков.
Однако к исходу VI века попытки возрождения империи на западе и развивавшиеся антисистемные общности античных городов истощили энергетику суперсистемы и здесь. Во второй половине VI – первой половине VII века на территорию ослабленной империи хлынули новые орды варваров и просто врагов – славяне, авары, персы, арабы. Казалось, что по всем историческим законам Восточная империя должна повторить судьбу Западной. Но этого не произошло. Несмотря ни на что, Восточная империя устояла. А это может означать лишь то, что на арене истории появилась новая сила.
Этой силой стал новый «византийский» этнос. О начальной стадии его становления мы можем судить лишь гипотетически. Он появляется на исторической арене как бы сразу, в готовом виде, – прошлое же его скрыто во мраке. Летописцы того времени всё своё внимание посвятили бурным событиям в столице и на фронтах империи, им не было дела до глубинных этногенетических процессов где-то на периферии. Однако некоторые вехи позволяют с достаточной точностью определить время и место рождения нового этноса.
Как уже отмечалось, наилучшие условия для этногенеза создаются на границе цивилизации с варварской периферией. Соседство развитой культуры плодотворно для роста этноса, а периферийное положение позволяет избежать разрушительного иноэтнического влияния и антисистемного паразитизма.
Именно такие условия сложились в первые века нашей эры в Малой Азии. Здесь утончённая эллинистическая культура западной, прибрежной части полуострова соседствовала с патриархальными племенными территориями внутренних горных районов. Территория Малой Азии была хорошо защищена от внешних бурь того времени. В то время как волны варваров – германцев, славян, гуннов насквозь проходили и опустошали Балканский полуостров, Малая Азия была надёжно ограждена от них морем. На востоке граница стабилизировалась в горах Верхней Месопотамии и Армении, – так что персы вплоть до начала VII века не угрожали внутренним районам Малой Азии. Эта спокойная обстановка благоприятствовала развитию нового этноса. Время рождения можно приблизительно определить исходя из хронологических рамок чётко выраженной фазы надлома и обычной длительности фазы подъёма (около 300 лет). Фаза надлома началась в конце VII века почти тридцатилетней полосой переворотов и мятежей, включала в себя времена иконоборчества и завершилась в середине IX века к воцарению Македонской династии. Значит, этнический толчок, давший начало византийскому этносу, произошёл в конце IV века. Гумилёв, верно отмечая факт появления византийского этноса, отождествил его с христианами вообще: «этнос по Христу». По его мнению, этнос христиан-византийцев появился в I веке н. э. и захватил в сферу своего влияния только восточные провинции Римской империи. Отсюда различие в судьбе западной и восточной частей империи: Восток, где были пассионарии-христиане, выстоял перед варварами, а Запад, где их не было, рухнул. Подтверждение своих выводов Гумилёв видел в победах императора Константина, поднявшего на своём знамени крест. Но здесь уже начинаются неувязки. Ведь армия Константина была сформирована в основном из уроженцев Галлии. Выходит, что христиане были в начале IV века не только на Востоке, но и на Западе. И на Западе их было уже настолько много, что они составили ядро целой армии. И потом, с этой западной армией Константин разгромил гораздо более многочисленную армию Лициния, набранную на Востоке! Получается, что непассионарный Запад победил пассионарный Восток! Приходится признать, что Восток в IV веке в смысле распространения христианства ничем принципиально не отличался от Запада. А раз так, то различие судеб Западной и Восточной империй зависело не от христианства. Христианство присутствовало и на Западе и на Востоке, но оно не остановило вторжения варваров. Это значит, что никакого сильного этноса в то время ещё не было. Христианство ещё не успело соединиться с новым этногенезом, или этот этногенез был только в самом зародыше. Это значит, что римские христиане были всё теми же римлянами, а не византийцами.
Далее Гумилёв продолжает развивать свою ошибочную антитезу, отождествляя пассионариев нового этноса с горожанами Востока. Однако именно горожане, несмотря на своё формальное христианство, оставались хранителями античных традиций. Города вели льготное привилегированное существование, оплачиваемое тяжёлой эксплуатацией рабов и колонов. Во второй половине V века, по данным источников, прирост сельского населения Восточной империи прекратился, что свидетельствует об истощении его витального потенциала. Энергия селян истощалась во многом для поддержания паразитического существования состоятельных городских собственников и люмпенов. В то время как горожане вели лёгкое существование, полное удовольствий, границы империи защищали рекруты из крестьян и отряды наёмных варваров, оплачиваемые средствами, выжатыми из тех же крестьян.
Таким образом, IV, V и в основном VI века византийской истории были продолжением истории римской суперсистемы. Византийский этнос в это время проявил себя по минимуму, созревая в её недрах. Пожалуй, первое зримое явление византийского духа – создание храма Святой Софии. Он был построен в 30-х годах VI века; архитекторы – выходцы из Карии, области на юго-западе Малой Азии. Симптоматично также, что с конца VI века императорский престол занимают выходцы из Малой Азии, которые сменяют Иллирийскую династию. Сначала это были уроженцы Каппадокии (внутренняя область Малой Азии). Затем к власти пришла Исаврийская династия, происходившая из близлежащего киликийского города Германикеи.
В VII веке империя подверглась постоянным вторжениям внешних врагов – персов, славян, арабов. Они принесли огромные бедствия населению. Но для византийского этноса эти нашествия сыграли положительную роль, – они во многом содействовали слому и уничтожению антисистемы римской цивилизации. Византийский этнос освободился из-под её давления, что способствовало его подъёму. В VII веке его черты стали явственны. Он начал распространяться за пределы Малой Азии. Несмотря на сохранение государственной преемственности, характер общества разительно изменился. Большинство городов пришло в упадок, шёл процесс аграризации небольших городков. «Городское население утратило свои прежние привилегии. Прекратились раздачи, свернулась городская благотворительность и благоустройство. Ушли в прошлое зрелища и бани. Византийский горожанин по условиям своего существования мало чем отличался от селянина. Из привилегированного „полита“ он превратился (за исключением жителя Константинополя) в такого же подданного императора, как и все остальные жители империи»[43]. Потеряло значение рабство, исчез колонат. На смену колону приходит свободный крестьянин-общинник, на смену наёмной варварской армии – крестьянское ополчение.
Существенные перемены произошли и в духовной жизни. Античная образованность и рационализм приходят в упадок, акцент перемещается со «знания» на «веру». На смену прозе приходит героический эпос. Вместо философских трактатов на первый план выходят жития святых. Религия стала восприниматься главным образом эстетически: «Образ для неграмотного как книга для грамотного».
Подъём византийского этноса происходил на фоне крушения старой системы и массированных разрушительных вторжений внешнего врага. А потому он остался не замеченным современниками и, долгое время, историками, которые обращали всё своё внимание на кризисные явления, недооценивая важности нового.
Византия устояла, и главная заслуга здесь принадлежала населению Малой Азии. Жители балканских провинций не смогли оказать никакого сопротивления славянам, которые спокойно селились на лучших землях империи от Дуная до Эгейского моря. Восточные провинции не оказали серьёзного сопротивления арабам. А вот малоазийцы выстояли. Арабские войска много раз наводняли Малую Азию, проходили её насквозь – до Босфора, – но всякий раз откатывались назад, так и не сумев её захватить. Не непомерно раздутая впоследствии битва при Пуатье, которая при всей своей важности была лишь отдельным эпизодом (со стороны мусульман это был просто большой грабительский набег, и целью их в битве при Пуатье было не покорение Франции, а сохранение захваченной добычи), а четырёхвековая борьба византийцев спасла Европу от арабского нашествия.
Основой новой социальной и военной организации, давшей отпор арабам, стал фемный строй. Вся территория империи была постепенно поделена на фемы – военно-административные округа. Войско фемы составляли стратиоты – свободные крестьяне-воины. Эти крестьяне, внесённые в стратиотские списки-каталоги, освобождались от всех налогов, кроме поземельного, взамен военной службы. «Фемы, прежде всего, возникли в Малой Азии, но не только по воле императоров, потому что с Востока, от арабов исходила главная угроза. Фемный строй во многом складывался спонтанно, „изнутри“. Его рождение и развитие было связано со спецификой положения и эволюцией отношений в Малой Азии, своеобразием малоазийской общины ещё в ранневизантийскую эпоху. Именно здесь арабы натолкнулись на упорное сопротивление местного населения, многочисленного свободного крестьянства. Не слабая византийская армия первой половины VII века, а малоазийское крестьянство не дало арабам, несмотря на многочисленные успехи и походы, утвердить своё господство в Малой Азии. Именно её население парализовало эффективность действия огромных сухопутных армий, направлявшихся к стенам Константинополя. Малая Азия стала „колыбелью средневековой Византии“»[44]. На сей раз почтенный историк попал в точку.
Византийский этнос быстро распространился и стал суперэтносом, заняв территорию Малой Азии и Балкан. В данную систему вошли все проживавшие здесь народы: греки, фракийцы, иллирийцы, армяне, сирийцы, исавры и др. Позднее в неё вошли болгары и сербы. Иноэтническое население, селившееся в пределах империи, попадало под воздействие сильного этнического поля и быстро ассимилировалось. Именно в этом причина того, что славяне, во множестве переселившиеся в пределы империи, не создали своей государственности, а с течением времени многие растворились среди греков. Один из авторов уже цитированной «Истории Средних веков» пишет: «Тенденции к формированию собственной государственности не нашли, однако, у славян развития на византийской почве. Уровень их общественного строя ещё не был достаточен для образования прочного союза и организации власти племенной верхушки над собственным и завоёванным населением». Дело здесь, конечно, не в «уровне общественного строя», – этот уровень был не ниже, чем в других славянских землях. Везде, где славяне оказывались за пределами граничащих с ними суперсистем Европы и Византии, они оказались способны к дальнейшему развитию и образованию собственных государств. И только на южных и западных окраинах славянского мира этот процесс прекратился.
Глава 7 Что такое феодализм?
Мы начали свой экскурс в историю Византии с констатации того факта, что средневековая Византия была страной не феодальной. Давно уже следовало бы отказаться от ошибочного отождествления Средних веков с феодализмом. Возникло оно в эпоху европейского Просвещения и представляет собой плод идеологических устремлений того времени, а не продукт научного анализа.
Термин «Средние века» был впервые введён итальянскими гуманистами, а в XVII веке он уже прочно вошёл в научный оборот в рамках схемы деления всемирной истории на Античность, Средние века и Новое время. За начало Средних веков было более или менее единодушно признано крушение Западной Римской империи. Конец определяли различно: от открытия Нового Света и Реформации (рубеж XV–XVI веков) до Английской и Французской буржуазных революций (середина XVII – конец XVIII века). Дело не в конкретных датах, – важно, что само по себе своеобразие и непохожесть этого периода на соседние – Античность и Новое время – вполне очевидны.
С феодализмом данный период истории полностью совпадает (если под феодализмом подразумевать и процесс его становления) только на части территории Европы, а именно в пределах бывших римских провинций Галлии, Италии, части Испании. Здесь феодальные отношения начали развиваться ещё в эпоху поздней Римской империи. В Германию феодализм пришёл гораздо позже, а для Северной и Восточной Европы о феодализме можно говорить не ранее второй половины периода Средних веков (до того там господствовал родоплеменной уклад). Примерно в то же время феодализм развивался и в Византии.
Как Средние века не совпадали с феодализмом, так и феодализм существовал не только в Средних веках. Это возвращает нас к проблеме феодализма. Необходимо выяснить, как феодализм соотносится с этногенезом.
Основными признаками феодализма, которые выдвигают на первый план различные теории, являются политическая раздробленность, условный характер собственности, соединение земельной собственности с политической властью, вассалитет, иерархическая структура общества и власти, корпоративность. При этом одни историки отстаивают уникальность феномена феодализма, считают, что феодализм существовал только в Западной Европе. Другие утверждают его универсальный характер, находят феодализм в различных регионах мира и в различные исторические эпохи.
Думается, что мнение последних более весомо. В самом деле, на Востоке присутствовали практически все перечисленные феодальные признаки. Повсюду на Востоке политическая власть была соединена с земельной собственностью, так как большей частью земель владело непосредственно государство. Часть этих земель оно раздавало в условное держание чиновникам и воинам; остальной землёй пользовались крестьяне, внося за это определённые платежи и повинности. Эпохи политической раздробленности были и на Востоке; а кое-где, как, например, в Индии, тенденция к ней даже преобладала. Иерархическая структура, личные связи, вассалитет – всё это присутствовало в отдельные периоды в Китае и Японии. Корпоративность же на Востоке была развита как нигде, – в кастовой системе Индии она достигла предела своего развития.
В самой же Европе, с другой стороны, в различных странах феодальные признаки выработались с разной степенью отчётливости. Эталоном феодализма считается Франция X–XI веков – с полным падением центральной власти, чрезвычайной раздробленностью, многоступенчатой иерархией («Вассал моего вассала – не мой вассал»). Однако в других европейских странах эти признаки не были так ярко выражены. В Скандинавии, особенно в Норвегии, некоторые феодальные институты вообще не сложились.
Несмотря на это, многие европейцы, да и не только европейцы, продолжают считать феодализм исключительно европейским историческим явлением. На чём же основывают они своё мнение? Л. Васильев, к примеру, в своей «Истории Востока», постулируя извечность антитезы «Запад есть Запад, Восток есть Восток» и отчаявшись найти какое-либо фундаментальное отличие западного феодализма от восточного, заявляет следующее: «Разница… очень большая, принципиальная. Феодализм как социально-политический феномен, как система институтов, тесно связан именно с политической раздробленностью – как в Европе, так и вне её. Преодоление раздробленности означает дефеодализацию»[45]. – Ну, тут только руками развести. В Англии после норманнского завоевания была довольно сильная централизация, как и в других владениях норманнов (Нормандское герцогство, Сицилийское королевство), но это вовсе не привело к ликвидации феодализма. А вот Древняя Греция была чрезвычайно политически раздроблена, но притом нимало не феодальна. Так что если существует связь между политической раздробленностью и феодализмом, то связь эта непрямая, опосредованная, и характер её Васильев совершенно не раскрыл.
А такая связь, по-видимому, действительно имеет место быть. Ведь если феодализм феномен и не исключительно европейский, то всё же не приходится спорить, что именно в Европе он сложился в наиболее законченной и выразительной форме. И в то же время именно в Европе феодальная раздробленность была и сильнее и продолжительнее, чем в других регионах мира.
Но если политическая раздробленность проистекает из характерных свойств самого феодализма, то причина высокой степени её развития и продолжительности в Европе заключается, возможно, в другом – в географическом положении. Государственная децентрализация всегда приводит к внешнеполитическому ослаблению общества, к увеличению его уязвимости для внешних ударов. На Востоке поэтому, когда государство слабело, оно тут же становилось объектом агрессии со стороны соседей. Поэтому раздробленность и была там, как правило, непродолжительна: либо страну захватывало соседнее государство, и она становилась частью иной централизованной структуры; либо ей давали централизацию вторгшиеся и захватившие власть варвары, которые быстро ассимилировались среди покорённых (история Китая даёт немало таких примеров).
Европа, в отличие от Востока, имела в этом смысле гораздо более выгодное положение. С трёх сторон она окружена морем и лишь с востока доступна для нападения. Относительная изоляция Европейского полуострова немало способствовала спокойному и глубокому развитию феодальных отношений. Европе повезло, что в это время по соседству с ней не объявился какой-нибудь Чингисхан или Тамерлан, а то её история могла сложиться иначе. Единственной серьёзной опасностью для Европы в раннефеодальный период были арабы. Но от арабов её надёжно прикрыла Византия. Впоследствии на уязвимой границе Европы образовался буферный пояс восточноевропейских государств, прикрывавший её со стороны Азии. А ко времени появления турецкой угрозы Европа уже далеко продвинулась по пути централизации и могла без большого напряжения отразить её самостоятельно. Остаётся добавить, что на Востоке самой феодальной страной оказалась защищённая от врагов морем островная Япония.
Тот же Васильев, развивая свою антитезу, противопоставляет феномену власти-собственности на Востоке некую «феодальную частную собственность» в Европе, никак, однако, не разъясняя, что же это такое. На Западе высказываются по данному вопросу более определённо. «Отношения господства и подчинения, утверждавшиеся в Западной Европе приблизительно между 900 и 1250 годами, отличались необычайным слиянием верховной власти и собственности, общественной и частной сфер жизни. Подобное слияние наблюдалось и в древних вотчинных монархиях Ближнего Востока»[46], – пишет Ричард Пайпс. Он также приводит отрывок из кембриджской «Истории английского права»: «По мере того как идеал феодализма окончательно входит в жизнь, всё, что мы называем публичным правом, растворяется в частном праве: юрисдикция это собственность, должность это собственность, сама королевская власть это собственность; одно и то же слово dominium употребляется для обозначения то собственности, то господства». Как видим, именно по вопросу феодальной собственности невозможно провести границу между Европой и Востоком, – и тут и там полное соединение власти и собственности.
Отличительную особенность от Востока Пайпс видит в другом, – «в Европе… положение смягчалось принципом взаимных обязательств, неведомым и, более того, немыслимым в восточных деспотиях. Феодальный правитель был для своих вассалов и верховным властелином и землевладельцем, но по отношению к ним он брал на себя определённые обязательства. Вассал клялся верно служить своему господину, а господин, в свою очередь, давал клятву защищать его. То была, по словам Марка Блока, „взаимность неравных обязательств“, но элемент взаимности всегда присутствовал; воистину это был контракт. Если господин не выполнял свою часть сделки, это освобождало вассала»[47].
То, о чём говорится в приведённом отрывке, – немаловажная особенность европейского феодализма. Однако она принципиально ничего не меняет. Дело в том, что контракт между властью и подданными де-факто существует и на Востоке, даже если он юридически не оформлен, как это было в Европе, находившейся под влиянием наследия римской цивилизации с её необычайно выработанной системой права. Пайпс, как и положено либералу, представляет себе восточную деспотию таким образом, что она только и думает, как бы побольше поугнетать своих подданных. На самом деле власть уже самим фактом своего существования заключает негласный договор с подданными: власть обеспечивает приемлемые условия существования, а подданные предоставляют необходимые власти материальные ресурсы. Этот контракт имел на Востоке не меньшую фактическую силу, чем на Западе. Если власть его нарушала, её существование было недолговечным. В Китае, к примеру, идея контракта между властью и народом была ясно выражена идеологически в концепции «Неба» – официальном обосновании императорской власти. Согласно этой концепции, мандат Неба на управление Поднебесной сохранял лишь тот правитель, который справедливо и мудро управлял своими подданными, – в противном случае он этого мандата лишался. Глашатаем же и исполнителем воли Неба являлся народ, который имел полное право свергнуть неправедного правителя. Как видим, идея контракта вовсе не является исключительно европейским достоянием.
Истматовская теория, которая трактует феодализм как определённую формацию, соответствующую определённой стадии всемирной истории, нам ничем не поможет. Эта теория – плод евроцентристского сознания, имеет смысл лишь в применении к Европе. Попытки втиснуть в её рамки историю Востока приводят к вопиющим натяжкам и искажениям. Но и сами европейцы уже осознали, что мировая история не тождественна европейской. Даже если отбросить здесь стадиальный характер феодализма и классовый подход и остаться чисто на почве экономического материализма, то всё равно не достигнуть удовлетворительного результата. Тогда определение феодализма будет выглядеть примерно так – строй, при котором мелкие производители-крестьяне ведут своё хозяйство на земле, собственниками которой они не являются, и притом находятся во властной зависимости от владельца земли. Но тогда получится, что вся мировая история от первобытно-общинного строя до индустриального общества, за небольшими исключениями (Античность), – это сплошной феодализм. И действительно, в этом расширительном смысле термин «феодализм» нередко используется для обозначения всего докапиталистического периода истории.
Анализируя традиционные теории феодализма, мы пришли к неутешительным итогам. Либо мы смещаем акцент на внешние особенности – и тогда получаем, что феодализм есть локальный феномен европейского развития. Либо мы ставим во главу угла отношения собственности, – и тогда рамки явления безбрежно расширяются; тогда вся история цивилизованного Востока это исключительно феодализм, – ведь рабовладельческий уклад на Востоке всегда имел второстепенное значение и выделить там рабовладельческую формацию проблематично. Тогда все различия разнообразных периодов истории Востока затушёвываются, и придётся рассуждать лишь о большей или меньшей степени феодальности любого восточного общества.
Всё это нам ничего не даёт, нужно зайти с другой стороны. В поисках определения понятия «этнос» мы поставили во главу угла человеческую личность, – попробуем и здесь применить тот же испытанный способ. Что собой представляет внутренний мир человека эпохи феодализма? При феодализме на первый план выходят индивидуально-личные связи. Отношения господства и подчинения, отношения сеньора и вассала – чисто личные отношения. Вассал торжественно приносил присягу сеньору не как представителю чего-либо, а как индивидуальному человеку. Вассал объявлял себя его «человеком»; сеньор, со своей стороны, оказывал покровительство вассалу тоже как индивидууму. Возникает культ верности и преданности сеньору, который характерен не только для Европы, но существовал и на Востоке. Таким же образом отношения личного характера складывались между крестьянином и его господином. Общество в целом превратилось в систему личных связей, в единую пирамиду личных связей, на вершине которой стоял король. Королевская власть всецело входила в эту систему. Она не имела ни малейшего гражданского оттенка. Король был лишь самым сильным и богатым (а иногда и не самым), самым знатным сеньором. В случае, когда король был «не самым», у него оставался только формальный авторитет главы сеньориальной иерархии, а сам он становился церемониальной фигурой (что-то вроде чжоуского вана в Древнем Китае).
Кроме сеньориально-вассальных вертикальных связей, общество скреплялось горизонтальными – сословными связями профессионально-бытового характера. И при этом никаких гражданских отношений, ни намёка на патриотизм или национализм. Жителям больших и малых феодальных сеньорий, в сущности, не было никакого дела до того, кто ими правит, – лишь бы правитель не нарушал сложившихся обычаев. Население равнодушно относилось к смене сеньора. Да и сами сеньоры в своих междоусобных спорах не справлялись с мнением населения. Ни для аристократа, ни для простолюдина не существовало понятие «отечество». Единственным мыслимым сообществом для крестьянина был его узкий сельский мирок. Для аристократа же главным была его принадлежность к знатному сословию с его незыблемыми правами и привилегиями, предметом его гордости была древность и благородство его рода.
Национальная солидарность была столь же мала, сколь велико отчуждение между сословиями, которое в Европе доходило почти до степени отчуждённости между высокими и низкими кастами Индии. И хотя в феодальной Европе степень эксплуатации крестьян была, возможно, меньше, чем в крепостнической России, а их правовой статус выше, – но никогда российские помещики не испытывали такого глубокого презрения к простолюдину, как европейские феодалы. От тех времён дошло множество примеров бессмысленных, но крайне унизительных повинностей французских вилланов. В одном месте они были обязаны в определённое время собираться перед замком и бить друг друга в грудь, делать гримасы и показывать язык; в другом месте они должны были в определённый день привезти господину яйцо на телеге, запряжённой восемью волами; в третьем – целовать запоры замка и т. д.[48]
Итак, мы наблюдаем в феодальном мире крайнюю слабость, если не полное отсутствие связей гражданских, патриотических, национальных; в то же время в нём сильны связи родовые и сословные. Но ведь первые всегда возникают на основе этноса, а вторые выходят на первый план во времена его упадка. Значит, феодализм возникает в периоды слабости этнического сознания (во всяком случае, на этническом, если не на суперэтническом уровне). Процессы феодализации общества указывают на его прогрессирующее этническое ослабление. Отсюда понятно, почему феодализм связан с децентрализацией, – ведь устойчивая политическая централизация возникает лишь на базе сильного этноса.
Наш вывод полностью согласуется с фактическими данными истории. В Европе классический феодализм сформировался в так называемые «тёмные века» (IX–XI). То было время глубокого упадка старых этносов, которые определяли историю Европы в эпоху Великого переселения народов и раннего Средневековья. А вся история подъёма новых европейских этносов – французов, англичан, немцев связана с дефеодализацией, усилением централизованного государства, подъёмом среднего класса и появлением гражданского общества. Лишь на излёте этногенеза феодализм стал заметен в Византии. В Китае феодализация происходила во времена упадка сначала чжоуского, затем ханьского общества. Но как только на арену истории выходил новый сильный этнос, – феодализм быстро сворачивался, сменяясь централизованной империей.
Феодализм, как видим, ничуть не препятствует новому этногенезу, потому что давление цивилизации на людей в это время минимально. С этим связана другая важная особенность этногенеза в условиях феодализма: крайне слабый этнический уровень может сочетаться с сильным суперэтническим полем. Именно так было в Европе. Перечисляя типические черты сознания человека феодального общества, мы забыли упомянуть важнейшую из них – религиозность. Хотя религия, сама по себе, предмет совершенно отличный от этноса, – но в реальной исторической жизни именно в сфере религии суперэтническое сознание часто находит символы для самовыражения. В Европе такими символами были филиокве и единая папская власть над церковью, отделившие западнохристианский мир от восточнохристианского.
И ещё одно стоит отметить. Феодализм есть продукт цивилизованного развития. Он не возникает напрямую из родоплеменного общинного строя. Феодализм отсутствует у этносов, которые не выработали своей цивилизации и находились вне контакта с чужой. У цивилизованных народов этот строй возникал на поздней стадии этногенеза, обычно в фазе обскурации; лучше сказать, возникали лишь его постепенно развивающиеся элементы. Исследователями европейского феодализма была отмечена интересная закономерность, – на территории Франции, в землях с абсолютным преобладанием галло-римского населения, элементы феодализма появились раньше, но развивались очень медленно; там же, где германцев было больше, – на севере страны, феодализм начался позднее, зато бурно прогрессировал и приобрёл наиболее законченные классические формы. Мощное суперэтническое поле великой культуры на юге Франции долго сопротивлялось процессу феодализации. У франков не было сильных традиций гражданского общества, как у римлян, и они легко и быстро поддались этому процессу.
Но нет никаких оснований объявлять европейский феодализм германским этническим феноменом. Множество германских племён, отгороженных лимесом от цивилизации Средиземноморья, появилось и исчезло, не создав ничего подобного. Только тесный контакт варваров с римской культурой на территории империи сделал возможным развитие в их обществе феодализма. И чем дальше от римской территории, тем более запоздалый и более далёкий от классического характер он имел.
Глава 8 Византия и Европа
Мы оставили Запад в то время, когда там рухнула Западная Римская империя и на её территорию вторглись орды варваров. Падение империи не означало прекращение существования римского суперэтноса, его этногенез продолжался. Романизированные народы Запада под властью варваров ещё долгие века хранили традиции римского культурного наследия.
Из различных варварских племён, вторгшихся и осевших на территории империи, ведущую роль в раннесредневековый период играло германское племя франков. Франки впервые стали известны в III веке н. э. Этнос зародился в низовьях Рейна на базе слияния различных германских (возможно, и кельтских) племён. В фазе подъёма франки, воспользовавшись ослаблением империи, перешли Рейн и расселились на плодородных равнинах Северо-Восточной Галлии между Рейном и Соммой. В ходе дальнейшей экспансии они разгромили галло-римскую державу Сиагрия, вестготов и бургундов и захватили всю территорию Галлии, а также подчинили себе сопредельные племена Германии. После этого Франкское королевство распалось на четыре обособленные области – Австразия, Нейстрия, Бургундия и Аквитания. Фаза надлома завершается объединением всего Франкского государства майордомами Австразии.
Почему именно австразийцам удалось объединить страну? Несмотря на то что франки захватили обширные территории, большая их часть осталась жить на прежнем месте – в Австразии; в прочих областях решительно преобладало галло-римское население, а осевшие там немногочисленные германцы быстро с ним сливались. Этническое напряжение франков было значительно выше, чем у находившихся в мемориальной фазе галлов. В Австразии преобладало свободное население, мелкие и средние собственники земли – крестьяне и воины, готовые по первому призыву своего короля сплотиться в непробиваемую «стену». К тому же силы австразийцев время от времени пополнялись новыми волнами колонистов из внутренних районов Германии. При таких условиях исход борьбы между областями был вполне предсказуем.
При Каролингах, выйдя из фазы надлома, Франкское королевство пережило новый расцвет. Оно представляло собой обширное рыхлое образование, населённое множеством народов. Энергия франков уходила большей частью на то, чтобы поддерживать его внешнее единство. Для чего требовались многочисленные походы против то и дело отпадавших окраинных племён. Из-за этой борьбы территория государства, даже при Карле Великом, прирастала не так уж значительно. Главнейшими завоеваниями были Саксония, Бавария и Северо-Итальянское королевство. Кроме того, в стратегически важных пунктах границы были захвачены и укреплены небольшие области – марки, форпосты империи на юге – за Пиренеями, на севере – в Скандинавии, на западе – в Бретани и на востоке – Паннонская (против славян). Тем самым Карл как бы наметил направления экспансии возникшего суперэтноса.
То, что экспансия франков носила этнический характер, показывает пример Саксонии. Саксы и прежде платили дань франкам, как и другие германские племена. Но в этот раз борьба приняла необычайно ожесточённый характер, так как целью Карла было не просто политическое подчинение саксов, но насаждение среди них западного христианства, которое стало главным этническим индикатором новой суперсистемы. Карл Великий всячески утверждал в своей империи католичество; именно он настоял на принятии в качестве догмата филиокве, хотя даже римские папы тогда сомневались в необходимости этого нововведения. Тем самым была вырыта непреодолимая пропасть между европейской и византийской суперсистемами.
Европейский суперэтнический толчок произошёл на территории Северной Галлии, – в этом не может быть сомнения; именно Франция была классической европейской страной во все эпохи европейской истории. Несмотря на то что франки овладели Галлией ещё на рубеже V–VI веков, суперэтнический толчок произошёл только два века спустя. По-видимому, такая пауза возникла из-за длительного раздельного проживания завоевателей-германцев и галло-римского населения. Только когда они стали общаться более тесно, возникли условия для нового этногенеза.
В бурной деятельности по созданию суперэтнической системы франкский этнос истощил свои силы, как это в своё время произошло и с римлянами. Но в отличие от римлян франкам не удалось придать системе политическое единство. После раздела империи Карла Великого Европа никогда уже не составляла политического целого. Дальнейшая история собственно франков не представляет большого интереса. Они дали своё имя Франции и, ненадолго, Восточной Франции – Германскому королевству, но то был уже другой этногенез. Франки в качестве субэтноса германского этноса создали Франконское герцогство, западная часть их вошла в состав французов, а прочие стали фламандцами.
Вскоре после смерти Карла Великого его империя распалась. В Европе наступили «тёмные века» – времена политической раздробленности, культурного упадка, набегов норманнов и мадьяр, – эпоха оформления классического феодализма на западе Европы. С точки зрения этнологической это был период, когда прогрессирующая, далеко зашедшая обскурация превратила старые этносы в субстрат и создала условия для нового этногенеза. На рубеже X–XI веков случилась целая серия этнических толчков, в результате которых появились народы, и поныне определяющие этнополитическое лицо Европы: французы, англичане, испанцы, немцы, итальянцы и др. После этнического подъёма XI–XIII веков они пережили надлом XIV–XV веков и вступили в пору инерционного «расцвета» – Возрождения.
Таковы основные вехи этнической истории европейского суперэтноса на том временном отрезке, когда он вёл параллельное существование с византийским суперэтносом. На данном этапе европейский суперэтнос достиг своих окончательных границ, – в его состав вошли Скандинавия, Британские острова и восточная периферия – Польша, Венгрия, Чехия, Прибалтика.
Теперь, разобравшись в европейской этнической ситуации, мы можем объяснить неравномерность и «странности» византийского развития в сравнении с западноевропейским, – да и особенности последнего тоже.
Историкам кажется странным слишком позднее развитие в Византии феодальных отношений по сравнению с западной частью римского мира. Они характеризуют данное явление как «затягивание раннефеодальной стадии», расценивают его как «отставание». Вот характерный пассаж: «В VIII веке были созданы предпосылки не для начала феодального присвоения крестьянских земель, а лишь для упрочения и развития централизованных форм эксплуатации крестьянства. В этом отношении Византия намного отстала от империи Карла Великого, в которой в VIII–IX веках уже утверждалось господство феодальных отношений»[49]..
А между тем всё объясняется просто. Вспомним, что этнос, зародившийся не в феодальной среде, может подвергнуться феодализации только на спаде своего этногенеза. Византийский этнос был примерно на 200 лет моложе франкского этноса, создавшего империю Карла Великого. Вполне естественно, что феодальные отношения стали формироваться в Византии позднее и она «отстала» в этом отношении. Более того, поскольку культурные традиции франков были более примитивны, чем в гражданском обществе Византии, то феодализм стал развиваться у франков и на более ранней стадии этногенеза. Процессы феодализации бурно шли у них уже в фазе инерции (VIII век), а в начале фазы обскурации феодальный порядок практически сложился. В Византии феодализация протекала в фазе обскурации и окончательно победила уже в мемориальной фазе, на рубеже XIII–XIV веков.
Историки сетуют, что Византия не смогла преодолеть своё «закостеневшее средневековое прошлое». Ничего удивительного, ведь это прошлое – время её подъёма, время расцвета её своеобразной культуры, самых больших побед и достижений.
А Византию между тем продолжают мерить западноевропейской меркой. Во 2-м тысячелетии по Рождеству Христову историю Европы начинают определять новые этносы, появившиеся в X–XI веках. Они были моложе византийского как минимум на 600 лет, и понятно, что фазы их становления совершенно не совпадали с византийскими. В то время как французы, англичане, немцы были на подъёме, Византия вступила в эпоху обскурации.
Феодальный строй не связан жёстко с какой-либо фазой этногенеза, поскольку процессы этнические и социальные лежат в разных плоскостях. Волею судьбы новые европейские этносы появились на фоне вполне сложившегося феодализма.
Необходимо подчеркнуть, что зрелый феодализм в Европе приходится на X–XI века, а не более позднее время, как считает официальная историография. Именно в X–XI веках он существовал в самом чистом и цельном виде. Последующий подъём культуры связан уже не с развитием феодализма, а с этническим подъёмом новых этносов. И весь этот этнический подъём был временем постепенного падения и изживания феодальных порядков, укрепления элементов инородных феодализму – централизованного государства, гражданского общества, средних слоёв. Но, заворожённые зрелищем хозяйственного и культурного подъёма на фоне ещё сильных феодальных порядков, историки принимают этот этнический подъём за расцвет феодализма.
Византия в данный период (XII век) тоже испытала непродолжительный подъём, внешне похожий на европейский, – развивалась экономика, расцветали города. Но природа византийского подъёма была совсем иная. Если в Европе расцвет шёл от избытка молодых этнических сил, то в дряхлеющей Византии элита и крупные города, пользуясь ситуацией стабильности на границах империи, усиленной эксплуатацией высасывали из своего народа последние соки. Никита Хониат характеризует «утончённых обитателей Константинополя как безответственных и незнающих, равнодушных перед злом, которое гложет империю, перед проблемами, которые занимают население провинций, задавленное бременем тягот, наложенных столицей». Когда же пришло время защищать столицу империи от врага, константинопольцы не оказали крестоносцам никакого сопротивления (огромный город защищали только наёмники-варяги). Отчуждение между столичной элитой и провинциалами достигло такой степени, что крестьяне при виде беженцев из захваченного врагом Константинополя злорадно над ними издевались.
Подъём византийских городов в XII веке оказался кратковременным и сменился глубоким упадком. Поэтому, в отличие от Европы, здесь не сложились ни цехи, ни городское самоуправление. Этническая обскурация приводит к упадку общественной жизни.
В свете теории этногенеза неудивительно также всякое отсутствие в Византии какого-либо «Возрождения». В Европе Возрождение началось с окончанием фазы надлома, в которой феодальная реакция, казалось, на время повернула ход развития вспять. Таким образом, Ренессанс в Европе пришёлся на фазу инерции, – а именно эта фаза характеризуется усиленным и продолжительным культурным творчеством, расцветом экономики. Византия в это время уже была в мемориальной фазе, её творческий потенциал угасал. И самое лучшее, что она могла сделать, – это сберечь самое ценное из своего культурного наследия, что и сделали исихасты, сохранившие в неприкосновенности формы и догматику православного христианства. Победа же «прогрессивных» сил в данной ситуации обернулась бы не расцветом, а деградацией важнейших культурных традиций, национальным маразмом.
Существование Византийской империи было прервано турецким завоеванием. Но причиной конца было, конечно, не оно. Византия пережила множество вражеских нашествий, знавала и худшие времена. Но тогда этнос располагал энергией и сплочённостью для отражения внешней угрозы, – теперь они иссякли, окраины империи отпали, для защиты Константинополя набралось лишь несколько тысяч воинов. Византия могла существовать ещё не одно столетие, располагай она для того благоприятными обстоятельствами. Но, к несчастью для себя, страна находилась на оживлённом перекрёстке евроазиатских путей, который во все времена манил к себе завоевателей – был желанным призом для любой мировой державы. Можно только удивляться жизнестойкости этноса, сумевшего так долго продержаться на этом бойком месте и сохранить независимость на протяжении тысячи лет, создать высокую оригинальную культуру, наследником важнейших традиций которой станет на далёких северных равнинах другой великий народ.
Глава 9 Европейский суперэтнос (этносы в суперсистеме)
Рассматривая взаимодействие этносов и формирование суперэтнических систем, мы упустили из виду одну важную проблему, – теперь необходимо наверстать упущенное и заполнить этот пробел. Речь идёт о соотношении этнических и суперэтнических ритмов в рамках суперэтнической целости.
Для Льва Гумилёва этой проблемы не существовало. Ведь, по его мнению, суперэтнос и этносы, входящие в него, рождались одновременно, а значит, фазы их полностью совпадали. Если же впоследствии в состав суперэтнической системы входил другой этнос, этногенез которого не совпадал по времени с этногенезом данного суперэтноса, Гумилёв поступал просто – растворял его в суперэтносе, лишал собственной ритмики, подчиняя ритмам суперэтноса.
Чтобы наглядно проиллюстрировать всю эту теорию, рассмотрим конкретный пример. Существует суперэтническая система – Европа. По Гумилёву, она возникла от толчка или группы толчков в конце VIII века. Существует также этнос, принадлежащий европейскому суперэтносу, к примеру – чехи, который зародился вне Европы и впоследствии вошёл в её состав на каком-то этапе своего этногенеза. Чехия вошла в состав Европы в результате экспансии немцев не ранее X века, когда чешский князь принёс вассальную присягу германскому королю. Вопрос: утратил после этого вхождения чешский этнос изначально присущие ему ритмы или, приняв общеевропейские, сохранил и свои?
По Гумилёву, Гуситские войны в Чехии и последующие события вплоть до битвы при Белой горе – события эпохи надлома, общеевропейской фазы надлома (XV–XVI века). Но так ли это? Следует помнить, что на протяжении этногенеза есть две кризисные эпохи, внешне очень похожие друг на друга, – фазы надлома и обскурации. Гуситские войны, реформация в Чехии – это надлом или обскурация? Можно уверенно утверждать, что именно фаза обскурации. Дело в том, что упомянутые события стали последним проявлением исторической активности чешского этноса. После битвы при Белой горе (1620), в которой были разбиты последние национальные силы чехов, этот народ исчезает как политическая величина. Почти три столетия чехи были самым лояльным национальным меньшинством Австрийской империи. А когда после её развала получили национальную независимость, то не приобрели ни силы, ни значения. Свидетельство тому капитуляция 1938–1939 годов. «Бархатные революции» второй половины XX века уже дальнейшие волны обскурации. Но если принять, что чешский этнос в XVII веке завершил фазу обскурации и перешёл в мемориальную фазу, то всё встаёт на свои места. Для этноса, находящегося в мемориальной фазе, поведение чехов вполне нормально. Тогда чешский этногенез можно интерпретировать так: подъём до начала XI века (объединение чешских земель); фаза надлома – распад Чехии на несколько частей, междоусобная борьба XI–XII веков; в начале XIII века королевская власть усиливается, Пшемысл-Отакар I объединяет страну, – с этого времени и до Гуситских войн – фаза инерции; Гуситские войны – начало фазы обскурации.
Теперь посмотрим, что собой представляет европейский этногенез (суперэтнический), определим его фазы. Сделать это довольно легко, потому что просматриваются они достаточно чётко. Можно согласиться с Гумилёвым в датировке возникновения европейского суперэтноса (рубеж VIII–IX веков). Но в отличие от Гумилёва мы связываем его образование не с появлением английского, французского, немецкого этносов, которые возникли значительно позднее, а с экспансией франков и созданием Франкской империи. Франкский этнос после того сходит со сцены, передав часть своих этнических ритмов новорождённому суперэтносу. Таким образом, фаза подъёма европейского суперэтноса занимает IX–XI века. В период подъёма сформировались такие характерные для Европы наднациональные институты, как рыцарство, церковь, сеньориально-вассальные связи; определились в целом и границы суперэтнической общности.
Фазы этногенеза суперэтноса должны проявляться в событиях и движениях, имеющих важное значение для всей системы в целом. В Европе такими событиями были Крестовые походы – общеевропейская экспансия на Ближний Восток и в восточноевропейские страны; а также столкновение двух главнейших европейских сил – империи и папства, светской власти и церкви. Эти события являются главным содержанием фазы надлома европейского суперэтноса (конец XI – начало XIV века). Экспансия европейцев в фазе надлома провалилась, – к исходу XIII века они были полностью вытеснены как со Святой земли, так и из Византии; на восточном направлении удалось продвинуться только в Прибалтику и Финляндию. Провал экспансии повлёк за собой ослабление общеевропейских институтов – папства и империи, – в фазе инерции они влачили жалкое существование. Империя становится понятием в большей мере символическим. Церковь же была подчинена светской власти поднимающихся национальных государств.
В начале XVI века европейский суперэтнос переходит в фазу обскурации, которая связана с другими широко известными общеевропейскими событиями – эпохой Реформации и новой экспансией – колонизационным движением в Новый Свет. В данной фазе главное этническое достояние Европы – католическая религия – окончательно оттесняется на второй план. Экспансия достигает успеха: европейцы покоряют и заселяют Америку, надолго закрепляются на Востоке и в других регионах мира, которые они долго эксплуатировали в своих интересах. Все эти успехи поддержали энергетику и благосостояние европейцев, так что последующие века явились для них эпохой постоянного материального прогресса и процветания.
Фаза обскурации закончилась в середине XVIII века. С этого времени европейский суперэтнос вступил в заключительную, мемориальную фазу – постепенного угасания этнического сознания, что ознаменовалось бурным развитием капитализма – строя с ярко выраженным антигуманным, антиэтническим, обскурационным характером.
Зная датировку фаз суперэтнического европейского этногенеза, мы можем сравнить её с датировкой любого этноса, не совпадающего с суперэтносом по времени рождения. Мы видим, что фазы чешского этноса опережали суперэтнические примерно на 100 лет, как до его вхождения в состав Европы, так и после.
Теперь рассмотрим развитие этноса также не совпадающего с суперэтносом по моменту рождения, но появившегося в пределах Европы и с начала до конца существовавшего в рамках этой суперсистемы. Таковым, среди прочих, является французский этнос. Многие историки, а с ними вместе и Гумилёв, считают, что этот этнос появился уже в IX веке на том основании, что появляется документально зафиксированный этноним «французы» и выделилась часть империи, в целом соответствующая границам будущей Франции. На мой взгляд, эти аргументы не очень убедительны. Выделившееся из империи государство Карла Лысого скоро развалилось, в свою очередь, на несколько частей, обитатели каждой из которых вовсе не считали друг друга «своими»: нормандцы и бургундцы для аквитанцев или гасконцев были такими же чужаками, как саксонцы или англичане. Подданные Карла Лысого, говорившие на галло-римских наречиях, были ещё предфранцузами – субстратом, на котором возник впоследствии французский этнос. То же самое было в России. Этноним «русские» появился ранее возникновения великорусского этноса, который носит его в настоящее время. «Французы» времён Карла Лысого относятся к современной Франции так же, как древние русичи к Московской Руси – России.
В датировке возникновения французского народа предпочтительно опираться на вехи процесса этногенеза, отражающиеся в исторических событиях. Подъём французского этноса связан с явным ростом политической активности и централизации, обнаружившимися в Северо-Восточной Франции в XII веке. А поскольку общее правило данной теории гласит, что этнос начинает зримо проявлять свою внешнюю активность через 100–150 лет после своего появления на свет, то следует отнести этнический толчок французского этноса к концу X – началу XI века.
Надлом проходил в XIV–XV веках, т. е. пришёлся в основном на фазу инерции суперэтноса. Так как экспансия французов в этой фазе была неудачна, то протекала она очень напряжённо; значительную часть фазы надлома заняли бедствия Столетней войны. Фаза инерции заняла XVI, XVII и начало XVIII века. Это время наибольших политических успехов Франции и складывания того типа французской классической культуры, который стал образцом для всей Европы и не только Европы. Расцвет культуры протекал в условиях более-менее стабильного инерционного существования.
В середине XVIII века Франция вступила в фазу обскурации, которая также имела очень острый характер, – чего стоит только период Великой французской революции и Наполеоновских войн. После ещё трёх революций во второй половине фазы обскурации внутренние конфликты слабеют и сменяются бурной колониальной экспансией. Внутренняя обстановка во Франции стабилизируется, что было следствием успехов экспансии. В XX веке французский этнос уже явно ослаблен, о чём ясно свидетельствует тяжёлый надрыв и витальных и пассионарных сил под напряжением Первой мировой войны. Французы навсегда утрачивают тот, присущий им прежде, задорный наступательный дух. Франция залегает в глухой обороне, – строит линию Мажино на германской границе. Но эта линия её не спасла. Крах Франции во Второй мировой и последующая потеря колониальной империи стали погребальным звоном по державному могуществу Франции. Активная историческая роль французского этноса окончилась, во второй половине XX века он вступил в мемориальную фазу.
Во всех этих перипетиях нам важно отметить вот что: наиболее активные периоды французского этногенеза – фазы надлома и обскурации – приходятся на самые спокойные периоды этногенеза суперэтноса – инерции и мемориальную. Особенно показателен последний случай. Такие мощные проявления этнической жизни, как Великая французская революция и создание колониальной империи, падают уже на время, когда активный этногенез суперсистемы прекратился. Это означает, что французский этнос в рамках суперэтноса сохранил совершенно самостоятельную ритмику, что наглядно подтверждает наши теоретические предположения.
Но, быть может, этногенез французов был уникален? Нет, он не был уникален. В главе, посвящённой экспансии, мы уже довольно подробно рассмотрели английский этногенез и кратко – германский. Этнические толчки данных этносов состоялись несколько ранее французского – в X веке. Об англичанах можно сказать, что наиболее яркие события их надлома – Война Алой и Белой розы, восстание Уота Тайлера – приходятся на наиболее спокойную суперэтническую фазу инерции. Англичане, так же как и французы, демонстрировали этнополитическую активность вплоть до середины XX века. Свою колониальную империю они создали уже после перехода Европы в мемориальную фазу.
Что касается немцев, то с ними дело обстоит труднее: германский этнос представлял собой слабо централизованную этнополитическую систему. Притом Германия была ядром Европы, и такой общеевропейский институт, как империя, базировался именно здесь. Так что немцы из всех народов Европы были наиболее вовлечены в общеевропейские дела. Поэтому определить собственно этнические фазы в Германии не так просто.
Однако именно в германской этнической системе имеется элемент, который лишний раз доказывает нашу правоту. Речь идёт о великогерманском, бранденбургско-прусском этносе, объединившем в XIX веке Германию и возродившем Германский рейх. Новый этнос зародился на восточной границе Германии, на землях завоёванных западных славян. Его субстратом были немецкие колонисты и онемеченные ими славяне и балты. Этнический толчок где-то на рубеже XII–XIII веков. О силе прусского этноса говорит то, что, несмотря на разорение Бранденбурга в Тридцатилетней войне, Пруссия вышла из фазы надлома окрепшей, с территориальными приращениями. В фазе инерции (середина XVII – середина XIX века) Пруссия стала одной из сильнейших держав Европы, причём значительно расширилась она благодаря не столько своей воинственности, сколько по слабости соседей – Польши и Австрии.
В начале фазы обскурации прусский этнос делает решительный рывок – объединяет вокруг себя все германские земли, хотя многие немцы, особенно из культурной элиты, с презрением относились к «некультурным» и грубым пруссакам и не считали их своими соотечественниками. Однако в исторических спорах побеждает не «культура», а реальная сила, которая была не на стороне старогерманских субэтнических групп. Языковая и этнокультурная близость сделали поглощение Пруссией – Германии не особенно трудной задачей. Но территория Германии, стиснутая другими цивилизованными народами в центре Европы, была староосвоенной землёй, не имевшей больших запасов естественных ресурсов и простора, необходимого прусскому этносу для развития. Поэтому он испытывал потребность в дальнейшей экспансии и стал фактором нестабильности в Европе. Отвести его агрессивный напор в колониальное русло было невозможно: неевропейский мир был уже, по большому счёту, поделён. Тогда пруссаки пошли напролом – развязали Первую мировую войну, пытаясь грубой силой завоевать своей державе место под солнцем. Они действительно были грозной силой, так как использовали для своей экспансии ресурсы всей высокоразвитой и многонаселённой Германии и союзников, помноженные на превосходную немецкую организацию. Однако ресурсы противоборствующей коалиции были значительно больше. Война закончилась тяжёлым поражением Германии.
Неудача экспансии привела сначала к значительному ослаблению, а затем к острому внутреннему кризису, в итоге которого в Германии был установлен тоталитарный нацистский режим. Нацисты собрали в кулак последние силы этноса и вновь бросили их в наступление. Катастрофическое поражение Германии во Второй мировой войне положило предел активности прусского этноса. Кроме тяжёлых людских и материальных жертв, он потерял большую часть собственно прусских территорий – Померанию, Силезию, Восточную Пруссию. Он был разгромлен, сломан. Германия вышла из-под влияния прусского этнического поля, а остаток пруссаков в Бранденбурге сам попал на время под влияние российского суперэтноса. В настоящее время этот остаток всё ещё выделяется в объединённой Германии своеобразными чертами своей этнической физиономии. Не социализм, а этническое своеобразие восточных немцев тому причина! Приверженность значительной части из них социализму и былая лояльность к советскому господству есть лишь одно из выражений этого своеобразия.
Прусско-германский этнос, без сомнения, принадлежит к Европе, но все яркие события его этногенеза приходятся на мемориальную фазу суперэтноса. Вряд ли требуется приводить ещё примеры, – положение вещей вполне ясно.
Итак, все ведущие этносы европейской суперэтнической системы появились уже после её возникновения, в X–XI веках, т. е. на 200–300 лет позже суперэтнического толчка. Это очень важное обстоятельство, позволяющее понять, почему этнический упадок Европы был столь медленным и постепенным. Ведь со времени вступления европейского суперэтноса в мемориальную фазу минуло два с половиной века, а между тем до последнего времени европейская культура была очень богата и глубока, а европейские державы главенствовали в мировой политике. Дело в том, что вся эта активность и достижения последних веков относятся на счёт отдельных этносов системы. Всё правильно, они позже возникли, – и обскурация их наступила позже. Исходя из теории этногенеза, легко понять причину резкого ослабления европейских «держав» (теперь по отношению к странам Европы это слово можно писать только в кавычках). Причина в том, что активная пора этногенеза этносов, принадлежащих к европейской системе, миновала. Новых же крупных этносов в Европе за последние века не возникло. Поэтому этническое старение Европы представляется столь же несомненным, сколь и необратимым.
Глава 10 Римский этногенез
Европейская этническая суперсистема является почти уникальной по тому, насколько ясно различимы в ней ритмы этнического и суперэтнического уровней. Во многом она обязана этим своей этнополитической децентрализации. Рассмотрим для сравнения политически централизованную суперэтническую систему. В качестве примера можно взять наиболее близкую к Европе – римскую систему, многие культурные достижения которой она позаимствовала.
Этногенез римского этноса и этногенез римского суперэтноса – различные процессы. Римский этнос зародился в маленькой области Апеннинского полуострова – Лации, причём римляне первоначально занимали лишь часть этой области. Этническим субстратом римлян были племена латинов и сабинов, из которых состояло первоначальное население Рима. Этруски, жившие севернее, видимо не принимали участия в раннем этногенезе, хотя и осуществляли серьёзное культурное влияние. Богатые и знатные выходцы из Этрурии стали позднее римскими царями. Этнический толчок можно предполагать во времена, приблизительно совпадающие с традиционной датой основания Рима – середина VIII века до н. э. или несколько ранее.
Надлом римского этноса проходил в V–IV веках до н. э. Это время борьбы патрициев и плебеев, удаление плебеев на Священную гору, учреждение народного трибуната; волнения, связанные с кодификацией законов комиссией триумвиров, гибель Марка Манлия и Спурия Кассия – вот события той поры.
К началу надлома можно отнести тираническое правление Тарквиния Гордого и учреждение республики. Законодательные реформы от середины до конца IV века до н. э. окончательно уравняли в правах патрициев и плебеев, закон Петелия обеспечил личную свободу бедных граждан. Таким образом, главнейшие внутренние проблемы были разрешены, что способствовало укреплению и сплочению гражданской общины. Это послужило основой успехов Рима в постоянной борьбе с соседями – вольсками, эквами. латинами, сабинами, этрусками, самнитами, галлами. После победы во Второй Самнитской войне Рим занял господствующее положение в Средней Италии.
В ходе успешной экспансии Рима фазы надлома зародилась новая этническая структура – римский суперэтнос. Римляне покоряли многие соседние племена и включали их в свою политическую систему путём предоставления различного объёма юридических прав гражданам союзных общин. Разнообразие отношений не вредило целостности, ибо политическая инициатива оставалась всецело в руках Рима. Римлянам удалось разрешить неразрешимую для греков проблему преодоления полисной замкнутости. Поэтому в фазе инерции Римско-италийский союз рос и расширялся. Римляне двигались от победы к победе и вскоре овладели всей Италией.
Фаза инерции римского этноса протекала с конца IV века до н. э. до середины II века до н. э. В продолжение её Римская держава раздвигается за пределы Италии. Победы над соседними державами – Карфагеном и Македонией позволили включить в её состав территории Пиренейского и Балканского полуостровов, часть Африки. Рим быстро превращался в великую средиземноморскую державу. Римский суперэтнос распространяется вширь; фазы надлома и инерции римского этноса были временем его подъёма. Но напряжение борьбы истощило силы римского этноса. Особенно велики были потери во Второй Пунической войне; Италия была разорена, погибли сотни тысяч молодых здоровых мужчин – цвет нации.
Завоевания и присоединения провинций на первых порах мало что давали римскому этносу. Их плодами воспользовались лишь единицы, страшно обогатившиеся на ограблении провинций. Для массы же римских крестьян и ремесленников это обернулось разорением, так как они не могли конкурировать с дешёвым рабским трудом и наплывом дешёвых сельскохозяйственных продуктов из районов Средиземноморья с более благоприятными природными условиями.
Упадок витальности и глубокие социальные противоречия привели к острейшему внутреннему кризису в фазе обскурации. Междоусобная борьба достигла крайнего ожесточения, с массовым террором и многочисленными гражданскими войнами. События той поры хорошо известны: движение Гракхов, борьба оптиматов и популяров; гражданские войны Мария и Суллы, Цезаря и второго триумвирата, проскрипции. Фаза обскурации римского этноса совпала с фазой суперэтнического надлома, что усугубило остроту кризиса. По причине наложения этих процессов друг на друга их не так просто различить. Однако можно уверенно утверждать, что апогей суперэтнического надлома приходится на Союзническую войну в Италии. Другими мощными его проявлениями были также национально-освободительные восстания во вновь завоёванных странах, восстания рабов в Италии и Сицилии. Но силы римской этнической системы были ещё велики, она продолжала свой рост; в фазе суперэтнического надлома в состав Римской державы вошли Галлия, Малая Азия, Сирия, Египет, Паннония и другие территории.
Успешная экспансия позволила ослабить внутренние конфликты. После бурной фазы обскурации римский этнос тихо и спокойно доживал свой век в благополучной Италии. Последние затухающие вспышки его активности можно наблюдать в сенаторских заговорах и преторианских мятежах в эпоху ранней империи. Дальнейшая римская история была уже связана с жизнью римского суперэтноса – Римского мира, который вступил в инерционную фазу своего существования (I–II века н. э.). Границы империи в целом стабилизировались, за два столетия только Дакия и Британия пополнили её состав.
В начале II века н. э. экспансия римского суперэтноса была остановлена. На Рейне и Дунае она натолкнулась на сопротивление германцев и сарматов, на Востоке предел ей положила Парфянская держава. В условиях стабилизации границ ресурсов витальности римской системе хватило до конца II века («золотого века» Римской империи). Затем начинается переход к обскурации, открывшейся кровопролитной междоусобной войной 193–197 годов, в которой провинциальные легионные группировки, опиравшиеся на различные провинции (этносы) Римской империи, боролись за первенство в имперском масштабе. Успех чаще был на стороне паннонцев. Династия Северов ненадолго стабилизировала ситуацию. После её свержения наступила полувековая (235–284) вакханалия мятежей, междоусобных войн и переворотов. За это время сменилось три десятка императоров, не считая множества узурпаторов, – почти все были убиты заговорщиками. При Диоклетиане наметился выход из кризиса через создание абсолютистско-бюрократической империи. Но и в следующем IV веке гражданские войны были нередкими.
В V веке фаза обскурации римского суперэтноса заканчивается. Вслед за её окончанием распадается Западная Римская империя. После её гибели этнос римлян существовал ещё несколько веков бок о бок с германскими завоевателями в составе варварских королевств. Постепенно римляне всё более погружались в обскурацию, пока их остатки не поглотила новая суперэтническая система – Европа.
А на Востоке империя продолжала существовать. История ранней Византии V–VI веков – это история римского суперэтноса в мемориальной фазе. Заветным желанием Восточной империи было – восстановить политическое единство суперэтноса. В погоне за этой целью император Юстиниан совершенно истощил её витальные силы. И только два века спустя римский суперэтнос на Востоке был поглощён византийской, отчасти арабо-мусульманской суперсистемами. Процесс его исчезновения ускорили массированные вторжения на территорию империи арабов, персов, авар и славян.
Подведём итоги. Фазы римского суперэтноса выделяются не менее отчётливо, чем в Европе. Но зато почти нечего сказать об этногенезе отдельных этносов, входивших в римскую систему. Их этногенез не то чтобы растворился в системе, но стал внешне незаметен. В этом коренное отличие политически централизованной этносистемы от децентрализованной. В первой из них пассионарность оттягивается на суперэтнический уровень, – что и делает этногенез на более низком уровне иерархии невыразительным и незаметным. Например, большинство римских императоров III века были выходцами из Иллирии, там же набирались наиболее боеспособные войска, сражавшиеся на границах империи. Между тем на их родине, в Иллирике, царили тишина и спокойствие.
Глава 11 Турецкий этногенез
Суперэтнические системы возникают в результате этнической экспансии. Этнополитическая экспансия достигает наибольшей силы в фазах надлома и обскурации. Европейская суперсистема была создана этносом-основателем на поздней стадии этногенеза – в конце фазы инерции и в фазе обскурации. Существует и другой вариант, когда суперэтнос создаётся в фазе надлома. Данный вариант имеет существенные особенности. Ведь если после фазы обскурации этнос практически исчезает с исторической сцены, передав часть ритмов своего поля возникшей суперсистеме, то этнос, создавший суперсистему в фазе надлома, ещё молод и находится в расцвете своих сил. В этом случае этнос-основатель абсолютно доминирует в системе, пока не перейдёт в мемориальную фазу. И только когда доминирующий этнос ослабеет и перейдёт в заключительную стадию угасания, суперсистема обнаружит собственное существование (если, конечно, она переживёт упадок ведущего этноса).
Этногенез турецкого этноса принадлежит к этому рассматриваемому типу. Возникновение турецкого этноса обычно связывается с приходом отряда туркмен Эртогрула на северо-запад Малой Азии. Относительно места возникновения этноса не может быть споров. Что же касается времени возникновения, то представляется, что этнический толчок произошёл несколько раньше – на рубеже XII–XIII веков. Северо-запад Малой Азии на протяжении всего XII века был границей Византийской империи и Сельджукского султаната. Византийские пограничные крестьяне-воины акриты соседствовали здесь с тюрко-мусульманскими пограничниками газиями. По образу жизни и её условиям между ними было большое сходство. Граница смещалась туда и сюда, византийцы и тюрки активно перемешивались. На этом субстрате греков, армян, тюрок, других малоазийских народностей и возник турецкий этнос. Тюрки Эртогрула не принесли его на копытах своих коней, а влились в уже поднимающийся этнос и стали ядром его политической организации.
Первым правителем, много сделавшим и для внутренней организации этноса и добившимся весомых территориальных приобретений, был Осман. Скрытая стадия подъёма закончилась, новый турецкий этнос впервые себя проявил. А потому личность и имя Османа врезались в память. Новый этнос стал именовать себя османами – в отличие от всех иных тюрок.
Турки-османы развернули экспансию на земли ослабевшей византийской суперсистемы. Эта экспансия стала основным содержанием их фазы подъёма. И закончился подъём турецкого этноса именно тогда, когда турки завершили покорение всех бывших византийских владений. Таким образом, по крайней мере в территориальном плане, турки-османы стали наследниками Византии. На протяжении XIV–XV веков они постепенно захватили все Балканы и Малую Азию, сделали своей столицей Константинополь. Эти земли стали пространством турко-мусульманского, османского суперэтноса. В ходе экспансии на Балканы турки отбили все атаки европейцев, которые были очень не прочь прибрать к рукам земли угасающей Византии. Европейцы вели свою экспансию против неё ещё с конца XI века. Однако балканские христиане предпочли турецкое владычество, так как османы отличались веротерпимостью и не предпринимали попыток насильственного обращения в ислам, – тогда как католики-европейцы везде насильственно навязывали свой вариант христианства. Граница между европейской и турецкой этнополитическими системами прошла по северу Балканского полуострова: при этом Хорватия и Венгрия остались за Европой; а Сербия, Босния и Валахия – за Турцией.
На рубеже XV–XVI веков турецкий этнос вступает в фазу надлома. Его начало было ознаменовано выступлениями кызылбашей («красношапочников»). В то время шиитское учение из Персии распространялось среди тюрок Восточной Анатолии. Недовольные усиливающейся централизацией, стесняющей их прежнюю племенную свободу, они стали поднимать восстания. Османы были строгими суннитами и непримиримо боролись с шиизмом. Раскол проник даже в семью султана. Любимый сын Баязида II – Ахмед надел красную шапку и тем самым лишил себя шансов на престол. Новый султан Селим произвёл резню шиитов в Анатолии, в которой их погибло, как сообщается, около 40 тысяч. Однако восстания шиитов вспыхивали и в дальнейшем.
В фазе надлома турки добились новых крупных успехов в экспансии. Селим I покорил империю мамлюков (Сирия, Палестина, Египет и Хиджаз). В Египте Селим захватил ценнейшие реликвии ислама – знамя и плащ пророка и увёз их в Стамбул. Последний халиф из рода Аббасидов отрёкся от своих прав в пользу Селима. Таким образом, турецкий султан стал халифом, главой мусульманского мира. Защита и представительство интересов ислама стали определяющей чертой турецкого суперэтнического сознания.
Сулейман Великолепный продолжил завоевания отца. Он присоединил к Турецкой империи Ирак, Йемен, побережье Северной Африки. Турецкий султан владел теперь почти всеми территориями арабского суперэтноса, но, присоединив их политически, турки не смогли освоить их этнически; арабы в Турецкой империи сохранили свою этническую самостоятельность.
Между тем к середине XVI века турецкая экспансия выдохлась. На западе европейцы остановили её в Венгрии. На востоке она натолкнулась на непреодолимое сопротивление шиитского Ирана. Дальнейшие усилия приводили только к напрасной трате сил. Турецкая армия, намного превосходившая персидскую, многократно вторгалась в Иран, захватывала его столицу, громила другие крупные города. Но всё было бесполезно. Персы, уклоняясь от решительного сражения, изматывали турок мелкими стычками, применяли тактику выжженной земли, оставляя турок без продовольствия и фуража. В конце концов туркам приходилось оставлять захваченные территории.
Непрерывные войны на востоке и на западе истощили витальные силы этноса. Усиливался налоговый гнёт, государственный аппарат поразила коррупция, – внутренний кризис всё более усугублялся. В конце XVI – начале XVII века поднялась волна народных восстаний. В Анатолии восстали сипахи (конное ополчение), в столице хозяйничали янычары. Султаны Осман II и Ибрагим I были свергнуты и убиты, было смещено ещё несколько султанов; янычарское своеволие сменял султанский террор.
В фазе инерции острота внутреннего кризиса несколько спадает. Но поскольку экспансия Турции была остановлена ещё в XVI веке, этот кризис не был преодолён до самого конца существования империи. Вся фаза инерции – время постепенного ослабления этносоциальной системы, военных поражений, территориальных потерь, восстаний в провинциях, многие из которых надолго приобретали фактическую самостоятельность. В результате бунтов янычар и духовенства, опиравшихся на стамбульские низы, было свергнуто ещё несколько султанов. Под натиском Европы и России турко-мусульманская система отступает. В повестку дня встаёт вопрос о разделе турецкого наследства – «Восточный вопрос».
В середине XIX века турецкий этнос вступает в фазу обскурации, отражением чего стал ряд либеральных реформ, появление турецкого национализма, младотурецкая революция. Крупнейшими событиями этой фазы для турок стали Балканские войны 1912–1913 годов и поражение в Первой мировой войне. Первые привели к почти полному вытеснению турецкой суперсистемы с Балкан. Второе означало потерю всей империи. Это был крах турецкого суперэтноса. Расположившийся в узловом регионе Евразии, он повторил судьбу Византии. рухнув под натиском соседей. Турки оказались зажаты в Малой Азии – и ту отстояли для себя с трудом. Здесь, под руководством националистического правительства, пошёл быстрый процесс вестернизации и обскурации этноса; низведение его с суперэтнического на более низкий – этнический уровень, превращение в обыкновенную нацию западного типа.
В настоящее время турецкий этнос находится, видимо, в завершающей стадии фазы обскурации. Этнологические исследования показывают, что суперэтническое сознание в нём ещё не умерло. До последнего времени, несмотря на пропаганду властями западной культуры, несмотря на насаждение западного национализма, – многие крестьяне считают себя не столько турками, сколько прежде всего мусульманами, ставя во главу иерархии свою суперэтническую принадлежность[50]
Глава 12 Самая древняя суперэтническая система
Древнейший из существующих ныне суперэтносов сложился на крайнем востоке Евразийского материка. Видимо, это не случайно. Китай отделён от других крупных цивилизаций высочайшими непроходимыми горами и обширными великими пустынями. В древности этот барьер был практически непреодолим. Защищённый от чужих влияний условиями природной изоляции, Китай мог тысячелетиями сохранять свою этнокультурную преемственность.
Возникновение китайского суперэтноса связано с экспансией племени Чжоу на древнекитайские земли. Кое-кто может возразить, что и до этого Китай имел многовековую цивилизацию. Но представляется, что именно в период Чжоу сложились те основные духовно-культурные формы, в которых проходило всё дальнейшее существование китайского народа.
Этнос Чжоу сформировался на субстрате из варварских, в основном, племён на западной окраине шанского Китая – в долине реки Вэй. Он подвергся большому культурному влиянию со стороны соседней цивилизации, что способствовало его подъёму. Где-то в конце XII века до н. э. чжоусцы захватили империю Шан.
Это завоевание ознаменовалось для Китая не только сменой политической власти, но и глубокими духовно-идеологическими переменами. Чжоусцы уничтожили обычай массовых жертвоприношений военнопленных, характерный для шанского Китая. Отменили человеческие жертвоприношения вообще; там, где их требовал обычай (например, при похоронах знати), теперь клались соломенные чучела людей.
Ещё большее значение имели изменения в религиозно-идеологической сфере. В эпоху Шан главное место занимал культ предков, как посредников между миром живых людей и небесным миром богов. Теперь он отходит на второй план. Вместо первопредка и верховного божества Шанди вводится культ Неба (тянь) в качестве верховного начала мироздания и культ Сына Неба – чжоуского вана. Безличное Небо карало за прегрешения и вознаграждало добрые дела, так что от самих людей зависело снискать его милость. Именно волей Неба Чжоу обосновывало свой приход к власти; подчёркивалось, что милость Неба не гарантирована навсегда, что заслужить её можно только постоянными праведными делами.
Концепция Неба оказалась чрезвычайно гибка и всеобъемлюща, – она легко вбирала в себя и органически усваивала любые локальные культы и философские учения. Небо стало представлять собой как бы иерархическую вершину всей их совокупности. Само по себе оно было отстранённым от земной жизни, и его функции сводились к роли верховного судьи. Концепция Неба на протяжении тысячелетий сохранялась в качестве краеугольного основания мировоззрения китайцев. Именно в её гибкости и всеохватности, как думается, заключён секрет жизнестойкости и небывалого долголетия китайской этносистемы. Никакой новый этногенез или этническая экспансия не были страшны этой системе, она легко и свободно включала в себя всякий новый этнос, надстраиваясь над его ритмами. И время существования такой системы ограничено лишь её собственным сроком жизни.
Чжоуский суперэтнос принадлежал к той разновидности систем, которые создаются в фазе надлома, так как во всей деятельности чжоусцев в государственной, социальной, идеологической сферах видно, что это был народ ещё молодой и свежий, исполненный энергии и творческой силы. О том же говорит и довольно длительная относительная централизация системы.
Данный суперэтнос интересен ещё и тем, что многими своими чертами напоминает Европу. Это и децентрализованная политическая структура на более поздней стадии существования, и своеобразная «феодальная» иерархия. Это и характер этногенеза внутри системы, когда ведущие этносы зародились и поднялись уже в пределах существующей суперсистемы. Таким образом, история чжоуского суперэтноса может служить футурологической моделью для Европы, так как просуществовал чжоуский Китай намного дольше.
Изначально государство Чжоу представляло собой федерацию автономных областей, правители которых были вассалами верховного ванна. Относительное единство этот конгломерат имел лишь в эпоху Западного Чжоу (до середины VIII века до н. э.), на которую приходятся фазы надлома и инерции чжоуского этноса. Затем, под напором кочевых жунов, чжоусцы отступают со своих исконных земель в долине реки Вэй и переносят столицу на восток. Начинается эпоха Восточного Чжоу, когда политическое единство окончательно распадается. Некоторые прежние зависимые владения сначала сравниваются по силе с ваном, а затем и далеко превосходят его. Чжоуский ван теряет своё политическое главенство, за ним остаётся только верховная культовая роль.
Восточное Чжоу традиционно подразделяется на два периода: «Ле го» («Множества царств») и «Чжань го» («Воюющих царств»).
В период «Ле го» (VIII–VI века до н. э.) существовало несколько сот независимых царств, которые в ходе постоянной борьбы постепенно поглощались наиболее сильными. Восточное Чжоу становится в это время лишь одним из царств и настолько ослабевает, что попадает под покровительство более сильных. Власть вана уже напоминает символические прерогативы императора Священной Римской империи или, может быть, ещё более – власть римского папы. Несмотря на политический распад, суперэтнос рос и расширялся, – в период «Ле го» в него входят этносы и государства бассейна Янцзы, ранее чуждые чжоускому миру. В итоге многолетней борьбы политическая раздробленность сильно уменьшилась, выделились «семь сильнейших» царств, боровшихся друг с другом за первенство.
В период «Чжань го» (V–III века до н. э.) войны между ними усилились. Если в период «Ле го» завершилась обскурация чжоуского этноса, то период «Чжань го» был временем обскурации белее молодых этносов чжоуской системы. На протяжении этого периода все малые царства были поглощены сильнейшими – Хань, Вэй, Ци, Чу и Цинь. В конце концов победу одержало царство Цинь, которое завоевало все прочие государства и таким образом объединило Китай в одной империи.
Этнос царства Цинь возник на субстрате из чжоусцев и западных варваров в долине реки Вэй (как и Чжоу!). Его ранняя история малоизвестна. так как он занимал периферийное положение и поначалу не принимал участия во внутрикитайской борьбе. Цинь росло и усиливалось за счёт экспансии на земли варваров.
Победу во внутрикитайской борьбе Цинь смогло одержать благодаря тому, что в нём последовательно внедрялись порядки, основанные на учении школы легистов (фацзя). Учение легистов имело ярко выраженный обскурационный характер и было тоталитарным по своей сути. Оно относилось к человеческой личности с полным нигилизмом. Проповедовало абсолютный утилитаризм в интересах государства, забвение всех национальных традиций; идеи «сильного государства и слабого народа», «оглупления подданных». В практической политике это означало снятие всех препятствий перед развитием частной собственности, рыночных отношений и рабовладения; усиленную эксплуатацию простого народа, полный запрет всякого инакомыслия с жесточайшими наказаниями за малейшее выражение протеста; жестокие наказания вообще за любое неисполнение закона, причём по принципу круговой поруки, когда за проступок одного ответственность несла вся община. За счёт предельной рационально организованной эксплуатации населения была создана сильная армия и эффективный административный аппарат. Возникла крайне агрессивная имперская структура, в которой господствовали военно-бюрократическая знать и богатые собственники. Она была идеально приспособлена для экспансии и жизненно нуждалась в ней для пополнения витальных ресурсов, истощаемых предельной эксплуатацией своего населения. В результате китайской «столетней» войны (конец IV – конец III века до н. э.) Цинь захватило одно за другим все китайские царства.
После завоевания порядки Цинь распространились на весь Китай. Население империи было обложено тяжёлыми налогами и повинностями – на содержание армии и завоевательные войны, на грандиозное строительство Великой Китайской стены, а также дорог, каналов, роскошных дворцов. Витальный потенциал народа быстро истощался, а экспансия за пределами Китая не давала ощутимого пополнения. Напряжённость в стране стала быстро нарастать. Только жестоким террором императору Цинь-Ши-Хуанди удавалось держать ситуацию под контролем. При малейшем возмущении местное население поголовно вырезалось; сотни оппозиционных философов были живыми зарыты в землю, остальных обратили в рабство и угнали на строительство Великой стены. Под страхом смертной казни было приказано сжечь все книги, кроме практических руководств.
Если продолжить аналогию с Европой, то циньский режим можно сравнить с режимом Третьего рейха, выросшим из Прусского государства, которое возникло на «варварской» европейской окраине. Пруссия, так же как и Цинь, отличалась крайней бедностью культуры при эффективной и жёсткой военно-бюрократической системе. Так же, как и Цинь – Китай, прусская Германия объединила Европу (нет сомнения, что это удалось бы ей вполне, не помешай этому русские «варвары»!). Тоталитарные порядки в обеих империях также вполне сопоставимы.
Совершенно ясно, что такая жёсткая и затратная система в отсутствие крупных внешних источников подпитки не может продержаться долго. Сразу после смерти Цинь-Ши-Хуанди его империя была сметена волной восстаний почти всех слоёв населения – от рабов до аристократии. Новым императором стал вождь повстанцев сельский староста Лю Бан, провозгласивший династию Хань. Ханьская империя просуществовала четыре столетия. Несмотря на свержение династии Цинь, ханьский Китай унаследовал многие её централистские и унифицирующие устои. Китай продолжил своё существование как централизованная империя. Суперэтническое сознание, символизированное единой империей, стало явно преобладать среди китайцев над местным этническим.
В целом ханьский период в истории Китая был временем культурного подъёма, политического могущества, хозяйственного процветания. Его основополагающая роль для китайской нации достаточно очевидна уже из того факта, что китайцы до сих пор идентифицируют себя как «ханьцы». Учитывая длительность и устойчивость нового китайского подъёма, мы имеем право говорить о рождении нового этноса, который обновил древнюю суперсистему. Ханьский суперэтнос возник из контакта этноса Цинь с населением Внутреннего Китая. Основу ханьского синтеза составили культура Древнего (чжоуского) Китая с централизованной имперской государственностью Цинь.
В связи со сравнительной слабостью этнического поля в ханьское время преобладала не этногенетическая, а витальная ритмика (подъёмов и упадков витальности), – два полных цикла которой продолжительностью в среднем по 200 лет представляют собой периоды Старшей и Младшей династий Хань. Каждый из них протекал по единой, уже рассмотренной нами схеме: подъём витальности в смутное время вследствие ослабления режима и стихийных бедствий; затем централизация и усиление эксплуатации витальной энергии народа; наступает расцвет – время имперского величия, внешних завоеваний, грандиозного строительства; потом спад из-за витального истощения – нарастание политической анархии, социальный кризис, внешнеполитические поражения. Последний период завершается мощными народными восстаниями, свергающими правящую династию и экспроприирующими богатства прежней элиты. Затем всё начинается заново, – цикл повторяется.
Ханьская эпоха завершилась в конце II века н. э. Восстание Жёлтых повязок положило начало длительному периоду распада страны, междоусобных войн, народных бедствий. Пользуясь внутренней неурядицей, на территорию Китая с разных сторон вторглись соседние кочевники, которые полностью хозяйничали на севере и основали здесь несколько государств. Массы китайцев отхлынули к югу, в бассейн Янцзы. Переходный период длился почти четыре века.
Новый подъём Китая начался во второй половине VI века и связан был с династией Тан. В переходный период условия для нового этногенеза были благоприятны: децентрализация, ослабление давления цивилизации, активные этнические контакты в результате вторжений северных варваров и освоения земель юга. В этот период появляется этнос (а возможно, и несколько этносов), который зародился на субстрате из ханьцев и варваров в процессе их перемешивания и ассимиляции. Этнос династии Тан возник на севере Китая, в зоне контакта завоевателей – сяньби и коренного китайского населения. Известно, что сяньби быстро переняли культуру Китая, «окитаились». Однако и они со своей стороны внесли существенный вклад в его этногенез. Этнос, возникший в результате контакта древней ханьской цивилизации со степной культурой, дал своеобразный яркий и богатый синтез.
В переходный период произошли большие изменения в духовной сфере китайского народа; в частности, поднялись и получили распространение даосская и буддийская религии. Но в целом духовная культура сохранила свою преемственность. Над всеми идеологическими течениями по-прежнему господствовала основополагающая концепция Неба, а даосизм и буддизм стали её органичными составляющими. Новый этногенез развивался в рамках старой чжоуско-ханьской системы, гармонично взаимодействуя с её ритмами.
Если говорить о фазах «танского» этногенеза, то они намечаются приблизительно так: подъём – до начала или середины VIII века (возрождение великой державы, активная и успешная внешняя политика, подъём экономики и культуры); надлом – до середины X века (мощные восстания Ань Лушаня и Хуан Чао, политическая децентрализация). В середине X века страна преодолевает раздробленность и вступает в фазу инерции, – эпоха династии Сун вмещает в себя всю фазу инерции и начало фазы обскурации. В период династии Сун Китай подвергся агрессии сильных северных соседей – киданей, чжурчженей, монголов и постепенно отступал под их натиском. В конце концов к исходу XIII века монголы завоёвывают весь Китай. В фазе обскурации (вторая половина XIV века) китайцы сбрасывают монгольское иго. Время династии Мин приходится уже в основном на мемориальную фазу «танского» этногенеза. Последней вспышкой экспансионистской активности стали походы Чжэн Хэ в Индийский океан (первая половина XV века). В дальнейшем Китай лишь вяло отбивался от монгольских набегов на севере и от нападений японских пиратов на восточное побережье. В период этой династии события в стране развивались по ханьскому сценарию: витальный цикл подъёма-упадка составил около 250 лет, после чего мощные крестьянские восстания свергли правящую верхушку. Но в этот кризисный момент вмешалась внешняя сила, – находящийся в состоянии междоусобицы Китай завоёвывают маньчжуры. Погрузившийся в обскурацию Китай оказался не способен дать отпор небольшому северному народу. Китайская знать, чтобы сохранить свои богатства, перешла на сторону завоевателей, – это позволило малочисленным маньчжурам покорить огромную страну.
С тех пор на протяжении двух с половиной столетий единство Китая поддерживалось чужеродной силой иноземных завоевателей. Династия Цин опиралась в первую очередь на маньчжуров и до самого конца своего существования оставалась чуждой для китайцев. С падением династии Цин Китай опять погрузился в междоусобицу, осложнённую агрессией японцев. После нескольких десятилетий нашлась сила, централизовавшая страну и организовавшая новый подъём Китая. Этой силой явились коммунисты, опиравшиеся на китайское крестьянство. Возникла химерная конструкция – коммунистический Китай, существующий до сих пор (феномен этнической химеры рассматривается ниже).
Наблюдение над китайским этногенезом даёт несколько важных выводов. Во-первых, о длительности существования этноса, – в исключительных случаях оно может продолжаться несколько тысячелетий. Во-вторых, китайский этногенез показывает важное свойство этногенеза вообще, благодаря которому и открывается возможность столь долгого существования, – преемственность этнических ритмов. Речь идёт о том, что новый этнос, родившийся в пределах старой суперсистемы, может унаследовать её ритмы и таким образом продлить её существование. Именно таково было отношение между этносами Чжоу и Хань, Хань и Тан.
Чтобы показать, что это не исключительно китайский феномен, коснёмся подобной же ситуации в Иране.
Глава 13 Иранский этногенез
Как известно, этнополитический подъём Ирана (Персии) в Новое время был связан с приходом к власти династии Сефевидов. Эта династия политически централизовала Иран, восстановила его как великую державу Востока. Династия Сефевидов была по этническому происхождению тюркской, азербайджанской, и естественно, что первое время политическую элиту государства составляли её соплеменники. Отсюда некоторые историки, придерживающиеся лингвистической теории этноса, представляют дело так, что государство Сефевидов первоначально было азербайджанским и лишь впоследствии переродилось в иранское. Это совершенно не соответствует действительности. (Этот пример лишний раз свидетельствует, к каким искажённым результатам в историческом плане можно прийти на базе формального этнолингвистического подхода.)
Сефевиды были ардебильскими шейхами. Они правили Южным Азербайджаном (территория на северо-западе современного Ирана), а столицей их был город Ардебиль. Этот город находится недалеко от южного берега Каспийского моря, в соседстве с иранскими провинциями Гилян и Мазендеран, которые узкой полосой тянутся между берегом моря и мощным горным хребтом Эльбурс. Обе провинции издавна были оплотом шиизма в Иране. Шиизм стал идеологическим знаменем Сефевидов. Завоевание ими Ирана и распространение шиизма шли рука об руку. Но шиизм тюрки переняли у коренного населения Ирана – гилянцев. Значит, новый этнос, объединивший Иран, возник на основе этнического контакта тюрок-азербайджанцев и древнего иранского этноса, а тюркские племена были его главной движущей силой на первом этапе.
Шиизм – одно из двух главных течений ислама. Шииты среди всех мусульман составляют значительное меньшинство. Иран единственная страна, в которой шииты абсолютно преобладают. Другие крупные массивы шиитского населения сосредоточены в странах, прилегающих к Ирану. Многие из этих территорий некогда входили в его состав и, видимо, до сего времени находятся в сфере влияния иранского суперэтноса: Ирак, Курдистан, Афганистан, Азербайджан, Пакистан. За пределами крупного скопления шиитов в Иране и вокруг него существуют только сравнительно небольшие общины, всюду составляющие меньшинство. Такое явное тяготение шиизма к иранскому этносу не может быть случайным. Шиитское движение с самого своего начала наибольшую поддержку обрело на территории Ирана и в прилегающих районах Ирака (входившего в ту пору в Иран). Правда, за многие века господства в Иране суннитских правителей большинство его населения было обращено в суннизм. Так что Сефевидам пришлось заново насаждать шиизм на большей части Ирана.
Однако в Иране была одна особая область, где шиизм господствовал на всём протяжении его мусульманской истории. Это прикаспийская область Гиляна и Мазендерана. От остальной страны она была в значительной степени изолирована каменной стеной Эльбурса. Сюда, под защиту высоких гор, бежали уцелевшие иранские пассионарии ещё в эпоху арабского завоевания. Горцы Эльбурса издавна славились как лучшие воины. Здесь, в этой изолированной области, древнеиранский этнос сохранился в наибольшей чистоте, сохранил свою национальную религию – шиизм и передал эстафету новому этносу, возродившему величие Ирана.
Догматические и обрядовые различия между шиизмом и суннизмом совсем не велики и не оправдывают острого противостояния между ними. Главный пункт их противоречий в том, что если сунниты признают право на верховную власть над мусульманской общиной за любым мусульманином, то шииты отстаивают это право только за потомками пророка и его зятя Али. Иначе говоря, шииты верят, что в роду пророка присутствует и передаётся по наследству особая благодать. Таким образом, отличие шиитов от суннитов коренится не в религиозной догматике, а скорее в особенности мировосприятия. В этой связи следует вспомнить, что в доисламском сасанидском Иране право на царский престол признавалось только за представителями рода Сасанидов, как носителей особой божественной благодати – царского фарра.
Получается, что со сменой религии персидский этнос сохранился. В новом исламизированном Иране он проявил своё своеобразие через оригинальное учение шиизма. Посредством приверженности этому учению иранцы отстояли свою национальную самобытность. Арабы передали персам ислам и оказали на них большое культурное влияние, но не смогли их ассимилировать, как население многих других стран. Древнеиранский этнос просуществовал долгие века в мемориальной фазе, а затем смог передать свои ритмы новоперсидскому этносу и как суперэтническая система до сих пор скрепляет полиэтнический Иран.
Глава 14 Рабство в этногенезе
По марксистской теории, феодализму предшествует рабовладельческая формация. Проблема выделения данной формации вопрос спорный в исторической науке. Но в нашу задачу не входит обсуждение этой проблемы. Феномен рабовладения интересует нас с точки зрения его места в процессе этногенеза.
Рабовладение в прежние эпохи существовало у всех народов по всему миру. Но наиболее распространены, высоко развиты и резко очерчены эти отношения были в Античности – в древнегреческом и римском обществах. На их примере мы и рассмотрим данный феномен.
В Риме и Греции рабство существовало издревле. В начальных фазах этногенеза это было патриархальное рабство. В те времена римляне и греки жили ещё бедно, вели натуральное хозяйство. Потребности были скромны, а потому и уровень эксплуатации рабов был невысоким. Рабы работали и жили рядом со своими хозяевами. Они ещё не рассматривались в качестве вещи и имели некоторые права: несли ответственность перед судом, могли быть поручителями, участвовать в религиозных культах и праздниках. Жестокое обращение с рабами порицалось, как неугодное богам. Вплоть до V века до н. э. в Афинах и до II века до н. э. в Риме рабов было ещё сравнительно мало. Труд их применялся в основном в домашнем хозяйстве да в крупных поместьях и мастерских. Основным трудящимся классом оставались свободные крестьяне и ремесленники.
В фазе инерции положение меняется, – рабство становится всё более существенным, а затем и главным фактором производства. В Риме это произошло к концу фазы инерции, а в торгово-ремесленных Афинах ещё раньше. В фазе обскурации рабовладельческая экономика достигает своего расцвета. Огромное количество рабов постоянно притекает в хозяйство; без их эксплуатации процветание экономики, поддержание существующего уровня жизни становится невозможным. Рабы работают не только в домашнем хозяйстве, как раньше; они трудятся в рудниках, на строительстве, гребут вёслами многочисленных кораблей; широко распространяются мелкие и крупные ремесленные мастерские – эргастерии, в каждом из которых работало до нескольких десятков рабов. В Италии рабский труд становится господствующим даже в сельском хозяйстве; экономически более эффективные рабовладельческие виллы вытесняют крестьянское хозяйство, а немногочисленные сохранившиеся крестьяне ведут полунатуральное хозяйство на грани выживания.
То, что начало бурного развития рабовладения и рабовладельческой экономики приходится на вторую половину фазы инерции, ясно указывает на причину данного явления, – это время падения витальности этноса с характерными его признаками: резким увеличением потребительских запросов, заметным уменьшением трудовых усилий и жизненной выносливости. Характерно, что прежде римляне отбирали у побеждённых народов землю – источник приложения рабочей силы; со II века до н. э. они начинают в массовом порядке порабощать побеждённых и перевозить их в Италию, т. е. они переходят к импорту самой рабочей силы.
С падением витальности люди уже не удовлетворяются прежним умеренным уровнем благосостояния, а ищут большего. Конкуренция в этносоциальном коллективе нарастает. Одни достигают огромного богатства, другие опускаются, – у первых падение витальности выражается в безудержном потребительстве, изощрённой и кричащей роскоши; у вторых – в падении интереса к труду. Развивается убеждение, что физический труд – удел рабов, свободные же люди предпочитают бездельничать, перебиваясь подачками богатых и государства. Для оправдания паразитической жизни на помощь приходит и философия, всегда готовая оправдать что угодно: «Природа устроила так, что и физическая организация свободных людей отлична от физической организации рабов: у последних тело мощное, пригодное для выполнения необходимых физических трудов, свободные же люди держатся прямо и не способны для выполнения подобного рода работ: зато они пригодны для политической жизни… Одни люди по природе своей свободные, другие – рабы, и этим последним быть рабами и полезно, и справедливо» (Аристотель. Политика) – таково мнение одного из величайших философов Эллады.
В соответствии с подобными умонастроениями изменяется и отношение к рабам. Раб теряет все права, приравнивается к вещи, поступает в полную и бесконтрольную власть своего хозяина. Рабовладелец мог свободно и безнаказанно истязать или даже убить своего раба, но, конечно, делал он это редко – к чему лишаться столь ценного имущества?!
Естественный упадок витальности на рубеже фаз инерции и обскурации в случае Рима и Афин был ещё усугублен внешними причинами. Рим пережил тяжелейшую Вторую Пуническую войну. Победа в ней досталась римлянам ценой тяжёлых потерь – материальных и людских, погибли сотни тысяч воинов. То же произошло в Древней Греции. После Пелопоннесской войны, очень разрушительной и стоившей огромных жертв, там наблюдался резкий скачок в развитии рабовладения.
Эффективно организованная рабовладельческая экономика, работающая в условиях развитых рыночных отношений, – система очень затратная. Силы эксплуатируемых рабов быстро истощаются, необходим постоянный приток свежего рабочего материала на смену изношенному. Пока такой приток обеспечен, экономика процветает. Как только приток рабов начинает иссякать, система попадает в кризис. А иссякать он начинает довольно быстро, – с окончанием фазы обскурации этническое поле ослабевает настолько, что этнос уже не способен осуществлять крупный захват ресурсов во внешнем мире. Это и кладёт предел развитию рабовладельческого уклада. Процветание сменяется кризисом и упадком. Общество переходит к другому способу существования. Правда, в Риме эпоха развитого рабовладения продлилась за счёт создания суперэтнической системы и привлечения сил других этносов для поддержания античного строя. А в Греции то же самое произошло в результате создания эллинистической империи на Востоке, а затем – включения в римскую суперсистему. Но это лишь несколько отсрочило падение рабства. В III веке империя вступает в период необратимого упадка, рабовладельческий уклад разрушается, на смену ему идёт процесс феодализации.
Следует также вспомнить, что первый, сравнительно незначительный подъём рабовладения наблюдался в Античности в фазе надлома. Тогда это было долговое рабство. Борьбой вокруг него наполнена фаза надлома: борьба патрициев и плебеев в Риме; острые внутриполитические столкновения в Греции, приведшие к установлению тиранических режимов. Но фаза надлома – это также период падения витальности этноса. В дальнейшем успешная экспансия позволила снять остроту противоречий внутри этносоциального коллектива, долговая кабала была отменена (закон Солона в Афинах, закон трибуна Петелия в Риме). Новый подъём рабовладения был связан уже с захватом иноплеменных рабов, но вызван был той же причиной – новым падением витальности.
Итак, усиление рабовладения, развитие рабовладельческого хозяйства соответствуют периодам падения витальности этноса в процессе этногенеза.
Глава 15 Империализм
Феномен империализма, как одного из самых грандиозных явлений человеческой истории, всегда привлекал внимание мыслителей – обществоведов. Возникло немало теорий о причинах данного явления. Однако ни одна из этих теорий со своей задачей не справилась, – в лучшем случае они освещали лишь какой-то один из аспектов проблемы. Рассмотрим кратко некоторые из этих попыток.
Одним из центральных является марксистско-ленинское толкование, суть которого в том, что империализм – определённая (высшая) стадия развития капитализма и может быть объяснён чисто экономическими причинами (капиталистам нужны колонии в качестве рынков сбыта, источников сырья и сфер приложения капитала). Противники марксистов опровергали их выводы, акцентируя внимание на причинах политических, культурных, идеологических, психологических и т. д. В пылу полемики они стали закрывать глаза на совсем уж очевидные вещи, отрицая в империализме какие бы то ни было экономические выгоды.
Что здесь можно сказать? В одних случаях колонии действительно приносили метрополии существенные экономические выгоды. Неоспорима важность для Британии обладания Индией, которая была крупнейшим рынком сбыта её текстильной продукции. Весьма важна была Южная Африка, как источник разнообразного минерального сырья. В качестве же сферы приложения капиталов колонии всегда занимали второстепенное место; европейский капитал направлялся либо в развитые страны, либо в переселенческие колонии – Северную Америку, Австралию, которые скоро добились формальной или фактической самостоятельности. С другой стороны, некоторые захваченные европейскими странами колонии были явно «нерентабельны» с экономической точки зрения. Всё, что могли предложить многие страны Тропической Африки, – это некоторые экзотические товары, не имевшие хоть сколько-нибудь заметного значения для хозяйства метрополии. Вывоз этих продуктов можно было наладить и без установления политического контроля, как доказывали тогда же либералы. Рынок сбыта европейских товаров в таких колониях был практически нулевой. В пустынных степях Сомали взять вообще было нечего; а из глубинных районов Сахары можно было вывезти лишь несколько мешков фиников да некоторое количество верблюжьей шерсти. Это нимало не окупало содержания колониальной администрации, военных гарнизонов и кораблей. И если европейцы всё-таки шли на расходы, то побуждения, толкавшие их, были явно не экономического плана.
Некоторые считают, что захват колоний был вызван соображениями стратегического характера. Такое также имело место. Но стратегическую ценность отдалённые территории представляют только для крупных морских держав – Великобритании, США. Для стран же, не обладающих сильным военным флотом, колонии не только не имеют стратегической ценности, но, даже напротив, в случае конфликта они становятся уязвимым местом метрополии. Во время войны колонии нужно защищать, для чего необходимо контролировать коммуникации, связывающие их с метрополией, а средствами для решения данной задачи обладают только упомянутые морские державы. Судьба германских колоний в Первую мировую войну, итальянских – во Вторую мировую – достаточная иллюстрация.
В качестве курьёза можно привести мнение Шумпетера, который считал империализм сохранившимся в буржуазном обществе проявлением воинственного докапиталистического духа. Трудно отыскать утверждение, более противоречащее фактам. В эпоху «докапиталистического» духа достижения европейцев в этом плане были более чем скромны. Расцвет же империализма приходится как раз на капиталистическое время.
Есть ещё немало объяснений из разряда тех, что ничего не объясняют. Типичный образчик таковых представляет вывод американского историка Шлезингера: «Главным источником империализма является неравенство сил… Империализм проявляется тогда, когда на пути (?) у сильного государства оказывается слабое государство, плохо защищённая граница или вакуум силы. Тогда более мощное государство использует свою превосходящую силу для достижения своих собственных целей» [51].Очевидно, что Шлезингер путает причины с условиями. Неравенство сил является условием империализма, а не его причиной. Реализуется это условие или нет, зависит от того, каким «путём» идёт в данное время «сильное» государство и какие «цели» оно преследует.
Империи возникают в результате этнополитической экспансии. Причины экспансии мы уже осветили в соответствующей главе. Не отрицая важности социально-экономических причин, теория этногенеза считает такой подход слишком узким и недостаточным. Она выдвигает во главу угла категорию витальности, которая интегрирует и экономические и культурно-психологические причины.
Империалистическая экспансия развивается вследствие упадка витальности этноса, стремления пополнить ресурс жизненной энергии. Почему большинство индивидов общества метрополии положительно относится к империализму и колониализму в период его подъёма? Не только потому, что они получают какие-то конкретные вещественные выгоды (колониальный энтузиазм высок даже среди тех, кто, собственно, ничего и не получает). Люди чувствуют свою причастность к колониальным победам и завоеваниям своей страны, – это их личные победы, это их личные завоевания. Колониализм позволяет любому мелкому клерку в каком-то смысле чувствовать себя Наполеоном. Вести с фронтов империи скрашивают довольно серенькое существование среднего класса. А всё это есть хотя и не вещественный, не зримый, но вполне реальный приток жизненной энергии, повышающий житейский тонус и позволяющий человеку более терпеливо нести груз повседневных тягот. Таким образом, экспансия повышает энергетику этноса, что выражается в увеличении внутренней стабильности и лояльности к режиму. Цель империалистической экспансии достигнута.
Экспансия сопутствует этносу почти на всём протяжении этногенеза. Однако далеко не всегда она приводит к образованию империй. Империализм приурочен к определённой стадии процесса этногенеза. Рассмотрим несколько примеров. Римляне в фазе инерции подчинили всю Италию и объединили её в Римско-италийский союз. Новое образование отнюдь не стало империей, а в непродолжительное время все италики слились в единую римско-италийскую нацию. То, что называется Римской империей, начало складываться только ближе к фазе обскурации и, особенно, в самой этой фазе, – с захватами за пределами Италии – в Испании, Африке, Галлии, на Балканах и Востоке. В фазе обскурации римского этноса (середина II века до н. э. – середина I века н. э.) империя в основном оформилась и стабилизировала свои границы.
Эллинистический Восток был фактически колониальной империей греческого мира. Победоносный поход Александра Македонского состоялся на рубеже фаз инерции и обскурации эллинского этноса или уже в последней фазе. Причем плодами похода воспользовались не столько македонцы, сколько греки: миллионы их хлынули на Восток, где создали систему эллинистических государств. В эллинистическом мире греки заняли привилегированное положение и вели обеспеченное существование за счёт эксплуатации местного населения. Эта империя также была создана в обскурационной фазе. И европейские страны создали свои колониальные империи в фазе обскурации (XIX век). Поскольку до того в их истории не было ничего подобного, – европейцы, со свойственным им евроцентризмом, объявили сей феномен совершенно новым и доселе невиданным.
Везде наблюдается одна и та же картина: империализм возникает ближе к фазе обскурации и особенно прогрессирует в этой фазе. И это, конечно, не случайно. Имперский характер имеют лишь те завоевания и присоединения, которые представляют собой в отношении к метрополии нечто внешнее и чужеродное. Имперские колонии объединены с метрополией не органически, а механической связью.
Присоединение этнополитической системой новых территорий приобретает имперский характер тогда, когда обскура-ционный процесс в ней зайдёт уже достаточно далеко. Из-за ослабления этнического поля этнос уже не может освоить и органически преобразовать чужеродную этническую среду. Поэтому гасконцы, провансальцы и пикардийцы стали французами, а алжирцы – нет. Имперские провинции остаются этнически чуждыми метрополии и привязаны к ней либо физической силой (пока она у метрополии не иссякла), либо переменчивыми отношениями выгоды, материального интереса. Когда же сила иссякнет (с переходом в мемориальную фазу), империи распадаются. Так распались после Второй мировой войны колониальные империи европейских держав.
Таким образом, характерной чертой имперской экспансии, имперской политики является стремление к расширению при неспособности к органическому освоению.
Есть ещё довольно распространённое заблуждение. Не так давно пришлось услышать, как бывший госсекретарь США заявил, что Америка, дескать, никогда не была империалистической страной, потому что никогда не имела колоний. Почтенный секретарь не совсем точен, – колонии у США всё-таки были: острова Тихого океана (Гавайские, Филиппинские, Самоа, Гуам и проч.) и Карибского бассейна (Пуэрто-Рико, Куба – фактический протекторат). Разумеется, это намного меньше, чем имели крупные колониальные державы Европы. Но дело не в обширности колониальных владений и даже не в самих колониях. Ошибочно само отождествление империализма с колониализмом. Источник заблуждения очевиден – европейский империализм был по преимуществу колониальным. Даже сам термин «империализм» появился в XIX веке применительно именно к колониальным захватам. Однако сам по себе феномен империализма далеко не исчерпывается территориальными захватами. В последнее время широкое хождение получили выражения – «информационный империализм» (контроль над средствами и системами информации), «культурный империализм» («империализм, который больше не захватывает территорию, но подчиняет себе сознание, образ мышления, образ жизни»). Давно уже закрепилась характеристика крупных компаний, корпораций как экономических империй. Все эти термины не просто образные выражения, но имеют глубокий смысл. В основе империализма лежит установление власти, гегемонии, – методы же могут быть различны: политические, военные, экономические, идеологические, культурные.
Империализм – это реальная власть над чужеродной территорией, чужеродным пространством. И эта власть не всегда и не обязательно формально узаконена. Территориальная экспансия есть лишь одна из разновидностей империализма – самая прямая и откровенная. Для осуществления империализма в такой открытой форме нужна сила, т. е. сила не только физическая, но и моральная; нужна уверенность в своей правоте, в своём праве властвовать над другими народами. А такую уверенность даёт только ещё достаточно напряжённое этническое сознание. Когда же оно слабеет, – колониализм теряет своё духовное основание, – и в этом причина его падения. Именно поэтому Франция и Англия утратили свои колониальные империи на исходе фазы обскурации; что касается физических возможностей, многие из своих колоний они могли удерживать ещё длительное время. Таким образом, в мемориальной фазе этнос теряет способность к прямому колониализму, но не теряет потребности в притоке ресурсов извне. Чтобы удовлетворить эту потребность, в ход идут уже более изощрённые методы установления гегемонии. В итоге получается, что ресурсы и политику формально независимых стран контролируют не их народы, а какие-то внешние и чуждые им силы.
Суть империализма состоит в создании системы силового преобладания за пределами своего собственного этнического пространства, во внешнем чужом мире, а вовсе не в каких-то формальных территориальных владениях. Поэтому мнение о том, что Соединённые Штаты Америки – страна, разместившая свои войска по всему миру и установившая реальный контроль над некоторыми регионами планеты, находящимися за тысячи и тысячи километров от её границ, что эта страна – не империалистическая, может быть расценено лишь как забавный курьёз, – если это мнение искренно; либо как идеологическая манипуляция имперской политики – если оно лживо.
Глава 16 Экспансия и демократия
Мнение о том, что США – не имперская страна, основывается на другом, более широком и весьма распространённом мнении, что империализм и демократия несовместимы. Значительная часть образованной публики твёрдо убеждена, что экспансия, агрессия, империализм, гегемонистская политика – это удел режимов деспотических – тоталитарных, авторитарных, диктаторских. Демократия же ассоциируется у этой публики со свободой и равноправием, гуманизмом и прогрессом, торжеством закона, гарантиями прав человека и т. д.
Вряд ли стоит долго объяснять, что такие идеальные воззрения слишком мало соответствуют действительности. Эти главы предназначены для тех, кто предпочитает иметь дело с реальностью, а не с утопиями. Рассмотрим на конкретных исторических примерах, как на самом деле обстояли отношения демократий с экспансией и империализмом.
Эталоном развитой демократии в Античности являются Афины. Аттическое государство не было демократическим изначально; в древности там правили цари, затем власть захватила знать. В эпоху господства аристократии Афины были рядовым полисом – довольно инертным и не обнаруживающим признаков внешней активности. Экономический и политический подъём Афин начался в VI веке до н. э. В самом начале этого века законы Солона значительно демократизировали их политический строй. С того времени начинает расти и внешнеполитическая активность. Афины захватывают близлежащий остров Саламин. Вторая половина VI века до н. э. в Афинах приходится на правление тиранов, главным образом великого афинского тирана Писистрата. При нём Афины экономически процветали, а экспансия была довольно умеренной: афиняне утвердились на островах у входа в пролив Геллеспонт и захватили богатые рудники в Пангее на фракийском побережье.
После свержения тирании реформы Клисфена (508–500 до н. э.) подорвали господство знати и окончательно закрепили демократические порядки. Уже в ходе проведения этих реформ афиняне захватили часть крупного острова Эвбеи и вывели туда большую колонию (4 тысячи граждан). Во время войны с Персией, последовавшей вскоре, афиняне прочно закрепились в проливах (Боспор и Дарданеллы), в устье реки Стримон во Фракии, захватили остров Скирос и ряд других. В то же время был образован Делосский морской союз греческих полисов во главе с Афинами, ставший основой их могущества. В 462 году до н. э. реформы Эфиальта нанесли последний удар аристократическому Ареопагу, лишив его всех политических полномочий. Социально-политический строй в Афинах ещё более демократизируется, растёт и экспансионизм афинской политики. Афины одновременно ведут боевые действия с Пелопоннесским союзом и персами, захватывают остров Эгину, посылают крупную военно-морскую экспедицию в устье Нила.
Наивысший расцвет афинская демократия переживает в эпоху Перикла (460–430 до н. э.). Казна Делосского союза переносится в Афины и становится фактически частью афинской казны. Средства её, формирующиеся из взносов союзников, тратились в основном на усиление афинских военных и морских сил, на пышное строительство в Афинах. Союзники постепенно превращаются в подданных Афинского государства. Афиняне силой выколачивают из них взносы в союзную казну (форос), их призывают на суд в Афины (что было несовместимо с эллинским понятием о полисном суверенитете). Афины стали произвольно вмешиваться во внутренние дела союзников: так, они насильственно свергли олигархический режим на острове Самос. На территории многих союзных островов были основаны афинские колонии. Таким образом, возникает Афинская морская держава – империя демократических Афин. Экспансия новоявленной империи простиралась от Причерноморья до Сицилии. Экспедиция большого флота во главе с самим Периклом в Понт утвердила власть Афинской державы в бассейне Чёрного моря. В Южной Италии была основана колония Фурии на месте разрушенного Сибариса, ряд городов в Италии и Сицилии вступил в Афинский союз.
Первые восстания против афинского имперского господства на крупнейших островах Эгейского моря (Наксос, Фасос, Самос, Лесбос) были подавлены. Но в конце концов растущий экспансионизм Афин вызвал коллективный отпор греческих полисов во главе со Спартой. Попытка Афин ещё прочнее закрепиться на морских путях в Италию спровоцировала Пелопоннесскую войну. В итоге этой войны Афины потерпели тяжёлое поражение, а их империя была уничтожена. Но как только они несколько оправились, тут же последовали попытки возврата к прежней имперской политике. Афинам удалось частично восстановить своё влияние в Эгеиде, они организовали новый Афинский морской союз, который, правда, был гораздо слабее прежнего. Второй Афинский союз представлял собой свободную конфедерацию полисов, участвовавших в его делах настолько, насколько сами были в этом заинтересованы. Когда Афины попытались вернуться к старой политике имперского диктата, это вызвало восстание союзников, что фактически положило конец союзу, а вместе с тем и афинским великодержавным амбициям. Вскоре Афины были покорены Македонией и навсегда утратили самостоятельность, дальнейшее их существование не вызывает интереса.
Римская республика всегда была более или менее олигархической. Но в период 367–287 годов до н. э. в ней принимаются законы, которые заметно демократизировали её строй, формально уравняли в правах патрициев и плебеев. К каким же это привело последствиям во внешней политике? При царях Рим был одним из многих небольших городов-государств Средней Италии. Да и после установления республики положение не слишком изменилось: за первые полтора столетия её существования единственным крупным успехом было завоевание этрусского города Вейи. Великой державой Рим стал именно в эпоху демократизации. С середины IV века до н. э. по середину III века до н. э. он покорил всю Италию до Паданской долины; за время с 334 по 287 год до н. э. римляне основали в Италии 18 колоний – больше, чем за всю предшествующую историю. Таким образом, именно в период демократизации была развёрнута та успешная экспансия, которая привела к образованию великой Римской империи.
Следующий подъём демократии случился уже в Новое время, в XIX столетии по Рождеству Христову. Первый же приступ демократизации в Европе – французское якобинство – ознаменовался появлением массовой армии, тотальной войны с мобилизацией всего мужского населения и всех ресурсов страны, «вооружённым миссионерством» новоявленной демократии за пределами своих границ. В целом же в Европе демократия победила к концу XIX века. Именно тогда буржуазно-конституционные республики с высоким имущественным цензом стали демократизироваться. В Англии в результате избирательных законов 1867 и 1883 годов число избирателей выросло почти вчетверо, и, таким образом, избирательные права получило большинство мужского населения страны. Всеобщее избирательное право для мужчин было введено в 70-х годах во Франции и Германии, в 1907 году в Австрии (в австрийской части империи), в 1913 году в Италии.
О том, как отразились процессы демократизации в этих странах на их отношении к экспансии и империализму, достаточно сказать, что демократизирующиеся европейцы в 80-х годах XIX века за несколько лет лихорадочно расхватали на колониальные куски огромный Африканский континент. В Англии конец XIX века известен подъёмом и широким распространением им перской идеологии, – были созданы многочисленные общества, ставившие своей целью пропаганду идей империи, восходит звезда Киплинга и Сесила Родса. В 1884–1900 годах территория Британской империи увеличилась на треть. Французы захвати ли огромные пространства Западной и Центральной Африки, Мадагаскар (один только этот остров превышал по площади всю Францию), Индокитай. Франция становится второй после Великобритании колониальной державой. Германия захватила ряд территорий в Африке и многочисленные тихоокеанские острова (и не захватила больше лишь потому, что свободных мест уже не оставалось). Общественная жизнь Германии начала XX века пропитывается духом милитаризма и агрессии. Возникла целая сеть агрессивно-империалистических и шовинистических организаций, партий, обществ (Пангерманский союз, Флотский союз), которые насчитывали многие тысячи членов. Эти орга низации при поддержке влиятельных политических сил высту пили с широкими планами имперской экспансии Германии в Восточной Европе, на Балканах, на Ближнем Востоке. Италия захватила несколько африканских стран. Австро-Венгрия раз вернула экспансию на Балканы.
Когда весь неевропейский мир был уже поделён, европейцы сцепились друг с другом. Этой войны «никто не хотел», но все к ней активно готовились. Первая «мировая» (фактически – европейская) война стала апофеозом лихорадочной экспансии новоевропейских демократий. Она же и положила ей предел: Франция и Англия были обессилены. Но чтобы укротить Германию, понадобилась ещё одна мировая бойня. После Второй мировой Европа превратилась в протекторат США, а термин «европейские державы» стал анахронизмом.
Лидером демократизации в период Нового времени выступали Соединённые Штаты. И сам феномен новой демократии был впервые обнаружен и исследован (Токвиль) именно здесь. Экспансионистский характер молодой американской республики хорошо известен. Напомним лишь кратко «этапы большого пути». За первые 20 лет существования США были присоединены земли от Аппалачей до Миссисипи, в несколько раз превосходившие по площади первоначальную территорию государства. Затем, в 1803 году была приобретена у французов Луизиана – огромная территория правобережного бассейна Миссисипи, равная по площади тогдашним США (мнением индейцев, конечно, никто не интересовался). У испанцев захватили Флориду. В середине XIX века, в результате войны с Мексикой, отторгли у последней обширные пространства Техаса, Новой Мексики и Калифорнии – чуть не половину страны. Вместе с уступленным Англией Орегоном – всё это увеличило площадь США с 1776 года в восемь раз. Существовали также планы покорения Канады, да как-то руки не дошли. В это же время эскадра коммодора Пери насильственно «открыла двери» в Японию.
С середины XIX века экспансионизм США идёт на убыль, что связано с переходом этноса в фазу инерции и освоением приобретённых обширных территорий. Тем не менее и в это время США бесцеремонно распоряжались в Латинской Америке: осуществляли интервенции, устраивали перевороты, навязывали кабальные договоры, распространяли свою власть путём насаждения марионеточных режимов. Для овладения Панамским каналом на отторгнутой у Колумбии территории была сконструирована соответствующая республика. США развязали захватническую империалистическую войну против Испании. Отобрали у ослабевшей страны её колонии – Филиппины, Пуэрто-Рико, Кубу, Гуам. Присоединив к этому захваченные Гавайи и Самоа, США таким образом и формально стали колониальной державой.
Всё вышеизложенное – исторические факты. Они недвусмысленно свидетельствуют о том, что демократия не просто не чужда экспансии и империализму, не только сплошь и рядом уживается с ними, но по мере прогресса демократизации тяга к ним ещё и усиливается. Создаётся впечатление, что постоянная экспансия есть просто способ существования демократии. А с другой стороны – как же иначе? Ведь любая страна существует за счёт эксплуатации витальных ресурсов своего населения. Режимы деспотические имеют возможность усиленно эксплуатировать эти ресурсы внутри страны. Поэтому они не испытывают большой потребности во внешнем экспансионизме, пока внутренний источник не исчерпан. В демократическом же обществе, где достигнуто формальное правовое равенство, возможности внутренней эксплуатации резко сокращаются, – но не сокращается потребность общества в ресурсах для своей жизнедеятельности. Экспансия для демократий не прихоть, а железная необходимость самосохранения и выживания. И действительно, не тоталитарная Спарта и не олигархические Фивы были самым агрессивным государством Эллады, – а демократические Афины; не абсолютистская Франция, а конституционно-либеральная Британия создала крупнейшую колониальную империю; а когда Франция из монархии превратилась в демократическую республику, колониальную империю приобрела и она.
Если рассмотреть возникновение демократий в контексте этногенеза, то видно, что они появляются достаточно поздно: в лучшем случае демократизация происходит в фазе инерции (Афины). В Европе же она совершается в фазе обскурации и полностью формируется лишь к концу фазы. Таким образом, становление демократии связано с развитием обскурационного процесса. Правовое уравнивание всех членов общества, разрушение оригинальной этнической иерархической общественной структуры и введение единообразного для всех демократического устройства есть выражение обскурации этнического сознания. Демократия и обскурация шествуют рука об руку, а как мы выяснили, и то и другое сопровождается усилением экспансионизма.
Наверное, демократа-идеалиста могут возмутить такие выводы. И он, видимо, попытается возразить примерно следущее: «Ну что вы всё копаете какие-то древности! Греция, Рим – когда это было?! Конечно, примеров империализма и агрессивного экспансионизма европейских демократий и США в XIX – начале XX века отрицать невозможно, – но ведь и эта эпоха уже минула. Все эти прискорбные явления вызваны пережитками старого деспотического мира. Общественные отношения не стоят на месте; демократия живёт и развивается. Она извлекла уроки из прошлых ошибок и продвигается по пути прогресса, гуманизма и справедливости. Ни у Англии, ни у Франции, ни у США давно уже практически нет колоний. Демократические страны Запада проводят политику мирного сотрудничества, открытости, прав человека. А кроме того, даже если у некоторых стран время от времени ещё проявляются рецидивы старой имперской политики, то существуют ещё малые страны Европы с развитой демократической системой, никоим образом к ней не причастные, которые являют собой образец общества, к коему должен двигаться весь остальной мир!»
Не особенно рассчитывая разубедить верующих в демократическую утопию; зная по опыту, что люди, одержимые навязчивой идеей, не воспринимают доводы разума, – обязан всё-таки кое-что ответить на подобные возражения.
Фундаментальные законы развития общества не меняются со сменой исторических эпох и политических систем. И никакая идеология, в том числе и демократическая, не властна их изменить. Человеку дано лишь познавать эти законы и действовать – либо в согласии с ними, либо против – безо всякой надежды на успех. Примеры минувших эпох особенно интересны тем, что древние общества прошли полный цикл развития, который для современных обществ ещё не закончился. Находясь на расстоянии от этих отживших исторических объектов, мы можем яснее различать те стадии, которые для современных общественных организмов ещё не явственны и которые им ещё предстоят.
Люди всегда стремятся жить по возможности «хорошо», т. е. много потреблять. А для этого нужны ресурсы, которых в мире крайний дефицит. И если что и способно умерить людское потребительство, то уж никак не демократия. Любые социально-политические режимы стремились и будут стремиться к экспансии, – если что здесь демократия и меняет, то только в худшую сторону; а именно – современное «демократическое» общество не только полностью разнуздывает, но и всячески подстёгивает потребительские инстинкты обывателя.
Об эволюции европейских демократий можно сказать следующее. После Второй мировой войны они действительно потеряли свои колонии, но причина этого, как уже было отмечено, – в переходе ведущих этносов Европы в мемориальную фазу и, в связи с этим, потере способности к откровенному киплинговскому колониализму с открытым забралом. Теперь их экспансия в окружающем мире приняла более скрытые неоколониальные формы: идеологические и экономические. Но экспансия не прекратилась, и сейчас страны Запада живут во многом на ресурсы, выкачиваемые разными путями из внешнего мира.
То же и малые страны Европы, – это всё более древние этносы, которые вступили в мемориальную фазу на несколько сот лет раньше, чем ведущие европейские нации. Норвежцы, австрийцы, датчане, голландцы и «разные прочие шведы» есть реликты старых распавшихся империй, которые в прошлом – в пору своей молодости – кипели агрессией и экспансионизмом, а теперь одряхлели и доживают свой век на покое. Норвежцы – потомки неистовых викингов, голландцы некогда одними из первых создали обширную колониальную империю, шведы и датчане имели в своё время региональные империи в бассейне Балтийского моря и на севере Европы, австрийцы потеряли свою империю сравнительно недавно. Своим миролюбием и «демократичностью» означенные народы столько же обязаны прогрессу, сколько и старческому бессилию.
Ещё более важное обстоятельство современного положения европейских народов – то, что они утратили политическую самостоятельность в глобальном масштабе. Имеется в виду не формальный суверенитет, а реальное положение дел. Европейские страны стали составной частью новой общности, называемой Западом, в которой лидирует США. Основные издержки по установлению и поддержанию мирового порядка, выгодного для всех стран Запада, несёт лидер; в значительно меньшей степени – его крупнейшие союзники – бывшие державы Европы; малые страны, как правило, – никаких. Таким образом, пользуясь всеми выгодами мирового порядка, создаваемого системой Запада, многие европейцы остаются как бы в стороне от негативных явлений, сопутствующих этому. Экспансию осуществляет Запад как целое, и все, входящие в данную общность, так или иначе к ней причастны.
Из всех демократических стран Запада только США не утратили явного стремления к политической экспансии, что и понятно: американцы ещё сравнительно молодой этнос. Можно утверждать, что экспансия США во второй половине XX века постоянно нарастает. Во времена холодной войны они создали мировую империю – сеть военных блоков, баз и опорных пунктов по всему миру. Экспансионистская политика США оправдывалась «угрозой коммунизма». Однако по окончании холодной войны американский экспансионизм не только не ушёл в прошлое, но приобрёл ещё более разнузданный характер. В последнее время для него найдено новое оправдание – «международный терроризм». В будущем, возможно, ещё что-нибудь придумают; была бы нужда, а за идеологическим прикрытием дело не станет. Ползучая экспансия НАТО на восток, военные нападения на суверенные страны (Югославия, Афганистан, Ирак и т. д.), попытки диктовать свою волю во всех уголках мира явно показывают, что экспансионизм западной демократии не вызван какими-то внешними причинами, а есть её внутреннее свойство.
Глава 17 Что такое демократия?
В предыдущей главе мы вели речь о том, что увлечение демократической идеологией приводит к неадекватным представлениям об историческом процессе и закономерностях общественного развития. Видимо, есть смысл прояснить несколько суть самого термина «демократия», – что же это такое? Скажу сразу, что предмет нашего рассмотрения не некий идеальный образ, не идеология, а реальное содержание этого феномена.
Понятие «демократии» возникло в Античности. Её выделяли среди других государственных форм крупнейшие политические мыслители того времени. Данное понятие для древних было ясным и определённым: демократия – это государственный строй, при котором в управлении государством могут участвовать самые широкие слои народа (демоса), – отсюда и термин. Так, в Афинах тысячи граждан постоянно принимали участие в работе различных государственных органов (Совете пятисот, судах, многочисленных коллегиях).
Этот простой и ясный смысл развитая политическая наука Нового времени удивительно сумела затемнить и запутать. Появились десятки, если не сотни определений. Не станем испытывать терпение читателя и своё собственное, приводя длинный перечень определений и толкований термина «демократия»; те, кого это интересует, найдут искомое в политологическом справочнике.
Большинство определений трактует это понятие либо слишком узко – как некую процедуру или набор процедур регулирования и контроля государственной власти, – сводя таким образом демократию к техническому инструментарию политического действия; либо слишком широко – как общественную систему, в частности систему западного общества. Последнее определение неизбежно идеологизировано и содержит более или менее произвольный набор признаков, как правило позитивно характеризующих данное явление, – что выражает не сущность самого явления, а идеологические предпочтения авторов. Как следствие всего этого, многие стали считать «демократию» термином не научным, а идеологическим.
Дабы не путаться во множестве существующих определений, самое лучшее – отодвинуть их все в сторону и анализировать самостоятельно. А для анализа используем две основные политологические категории – форма правления и политический режим.
Понимание демократии как формы правления восходит к её античному определению. Но в современной политической науке демократия фигурирует ещё и как политический режим. В отличие от формы правления, которая характеризует организацию государственной власти, её органов, их взаимоотношения с управляемыми людьми, – политический режим – это «совокупность средств и методов реализации политической власти, определяющая степень свободы и правовое положение личности». [52]Обычно выделяют три вида режимов: тоталитарный, авторитарный и демократический.
Атрибутами демократического режима, по всеобщему мнению современных политологов, являются, во-первых, правовое государство («верховенство закона – определяющая черта демократического режима»[53] закон одинаков для всех, все равны перед законом; во-вторых, демократический режим характеризуется принципом плюрализма, который «утверждает право каждого человека придерживаться любых взглядов и проповедовать их, уважение к инакомыслию, принцип дискуссии и компромисса в политическом процессе». Сумма различных взглядов, интересов, пристрастий множества самостоятельных социальных и политических групп, которые свободно конкурируют друг с другом, на основе чего складывается баланс интересов и сил в обществе и политике. Необходимое условие такого плюрализма – гласность, свобода слова, возможность открыто высказывать свои взгляды, свободная независимая пресса. Из принципа плюрализма естественно вытекает многопартийность, наличие политической оппозиции, сменяемость партий у власти…
Таковы вкратце основные принципы демократического политического режима. Рассмотрим их по порядку. Правовое государство если и является характерной чертой демократического режима, то никак не может быть чертой определяющей. Просто уже хотя бы потому, что верховенство закона – свойство, присущее не только демократическому, но и другим режимам. Верховенство и строгое соблюдение законности (по крайней мере, как идеал) существовали и в других обществах, где не было демократии. Например, в недемократических буржуазно-конституционных режимах Европы в XIX веке, в олигархической Римской республике (а затем и в империи), в Византии. Нынешним демократам куда как далеко до того напряжённого чувства законности, присущего древним римлянам, – «плох закон – но закон». Римское предание сохранило немало примеров, когда ради строгого исполнения законов люди переступали через все личные и родственные связи. Имперское общество Рима и Византии также было правовым. Существовавшие законы были обязательны к исполнению и для подданных, и для властей, в том числе для императора, хотя последний и являлся верховным законодателем и «живым законом». Но ведь различие источников законодательства принципиально не меняет именно правовой характер общества. Если же возразить, что в бюрократическом имперском обществе законы плохо исполнялись, то ведь и в современных демократиях с исполнением закона тоже большие проблемы, а «верховенство» закона и «равенство» его для всех в наши дни, как и в древности, остаётся идеалом, а не реальностью.
Что же до прочих атрибутов демократического режима, то легко заметить, что все они имеют либеральный характер. Основополагающий принцип плюрализма базируется на либеральной идее о человеческой личности как высшей ценности и на приоритете прав личности перед государством и обществом (Локк). Всё остальное просто вытекает из принципа плюрализма – многопартийность и парламентаризм, оппозиция и выборность, состязательность и компромиссность; свобода слова, печати, собраний и прочие гражданские свободы – всё это уже заложено в либерализме. В либеральной же концепции личности коренятся всевозможные «права человека». (Кроме, пожалуй, социальных прав, которые есть вотчина социализма.) Все «демократические» идеи и ценности – суть либеральные идеи и ценности, и ничего специфически «демократического» в них нет. Так что общеидеологическое содержание «демократии» и либерализма одинаково. Было бы куда справедливее называть политический режим, выделяемый на основе таких атрибутов, – «либеральным», а не «демократическим» или, скажем, «либерально-демократическим», имея в виду, что все его сущностные характеристики относятся к либеральному компоненту.
Но у классического либерализма и демократии есть один пункт расхождения. Классический либерализм отделяет прирождённые и неотъемлемые права личности от прав политических, т. е. не считает последние прирождёнными и неотъемлемыми. Декларация прав человека и гражданина 1789 года провозглашает: «Люди рождены и живут свободными и равными перед законом». Но равенство перед законом не означает равенства политических прав. В трудах идеологов классического либерализма проводится чёткое различие политической свободы (право на участие в осуществлении государственной власти) и личной свободы (независимость личности от государства, невмешательство государства в личные дела). Что касается политического полноправия, то обладание им либералы считали уделом только социально свободной и независимой личности. А поскольку такая свобода в индивидуалистическом обществе основывается на экономической самостоятельности, то классический либерализм выставляет условием политического полноправия обладание собственностью. «Классическая либеральная буржуазия была не демократична, а просто верила в конституционализм, светское государство с гражданскими правами и гарантиями для частного предпринимательства и правительство, защищающее налогоплательщиков и собственников»[54]. От демократии же либеральные институты ограждались различными цензами (имущественным, образовательным, оседлости).
Однако позиции умеренных либералов были довольно уязвимы, политические радикалы напирали, и вскоре, на рубеже XIX–XX веков, либерально-конституционные режимы демократизировались. С этого момента либерализм и демократия сосуществуют и сжились настолько тесно, что их зачастую путают, именуя либерализм демократией и наоборот.
Что нового принесла демократия, что она добавила к существовавшему прежде без неё либерализму? Ответ очевиден – политическое равенство. Равенство, конечно, формальное, – ибо, хотя все имеют право стать президентом или депутатом парламента, в реальности это достижимо для немногих. Теперь право избирать и быть избранным в органы государственной власти получили не только кучка состоятельных буржуа, но всё взрослое мужское (а затем и женское) население. И ничего более.
Обычно, когда заходит речь о демократии, приходится слышать, что демократические нормы – это законность, равенство, справедливость…
Справедливость – понятие слишком объёмное и если касается как-то демократии, то лишь одним каким-нибудь боком. Справедливость сама по себе относится к сфере этнического сознания, так как каждый народ «ведает право» по-своему. Что же до демократии, то она и в Африке – демократия, одна для всех. В обыденном сознании справедливость часто отождествляется с равенством. Здесь именно такой случай. Демократия есть равенство политических прав; такое равенство демократы считают справедливым. Отсюда и ассоциативное употребление понятия «справедливость» в приложении к демократии. А поскольку термин «демократия» находится в тесной связи с понятием «равенства», то он начинает употребляться в качестве синонима последнего («социальная демократия»). О демократии можно утвердительно сказать лишь то, что она считает справедливым равенство в определённом отношении, а именно в отношении политических прав. Но поскольку она, таким образом, находится в смысловых ассоциациях и с «равенством» и со «справедливостью», то в обыденном сознании и словоупотреблении становится синонимом того и другого. В результате значение этого узкоспециального политического термина начинает безбрежно расширяться и безмерно мифологизироваться. В этой банальной неясности, нерасчленённой мешанине обыденного сознания коренятся идеалистические представления, прекраснодушные утопические взгляды на демократию как на некое совершенное общество, образец, идеал.
Подведём итог: демократия как идеология есть лишь путаница мыслей. Что же выпадает в осадок? Остаётся восходящее к античной традиции определение демократии как формы правления. Сформулируем его, скажем, так: демократия – это форма правления, при которой политическими правами обладает большинство народа, и для всех граждан эти права формально равны.
Как форма правления демократия занимает законное место среди других форм. По количеству людей, осуществляющих власть в государстве, традиционно выделяются три формы правления: монархия (власть одного человека), олигархия (власть немногочисленной группы людей) и демократия (власть всего народа, огромного его большинства). Имеются в виду только законные, не тиранические формы правления, т. е. монархия – строй, в котором вся полнота власти принадлежит одному лицу по закону; олигархия – также законодательно оформленная власть немногих лиц, выделенных по какому бы то ни было критерию (знатности, богатства, способностей и проч.). Так и демократия – каждый гражданин имеет право на участии в управлении государством по закону.
Олигархию и демократию нередко объединяют в республиканской форме правления и противопоставляют обе вместе – монархии. Здесь есть свой резон. Но, на наш взгляд, существует гораздо более существенное отличие демократии от всех прочих форм правления. Если монархия и олигархия всегда имеют прямой характер, то демократия имеет его не всегда; прямому правлению кладёт предел численность людей, наделённых политическими правами, – свыше этого предела оно уже невозможно. Прямая демократия осуществима в небольших по численности коллективах (таких, как греческий полис) с их довольно несложными и близко касающимися каждого гражданина делами. В крупных государствах с обширной территорией и многочисленным населением нет ни физической, ни технической возможности постоянно собирать не то что всех, а хотя бы значительную часть граждан для решения государственных дел; и при этом обеспечить их организацию и компетентность в многочисленных и сложных государственных проблемах. Особенно в современную эпоху, когда государственное управление усложнилось и приобрело многоотраслевую структуру, оно требует людей, обладающих особыми способностями, знаниями и подготовкой. Так что силой вещей из всего коллектива граждан выделяется небольшая группа людей, призванных профессионально заниматься делами государственного управления, – политическая элита. Формально общенародная, власть реально осуществляется именно данной группой лиц от имени народа. Прямая демократия превращается в представительную демократию, которая есть не что иное, как правление элиты – элитократия.
Политическая элита не монолитна. Она делится на различные группы, которые соперничают друг с другом в борьбе за власть. Обычно ни одной из групп не удаётся достигнуть абсолютного преобладания, – тогда представителям различных элитных групп приходится договариваться – делить власть по долям. Если удаётся достичь компромисса (его механизм хорошо отработан в так называемых «развитых» демократиях), то элита осуществляет коллегиальное правление, которое, по сути, представляет собой ту же олигархию. Там же, где согласия достичь не удаётся, где различные группы элиты либо имеют несовместимые идеологические установки, либо не могут поделить материальные выгоды, – устанавливается авторитарное правление. В этом случае решающую роль в системе власти занимает отдельная личность, возглавляющая одну из элитных групп. Вся власть сосредоточивается в руках этой группы, что выражается фактически автократическим правлением её лидера, – а прочие элитные группы уходят в жёсткую оппозицию. Автократическое правление возникает именно потому, что необходимо подавлять неудовлетворённую оппозицию, для чего нужны особая дисциплина и централизация внутри правящей группы.
Таким образом, формальная представительная демократия в реальности принимает либо олигархическую, либо автократическую форму правления. Но в отличие от прямой, узаконенной автократии и олигархии при демократии такое правление носит характер неформальный, неявный, нелегализованный. Эта вот неявность, скрытость, неузаконенность, нелегальность действительной формы правления и составляет подлинно оригинальную и определяющую черту «демократического режима».
Всё же прочее, что наворочено вокруг данного термина, представляет собой идеологические бредни либо политические спекуляции.
Глава 18 Гражданское общество
Понятия «демократия» и «гражданское общество» современная политическая наука ставит в тесную связь. В политологических штудиях постоянно мелькают фразы типа «Гражданское общество – базовый элемент демократии» или «Демократический режим возможен только там, где имеется развитое гражданское общество». Что при этом подразумевается под понятием «гражданского общества» – изложено достаточно ясно. Приведём для примера несколько цитат из учебников по истории и политологии (указывать авторов даже нет особой нужды, ибо высказывания на данную тему в подобной литературе более или менее стереотипны).
«В развитых западных странах с устойчивыми демократическими режимами гражданское общество – это своего рода социальное пространство, где люди связаны и взаимодействуют между собой в качестве независимых как друг от друга, так и от государства индивидов. Гражданское общество включает множество социальных связей, в которых реализуются потребности людей… Структура современного гражданского общества в США представляет собой густую сеть всевозможных организаций граждан, ассоциаций, коммун, благотворительных фондов, клубов по интересам, творческих, кооперативных, религиозных, общественно-политических и других союзов и объединений»[55].
Для современного направления развития гражданского общества, по мнению авторов, характерно «прежде всего увеличение роли семьи; в демократических странах Запада определяющей социальной ячейкой гражданского общества является не трудовой коллектив или партячейка, а семья»[56].
«Гражданское общество слагается из множественности межличностных отношений и социальных сил, которые объединяют составляющих данное общество мужчин и женщин без непосредственного вмешательства государства».
«Гражданское общество представляет совокупность межличностных отношений и семейных, общественных, экономических, культурных, религиозных и иных структур, которые развиваются в обществе вне рамок и без вмешательства государства»[57].
Как видим, понятие «гражданского общества» выступает в современной политологии в противопоставлении его государству. Оно представляет собой универсальную социальную категорию, «которая обозначает пространство межличностных отношений, противостоящих государству в любой его форме»[58]. Государство с его бюрократическим аппаратом противостоит гражданскому обществу с его свободными негосударственными объединениями, ассоциациями, движениями. При этом государство должно подчиняться гражданскому обществу. Таким это понятие сложилось в современном западном обществе. Однако оно не всегда было таким.
Гражданское общество впервые появилось в Античности, в Древней Греции и Риме. Само понятие «гражданин» – как личность, наделённая некоторыми неотъемлемыми правами, которые защищены законами, – выработано в Древней Греции в противопоставление «подданным» восточных деспотий. Для характеристики античного гражданского общества можно привести несколько отрывков из прославленной речи Перикла: «В частных делах все пользуются одинаковыми правами по законам. Что же до дел государственных, то на почётные государственные должности выдвигают каждого по достоинству… не в силу принадлежности к определённому сословию, но из-за личной доблести. Бедность и тёмное происхождение или низкое общественное положение не мешают человеку занять почётную должность, если он способен оказать услуги государству… Терпимые в своих частных взаимоотношениях, в общественной жизни не нарушаем законов, главным образом из уважения к ним и повинуемся властям и законам, в особенности установленным в защиту обижаемых, а также законам неписаным, нарушение которых все считают постыдным… Одни и те же люди у нас одновременно бывают заняты делами и частными, и общественными. Однако и остальные граждане, несмотря на то что каждый занят своим ремеслом, также хорошо разбираются в политике. Ведь только мы одни признаём человека, не занимающегося общественной деятельностью, не благонамеренным гражданином, а бесполезным обывателем»[59].
Приведённые цитаты хорошо показывают сходство и различие двух трактовок понятия «гражданское общество» – в Античности и в Новое время. Сходство прежде всего в правовом характере гражданского общества: связующей его силой выступает закон, все члены гражданского коллектива равны перед законом, каждый гражданин по закону наделён неотъемлемыми правами. Существенное же различие – в отношении к государству и к политике вообще. В Древней Греции вовсе не наблюдается того отстранённого, а то и враждебного отношения человека к своему государству, которое обычно для современного общества. Греки даже в теории плохо различали государство и гражданское общество; на практике эти понятия для них совпадали. Греки принимали самое активное участие в делах своего государства, – в обсуждении политических вопросов в Народном собрании, отправлении правосудия, в почитании отечественных богов, в общественных празднествах; защищали свой полис в гражданском ополчении. Им и в голову не приходило противопоставлять себя государству, ибо каждый гражданин полиса ясно понимал, что свобода и все права, которыми он пользуется, гарантированы только его государством. Полисный гражданин обладал неотъемлемыми правами не как человеческая личность как таковая, а как член полисного гражданского коллектива. И за пределами своего полиса-государства, без его поддержки, человек превращался в существо бесправное и беззащитное. Так что в греческом полисе существовало прочное единство прав и обязанностей по отношению к обществу и государству. Добросовестное исполнение обязанностей во многом питалось сознанием, что от этого зависит прочность гражданских прав.
Такое ревностное отношение к исполнению гражданского долга не было вовсе чуждо для европейцев. Идеи гражданского общества появились в Европе как возрождение античной традиции, и попытки их воплощения первоначально рядились в античные одежды (вспомнить хоть французских якобинцев). Но в целом акцент сразу же сместился с участия в политике и государственном управлении на обеспечение независимости личности от государства, невмешательство государства в дела личности.
Таким образом, в понятии «гражданского общества» совмещаются два элемента: автономия личности и её политическое участие. В связи с этим возникает ряд вопросов. Какой из этих элементов важнее? Либо они равны по важности? И вообще, обязательно ли для гражданского общества наличие двух элементов сразу или достаточно какого-либо одного? В конечном счёте, какой из элементов является определяющим? За разъяснением этих вопросов обратимся к истории.
Первое, о чём необходимо сказать, – это совершенная неверность отождествления гражданского общества с демократией. Это заблуждение, видимо, следствие того, что одним из самых ярких примеров гражданского общества в древности традиционно служили демократические Афины. Но вряд ли кто будет отрицать, что олигархическая Римская республика также была именно гражданским обществом. Братья Гракхи и Катон, Цицерон и Брут, многие другие римляне заняли почётные места во всемирном гражданском пантеоне. Римская республика служила образцом и для французских якобинцев и для американских отцов-основателей.
Не подлежит сомнению и гражданский характер спартанского коллектива; для всякого, кто читал Геродота и Плутарха, это бесспорно. Достаточно вспомнить о подвиге царя Леонида и трёхсот спартанцев в Фермопилах, который на все времена стал образцом доблестного и жертвенного исполнения гражданского долга. А ведь законы Спарты иначе и не назовёшь – как тоталитарными. Государство вмешивалось во всё, регламентировало все стороны жизни гражданина: строго поддерживалось имущественное равенство; регламентировался покрой одежды, форма бороды и усов, пища, жилище, домашняя утварь. Государство не давало свободы гражданину даже в семейной жизни – деторождение и воспитание детей (которых рано отбирали у родителей), отношения между супругами, – всё определялось государственными законами. Гражданский коллектив Спарты был полностью закрыт для внешнего мира, а рыночные отношения в нём были запрещены. Однако эти тоталитарные законы опирались не только на силу государства, но и на общественное одобрение. Спартанцы в период расцвета своей общины сознательно и свободно следовали своим законам, почитая их наилучшими. Получается, что гражданское общество не связано жёстко с каким-либо политическим режимом: в Афинах он был довольно либеральным, в Спарте – близким к тоталитарному, но и тут и там существовала гражданская община.
Теперь обратимся от обществ гражданских к обществам негражданским. Антиподом гражданского общества всегда считалась восточная деспотия. Здесь отсутствовали оба составных элемента гражданского коллектива. Законы Спарты хотя и являлись тоталитарными, но это были именно законы, а не произвол властей; эти законы строго выполнялись, и по ним гражданин наделялся реальными правами. На Востоке такое понятие отсутствовало вовсе. Хотя у государственной власти, конечно, были свои пределы, но правового оформления они не получили, – руководствовались скорее обычаем. Говорить о политическом участии восточных подданных и вовсе не приходится.
Но существовали и некие гибридные, промежуточные общества, сочетавшие признаки гражданского общества и деспотии.
Например, римское или византийское имперские общества. Они имели правовой характер, но политическое участие граждан было практически сведено на нет, а вся политическая власть сосредоточилась в руках императора. Хотя в теории это было гражданское общество и власть императора официально провозглашалась «общим достоянием всех граждан».
Если назвать Византию или Римскую империю гражданским обществом, то современные идеологи «демократии» наверняка дружно возмутятся. Были ли данные общества действительно гражданскими – вопрос спорный, и спорить на эту тему мы сейчас не будем. Но несомненно то, что даже если признать их гражданскими, то они всё-таки гораздо менее гражданские, чем Римская и Афинская республики. А главное отличие этих империй от республик состоит в отсутствии политического участия граждан, в невмешательстве массы рядовых граждан в дела государственного управления, которые монополизировал профессиональный бюрократический аппарат во главе с императором. Император, собственно, был единственной связующей нитью между государством и гражданским коллективом империи, если не считать слабого сената. Что же касается автономии личности, то она была в имперском обществе на весьма высоком уровне; существовали высокоразвитые рыночные отношения, в которые власти вмешивались слабо; и вообще, частная жизнь людей была совершенно свободна от вмешательства государства. Судя по произведениям античной литературы «золотого века», имперский гражданин был исполнен оптимизма и уверенности в благополучии своего существования, в своих правах и привилегиях. Конечно, бывали и случаи произвола со стороны властей, но на общем фоне то было лишь небольшое облачко, не делавшее погоды. Жители греческих полисов и колоний на эллинистическом Востоке также пользовались большой автономией в личных и общинных делах, но никто никогда не рассматривал эллинистический Восток в качестве образца гражданственности.
Подведём некоторые итоги. Мы имеем гражданское общество, которое в общем виде характеризуется свободой личности в государстве. По содержанию эта гражданская свобода включает два элемента: автономия личности от государства и политические права. Гражданскому обществу противополагается деспотия с характерным для неё несвободным положением личности. Существует ещё переходная между ними форма, которую можно назвать правовой деспотией, – общество, в котором личность обладает значительной автономией частной жизни, тогда как политические права личности, её политическое участие сведены на нет.
На историческом опыте можно констатировать, что периоды расцвета гражданского общества характеризуются самым деятельным политическим участием граждан. В то же время автономные права личности в это время подвержены некоторым (даже в либеральных Афинах граждан судили за «праздность», – т. е. государство отчасти регламентировало образ жизни людей) или значительным (Спарта) ограничениям. С другой стороны, в истории существовали общества с весьма большой автономией частной жизни, которые, тем не менее, не признаются гражданскими (Римская и Византийская империи, эллинистические монархии).
Причём, что интересно, один и тот же политический режим может совмещать две, а то и все три эти формы. Например, Спарта была гражданским обществом по отношению к полноправным гражданам – спартиатам, правовой деспотией в отношении свободных неграждан – периэков и просто деспотией для государственных рабов – илотов. Римская республика – это гражданское общество людей, обладающих правами римского гражданства, но – правовая деспотия для союзников Рима и неправовая деспотия для подданных – провинциалов. К тому же деспотия может принять любую форму государственного устройства – не только монархии, как это по традиции ассоциируется, но и олигархической республики, и демократии (для своих греческих союзников и афинян-неграждан демократические Афины являлись правовой деспотией, а для подвластных варваров – просто деспотией). И, наконец, формы эти эволюционируют, переходят одна в другую, – так, римское общество из гражданского превратилось (во времена империи) в правовую деспотию для всех подданных Римского государства.
Теперь, учитывая всё вышеизложенное, мы можем определить характер современного общества стран Запада и тенденции его развития. Как уже отмечалось, западная наука, определяя понятие гражданского общества, делает упор на противопоставлении его государству; гражданские связи в западном понимании – это всевозможные межличностные и групповые связи, негосударственные объединения и организации. Люди западного общества не любят государства, в массе своей уклоняются от активного участия (или даже какого бы то ни было участия) в политике. Они сбрасывают с себя одну гражданскую обязанность за другой: общеизвестно падение интереса к выборам, массовое уклонение от участия в голосовании; всё новые страны Запада отменяют всеобщую воинскую повинность (которая, заметим, всегда была одним из главных характерных признаков гражданского коллектива), добавим к тому и уклонение от государственных налогов. Если же какие-то гражданские объединения (движения ассоциации, профсоюзы) и участвуют в политике, то, как правило, единственная цель их участия – отстаивание частных прав и интересов, требования новых прав, а не выдвижение конструктивных политических инициатив. Американские политологи Дай и Цайглер весьма невысоко оценивают политический потенциал своего гражданского общества: «Если бы выживание американской политической системы зависело от активности, информированности и просвещённости граждан, демократия в Америке давно исчезла бы, ибо массы в Америке апатичны и дезинформированы в политическом отношении и удивительно мало привержены демократическим ценностям». Таково положение в США, гражданское общество которых, пожалуй, самое сильное из всех западных.
Таким образом, можно констатировать значительное и нарастающее отчуждение большинства граждан стран Запада от дел государственного управления. Политическая составляющая гражданского общества на Западе деградирует. То же самое наблюдалось в Древнем Риме, когда, по мере того как масса граждан отходила от активного участия в политике, гражданское общество Рима трансформировалось в правовую деспотию имперского типа.
Упадок гражданского общества исторически неизбежен, так как феномен этот слишком недолговечен, – после краткого расцвета следует упадок и исчезновение. И тут мы вступаем в область этногенеза. В Элладе и Риме формирование и расцвет гражданского общества приходятся на фазу инерции, – когда личность уже рационально осознала свои интересы, а этнический коллектив ещё достаточно крепок. По мере дальнейшего нарастания обскурации следует кризис этносоциального организма и распад возникающего на его основе гражданского общества.
В Европе гражданское общество появилось довольно поздно в сравнении с Античностью. И это не случайно. Дело в том, что для возникновения гражданского общества необходимо светски ориентированное сознание. У эллинов с их эстетической религией и римлян с их рационально-прагматической религией оно было именно таким. Поэтому здесь гражданское общество возникает довольно рано. Этническое сознание европейцев отличалось гораздо большей религиозной напряжённостью, а религиозные ценности носили трансцендентный характер. Потому светский гражданский коллектив здесь сформировался только в фазе обскурации. Соответственно, ещё более недолог, чем в древности, должен быть период его расцвета. Именно вследствие позднего возникновения гражданского общества в европейском мире в идеологии здесь и преобладало присущее обывательскому обскурантизму отчуждение от политики, противопоставление индивидуума государству, безмерные притязания на «права» с пренебрежением обязанностями.
История ясно нам говорит, что расцвет гражданственности связан с активным участием граждан в политике. Именно политика и активное в ней участие гражданского коллектива являются основой гражданского общества. Только через политику утверждаются личные права его членов. И как только эта основа исчезает, права и автономия личности становятся предметом временного стечения обстоятельств.
Ведь что такое политика? В обыденном словоупотреблении это просто всякая линия поведения, направленная на достижение той или иной цели в любой сфере жизни и деятельности. Но своё происхождение термин ведёт от греческого «полис» – надродовая общность эллинского мира; «политика» – ведение полисных дел. А всякая надродовая органическая людская общность есть этнос. Значит, политика связана с этносом, она возникает с появлением «народа» (надродовой общности людей).
Политика – это деятельность, преследующая цель воплотить в жизнь общественные идеалы этноса, идеалы мироустройства и наилучшим образом обеспечить его материальные интересы, что в совокупности можно обозначить как «благо общее» (общенародное). Важно отметить, что политика имеет своей целью не только материальные интересы и житейские выгоды, но выше всего – идеальное содержание. Для древних греков полис был не только местом, где им хорошо и комфортно жилось; полис для грека – это прекрасное тело, идеальная форма человеческого общежития, высшая ценность этого мира. Также и для римлянина его республика была не только подателем определённых прав и земельного участка, но воплощением справедливости и свободы. Так что подлинная политика – дело далеко не «грязное»; а грязные дела «политиков», по-видимому, никакого отношения к политике не имеют.
Политика осуществляется различными способами, основной из них – способ прямого властвования. А государство есть особая организация, предназначенная для осуществления политики путём прямого властвования. Таким образом, в здоровом обществе народ, политика и государство скреплены неразрывной связью. В основе гражданского общества лежит совместное политическое действие (со-действие) граждан, а источник этого совокупного действия – этническое, национальное сознание. Ведь «общее благо» возможно лишь там, где между людьми существует реальная органическая (этническая) связь. Общество можно назвать гражданским лишь в том случае, если в политике его властей находит утверждение некое существенное и неотъемлемое для каждой личности данного общества содержание (этническое содержание). Форма правления при этом определяющего значения не имеет.
В обществе атомизированном, распавшемся на независимых и отчуждённых субъектов, людей реально ничего не связывает, а общее благо здесь вещь абстрактная. По мере перехода западных стран к такому обществу умирает и гражданское сознание. Затемняется даже сам смысл термина «гражданское общество». Ведь то, что разумеют под этим на Западе, вообще имеет отдалённое к нему отношение; это скорее общество частных отношений, индивидуальное или индивидуумное общество, – так вернее его определить.
Западные идеологи настолько исказили сущность и смысл понятий, что уже сами не замечают, какую нелепицу они временами несут. Вот, к примеру, что утверждает Пайпс: «Граждане древних Афин обладали политическими, но не гражданскими правами, а привилегированные подданные некоторых просвещённых деспотов были наделены правами гражданскими, но неполитическими»[60]. Итак, по Пайпсу, граждане гражданскими правами не обладали, а неграждане (подданные деспотии) гражданскими правами обладали. Большего абсурда нарочно измыслить невозможно! Браво, мистер Пайпс! Уже отсюда можно понять, что все подобные идеологи отстаивают не гражданское общество и не демократию, а прокладывают путь «просвещённой» деспотии, «привилегированными подданными» которой они себя видят.
Словно вовсе позабыв о сути феномена гражданственности, западные политологи и их российские выученики валят в одну кучу и объявляют гражданскими все человеческие связи, – только бы они не имели отношения к государству. Кто-то объявляет институтом гражданского общества уже и семью (причём важнейшим институтом!). Можно поздравить господ учёных с таким открытием; в таком случае одним из образцов гражданского общества может служить хоть Османская империя, ибо у турок, по свидетельству очевидцев, были весьма крепкие семьи. Другие называют гражданское общество феноменом буржуазным, хотя сама суть буржуазности состоит в освобождении от всех связей вообще, выпячивании на первый план своей индивидуальной личности и поставлении её над всяким обществом.
Толкование гражданского общества как сферы, независимой лишь от государства, – это явное сужение понятия, а значит – искажение его смысла. Гражданский статус предполагает свободу не только от государства, но и от частных лиц или групп. Ведь рабы – тоже люди, независимые от государства. В современной западной публицистике если речь заходит о свободе, то рассуждают исключительно о свободе от государства, – как бы молчаливо подразумевается, что в прочих отношениях нет никаких проблем. А так ли это? Разве не существует на Западе хотя и не формальная, но вполне реальная зависимость работника от нанимателя, причём наниматель может быть частным лицом или частной корпорацией? В условиях растущей безработицы и дороговизны жизни такая зависимость, под угрозой увольнения, для многих наёмных работников весьма серьёзна. Да и не только для наёмных работников; многие мелкие предприниматели работают на конкретные крупные фирмы, и найти нового подрядчика им не так-то просто, либо находятся в кредитной кабале у банков.
Вообще, в вопросе о свободе человека в этом мире куда ни кинь – всюду клин, опасность подстерегает на каждом шагу. В конечном счёте приходится вести речь не о полной свободе, которая остаётся в области идеального, а о выборе той или другой формы зависимости. Личная свобода – настолько обширное понятие, что никакое этническое сознание не в состоянии вместить его целиком; сознание каждого конкретного этноса делает акцент на том или другом аспекте личной свободы. Так, граждане античного полиса вовсе не заботились о независимости от государства, зато всячески избегали частной зависимости. Идеалом античного гражданина был человек хотя и скромного достатка, но хозяйственно самостоятельный и независимый от других граждан. Быть на службе не у государства, а у частного лица, хотя бы и за хорошее вознаграждение, считалось унизительным. В случае если сохранить хозяйственную самостоятельность не удавалось, афинский гражданин предпочитал перебиваться скудными пособиями государства, но не наниматься на работу к своему согражданину. В Европе и вообще на Западе дело обстоит как раз наоборот. Судя по всему, там люди вполне спокойно относятся к частной зависимости (в Средние века частная служба даже для титулованной знати была в порядке вещей), но очень чувствительны к зависимости от государства.
Гордые европейцы всегда превозносились над русскими людьми, утверждая, что у них-де – свобода, а в варварской России – ничего, кроме рабства. Это некоторым образом недоразумение. В России люди также обладали свободой, только свободы у русаков и европейцев были разные. Следующее утверждение из времён Смутного времени хорошо иллюстрирует эту разницу. В ответ на похвальбу поляков своей «вольностью» москвичи ответили им так: «Вам дорога ваша вольность, а нам дорога наша неволя. У вас не вольность, а своевольство. Вы думаете, что мы не знаем, как у вас сильный давит слабого, может у него отнять имение, самого убить! А как по вашему праву начать на нём иск, так протянутся десятки лет, пока приговор выйдет, – а другой и никогда не дождётся его! У нас же самый богатый боярин ничего не может сделать самому последнему человеку, потому что по первой жалобе защитит от него царь. А если сам царь поступит со мной несправедливо, то ему всё вольно делать, как Богу: он и карает, и милует. Тяжело от своего брата терпеть, а когда меня сам царь накажет, то ведь он на то государь, над которым нет большаго на земле; он солнце праведное, светило русское»[61]. Добавлю, что последние слова свидетельствуют вовсе не о рабском пресмыкании перед всякой державной силой. Русские безусловно повиновались царю не какому-то, а православному; в соответствии с православной политической доктриной самодержавная власть в государстве принадлежала ему по праву. Державная власть царя охраняла и утверждала православие. Россия – православная держава, а каждый русский человек – гражданин своей православной державы и как таковой равен всякому другому русскому. В этом и заключалась свобода чувства и поведения русского человека, которая, если и не получила официального оформления, интуитивно ощущалась всяким. И когда в Смутное время не стало царя, это гражданское чувство вышло наружу и ясно проявилось в деятельности Земского правительства. Очевидно, сколь легковесны были надежды иезуитов обратить русских людей в католичество, действуя через подставленного ими царя, которому, как они полагали, рабски покорствует народ. Неправославный царь не имел никаких шансов удержаться на престоле.
Именно это свободное гражданское чувство было источником той почти неистощимой выносливости, которую русский мужик проявлял в отношении тягот, накладываемых государством, – что иноземцам казалось рабством. И именно гражданское чувство русского крестьянина противилось феодальному укладу, вводимому европеизированным барином. Крепостное рабство так никогда и не стало легитимным институтом в сознании русского народа. Это ясно выразил сподвижник Петра I крестьянин Посошков: «Крестьянам помещики не вековые владельцы… а прямой их владетель всероссийский самодержец, а они владеют временно». Так что когда крестьяне восставали против помещичьей власти, то их бунт если и был «беспощадным», то вовсе не «бессмысленным», – как это казалось помещику Пушкину. Как видим, не либеральные европеизированные господа, а их «тёмные» крепостные мужики были носителями подлинного русского гражданского чувства.
Выявление связи становления гражданского общества с процессом этногенеза позволяет, отбросив идеологически ангажированную трескотню о его развитии и совершенствовании, уверенно прогнозировать скорый закат этого явления на Западе. Этнически постаревшие народы Европы и их заокеанские собратья по цивилизации – творцы современного гражданского общества – не способны уже не только что к развитию, но и к поддержанию гражданских отношений на прежнем уровне. Весь же остальной мир находится под влиянием западной цивилизации; свежей этнической силы, способной обновить и подкрепить гражданский уклад, пока незаметно. По-видимому, мы живём в переходное время, когда на смену гражданскому строю вновь приходит деспотический мировой порядок.
Глава 19 Капитализм
Нам остаётся разобраться с последней из «формаций» – капиталистической. Об истоках и сущности капитализма, современного нам социально-политического строя, написано особенно много. Но вся эта литература посвящена прояснению социального и экономического характера данного строя; а мы рассмотрим его в аспекте этнологическом, используя кое-какие наработанные материалы в своих целях.
Что такое капитализм – более или менее известно каждому: частная собственность и рыночные отношения, индустриальное машинное производство, наличие двух основных общественных классов – буржуазных собственников и наёмных работников, – таковы его характерные черты.
Существует спор о том, является ли капитализм явлением уникальным, присущим только периоду Новой истории, или же он был и в прежние эпохи (капитализм искали и находили в Античности, в Средние века, на Востоке). Ответ на вопрос зависит от того, что считать главным определяющим признаком капитализма. Если, к примеру, считать таковым массовое машинное производство или наличие в качестве основной рабочей силы класса пролетариев – формально свободных и лишённых собственности работников, то тогда, конечно, капитализм не существовал до конца XVIII века. Если же полагать главным господство частной собственности и товарно-денежных отношений, то, пожалуй, и Античность подойдёт под это определение. С другой стороны, ответ будет различным в зависимости от того, – считать ли капитализмом присутствие отдельных его элементов, фрагментарно вкраплённых в иную социально-экономическую структуру, или же только полное господство капиталистического уклада?
По моему мнению, определяющей чертой капитализма является усиленная (в принципе, не имеющая пределов) экономическая экспансия. То есть такой тип хозяйства и общественного устройства, который устремлён на постоянное расширение производства (расширенное воспроизводство), который весь жизненный процесс подчиняет этому расширению путём его по возможности полной рационализации. Такой подход восходит к Зомбарту и Веберу; при этом во главу угла ставится духовный склад личности, что созвучно теории этногенеза. «Экономическому человеку» – капиталисту противопоставляется «природный», «органический» человек; а капитализму – традиционное общество. Разницу между ними хорошо обрисовал Макс Вебер: «Человек „по своей природе“ не склонен зарабатывать деньги, всё больше денег, хочет просто жить так, как он привык, и зарабатывать столько, сколько необходимо для такой жизни. Повсюду, где современный капитализм пытался повысить „производительность“ труда путём увеличения его интенсивности, он наталкивался на этот лейтмотив докапиталистического отношения к труду»[62]. А вот пример обратного:
«Якоб Фуггер, упрекая в малодушии своего товарища по делам, который удалился на покой и советовал ему последовать его примеру – он, мол, достаточно нажил, пора дать заработать другим, – сказал, что он (Фуггер) мыслит иначе и будет наживаться, пока это в его силах». Тут «уже не приобретательство служит человеку средством удовлетворения его потребностей, а всё существование человека направлено на приобретательство, которое становится целью его жизни»[63].
В рамках данного подхода к осмыслению капитализма он, конечно, не существовал как заметное явление, как цельный уклад – до Нового времени. Хотя отдельные его элементы присутствовали и ранее (личности, подобные Фуггеру, были во все времена), но внешние условия не благоприятствовали их развитию. Развитые рыночные отношения, частная собственность, крупные частные состояния – ещё не признаки капиталистического уклада. Определяющим моментом является – каким образом получатель прибыли её использует. Если избыток дохода сверх простого воспроизводства хозяйственного предприятия вкладывается не в его дальнейшее расширение, а идёт на любые другие цели, – это не капитализм. Так оно и было в докапиталистические времена. Богатые люди тратили свои доходы на потребление, на роскошь, на благотворительность или вкладывали свои средства в землю, откладывали в качестве сокровища. И так было не только на Востоке, но и в докапиталистической Европе. Напрасно некоторые историки пытаются провести какую-то непрерывную линию противостояния в этом вопросе между Западом и Востоком. Хорошо известен, к примеру, процесс «одворянивания» французской буржуазии, – когда разбогатевшие буржуа за большие деньги покупали должности в королевской администрации и суде, дающие дворянское достоинство; получив его, они отходили от дел, покупали замки и земли разорившегося старого дворянства и вели образ жизни сеньоров. То же происходило в Италии, где разбогатевшие банкиры и купцы вкладывали свои капиталы в покупку земли и титулов (в одном Неаполе появились сотни новоиспечённых маркизов, графов и герцогов). Похожий процесс развивался и в Германии.
Но в XIX веке капиталистический уклад в Европе, в отличие от всех прежних исторических эпох, укрепился и завоевал господство. Таким образом, капитализм имеет характер и всеобщий (по повсеместному распространению элементов и зародышей), и уникальный (по развитию этих зародышей в цельный и господствующий строй). В Европе сложились определённые исторические условия, в силу которых капитализм смог полностью развить свои потенции.
Достаточно очевидна связь развития капитализма с процессом обскурации. Якоб Фуггер – тип законченного этнического обскуранта. Общеизвестна большая роль протестантства, особенно кальвинизма, в становлении и утверждении капитализма. Макс Вебер даже считал этику пуританизма основой его развития. Протестантство есть упадническая форма христианства (религия, потерявшая реальную энергетическую связь с объектом своего поклонения). А в этническом плане его можно считать крупным шагом по пути суперэтнической обскурации. Кальвинизм же есть самая настоящая негативная система, т. е. общность обскурантов на базе негативной идеологии. В Европе капитализм развивался на протяжении всего Нового времени – с середины 2-го тысячелетия н. э. (начало фазы обскурации европейского суперэтноса). Но особенно бурно его развитие пошло с конца XVIII века (начало фазы обскурации ведущих европейских этносов). Эволюция капитализма, его нарастание и всё более ясное и законченно полное проявление по мере прогрессирования этнической обскурации, прекрасно иллюстрируется материалом очерков Зомбарта.
Зомбарт даёт обобщённые портреты «буржуа старого стиля» и современного капиталиста. Он разделяет их потому, что, по его мнению, предприниматели раннекапиталистической эпохи (до конца XVIII века) резко отличаются от того предпринимательского типа, который утвердился впоследствии. При этом оба типа суть именно капиталисты, т. е. соединяют в себе два качества – предприимчивость и мещанство. Признаки мещанства, по Зомбарту, – рационализм, мелочность и благоприличие. Вместо аристократической расточительности здесь главенствует идея сбережения, причём сбережения не вынужденного, а добровольного, «сбережения как добродетели». Рационализм охватывает всё: экономизация не только хозяйства, но и жизни (экономия времени, экономия сил), – «время – деньги». Верховное руководящее правило – полезность. Деловая мораль «становится составной частью мещанских добродетелей вместе с ростом капитализма. Отныне становится выгодным (из деловых соображений) культивировать известные добродетели или хоть по крайней мере носить их напоказ. Эти добродетели можно объединить в одном собирательном понятии: мещанская благопристойность». Лицемерие – неотъемлемая черта мещанской морали: «В деловых интересах достаточно, если считаешься благопристойным. Быть им во всяком случае недостаточно, нужно также считаться им»[64].
Но. При всём вышеизложенном для «буржуа старого стиля» его дело, его состояние оставалось только средством к жизни. «Богатство ценится, нажить его – горячо желаемая цель, но оно не должно быть самоцелью; оно только должно служить к тому, чтобы создавать или сохранять жизненные ценности». Ценятся также честность, спокойная совесть – не ради их самих по себе, а ради душевного комфорта (что всё же означает, что человек не чужд её голосу). Высшей же ценностью для буржуа той эпохи был покой. В его душе царил идеал рантье, среди деловых забот он тосковал по спокойной жизни на вилле. «Было, пожалуй, общим обыкновением, что люди, нажившие в торговле и производстве скромное состояние, ещё в цветущем возрасте удалялись на покой и, если только было возможно, покупали себе за городом имение, чтобы провести закат своей жизни в созерцательном покое». Внешним выражением этого идеала была даже размеренная, неторопливая поступь, которой шествовал по улицам буржуа.
Из деловых правил «строжайше запрещена была всякая „ловля клиентов“»; считалось не христианским, безнравственным отбивать у своих соседей покупателей. Выдержка из купеческого устава города Майнца: «Никто не должен вмешиваться в торговлю другого или вести свою собственную так широко, что другие граждане от этого разоряются». «Безусловно предосудительной считалась коммерческая реклама… Как высшую же степень коммерческого неприличия рассматривали объявление, что берут более дешёвые цены, нежели конкурент»[65].
Господствующей тенденцией в производстве в течение всей раннекапиталистической эпохи было стремление изготовлять хорошие, доброкачественные товары. От этого времени сохранилась масса свидетельств того, что мануфактуры отвергали внедрение более эффективной трудосберегающей техники на том основании, что она лишит многочисленных рабочих и их семьи куска хлеба. И, наконец, о рабочем времени: один француз жаловался, что молодые отпрыски купеческих семейств во Франции посвящают делам два часа в день; но и прилежные коммерсанты работали не более шести-семи часов в сутки, на лето же оставляли дела и переселялись на загородные виллы.
Предприниматель эпохи развитого капитализма заметно отличается от своего исторического прототипа. Суть этого отличия в том, что живой человек вытеснен из круга интересов бизнесмена, а «его место заняли две абстракции: нажива и дело». Первой ступенью является здесь интерес к своему «делу». Вальтер Ратенау: «Предмет, на который деловой человек обращает свой труд и свои заботы, свою гордость и свои желания, – это его предприятие, как бы оно ни называлось: торговым делом, фабрикой, банком, судоходством, театром, железной дорогой. Это предприятие стоит перед ним как живое, обладающее телом существо. У делового человека нет другого стремления, как только к тому, чтобы его дело выросло в цветущий, мощный и обладающий богатыми возможностями в будущем организм»[66].
Зомбарт считал, что «для наживы, как и для процветания какого-нибудь дела, нет никаких естественных границ». Вопрос спорный. Пожалуй, что у каждого конкретного дела границы всё-таки существуют. А вот абстрактная денежная нажива границ действительно не имеет. И когда она становится главной целью, – то это вторая и законченная ступень капиталистического сознания. В данной стадии все стремления предпринимателя направлены к постоянной экспансии (совершенно бессмысленной для стороннего наблюдателя). «Трата энергии у современного экономического человека повышается до границ возможного. Всякое время дня, года, жизни посвящается труду. И в течение этого времени все силы до крайности напрягаются. Перед глазами каждого стоит картина этих до безумия работающих людей. И вечно они в возбуждении и спешат. Время, время! Это стало лозунгом нашего времени. Усиленное до бешенства движение вперёд и гонка… Все жизненные ценности приносят в жертву Молоху труда, все порывы духа и сердца отдаются делу»[67].
Соответственно изменяется деловая мораль и принципы производства. Единственный интерес производителя – возможно больший сбыт. Решающее значение имеет не доброкачественность изделий, а их способность к сбыту, – в первую очередь дешевизна. Судорожное стремление к экспансии принуждает воздействовать на людей таким образом, чтобы всячески побуждать их покупать, приобретать, потреблять. «Покупателя отыскивают и нападают на него… как можно громче кричат в уши или возможно более яркими красками бьют в глаза… стремятся внушить покупателям убеждение в необыкновенной доброкачественности или необыкновенной выгодности цены сбываемого товара… излишне распространяться о том, что ни с чем не считающееся преследование этой цели должно уничтожить всякое чувство благопристойности, вкуса, приличия и достоинства»[68].
Итак, по мере усиления обскурации все моральные нормы, ценности, идеалы, реальные связи между людьми отступают на второй план, слабеют и угасают. Ценность наживы торжествует над всеми другими ценностями. А нажива неразрывно связана с постоянной экспансией. Таким образом, постоянная экономическая экспансия – способ существования капитализма.
В чём причина этого беспокойного стремления к безграничной экспансии? Вспомним, что реальная связь с миром для человека возможна лишь через этническое сознание. С угасанием этнического сознания эта связь слабеет. Происходит отчуждение личности от мира. На смену уверенному в себе существованию человека с сильным этническим чувством приходит ощущение неуверенности и постоянной внешней угрозы. «Основная черта докапиталистической жизни есть черта уверенного покоя, свойственная всякой органической жизни», – замечает Зомбарт. Стремление к экспансии овладевает человеком по мере отчуждения от мира. Экспансия – это попытка утвердиться в чуждом окружении, попытка отыскать опору во внешнем враждебном пространстве. Такая попытка заранее обречена на неудачу, в конечном счёте: стоит только добиться успеха, расширить своё «я» на окружающее, как тебя тут же вновь обступит чуждое пространство, а значит – нужно идти дальше, – и так без конца. Тому, кто ощущает себя органической частью мирового порядка, не придёт в голову идея властвовать над ним. Зачем? Ведь он в родном доме, где всё и так его достояние. Если ты – кровная часть мироздания, это значит, что мир – твой.
Отчуждение от мира, вызванное потемнением этнического сознания, приводящее к безудержному экспансионизму, лежит в основе современного империализма и капитализма.
С особой силой такое отчуждение выразилось в кальвинизме. В основе этого учения лежит доктрина предопределения, которая утверждает, что судьба всех людей от века предопределена Богом: одни предназначены к спасению, другие же – к вечной гибели. И никакие поступки человека, его воля, стремления не способны изменить извечного предназначения. К тому же человеку не дано и знать о своей участи.
Это учение выражало абсолютное одиночество человека: «Он был обречён одиноко брести своим путём навстречу от века предназначенной ему судьбе». Полное отчуждение от окружающих отразилось и в пуританской литературе, которая призывает никому не доверять, не полагаться ни на помощь, ни на дружбу людей.
Напряжение столь отчуждённого одинокого существования требовало какого-то выхода. С этим соединялась субъективная потребность обретения внутренней уверенности в своём спасении. Выходом из такого состояния послужила бурная деятельность. А так как все мистические связи были оборваны, это могла быть только мирская, профессиональная деятельность. Обскурант-пуританин должен был в повседневной борьбе завоевать субъективную уверенность в своей избранности к спасению. Потеряв реальную энергетическую связь с миром, пуританин цеплялся за формальные правила такой связи: мораль, долг, трудолюбие, самоограничение (аскеза), – которые концентрировали его энергию в избранном направлении. «Пуританизм стоял у колыбели современного „экономического человека“», – констатировал Вебер.
Капитализм создаётся этническими обскурантами. А обскуранты и их общности, как мы уже установили, существуют за чужой счёт, паразитируя на энергии этноса. Капитализм эту истину полностью подтверждает. Ни один хозяйственный уклад не эксплуатирует человеческие силы с такой интенсивностью, как этот. Более того, капитализм вырывает человека из органичной ему природной среды и подчиняет его жизнь механическому ритму машинной индустрии полностью рационализированного хозяйства. Поэтому витальные силы людей, вовлечённых в капиталистическое производство, быстро падают. Идеологи капитализма (и свободнорыночного и государственного) никогда не обращали внимания на этот фактор, составляющий обратную сторону капиталистических достижений. Они увлечены исключительно «эффективностью» свободнорыночного хозяйства либо грандиозными свершениями государственно-капиталистического строя. О цене, которой оплачены все эти достижения, они, как правило, не задумываются. А между тем данный аспект не только важен сам по себе, но и способен разъяснить многие недоумения и парадоксы.
Первые 100 лет эпохи капитализма в Европе характеризовались господством свободных рыночных отношений и довольно свободной международной торговлей. Государство почти не вмешивалось в экономику. Принципы классического либерализма казались сами собой разумеющимися и незыблемыми. Однако в последней четверти XIX века наступили времена, которые сильно поколебали прежние идеалы. Современники называли тот период Великой депрессией. Основной его тенденцией было постоянное падение цен на промышленную и, особенно, аграрную продукцию. Мировая торговля переживала депрессию. Либерализм в ней остался позади, – большинство развитых стран ввели высокие таможенные тарифы. С того времени протекционистские тарифы стали неотъемлемой чертой международных экономических отношений. «После 1875 года появился растущий скептицизм по поводу эффективности автономной саморегулирующейся рыночной экономики, в которой действовала знаменитая „невидимая рука“ Адама Смита, управляющая экономикой без помощи государства и общественности. Теперь рука стала видимой со всех точек зрения»[69]. С тех пор начался процесс слияния экономики и политики. Несмотря на жалобы и протесты либеральной публики, вмешательство государства в экономику и социальную сферу всё время росло.
Дело, видимо, здесь в том, что так называемая «саморегуляция» рыночной экономики без вмешательства государства была возможна до конца XIX века потому, что в те времена капитализм в Европе представлял собой лишь вкрапления в некапиталистическую этнически сильную среду. За счёт энергетических ресурсов этой среды и происходила «саморегуляция». За счёт этой среды и существовал строй недемократического либерально-буржуазного конституционализма, ушедший в прошлое с началом демократизации 70-х годов XIX века. Как только ресурсы этнической энергии в Европе поистощились, наступил продолжительный кризис либерально-буржуазной системы. Это истощение подтверждается резко усилившейся как раз в данное время колониальной экспансией европейских стран. Тут уже появилась неотложная необходимость во внешнем регулировании со стороны государства. Токвиль считал, что господство частного интереса должна ограничивать религия, Адам Смит – мораль; с угасанием в буржуазном обществе и того и другого роль ограничителя вынуждено брать на себя государство. Так что усиление роли государства, увеличение его регулирующих функций на Западе – не случайное и временное увлечение социалистическими идеями, а необходимость существования. Поскольку обскурационный процесс на Западе углубляется, можно уверенно прогнозировать дальнейший рост этой тенденции.
В литературе встречаются утверждения, что причина японского «экономического чуда» в том, что японцам удалось сохранить в современной хозяйственной организации черты традиционного средневекового общественного уклада: общинный коллективизм, сеньориально-вассальные отношения, постоянство и взаимные обязательства таких связей. Применяя эти традиционные принципы в управлении и организации труда, японцы добились огромных успехов. Но на рубеже XXI века феноменальный экономический рост второй половины XX века сменился застоем. И этого следовало ожидать. Если структура японских корпораций и была «феодальна», то образ существования они вели совсем не феодальный. Феодализм в экономике – это простое воспроизводство существующего хозяйственного цикла. Японские же корпорации были нацелены на постоянную мировую экспансию, даже гиперэкспансию. Этнокультурные традиции японского народа бизнес использовал в целях капиталистической экспансии, которая эксплуатирует и истощает японский этнос. Ради успехов в этой новой экспансии японские корпорации не жалели своих рабочих, как японские генералы не жалели своих солдат при штурме Порт-Артура. Результат – витальное истощение, которое и явилось глубинной причиной наступивших экономических трудностей.
В Античности обскурационная фаза – эпоха интенсивного развития рабовладения; через эксплуатацию рабов удовлетворялись резко возросшие аппетиты античного потребителя. В Европе, в связи с особенностями этнокультурного сознания, возрождение формального рабства было невозможно (оно появилось только на дикой окраине европейского мира – в Америке). Однако по мере роста обскурации росли и потребности; необходимость их удовлетворения стала к концу XVIII века настоятельной. Европейцы решили проблему двумя способами: во-первых, через внедрение высокоэффективной трудосберегающей техники (именно поэтому машинная индустрия стала развиваться с конца XVIII века – начало обскурационной фазы); второй способ состоит в интенсификации эксплуатации формально свободных работников, обслуживающих эту технику. Такой метод оказался гораздо выгоднее прямого рабства. Работника, лишённого других средств к существованию, не нужно было охранять или подгонять. Он сам добровольно являлся на рабочее место и работал исправно, подстёгиваемый конкуренцией со стороны других жаждущих занять его место. Людей всячески загоняли в капиталистическое рабство – поборами, прямым насилием сгоняли с земли, лишали иных средств к существованию. Отработанный людской материал выбрасывался за ворота фабрик и тут же заменялся новым. Власть денег над людьми приковывает их к своему ярму гораздо крепче, чем железная цепь – ногу раба.
Капитализм в процессе этногенеза стадиально совпадает с периодом расцвета рабовладельческого строя и по сути своей, как и рабство, является жесточайшей эксплуатацией человеческих сил (если не физических, то всегда духовных), – а потому по праву должен быть определён как современная форма рабства. Это неявная форма рабства. Такая же неявная форма, как и «демократия», которая на Западе является скрытой формой политического господства олигархии.
Глава 20 Либерализм как негативная система
Европейский суперэтнос оказался необычайно плодовит на негативные системы. Они начали появляться ещё в Средневековье и возникают до сих пор. Мы не будем составлять каталог, описывая их по порядку, – что может послужить предметом для особой специальной работы. Наш анализ коснётся лишь некоторых из них – самых распространённых в последние два столетия.
Прежде всего следует обратить внимание на самую соблазнительную и опасную из негативных систем Европы – тем более опасную, что ныне является торжествующей. Речь пойдёт о либерализме. Эта идеология, которая в просторечии чаще фигурирует под именем «демократии», после победы над своим главным соперником – коммунизмом завоевала в мире абсолютное господство. «Демократия» – официальная идеология ведущих государств мира, крупнейших международных организаций, огромной части мировой политической и интеллектуальной элиты. Она ассоциируется с такими понятиями, как «свобода», «справедливость», «равноправие», «законность», «прогресс», «гуманизм», «мирное сосуществование и развитие». Что ж, негативная система тем опаснее, чем более радужна завеса, скрывающая её негативный потенциал.
По определению, негативная система есть некое вероучение, которое формируется на основе негативного мироощущения. Вокруг такого учения образуются людские коллективы – антисистемные общности, которые противостоят этносам.
Характерными признаками негативных систем, кроме негативизма мировосприятия, являются лживость, как принцип их существования, с помощью которой они втягивают в свою сферу новых приверженцев и распространяются, и паразитизм – не имея собственной положительной энергии, они паразитируют на энергии этноса.
В качестве наиболее яркого примера негативной системы Лев Гумилёв приводил манихейство и различные его модификации – богумильство, павликианство, альбигойство. Все они вызывали резкое искажение привычных морально-нравственных критериев, перевёрнутое восприятие вечных духовных и житейских ценностей.
Примеры, приведённые Гумилёвым, относятся к отдалённым временам Средневековья. Но понятно, что если негативные системы возникали в Европе уже тогда, то спустя многие века, за которые обскурация европейского суперэтноса далеко продвинулась, их влияние должно намного усилиться. Так оно и есть. Правда, в наши дни средневековые секты отошли в историю. По причине общего падения интереса к религии наиболее влиятельные современные негативные системы приняли форму социально-политических идеологий: социализм, либерализм, коммунизм, анархизм, фашизм…
Пожалуй, никто не станет оспаривать характеристику как негативной системы – фашизма: его теория и практика говорят сами за себя. Немного защитников найдёт сегодня и коммунизм (социализм), оставивший в XX веке за своей спиной горы трупов. Хотя «левая» европейская интеллигенция, конечно, вступится за социализм, оправдываясь тем, что советский или китайский вариант есть извращение, что русские и китайские варвары исказили его гуманистическую сущность. Но в целом «демократическое» западное общество к социализму охладело.
Но как может либерализм («демократия») – надежда и опора всех свободолюбивых и свободомыслящих людей, основа идеалов гуманизма, свободы и прогресса – быть негативной системой? Как можно гуманных либералов поставить рядом с кровожадными коммунистами и бесчеловечными фашистами? Что общего между либералами и какими-нибудь манихеями?
Когда речь заходит о человеческих жертвах и страданиях, то за долгую историю либерализма их количество, скорее всего, далеко превышает скорбный мартиролог фашистских и коммунистических режимов. Об этом обычно не задумываются потому лишь, что либерализм убивает не прямо, а косвенно. Страдания и смерть многих миллионов стали результатом воплощения в жизнь принципов либеральной доктрины. Уничтожение английского крестьянства в эпоху огораживаний не менее трагично, чем сталинская коллективизация. Голодная смерть миллионов индийских ремесленников стала следствием промышленного подъёма Англии и её либеральной торговой политики. Да и в самой Англии и других развитых странах здоровье скольких рабочих было высосано нещадной эксплуатацией на капиталистических фабриках, после чего они были выброшены за ворота без всякого пособия – догнивать в городских трущобах? На наших глазах под властью либеральных «реформаторов» коренное население России сокращается на миллион человек ежегодно. Это лишь отдельные факты, выхваченные из потока истории, – общий итог огромен, не поддаётся никакому учёту и каждодневно пополняется.
Каким же образом возможно совмещение свободомыслящего гуманизма в мечтах и намерениях – с массовым человекогубительством в действительности?
Чтобы прояснить характер той или иной идеологии, нужно обратиться к её корням. А корень всякой идеологии, всякого мировоззрения и вероучения – в своеобразной мифологии, откуда они почерпают свои исходные определяющие интуиции. Для либерализма это «индивидуалистическая и субъективистическая мифология, лежащая в основе новоевропейской культуры и философии». Характер этой мифологии ярко обрисовал философ Алексей Лосев:
«Механика Ньютона построена на гипотезе однородного и бесконечного пространства. Мир не имеет границ, т. е. не имеет формы. Для меня это значит, что он – бесформен. Мир – абсолютно однородное прстранство. Для меня это значит, что он – абсолютно плоскостен, невыразителен, нерельефен. Неимоверной скукой веет от такого мира. Прибавьте к этому абсолютную темноту и нечеловеческий холод межпланетных пространств. Что это, как не чёрная дыра, даже не могила и даже не баня с пауками, потому что и то и другое всё-таки интереснее и теплее и всё-таки говорит о чём-то человеческом…
Итак, механика Ньютона основана на мифологии нигилизма. Этому вполне соответствует специфически новоевропейское учение о бесконечном прогрессе общества и культуры. Исповедовали часто в Европе так, что одна эпоха имеет смысл не сама по себе, но лишь как подготовка и удобрение для другой эпохи, что эта другая эпоха не имеет смысла сама по себе, но она тоже – навоз и почва для третьей эпохи и т. д. В результате получается, что никакая эпоха не имеет никакого самостоятельного смысла и что смысл данной эпохи, а равно и всех возможных эпох, отодвигается всё дальше и дальше, в бесконечные времена. Ясно, что подобный вздор нужно назвать мифологией социального нигилизма»[70].
И наконец вывод: «Допустим… что мир бесконечен. Если что-нибудь не имеет конца, след., оно не имеет границы и формы. Если что-нибудь не имеет границы и формы, это значит, что оно ничем не отличается от всего прочего. Но если оно ничем не отличается от всего прочего, то, следовательно, невозможно установить, существует ли оно вообще или нет. Итак, если мир бесконечен, то это значит, что ровно никакого мира не существует. Нигилизм нового времени так, в сущности, и думает. Восхвалять бесконечность миров заставляло тут именно желание убить всякий мир»[71].
Итак, корни идеологии либерализма – в мифологии нигилизма, чёрной мифологии небытия, смерти и уничтожения.
А как же тогда – «права человека», «свобода личности», гуманизм и прочее, – все эти официальные атрибуты «демократии»? Эти ценности – действительно высокие ценности, но они имеют не либеральное происхождение. Все эти ценности проистекают из христианства, а либерализм их лишь заимствовал для внешнего украшения. Именно христианство возвысило человеческую личность на небывалую доселе высоту и обосновало её права, – так как христианский Бог есть абсолютная личность, а человек Его образ и подобие. Как образ и подобие Божие человек только и имеет право на свободу; причём всякий человек, а не избранная по тому или иному социально-политическому либо этническому признаку (такого рода права существуют и в других культурах) часть людей.
Поскольку права и свободы человеческой личности имеют христианскую основу и происхождение, то для собственно либерализма они носят внешний характер, не принадлежат к его ядру. Понятно, впрочем, почему либерализм совершает этот плагиат, – ведь категория личности в либерализме стоит в центре всего. Но именно в трактовке личности либерализм радикально расходится с христианством, и именно в данном расхождении заключено его смысловое ядро. Либерализм заявляет претензию на абсолютное самоутверждение человеческой личности, в отличие от абсолютной личности христианства. Если в христианстве человек получает свои права от Бога, то в либерализме человек сам становится на место Бога и как таковой требует от окружающего мира абсолютного утверждения своих прав и свобод. «Чем, собственно говоря, отличается новоевропейский дух от средневекового и в чём сущность той необычайной разъярённости, с которой он нападает на средние века? Я, кажется, не буду утверждать ничего нового и особенного, если скажу, что средневековье основано на примате трансцендентных реальностей, новое же время превращает эти реальности в субъективные идеи. Отсюда весь рационализм, субъективизм и индивидуализм нового времени. Новоевропейская культура не уничтожает эти ценности, но она превращает их в субъективное достояние. Она лишает объекты их осмысленности, их личностности, их самостоятельной жизни, превращая внешний мир в механизм, а Бога – в абстрактное понятие… Эта эпоха выдвигает на первый план отдельные субъективные способности или всего субъекта, напрягая это до противоестественных размеров; всё же прочее превращается в некое аморфное чудовище, в безглазую тьму, в бесконечно-расплывшийся, чёрный и бессмысленный, механистический мир ньютоновского естествознания»[72].
В теории всё прекрасно – свобода, гуманизм, права человека. Но когда нет объекта их приложения, они становятся абстракцией, бессильной фразой. Теория выдвигает права человека вообще. Но «человек вообще» – пустая абстракция. Реально только отдельное существование конкретной личности. Следовательно, в отсутствие объекта реально каждым индивидуумом переживаются только свои собственные права и свободы. А раз так, то происходит абсолютное отчуждение людей друг от друга и начинается всеобщая война всех со всеми.
В этом своём абсолютном самоутверждении человеческой личности со стороны либерализма есть только неправда, но нет никакой лжи, – он здесь абсолютно искренен даже в своих заблуждениях. Но либерализм на этом не останавливается, – он хочет построить на абсолютном самоутверждении человека некую общественность. А такая затея заранее обречена на неудачу. Всякая устойчивая людская общность для поддержания своей целостности требует от своих членов некоторых жертв, требует служения и самоограничения. Но последнее возможно лишь тогда, когда люди объединены органической связью на базе реальных объективных ценностей. Или, проще говоря, когда существует для отдельных людей нечто общее всем им за пределами их индивидуальности, что дороже и ценнее для человека, чем собственное отдельное существование. Либерализм, который отменяет объективные ценности, дать такую связь не способен. Либерализм может организовать людей только внешней механической связью; но в этом случае объединяемые абсолютно чужды идее своего объединения, а значит, в принципе, и самому объединению. Целостность коллектива поддерживается только внешним насилием, а при его ослаблении распад неизбежен.
Итак, либерализм провозглашает «права человека» как высшую ценность. Но «человек вообще» не существует, а реально существует великое множество отдельных людей с великим множеством прав и притязаний со стороны каждого из них. Вследствие несовершенства нашего мира и ограниченности его ресурсов соблюсти все права всех людей – задача, очевидно, невыполнимая. Реально выполнимо – защитить только некоторые права отдельных людей, правами же других людей придётся пренебречь. А как решить, чьи потребности нужно удовлетворить, а кем пренебречь? Особенно когда эти права и потребности вступают в конфликт. Защищать ли в конкретном случае права евреев или права арабов, отдать ли предпочтение сербам или албанцам? В отсутствие объективных ценностей лозунг «прав и свобод человека» неизбежно становится предметом манипуляции. Поэтому политическая практика на основе либеральной идеологии «демократии» и «прав человека» почти неизменно исполнена лжи и лицемерия (как это постоянно демонстрируют прежде всего США).
Среду для манипуляции создаёт и принципиальная анти-иерархийность либерализма – нигилистическое учение о всеобщем равенстве и равноправии (людей, народов, религий, полов и т. д.). Этническое сознание строго иерархийно; в его рамках нет места ни социально-правовому равенству (потому что каждая социальная группа занимает строго определённое место в социуме со своими определёнными правами и обязанностями), ни равенству полов (поскольку роли и функции мужчин и женщин естественным образом различаются), ни равенству вероучений (так как верить можно только во что-то одно). Не признаёт этническое сознание равенства народов и государств, – они различаются по силе и влиянию, по объёму участия в регулировании международного порядка и мере ответственности за него. Всю эту упорядоченно иерархическую структуру мира, присущую любому этническому сознанию, либерализм ломает и упраздняет. Большое становится равным малому, великое – ничтожному, сильное – слабому, прекрасное – уродливому, правое – левому, чёрное – белому. Когда человек становится «мерой всех вещей», тогда правда приравнивается ко лжи, открывается широкий простор для манипуляции человеческим сознанием, – а это и есть принцип существования негативной системы.
Этому соответствует и антиисторизм либерализма. Ведь если «история не имеет смысла» (Поппер), то её можно постоянно переписывать в угоду сиюминутным утилитарным интересам власть имущих, как это ярко описано в антиутопиях (Оруэлл). Здесь либерализм смыкается с тоталитаризмом. И совсем не случайно, к примеру, справедливую борьбу с фашизмом во Второй мировой войне либералы пытаются представить просто как «человеческую трагедию», а великое торжество Победы над этим мировым злом заменить «днём памяти» о жертвах войны. Отнюдь не сострадание к жертвам руководит здесь либералами. Уничтожение смысловых различий, ведущее к обессмысливанию мира, идеологическому и моральному ценностному хаосу, – естественная линия нигилизма.
Если в рамках либеральной системы часть людей и пользуется реальными правами и свободами, высоким уровнем благосостояния, то достигается это, конечно, не за счёт самого либерализма, энергетический потенциал которого равен нулю, а за счёт паразитирования на энергетически напряжённой этнической среде. Дело в том, что либеральное сообщество до последнего времени составляло незначительное меньшинство в мировом этническом пространстве, как и экономическая система этого сообщества – капитализм; поэтому с ресурсами для него больших проблем не было. «Либерализм весь живёт на счёт известного политико-экономического и культурно-социального режима и в то же время систематически разрушает его. Конечно, в нём есть нечто новое и самостоятельное, почему он и называется таким именем; но главная его роль – разрушительная, несмотря на то, что либерал весь с головы до ног, и культурно, и экономически, выкормлен тем самым режимом, который он разрушает»[73].
В эпоху глобализации, когда либеральная система распространяется на весь мир, всё очевиднее, что она способна обеспечить свободу и права человека лишь для ничтожного меньшинства людей за счёт эксплуатации всего остального мира. А этот мир недолго будет мириться с такой ситуацией. С ослаблением этнической напряжённости эксплуатируемой массы её притязания вырастут; борьба за права, свободы, в конечном счёте – за ресурсы, будет всё более ужесточаться. В этой борьбе либеральная система неизбежно рухнет, и на её обломках возникнет какой-то новый, совсем уже не либеральный порядок.
Глава 21 Европа и Запад
После Первой мировой войны в Германии была издана знаменитая книга Освальда Шпенглера – «Закат Европы» (название в русском переводе). В своей книге Шпенглер выступил против евроцентристских представлений и сделал вывод, что мировая история представляет собой ряд оригинальных, неповторимых, замкнутых культур, каждая из которых переживает закономерный цикл развития, включающий периоды подъёма, расцвета и угасания. Анализируя развитие европейской культуры в сравнении с другими, уже сошедшими с исторической сцены культурами, Шпенглер пришёл к выводу, что она в XIX веке вступила в стадию упадка, деградации, в итоге которой наступит неизбежный и скорый конец, – отсюда и название книги.
Для русских людей Шпенглер, в сущности, не сказал ничего нового; основные выводы его книги уже были осознаны русской философией (славянофилы, Данилевский, Леонтьев) за полвека до Шпенглера. Но для европейской культурной среды, мало обращающей внимания на окружающий мир, то было новое слово. Все отдавали должное блестящим литературным достоинствам книги. Что же до беспощадности выводов, то они встретили (естественно) энергичные возражения со стороны многих видных деятелей европейской культуры. С течением времени скептицизм в отношении Шпенглера на Западе только рос в свете огромных успехов в экономическом развитии и научно-техническом прогрессе, в связи с созданием «общества всеобщего благоденствия». После падения коммунизма оптимизму западных футурологов не стало границ, так что теория Шпенглера может восприниматься теперь апологетами Запада лишь как изящный раритет.
Скажем сразу, что выводы теории этногенеза полностью подтверждают оценки Шпенглера. Ведущие этносы европейской суперэтнической системы пережили свою молодость в Средневековье, пору зрелости – во времена Ренессанса и Просвещения; фаза обскурации началась для них в XVIII, а завершилась в XX веке. Таким образом, с теоретической точки зрения можно констатировать существенное падение напряжённости их этнических полей до уровня мемориальной фазы, что должно выражаться в ослаблении способности к оригинальному культурному творчеству, в резком падении государственной силы и народной выносливости.
По видимости, картина экономического процветания западных стран вовсе не согласна с нашими выводами. Однако тут есть одна закавыка, – является ли объект наблюдаемого доселе процветания тем же самым, наблюдавшимся прежде объектом, т. е. Европой?
Издавна повелось именовать Европу ещё и «Западом» (в соответствии с её географическим положением по отношению к древнему культурному миру Азии). Отсюда географическое значение «Запад» стало перекликаться с культурно-историческим значением европейского мира. Когда мы здесь говорим о «Европе», то всегда имеем в виду культурно-исторический смысл этого понятия как западноевропейской цивилизации (проблема большой Европы как совокупности двух великих культурных традиций: западноевропейской латино-католической и восточноевропейской греко-православной – в данной работе не рассматривается).
Слово «Запад» как синоним Европы потеряло свой географический смысл с тех пор, как европейцы расселились по всему миру. «Запад» превратился в этнокультурный термин, которым обозначали совокупность всех стран, населённых европейцами и выходцами из Европы с определённым западноевропейским типом культуры. Такие страны стали частью «западного мира», где бы они ни находились географически.
Для русских «Европа» и «Запад» всегда были синонимами. Но в употреблении этих терминов с течением времени произошли заметные изменения. Ранее на первом плане стояла «Европа»; противостояние России с культурно-политическим миром, лежащим западнее её границ, мыслилось как «Россия и Европа» (заглавие известной книги Николая Данилевского). Однако с тех пор как европейские державы стали слабеть и утрачивать ведущую роль в мировой политике, термин «Европа» стал отодвигаться на периферию сознания, а его место заняло понятие «Запад». Ныне традиционное противостояние оформилось в виде Россия – Запад.
Таким образом, по крайней мере в сознании русского общества, «закат Европы» всё же состоялся. А по мере этого заката происходил подъём Запада. Русское сознание определённо почувствовало и зафиксировало разницу между Европой и Западом. В чём же она заключается? Только ли в падении политического значения собственно европейских стран? Если так, то различие несущественно: переход политического лидерства от народа к народу в рамках европейской этносистемы – дело обычное в её истории. Такой переход не изменяет качественно этнокультурную среду. И если отличие Европы от Запада лишь в том, что роль политического лидера перешла к новой стране – США, – то это бы только означало расширение той же самой европейской этнополитической системы на другие регионы планеты. Для того чтобы решить, есть ли Запад – этап в развитии Европы, или он – новый и самостоятельный исторический феномен, нужно сравнить предельно обобщённые характеристики того и другого в главнейших сферах бытия. Причём взять эти характеристики для стадии расцвета – как времени наиболее полного и выразительного проявления коренных свойств любого исторического общества. Расцвет Европы приходится на Средние века и раннее Новое время (до середины XVIII века). Для Запада эпоха расцвета, по всеобщему мнению, современный период (с конца XX века).
Итак, что такое Европа? В сфере религиозной – общество крайне напряжённой (даже экзальтированной) веры и религиозной нетерпимости; в сфере социальной – строгое формально иерархическое устройство общества; в сфере экономической – господство традиционного воспроизводящего хозяйственного уклада; в сфере эстетической – высокая и необычайно богатая по формам и содержанию духовная культура.
Запад. В сфере религиозной – холодное равнодушие, вытеснение религии на задворки общественной жизни, «свобода совести», толерантность, атеизм; в сфере социальной – официально провозглашаемое «равенство» всех людей; в сфере экономической – капитализм, расширенное воспроизводство и постоянная экспансия, всевозможная интенсификация хозяйственной жизни; в сфере эстетической – заумный, интеллектуально усложнённый, но духовно скудный модернизм, имеющий своим содержанием лишь творчество чистых форм (искусство для элиты) и примитивная плоская «массовая культура» (для большинства).
Результат сопоставления получается вполне определённый и недвусмысленный: Европа и Запад – совершенно различные социокультурные образования. Запад есть не новая фаза развития Европы, а отличный от неё оригинальный исторический объект.
Феномен Запада специально исследовал известный русский философ и социолог Александр Зиновьев, и его выводы вполне созвучны нашим. Прежде всего, он отмечает, что Запад «не есть всего лишь этап в истории Западной Европы. Это нечто новое. Это новое качество в человеческой истории, новый социальный феномен со своими собственными этапами эволюции»[74].
О соотношении Европы и Запада Зиновьев пишет: «История западных стран есть история западноевропейской цивилизации, но ещё не есть история Запада как особого социального образования. Это есть лишь одно из исторических условий Запада. История западноевропейской цивилизации подготовила „строительный“ материал для Запада – определённый человеческий материал, материальные и духовные ценности, социальные институты, культуру, идеологию. Но как особый социальный феномен Запад есть молодое образование. Он возник недавно»[75].
Кратко обрисована Зиновьевым и хронология становления Запада. Зримое появление его на свет из недр западноевропейской цивилизации Зиновьев связывает с буржуазными революциями в ведущих странах Европы. До этого времени Запад переживал этап зарождения и вызревания. От буржуазных революций до конца Второй мировой войны происходит интенсивный рост и подъём этой структуры. Затем наступает пора зрелости: «В XX веке, особенно после Второй мировой войны, начался новый период в истории Запада. Западное общество достигло степени социальной зрелости. Оно стало обществом всеобъемлющего западнизма. Запад одержал крупнейшую в его истории победу над своим эпохальным врагом – коммунистическим миром. Определилась стратегия Запада в отношении прочего мира. Началась интенсивная интеграция западных стран в единое социальное целое. Заявила о себе сильнейшая тенденция к образованию глобального общества на основе западнизма и во главе с Западом»[76]. Как видим, подъём и расцвет Запада приходится на фазу обскурации европейских этносов и по мере прогресса обскурации происходит его окончательное оформление и утверждение.
Трудность осознания отличия Запада от Европы понятна. Ведь территориально Запад совпадает (по крайней мере, его ядро) со странами Европы и европейского переселенческого колониализма. Частично совпадают эти две структуры и во временном плане. Запад, выросший в недрах европейского общества, неизбежно имеет немало черт родового сходства и отдельных элементов своего цивилизационного предшественника в собственной структуре. В странах Запада проживают в основном те же европейцы и их потомки; эти страны сохраняют историческую и культурную преемственность. Немудрено, что Запад воспринимается в качестве органического продолжения Европы не только в обыденном сознании, но и культурной элитой. Однако со стороны, как говорится, нередко в таких случаях виднее.
А теперь сведём воедино характерные черты системы Запада, каковой она сложилась к настоящему времени. Главнейшие из них таковы – это «демократия», капитализм, либерализм, – т. е. негативная система в идеологии, неявная форма рабства в экономике и завуалированная форма господства финансовой олигархии в политике. И такая структура возникает в недрах этнической системы, которая находится в фазе обскурации; растёт и крепнет по мере угасания европейских этносов. Перед нами не что иное, как антисистема, сформировавшаяся в пределах европейской этнической системы.
Александр Зиновьев, используя другой метод анализа, пришёл фактически к тем же выводам: «Западнизм не есть всего лишь множество отдельных общих свойств западных стран. Это есть особое целостное образование в теле западных стран. Это, грубо говоря, есть общество второго уровня по отношению к тому обществу, которое существует в этих странах испокон веков»[77]. Характеризуя тип людей, из которых состоит западное общество и которых Зиновьев называет западоидами, он отмечает как главенствующую – черту крайнего индивидуализма. Суть западного образа жизни в нескольких словах Зиновьевым формулируется так: «работать на себя, рассматривая всех прочих как среду и средство бытия»[78] (прекрасное определение этнического обскуранта).
Как случилось, что антисистема смогла вызреть и набрать такую силу именно в европейской этносистеме? Ведь антисистемные общности возникают во всякой этнической системе, но прежде они никогда не достигали такой степени развития и могущества. Произошло это в силу определённых обстоятельств, сложившихся в ходе мирового исторического процесса. Ранее, антисистемы, возникавшие в старых и слабых этносах, были уничтожаемы извне молодыми и сильными этносами. К исходу же 2-го тысячелетия по Рождеству Христову завершился этнический раздел мира; он оказался поделён между уже существующими системами, свободного места для нового значимого этногенеза не осталось. Мир стал этнически стареть. Новой мощной этнической силы, способной сломать европейскую цивилизацию, а вместе с ней уничтожить и западную антисистему, в наличии не оказалось. А сделать это было весьма непросто, так как европейская цивилизация добилась огромного технического превосходства над другими культурами. Самая отчаянная храбрость туземцев была бессильна перед пулемётами. Техническое превосходство европейцев позволило им распространить свою экспансию на весь мир. А вместе с экспансией европейской цивилизации распространялось в мире и влияние западной антисистемы, что окончательно пресекало возможность подъёма нового этногенеза. Антисистема Запада укрепилась и стала втягивать в своё уничтожающее поле один этнос за другим. Таким образом, у Европы не оказалось внешних врагов, и она стала жертвой собственной антисистемы. Всё-таки Шпенглер оказался прав, а русское название его книги – «Закат Европы» – наиболее точно передаёт её смысл.
Почти одновременно с «Закатом Европы» (несколько ранее) вышла в свет книга Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». Любопытно, что Вебер и Шпенглер пришли к единому выводу относительно тенденции европейского развития, которую и тот и другой увидели в универсальном рационализме. Но если Шпенглер видел в этой тенденции упадок, то Вебер был преисполнен оптимизма. С его точки зрения, упадок европейской культуре не грозил, – следовало только сменить критерии её оценки. Отныне во главу угла выдвигалась рациональность как основа всех сфер жизни; а на место умирающей религии, в качестве положительного начала, ставился научный прогресс.
Вебер, однако, отметил «парадокс» рациональности «западного типа». Рациональность, по Веберу, определяется соответствующей религиозной «картиной мира». Но по мере прогрессирования процесса рационализации происходит «расколдовывание» этого «мира», лишение его покрова «тайны». То есть религиозная «картина мира», служащая фундаментом «западной рациональности», разрушается. Получается, что «западный тип рациональности» подрывает собственные корни, уничтожает основу своего существования.
Теория этногенеза полностью снимает этот веберовский «парадокс». Интерпретация веберовской религиозной «картины мира» как этноса, а «западной рациональности» как антисистемы – рассеивает все недоумения. То, что антисистема питается за счёт этноса, – само собой разумеется: это принципиальный способ её существования, существовать иначе она не может. Вполне понятно, что такое паразитическое существование истощает источник его ресурсов, а с полным исчерпанием этих ресурсов оно прекратится. Так что существование антисистемы есть неизбежно не только процесс уничтожения, но и самоуничтожения. Никаких парадоксов здесь нет, – конечно, если принять, что Запад есть не продолжение европейской культуры, но её антипод.
Глава 22 Либеральная химера
Итак, мы обнаружили в западном обществе присутствие этнической антисистемы, которая до последнего времени развивается, крепнет, распространяется и всё более задаёт тон в мире. Такие главенствующие и наступающие явления наших дней, как «демократия», «открытое общество», «свободный рынок», не что иное, как атрибуты антисистемной общности.
Однако Запад как реальный феномен не есть только антисистема, – он неоднороден по содержанию. Если либерализм, капитализм, свободный рынок, «демократия» и занимают на Западе господствующие позиции, то всё же нельзя сказать, что, кроме этого, там ничего нет. Сколько бы ни проповедовали громогласно идеологи и политические лидеры Запада открытость экономики, но в самих западных странах функционирование свободного рынка стеснено существенными ограничениями, ограждающими материальные интересы граждан этих стран. Не вдаваясь в подробности, можно указать хотя бы на то, что ограничение передвижения рабочей силы через границы государств есть, с точки зрения либерализма, не меньшая помеха свободе экономических отношений, чем протекционистские барьеры в торговле. Сколько бы ни пропагандировали западные СМИ индивидуалистическую этику капитализма, но именно в странах Запада существуют наиболее мощные системы социальной защиты. Даже в суперлиберальных США значительная часть населения живёт преимущественно на государственные пособия.
Несмотря на борьбу за «демократию» во всём мире, на Западе при формальном равноправии общество на деле жёстко структурировано, иерархически организовано с чётким подразделением на правящую элиту и массу управляемых. Реальная политическая система Запада – это олигархия, а отнюдь не демократия, что вполне соответствует европейскому этнополитическому типу общества-прародителя. Да и в территориально-политическом плане Запад не является одним целым – он состоит из «стран Запада». В странах Запада антисистема заняла прочные, доминирующие позиции. И тем не менее всякая «страна» – принципиально феномен этнический. И будет оставаться этнической единицей, пока существует. Те ограничения, что накладывают отдельные страны Запада на функционирование институтов антисистемы, как раз и продиктованы интересами и потребностями их этнических общностей.
Таким образом, Запад, как реальный феномен современного исторического процесса, представляет собой не однородную структуру, но некое смешение элементов этнических и антисистемных. Запад есть определённый сложный симбиоз этноса и антисистемы.
На то, что в структуре Запада присутствует вполне определённая этнокультурная составляющая, указывает и национальный состав западного общества. Так называемые страны Запада – это, по преимуществу, западноевропейские страны, а также их переселенческие колонии (США, Канада, Австралия…). Правда, к сообществу западных стран причисляют и другие государства с развитой рыночной экономикой и формально утверждёнными институтами западной демократии (Япония, страны Юго-Восточной Азии). Но между ними существует серьёзное различие. При ближайшем рассмотрении восточные демократии оказываются внешней мимикрией, под оболочкой которой продолжают существовать традиционные общества Востока. Укажем хотя бы на то, что в Японии – самом продвинутом ученике Запада – при всей формальной «демократичности» у власти много лет находится всё одна и та же либерально-демократическая партия, чему нет аналогов в странах европейской культуры. Это показывает, что под внешней «западной» оболочкой в Японии сохраняется традиционная для страны кланово-олигархическая социальная структура (в главных чертах которой, впрочем, немало сходства с Европой, – что и послужило причиной столь лёгкой внешней трансформации и присоединения к западному блоку).
Что касается прочих азиатских «тигров», то у всех у них просматривается явная авторитарная тенденция, более или менее закреплённая во внутренней политике, также весьма непохожая на традиционную европейскую практику. Несмотря на многолетнюю западную дрессировку, восточноазиатские общества не усвоили того неформального, но органически присущего Европе уважения к человеческой личности. В рамках «демократии» критерий социальной эффективности абсолютно превалирует на Востоке над личностью. По-видимому, это объясняется различием культурно-цивилизационной школы. Европейские традиции уважения прав и свобод личности проистекают из христианской культуры и весьма непросто усваиваются представителями иных этнокультурных миров. Это ясно свидетельствует, что свобода личности и все общественные гарантии её осуществления – продукт христианской культуры, а не «демократической» антисистемной цивилизации.
Смешение последней с европейской традицией образовало феномен так называемой «подлинной демократии», т. е. «демократии как на Западе», – являющейся идеалом записных «демократов» (либералов) по всему свету. Выявление этнокультурных корней демократического общества Запада позволяет уверенно утверждать, что таковой вариант демократии существует, может существовать и будет существовать (недолго) только в странах европейского суперэтнического ареала. Попытки насильственной подгонки под этот образец иных этнических систем неизбежно будут носить внешнекосметический характер. Такие попытки нигде ещё не приводили к успеху, но, как правило, сопровождались последствиями разрушительными для подопытных стран. Латинская Америка, к примеру, за преждевременное стремление местных либералов натянуть на неё конституционно-демократический фрак заплатила двумя столетиями гражданских войн, переворотов и военных диктатур.
Демократическая форма правления может быть установлена в любой части света. И в связи с прогрессирующей этнической обскурацией она быстро распространяется по миру. Но конкретные варианты демократического устройства будут в каждом регионе мира особенными, согласными местной этнокультурной традиции. И нравится кому-то или не нравится европейский вариант демократии, но он останется оригинальным достоянием только Европы и европейцев.
Разумеется, по мере дальнейшего усиления в мире этнической обскурации и выхолащивания этнических культур демократические общества в различных регионах планеты будут становиться всё более сходными, – но не за счёт европейской культурной составляющей западной цивилизации, а за счёт негативно-антисистемной составляющей.
К какому же классу явлений мы можем отнести феномен Запада в рамках теории этногенеза, имея в виду, что это не этнос и не антисистема в чистом виде, но симбиоз того и другого?
У Льва Гумилёва имеется термин, как нельзя более подходящий к данному случаю, – «химера».
Химера – в греческой мифологии чудовище с головой и шеей льва, туловищем козы и хвостом дракона. В переносном смысле – сочетание разнородных, органически несовместимых элементов в одном целом.
Лев Гумилёв ввёл в свою теорию понятие «химера» для обозначения «сочетания в одной целостности двух разных несовместимых систем»[79] (этнических систем, двух этносов). В качестве примеров таких систем Гумилёв приводил немецкие рыцарские ордена в Прибалтике, тюркскую орду болгар на Балканах, спартанцев и илотов и т. д., – когда одна этническая общность властвует над другой, подавляя её посредством грубой силы. Очевидно, что такая этнополитическая система не отличается прочностью и долговечностью; она развалится при первом серьёзном ударе извне, либо с ослаблением правящего этноса подданные сами сбросят его власть.
Но мы применим термин «химера» к конструкции другого типа, имеющей столь же химерный характер, – сочетание в одной культурно-цивилизационной целости этноса и антисистемы. Что такое сочетание возможно – представляется достаточно очевидным. Негативные общности возникают в теле этноса или проникают в него, длительное время сосуществуют с ним в период своего развития. При явном преобладании того или другого никакого единства, конечно, не образуется, – тут более сильный придавит или даже уничтожит слабейшего. Поэтому химера на базе сочетания этноса и антисистемы может образоваться лишь в том случае, когда две силы находятся в определённом равновесии.
Итак, химера – это неорганичное, противоестественное, но, при определённых обстоятельствах, реально возможное сочетание в одной цивилизационной структуре этноса и антисистемы. В данном конкретном случае химера Запада возникла на базе соединения европейского суперэтноса с негативной системой либерализма. Запад есть либеральная химера.
Структурным элементом Запада со стороны этнической являются прежде всего западные страны – национальные государства, возникшие на основе того или другого этноса европейского культурного мира. Антисистемный элемент в структуре Запада представляет собой, по определению Зиновьева, «сложную и многомерную глобальную сеть в отсутствие метрополии в виде какой-либо отдельной страны или группы стран», состоящую из отдельных узлов и блоков, связанных различными коммуникациями.
Возникновение социальных общностей антисистемного типа происходит следующим образом: обскуранты, которые всегда усиленно ищут «где лучше», постепенно стекаются в определённые особо комфортные районы страны или мира; эти регионы являются для них центрами притяжения, концентрации, зарождения негативных систем. Это прежде всего крупные города – промышленные, деловые и административные центры, столицы, переселенческие колонии. В подобных крупных узлах антисистемы обскуранты скапливаются и организуются в коллективы особого типа. Отсюда антисистема раскидывает свои филиалы на периферию. Они необходимы ей для эксплуатации энергетических ресурсов периферии, что есть условие существования антисистемы, так как собственной положительной энергетикой она не обладает.
Химера Запада зародилась в Европе, откуда она распространилась на другие материки вместе с европейскими переселенцами. Растущая в Европе обскурация привела к усиленному колониализму – массовому выбросу европейцев за пределы своей родины, а их техническое превосходство сделало возможным захват обширных пространств, богатых природными ресурсами. В число стран Запада вошли Канада, Австралия, Новая Зеландия, США. Последние являются признанным лидером Запада в настоящее время.
С момента своего возникновения Запад проводит интенсивную экспансию, которая приняла в наши дни глобальный размах. Стремление Запада к экспансии понятно: химера – весьма нестойкое образование, и для поддержания социального режима на её основе в стабильном состоянии требуется постоянный приток ресурсов извне. Ранее антисистема паразитировала главным образом на самой Европе. Но с падением напряжённости этнического поля Европы, истощением её витальных ресурсов возможности эксплуатации здесь стали ограниченны, и теперь Западу не выжить без ресурсов внешнего, неевропейского мира. Либеральная химера базируется в странах, населённых западноевропейцами и их потомками, но система Запада в ходе экспансии охватывает своими щупальцами весь мир.
Экспансия Запада осуществляется главным образом несиловыми методами. Запад обладает достаточными материальными возможностями и для силового захвата (в отношении большинства стран). Но это связано с большими издержками всякого рода. Поэтому экспансия проводится Западом предпочтительно по линии информационно-идеологической и финансово-экономической, культурной.
Если не силовым, то каким-то иным путём Западу необходимо проникнуть в чужую этносистему, чтобы выкачать из неё жизненные ресурсы. В первую очередь происходит проникновение идеологическое; идеологическая обработка – это своеобразная генеральная артподготовка, делающая проломы в линии обороны противника. В ход идут ложь и манипуляция: «Антисистема высасывает из этноса средства для поддержания существования, используя принцип лжи» (Гумилёв). Экспансия Запада идеологической пропагандой изображается «как гуманная, бескорыстная и освободительная миссия Запада, являющего собой вершину развития цивилизации и средоточие всех мыслимых добродетелей. Мы свободны, богаты и счастливы, – так или иначе внушает Запад западнизируемым народам, – и хотим помочь вам стать тоже свободными, богатыми и счастливыми». Без устали расписывает лисица – Запад очередной вороне чудеса благополучия и процветания, которые ждут её, как только она присоединится к «мировой цивилизации». Когда же очарованная ворона раскроет клюв, чтобы ухватить обещанных ей благ, то теряет даже собственный кусок сыра, который немедленно пожирается Западом.
Идеологическая манипуляция как метод экспансии заключается во вбросе в захватываемую этносистему негативной идеологии и дезинформации в целях разрушения её этносоциальной структуры, что позволяет выкачать из системы ресурсы, которые ранее шли на удовлетворение её собственных нужд. Последнее – уже дело техники, тут в ход пускаются экономические структуры Запада. Задача же западной политики – в обеспечении поддержки и координации идеологии и экономики.
Так, в России вброс негативной идеологии под вывесками «свободы», «демократии», «прав человека», «возвращения в мировую цивилизацию», строительства «нормального» общества в период «перестройки» привёл не к реформе, а к слому устоявшегося социального и хозяйственного уклада. Итоги либеральных так называемых «реформ» всем известны: вместо обещанного подъёма экономики, роста жизненного уровня народа – развитие пошло в прямо противоположном направлении. Инвестиции пошли не с Запада в Россию, а из России на Запад; туда же уплывают и прочие ценные экономические ресурсы, которые ранее поддерживали жизненный уровень населения России и использовались для решения её национальных проблем. Результат – деградация многих сфер производства и жизнеобеспечения, особенно самых передовых и технически сложных; вымирание коренного населения России. Тихая экспансия либерального Запада оказалась не менее людоедской, чем открытая фашистская агрессия.
Процветает в России только сеть экономической и идеологической агентуры Запада – компрадорский бизнес, занимающийся выкачиванием ресурсов из страны, и подъедающиеся вокруг него бюрократы, «политики», финансисты и прочая «сфера услуг». Процветают антисистемные узлы, через которые происходит выкачивание на Запад российских ресурсов. В крупнейший из таких узлов превратилась прежде всего Москва. Можно сказать, перефразируя Ключевского, что во времена либеральных реформ Москва пухла, а Россия хирела. Разумеется, пухла Москва обскурантская, антисистемная; старая же, историческая Москва разрушалась либеральными варварами вместе со всей Россией, а многие коренные москвичи стали жертвами пресловутых «реформ».
Иногда Запад прибегает к прямой агрессии, как в Ираке и Афганистане. В любом случае результат одинаков – разрушение более или менее стабильного социально-экономического уклада страны – объекта экспансии, вследствие слома национального политического режима и насаждения «демократии». Понятно, что ни в Ираке, ни в Афганистане никогда не возникнет ничего похожего на западную демократию. Собственно, что именно там будет после агрессии США – её организаторов не слишком интересует. Ясно лишь одно – страны надолго погрузятся в состояние нестабильности и разрухи. А из зон нестабильности неизбежно утекают экономические ресурсы: полезные ископаемые, финансы, «мозги». Куда они потекут – вопрос риторический, понятно и без комментариев. Таким образом, тем или иным способом, но цели химеры достигнуты.
Несмотря на падение главного врага либеральной химеры – коммунизма, её горизонт отнюдь не является безоблачным. Мир небезграничен, и по мере продвижения её экспансии простор для дальнейшего распространения сужается. Хотя ещё существуют крупные регионы мира, не захваченные западной химерой (Китай), но предел экспансии ясно виден. А это означает угрозу существенного уменьшения притока ресурсов на Запад. Приток ресурсов сокращается, а аппетиты Запада с течением времени только растут. Серьёзный кризис неизбежен.
Другая важнейшая причина, которая угрожает существованию химеры, – это дальнейшая обскурация европейского этноса. Равновесие между этническим и антисистемным элементами в рамках химеры нарушается, – всё более доминирующие позиции занимает антисистема. Происходит постепенное перерождение либеральной химеры Запада в качественно иной общественный строй. Либеральная химера уже оставила позади зенит своего процветания и клонится к закату.
Глава 23 Америка и американцы
Расовая и этническая пестрота американского общества такова, что возникает сомнение – являются ли американцы этносом, или Америка есть механическое смешение разных этнических групп, съехавшихся со всех концов света? Существует мнение, что американцы так и не сложились в единую нацию.
Данное мнение представляется всё же неверным. Этническая пестрота, в принципе, не мешает системному единству, как это видно на примере хотя бы Европы. Американские поляки, итальянцы, ирландцы, немцы – суть всё-таки американцы, – даже если кроме английского они владеют польским (итальянским, немецким…) языком. С этнической прародиной их связывают только воспоминания о своём происхождении (о происхождении своих предков) да некоторые искусственно сохраняемые элементы культуры и традиции. Такие не полностью растворившиеся группы недавних эмигрантов, имеющие двойную национальную идентификацию, можно считать субэтническими группами американского этноса.
Американский этнос – реальность, и доказательство тому – достаточно чётко просматривающиеся этапы его этногенеза. Фаза подъёма – XVII–XVIII века, от первых колоний до Войны за независимость. Это стадия созревания этноса на Восточном побережье. Затем следует фаза надлома, которая начинается Войной за независимость колоний, а завершается Гражданской войной и «реконструкцией» Юга. Это период постоянной территориальной экспансии, безостановочного движения от атлантического побережья до Тихого океана. За счёт захватов индейских земель, территорий Мексики, колоний Испании, покупки Французской Луизианы сформировалась территория страны. В то же время расцвело американское мореплавание и флибустьерство в Центральной Америке. И, наконец, фаза надлома – эпоха крупнейших гражданских конфликтов.
После Гражданской войны американский этнос переходит в стадию инерции. Начинается период освоения захваченных земель, феноменального роста экономики, сделавшего США лидером мирового хозяйства. В фазе инерции резко снижается внешняя активность. Нельзя не признать, что от окончания Гражданской войны до Второй мировой экспансия США была весьма умеренной, особенно учитывая материальные ресурсы страны. Внешняя торговля сократилась, а торговый флот пришёл в упадок. Американский деловой мир упорно сопротивлялся политикам-доктринёрам в их стремлении к либерализации внешней торговли. США отгородились высоким протекционистским тарифом от конкуренции внешнего мира. Экономика развивалась за счёт освоения ресурсов территорий, приобретённых в предыдущей фазе; трудовые ресурсы в избытке поставлялись массой иммигрантов. Фаза инерции – период преобладания изоляционизма в политике и экономике.
На исходе фазы инерции – с середины XX века стала нарастать тяга США к внешней экспансии. Создание мировой империи, война во Вьетнаме и подобные ей менее крупные акции, навязчивое стремление диктовать другим народам свои правила и порядки оповестили о переходе США в стадию обскурации, с характерным для неё усилением экспансионизма. Те же тенденции наблюдаются и в экономике: кредитная экспансия американского доллара на мировом рынке, усиление зависимости от внешней торговли, экспансия американских ТНК. Особенно крупных успехов американская экспансия достигла на исходе XX века в связи с падением Советского Союза. В настоящее время американский этнос находится в фазе обскурации, в ней он будет пребывать и в обозримом будущем.
В процессе этногенеза в США существует важная особенность, которая сразу же бросается в глаза, – последовательность фаз и их примерное соотношение по продолжительности соблюдается; но при этом продолжительность всех фаз по времени вдвое короче обычной, нормальной. Этот вывод находит неожиданное подтверждение на материале трудов американских мыслителей. Они выделяют во внутриполитической жизни Америки цикл продолжительностью примерно в четверть века. Как отмечал Генри Адамс: «Взмах маятника измеряется периодом примерно в двенадцать лет»[80]. Впоследствии эту циклическую концепцию развил Шлезингер-старший. Суть циклического движения определялась по-разному: колебания между централизацией и распылением энергии нации, смещение акцента с господства общественных интересов к преобладанию частных, между консерватизмом и либерализмом и т. д. Эти толкования для нас не интересны, важно другое – если предположить, что в основе этой общественно-политической цикличности лежит витальный цикл, то тогда его можно соотнести с витальным циклом другого этноса. Вспомним, что для России XIX века мы выделили цикл витальности продолжительностью около 50 лет. Продолжительность соответствующего американского цикла – четверть века. Поскольку великорусский этногенез имел нормальный характер, то наша гипотеза об укороченности фаз американского этногенеза вдвое находит подтверждение.
Встаёт закономерный вопрос – почему? В силу каких обстоятельств американский этногенез получился усечённым по амплитуде? Предлагаю следующее объяснение этого факта.
Одну из первых колоний в Северной Америке – Новую Англию основали пуритане, английская религиозная секта на основе учения кальвинизма. Что собой представляет кальвинизм? Идейное ядро этого вероучения, его наиболее важный догмат – доктрина предопределения, учение об избранности к спасению. Именно это учение резко отделяет кальвинизм не только от католичества, но и от других ветвей протестантства. В лютеранстве, например, доктрина предопределения изначально присутствовала, но в конце концов заглохла и сошла на нет. В кальвинизме же она вышла на первый план. Суть доктрины предопределения в том, что все люди подразделяются на две категории – одни изначально («от века») предназначены Богом к спасению, другие же – к гибели и вечным мукам в аду. Это извечное решение Бога никаким образом нельзя изменить, – любые человеческие усилия в этом направлении тщетны. Как гласило одно из кальвинических вероисповеданий, «грехопадение полностью лишило человека способности направлять свою волю на какие-либо духовные блага или на что-нибудь, ведущее к блаженству… природный человек полностью отрешён от добра и мёртв во грехе и поэтому не может по своей воле обратиться или даже приготовить себя к обращению». Согласно кальвинизму, Христос принял крестную муку лишь для спасения избранных, только их грехи Бог от века решил искупить смертью Христа. При этом Кальвин утверждал, что по поведению человека никоим образом нельзя определить, избран он или нет, – такие попытки представлялись ему дерзким желанием проникнуть в замысел Божий. В земной жизни избранные внешне не отличаются от отверженных. Кальвинистские проповедники с садистским наслаждением живописали своей пастве необычайно изощрённые козни дьявола и страшные адские муки, которым люди будут подвержены по смерти.
Совершенно понятно то отвращение, которое питали католики к этому поистине дьявольскому учению. В своих же приверженцах оно первоначально порождало страх, доходящий до ужаса и безумия, который переходил в глубокую постоянную печаль. Страх был настолько силён, что поведение людей, исповедующих кальвинизм, вышло из всяких границ здравого смысла: «Религия сделалась безумием и совершенно лишила человека сознания. Мы можем усмотреть это уже из того иначе непонятного факта, что учение о предопределении оказало то действие, что привело всех кальвинистов к строго церковному образу жизни, в то время как простая логика здравого человеческого смысла должна прийти к тому выводу, что, если от моей воли и поведения совершенно не зависит, спасусь ли я или буду осуждён на вечную муку, я могу устроить свою жизнь по своему усмотрению и этим ничего не изменю в своей судьбе в вечности. Но дело шло не о здоровых людях, а о помешанных»[81].
Последователи Кальвина не могли удовлетвориться его указанием, что доказательством избранности служит устойчивость веры, возникающей как следствие благодати. Они нашли выход из состояния внутреннего дискомфорта путём усиленной деятельности. Такая деятельность служила выходу напряжения и обретению внутренней уверенности. Распространилось убеждение, что доказательством избранности является успех в мирских делах. Это послужило мощным толчком развития предпринимательства. Америку отличал ранний и усиленный рост капитализма, причём концентрировался он в северо-восточных штатах Новой Англии.
Очевидно, что кальвинистское учение пуритан является негативной системой. Очевидно также, что жертвой его становились обскуранты, – только потемнённое этническое сознание, не имеющее реальной жизнеутверждающей опоры в мире, могло принять эту чёрную негативную доктрину за христианство.
Антисистемная общность, утвердившаяся в Новой Англии, быстро росла и укреплялась. Приток колонистов давал ей для этого обильный материал. Ведь в колонизационном движении главную роль играли именно обскуранты, которые не привязаны прочно ни к какому месту; пассионарии же стараются не порывать связей с родиной. Кроме того, переселение в чужую страну само по себе ускоряет обскурацию, ломая все прежние жизненные устои и традиции: «Земля, народ, государство, в которых человек до тех пор был заключён своим существом, перестаёт быть действительностью… чужбина пуста. Она как бы лишена души для пришельца. Окружающее не имеет для него никакого значения. Самое большее, он может использовать его как средство к цели – приобретательству»[82].
Наряду с американским этносом в Америке с самого начала существовала и росла антисистемная общность. Это угнетало нормальное развитие молодого этноса. Постоянным негативным влиянием антисистемы и объясняется недоразвитость американского этногенеза, его усечённый характер (укороченность фаз), слабость этнического поля американского этноса. Из-за раннего угнетающего воздействия антисистемы Америка, столь могучая экономически, столь богатая материальными ресурсами, оказалась страной этнически слабой и ущербной.
Теперь от антисистемы обратимся к этносу. В США было два изначальных центра колонизации: помимо пуританской колонии Новая Англия на севере, несколько ранее была основана колония Виргиния – значительно южнее. Только два этих старых центра могут претендовать на место рождения американского этноса. И если он возник не в Новой Англии, значит, остаётся только Виргиния; если американский этнос – реальность, он мог появиться только там.
В пользу данного вывода говорит не только метод исключения. Виргиния была основана в 1607 году, на 13 лет раньше Новой Англии, – разница небольшая, но в масштабе американского этногенеза она довольно значительна. Фаза надлома по продолжительности в среднем составляет две трети фазы подъёма. В Америке она длилась около века (70-е годы XVIII века – 60-е годы XIX века) и не была особенно затянутой. Значит, минимальная продолжительность фазы подъёма должна составлять 140–150 лет. В таком случае момент этнического толчка приходится на 20–30-е годы XVII века. Этнический толчок может произойти не среди первопоселенцев, этническую принадлежность которых изменить невозможно, – но, самое раннее, в следующем поколении. Сравнивая даты, видим, что Новая Англия вряд ли поспевает к моменту этнического толчка; у виргинцев же, в принципе, времени было достаточно.
И не только теоретические расчёты заставляют думать о том, что родиной американского этноса была именно Виргиния, но и многие другие факты. В Виргинии изначально присутствовали все расовые компоненты американского общества: белые, чёрные и индейцы. Межрасовые отношения – важный элемент всякого этносознания, американского же – в особенности. Здесь они могли запечатлеться в сознании этноса в самый момент толчка. Ко времени Войны за независимость в этом штате была сосредоточена почти половина американских негров (на Севере их было очень мало). Правда, белые избегали смешения с неграми, зато не считали зазорным смешение с индейцами: многие аристократы Юга впоследствии гордились примесью в своих жилах крови индейских вождей. Был ли этот факт реальным или мифическим – для этногенеза не суть важно; этногенетические процессы протекают в духовно-психологической, а не в расово-биологической сфере, а этническое сознание располагает своей собственной мифической реальностью. Таким образом, то, что этногенетический процесс протекал на Юге более интенсивно, чем на Севере, представляется очевидным.
Да и сами белые в Виргинии были несколько иные. Виргиния, в отличие от пуританской Новой Англии, была англиканской колонией. Англиканство же представляет собой лишь несколько изменённый католицизм. Да и впоследствии население пополнялось главным образом роялистами – англиканами и католиками. Например, за время Английской революции население Виргинии выросло наполовину за счёт эмиграции потерпевших поражение кавалеров. Уровень обскурации в этой среде был ниже, стойкость по отношению к воздействию антисистемы – больше, этнокультурные традиции европейского суперэтноса – сильнее. Такой человеческий материал был более благоприятен для этногенеза.
Дальнейшая история США приносит новые подтверждения ведущей роли Виргинии и в целом – Юга, на который распространились виргинские порядки и традиции. Виргиния была главной базой Войны за независимость колоний. Виргинский плантатор Джордж Вашингтон командовал американской армией и стал первым президентом США. Другой виргинский плантатор – Томас Джефферсон стал автором Декларации независимости, а впоследствии и третьим президентом Соединённых Штатов. Первые четыре президента страны были южанами. Самая колоритная личность из президентов первой половины XIX века после отцов-основателей, генерал Джексон, был также южанином; да и вообще – политическая элита до Гражданской войны выходила главным образом с Юга. Американский Юг давал федеральной армии не только большинство старших офицеров и генералов, но даже и большинство солдат (притом что его белое население было в четыре раза меньше, чем на Севере). Наконец, Юг дал США и кое-какую эстетическую культуру. Американская литература вышла с Юга. И дело не только в том, что талантливейшие американские писатели родом южане. Противостоять капиталистической цивилизации с её всеобъемлющим прагматизмом, технократией, эгоизмом человеческих отношений, бессмысленным бесконечным прогрессом, торжеством энергичной посредственности – можно было в Америке лишь опираясь на аристократические традиции европейской культуры, бережно хранимые Югом, – традиции чести и мужества, рыцарской галантности, иерархии духовных ценностей, духовной самостоятельности личности, трагического стоицизма перед лицом торжества грубой силы. Всё, что было «органического» в американской жизни, связано с Югом, который был хранителем изначального американского духа. В сознании самих американцев Юг овеян какой-то седой древностью.
Таким образом, два центра американской колонизации положили начало двум американским общностям – этносу и антисистеме, которые с самого начала сосуществовали в этой стране. А коль скоро средоточием этноса был американский Юг, то его разгром в Гражданской войне стал поражением этнической общности в Америке и торжеством общности антисистемной. Поражение Юга было поражением не только Юга, но и американского этноса в целом (на Севере у южан была масса сочувствующих). Однако материальное превосходство антисистемы было слишком велико. Постоянный наплыв иммигрантов – массы этнически чуждого и обскурационного человеческого материала, особенно в фазе надлома и первой половине фазы инерции (за это время население США увеличилось в десятки раз, главным образом за счёт иммиграции), создавал для этноса непосильную проблему по его усвоению. Зато такой людской материал легко подпадал под влияние антисистемной общности.
После победы в Гражданской войне господство антисистемы в общественной и политической жизни Америки становится подавляющим. В период Реконструкции она деспотическими методами насаждает на Юге «демократию». С конца 1880-х в США создаётся новая «гражданская религия» – ежедневный ритуал поклонения национальному флагу в американских школах.
«Апофеоз Америки наступил так скоро, что прежняя американская натура не могла не испытать шока» (У. Джеймс). С этого времени начинает явственно оформляться и распространяться то, что получит название «американизма», «американской системы». Антисистема придавила американский этнос и стала выступать от имени Америки. США становятся ядром и главной движущей силой Запада.
В современной истории Соединённых Штатов мало что можно понять, если не осознать того факта, что в Америке существуют две «Америки»: официальная американская «нация» – искусственная антисистемная конструкция и органическая общность – американский этнос, сохраняющийся на периферии, на обочине официоза. Чтобы понимать, что происходит в мире, необходимо хорошенько усвоить то обстоятельство, что «американские ценности» есть западные, а не американские ценности; «американский порядок» – суть западный порядок, «американизация» – это западнизация мира (Зиновьев). Американский этнос во всём этом участвует лишь как объект эксплуатации со стороны антисистемы. Американский этнос, по существу своему, враждебен антисистеме, как и всякий другой этнос мира. Весь этот «империализм правого дела» (А. Блэкберн), «ответственность за защиту свободы на Земле» (Джонсон), весь американский мессианизм – «мы пришли спасти мир, дав ему свободу и справедливость» (Вильсон), все эти призывы к всемирной «ориентированной на рынок революции» (Рейган) – всё это плоды и устремления антисистемы, ложными миражами соблазняющей американцев, чтобы воспользоваться их энергетическими ресурсами в своей чёрной и лживой игре, враждебной всем этносам мира.
Приведём и откровенный до обнажённости взгляд талантливого американца на всё это изнутри, без пропагандистской трескотни:
«То, что мы называем жизнью, – это просто романтика, купленная в дешёвой лавчонке. И этот наш энтузиазм… Что это? Грошовый оптимизм, от которого европейца начинает мутить.
Пустая иллюзия. Нет, „иллюзия“ – слишком хорошее слово для этого. Это не иллюзия. Это – недомыслие. Чистое недомыслие, и всё. Мы точно табун диких лошадей с шорами на глазах. Несёмся в сумасшедшем галопе. К краю пропасти – и вниз. Нам всё равно – нам нужно бешеное движение и смятенье чувств. Вперёд, вперёд! Всё равно куда. Мы мчимся – и пена выступает у нас на губах. Мы орём: „Аллилуйя!“ Аллилуйя! Почему? Зачем? Бог знает. Это у нас в крови. Это в нашем климате. Это – и многое другое. И это – конец. Мы рушим весь мир. Но не знаем, зачем и для чего. Это наша судьба. Всё остальное ерунда…
Америки не существует вообще. Её нет. Это – название, которое люди дали вполне абстрактной идее»[83].
Итак, «американские ценности», т. е. «демократия», «права человека», «открытое общество» и проч., есть идеология Запада. Чтобы получить представление о различии официальной либеральной идеологии с природным мироощущением американцев, возьмём одно широко известное явление американской действительности. Складывается впечатление, что американскому этническому сознанию органически присущ расизм, в самом универсальном смысле этого понятия. С самого начала существования Америки белые жили рядом с чёрными и никогда не воспринимали негров равными себе. Идеология равенства рас стала распространяться лишь в эпоху Просвещения вместе с другими либеральными постулатами. Но и до сего времени расизм составляет большую проблему Америки, несмотря на все усилия его искоренить. И если расизм в США так живуч в условиях многолетней работы против него мощнейшей западной пропагандистской машины, то он действительно имеет там глубокие корни.
На общем фоне Америки Юг выделялся только откровенным (как и положено этническому сознанию) признанием и выражением этого факта. Как заявил в марте 1861 года вице-президент Конфедерации Александр Стефенс: «Краеугольным камнем нашего нового правительства является та великая истина, что негр не равен белому, что рабство – подчинение высшей расе – является его естественным, нормальным состоянием». И если отбросить официальную идеологию, то подавляющее большинство освободителей-северян вовсе не воспринимало негров как равных себе, даже если они относились к ним с сочувствием и симпатией.
Но дело и не только в неграх. В Америке существовала целая система расовых предрассудков по отношению к выходцам из Южной и Восточной Европы. «Настоящими американцами» считались только потомки первопоселенцев, «англосаксов», – т. е., фактически, североевропейцев-протестантов: англичан, шотландцев, голландцев, немцев, скандинавов. Все же прочие – славяне, азиаты, католики – ирландцы и «даго» (итальянцы, испанцы, португальцы) – это уже низшие сорта. В романе Джека Лондона «Лунная долина» главные герои – молодая пара именно такие потомки первопоселенцев, гордятся своим англосаксонским происхождением, гордятся участием своих отцов в Гражданской войне (конечно, на стороне северян) – и вместе с тем исполнены глубокого презрения ко всем этим «даго». Герой романа, простой возчик, говорит, что ни за что не будет работать в поле рядом с индейцами и китайцами.
Этот роман Д. Лондона вообще весьма любопытен в плане изображения того, каким образом создавалась и росла Америка. Герои романа, разочаровавшись в городской жизни, путешествуют по Калифорнии в поисках местечка, где они могли бы обзавестись своей фермой. Что же видят они в пути? Приученные к мысли, что именно коренные американцы-янки самые лучшие фермеры и самые оборотистые дельцы, они с изумлением обнаруживают, что недавние эмигранты – португальцы, славяне, китайцы, японцы, итальянцы в сельском хозяйстве и бизнесе далеко превосходят хвалёных янки, что они повсюду теснят последних, скупают их земли; старые же хозяева – коренные американцы проживают в городах денежки за распроданные земли, в то время как эмигранты трудятся в поте лица. Перед читателем встают картины беспрестанного сумасшедшего труда этих эмигрантов, на котором поднималось экономическое процветание Америки и множилось её благосостояние.
Наконец сладкая парочка облюбовала себе маленькую ферму (всего несколько акров). Но тут выясняется, что даже этот небольшой участок земли они самостоятельно обрабатывать не в состоянии. Работники-американцы никуда не годятся, – эту идею они отметают с порога. По совету своей многоопытной приятельницы, которая рекомендует им обычный, испытанный способ выхода из подобного затруднения, они берут на поруки из местной тюрьмы двух каторжников-китайцев. Итак, всё возвращается на круги своя. Свободные янки – противники рабства не могут обойтись в своём хозяйстве без рабского труда! И до сих пор благополучие сельского хозяйства Калифорнии, других южных штатов во многом основано на труде миллионов мексиканских батраков-нелегалов.
Замечу, что Джек Лондон знал, о чём он пишет, – после литературы сельское хозяйство было главной его страстью. Все свои немалые гонорары он вбухал в своё калифорнийское ранчо. Кстати, сам Джек Лондон был убеждённым расистом (и одновременно социалистом!). При этом в жизни, в личных отношениях он был благороднейший человек, искренне привязанный к своему слуге-японцу.
Взять ли американские вестерны, – их неотъемлемая черта, навязчивый штамп – невероятное превосходство ковбоя-янки над индейцами, мексиканцами и проч. В любом вестерне янки стоит по крайней мере десятка латиноамериканцев, а то и всей сотни. Любопытно сравнить в этом плане американский вестерн с классическим русским «истерном» «Белое солнце пустыни». Явное жанровое сходство по внешней фактуре: главные герои – супермены, способные выйти победителями из любой ситуации и в одиночку одержать верх над целой кучей врагов. Но сопоставим в аспекте национально-расовом. В русском боевике идея превосходства русских людей над прочими совершенно отсутствует: русские и туркмены на равной ноге, среди тех и среди других есть супермены и простые смертные.
Мы привели лишь несколько примеров (из множества) того, как превосходство американцев над всеми национальностями и расами является неотъемлемой чертой их массового сознания. Но если расизм – элемент этнического сознания, то тогда борьба с расизмом есть уничтожение этого сознания. Дело тут не в том, плох или хорош расизм сам по себе. Речь идёт об этносе, а этническое восприятие не имеет нравственных критериев, оно непосредственно и безотчётно. Для людей, которые по совести чувствуют, что белые и чёрные не равны друг другу, утверждать их равенство будет ложью, а навязывать им такое утверждение – насилием.
Да и в самой «демократической» идеологии Запада расизм присутствует весьма явственно. Иначе нельзя. Ведь если признавать какие-то порядки наилучшими для всех времён и народов, а между тем при насаждении данных порядков во многих странах экономика и жизнь идут вразнос, – то остаётся только объяснять это тем, что народы этих стран неполноценные, неспособные к усвоению достижений цивилизации, чуждые свободе «рабы по природе» (Аристотель). А в противоположность этим «рабам» мировые лидеры «демократии» американцы – высшая богоизбранная нация наиболее свободолюбивых и цивилизованных людей, призванная нести миру свет свободы и «демократии».
На исходе фазы инерции американского этноса произошло становление американской мировой империи, что выразилось в создании по всему свету множества американских военных баз и блоков во главе с США. Эта империя весьма странная и необычная: без формальных провинций, без формальных подданных. Шлезингер характеризует американскую империю как квазиимперию на том основании, что она не управляет напрямую своими подданными, как это делали империи старого образца. Но все противоречия и сомнения снимаются, если понять, что «американская империя» суть империя Запада или центральный блок этой глобальной империи. В соответствии с общим характером западной антисистемы её власть должна носить именно скрытый, неявный, неформальный характер.
Раннее развитие и торжество антисистемы в Америке сделало невозможным создание собственно американской колониальной империи – такой, какие имели Британия, Франция, Россия. Запад придавил американский этнос и стал использовать его для собственных целей, ловко подставив себя на место «американской нации». Это значит, что мечты об Америке как «первой, единственной и последней истинно мировой сверхдержаве» (Бжезинский) не имеют под собой почвы. Если подобная сверхдержава когда-либо возникнет, то она будет не американской, а западной или, скорее, уже прямо глобально-антисистемной.
Если рассматривать США в рамках системы Запада, то даже лидирующая роль не гарантирована им на вечные времена. США давно оставили позади пик своего экономического могущества (середина XX века), их доля в мировом ВВП неуклонно снижается. Многолетняя холодная война серьёзно подорвала внутренние силы Америки. Она прочно подсела на иглу международной долларовой эмиссии, связав своё благополучие с непрерывным ростом мировой экономики.
О том, что Америка в настоящее время находится в фазе обскурации, красноречиво свидетельствуют внутренние этносоциальные процессы, происходящие в США. Способность американского этноса к ассимиляции вновь прибывающих иностранцев резко упала. «Плавильный тигель» больше не работает. Соединённые Штаты быстро наполняются массами иммигрантов из стран третьего мира, которые уже не становятся американцами, но сохраняют свою прежнюю национальную идентичность. На юго-западе США успешно продвигается мексиканская Реконкиста. Миллионы мексиканцев, компактно поселившихся на этой территории, сохраняют прочные связи со своей родиной и национальной культурой и не проявляют ни малейшего желания превращаться в янки. Американские аналитики констатируют, что Калифорния и Техас на глазах воссоединяются с Мексикой. В то время как США пытаются добиться господства над всем миром, собственная земля уплывает из-под ног американского народа!
Экономический и этнический закат, как это обычно бывает у великих держав, сопровождается усилением экспансионизма, стремлением к внешнеполитической компенсации падающей внутренней крепости. Около половины обскурационной фазы Америки уже минуло. Когда фаза обскурации подойдёт к концу, а силы американского этноса иссякнут, прекратит своё существование «американская империя». США утратят роль мирового лидера, – что произойдёт, по-видимому, не позднее середины XXI века. Началом заката США как мирового гегемона может послужить мировой экономический кризис, в ходе которого рухнет гигантская долларовая «пирамида». Потеряв неограниченный внешний кредит, США быстро скатятся к положению региональной державы, хотя бы и самой сильной из таковых. Но абсолютное превосходство «сверхдержавия» отойдёт в историю.
Глава 24 Химера коммунизма
На протяжении последних пяти веков европейская цивилизация пребывала в лидерах мирового культурно-политического развития. Она постоянно оказывала огромное, всё возрастающее влияние на соседние и даже отдалённые народы во всех сферах жизни, в том числе в идеологии. Идеологические новинки Нового времени представляли собой продукты негативного сознания. И чем дальше продвигались неевропейские этносы к своему старению, тем более они становились восприимчивы к влиянию европейских негативных учений.
Из всех негативных систем, порождённых Европой, наиболее соответствующей условиям своей родины оказалась – либеральная, которая одержала верх над всеми другими и образовала с европейским этническим миром химеру Запада. Однако во внешнем мире самой удобоприложимой системой выступил социализм. Он гораздо более подходил к особенностям неевропейских культур, так как делал упор на коллективизм, что формально соответствовало традициям этнической солидарности; индивидуально-личное же начало, господствующее в либерализме, за пределами Европы не было развито. Поэтому именно социализм, будучи европейского происхождения, стал антисистемным компонентом неевропейских химерных конструкций. Возникший на базе социалистической идеологии коммунизм явился как бы обскурационной Европой – в иноэтническом пространстве.
Русская интеллигенция, со времён Петра I привыкшая перенимать все западные новинки, безоглядно увлеклась новомодным учением. Буржуазный строй и его идеология, как более продвинутый обскурационный продукт, всегда вызывает отвращение в этнически ещё достаточно сильной среде. Но формальное сходство социализма с этническим коллективизмом завуалировало для поверхностного, некритического сознания его негативную сущность. Люди более глубокие рассмотрели его достаточно быстро (Достоевский), – однако то были лишь единицы, которым не удалось остановить начавшееся движение.
То, что коммунизм (социализм) есть негативная система, в наше время уже не нужно доказывать – «демократическое» общество с энтузиазмом поддержит это утверждение и без доказательств, как вполне очевидное. Да и в самом деле, огромные человеческие жертвы коммунистических экспериментов в России и других странах ещё не успели забыться. Но мы подойдём к теме с другой стороны – не совсем удобной для демократической общественности.
Негативный характер социализма (коммунизма) виден хотя бы уже из того, что по своим идейным, мировоззренческим, мифическим основам он представляет собой брата-близнеца либерализма. В последнее время общество так было увлечено противопоставлением двух этих систем, что совершенно в тени оказалось их сходство. Вполне очевидно, что основой коммунизма также является новоевропейская мифология. Коммунизм полностью принимает нигилистическую картину бесконечного мира ньютоновской механики. В области социальной коммунизм вполне разделяет нигилистическое учение либералов о бесконечном прогрессе. Идеология социализма и коммунизма насквозь пропитана рационалистическим пафосом, – культ разума и научного знания противопоставляются религиозной вере. Всем известно, что в сфере религиозной коммунизм – это «научный атеизм». Но вот что пишет об этом, вскрывая буржуазное происхождение атеизма и учения о всемогуществе разума, философ Алексей Лосев: «Напрасно представители пролетарской идеологии усвоили себе систему атеизма и вероучение о примате знания. Наоборот, атеизм был оригинальным порождением именно буржуазии, впервые отказавшейся от бога и отпавшей от церкви; и тут нет ничего специфически пролетарского. Если же станут говорить, что буржуазное происхождение той или иной социальной ценности не мешает само по себе тому, чтобы она была усвоена пролетарским сознанием, то это указывает только на то, что, с точки зрения пролетариата, существуют внеклассовые социальные ценности. И одно из двух: или атеизм и миф о примате знания есть буржуазное порождение, тогда пролетарий не может быть атеистом, или он может и должен быть атеистом, и тогда пролетарское мировоззрение ничем не отличается от капиталистического в самом существенном вопросе всего мировоззрения (!) и, кроме того, существуют для него внеклассовые социальные ценности, т. е. марксизм в таком случае есть, с точки зрения пролетариата, ложная теория»[84]. «Атеизм, рационально обоснованный, есть именно эманация капиталистического духа», – не устаёт повторять Лосев. Далее он вскрывает буржуазную природу материалистического учения – главной основы коммунистической идеологии. Пересказать это здесь невозможно, надо бы просто переписывать страницу за страницей великолепной лосевской диалектики, – отсылаю интересующихся к его работе «Диалектика мифа».
Как видим, в своей мифо-идеологической основе социализм и либерализм вполне идентичны. А теория о конвергенции капитализма и социализма имела реальные основания. Да, собственно говоря, коммунизм (социалистический строй) в экономической сфере и являлся не чем иным, как капитализмом; отличие от Запада здесь лишь в том, что коммунизм – это государственный капитализм, а не частнособственнический. Что коммунизм на практике есть именно капитализм, вполне очевидно из его усиленной промышленно-экономической экспансии, огромных капитальных вложений в производство, интенсивной эксплуатации трудовых ресурсов – витальной энергии народа.
Стоит также упомянуть, что такие лозунги, как гуманизм, прогресс, демократия, свобода, – словом, весь джентльменский набор либеральной идеологии не сходил с коммунистических транспарантов, ими были насыщены все выступления лидеров КПСС. И не нужно думать, что здесь имеет место лицемерие, – вовсе нет. Коммунисты вполне искренни. Они даже считают, что именно они, коммунисты, – наиболее последовательные борцы и проводники этих идей. Коммунисты всегда презирали либералов, но никогда не отвергали основных либеральных идей. И презирали они либералов именно за отсутствие последовательности в проведении их же собственных либеральных идей; за то, что те трусливо останавливались и топтались на середине пути, прагматически опасаясь, что дальнейшее движение приведёт к разрушительным последствиям. Коммунисты стремились к проведению этих идей, не считаясь ни с какими последствиями.
Надо признать, что на этом пути коммунисты добились определённых успехов, по крайней мере в сфере теоретической.
«Демократы» в период «перестройки» немало потешались над идеей коммунистического общества, где каждый получает «по потребности», как над утопией. А между тем что, по сути, представляет собой эта идея? Если вдуматься, коммунистическое общество есть не что иное, как предел и завершение либеральной идеи непрерывного общественного прогресса. Коммунисты просто додумали эту идею до логического конца. Они ввели в идею непрерывного прогресса понятие «предела» и тем самым придали ей законченность и осмысленность. Вместо совершенно бессмысленного «бесконечного прогресса» либералов коммунисты получили нечто вполне мыслимое и зримое. А то, что в результате получилась утопия, – вина уже не коммунистов, а самой этой идеи, – ничего другого из неё извлечь невозможно.
Наряду с общим содержанием есть, конечно, и отличия. Либерализм ставит в центр своего учения человеческую индивидуальность, субъекта. Коммунисты же – объективисты, «реалисты»; у них на переднем плане реальный мир, основой которого, как они полагают, является «материя». Но что представляет собой этот мир и эта материя в рамках новоевропейского нигилистического мировоззрения? «Единственное и исключительно оригинальное творчество новоевропейского материализма заключается в мифе о вселенском мёртвом Левиафане, который – и в этом заключается материалистическое исповедание чуда – воплощается в реальные вещи мира, умирает в них, чтобы потом опять воскреснуть и вознестись на чёрное небо мёртвого и тупого сна без сновидений и без всяких признаков жизни»[85].
Если рассмотреть картину мира в новоевропейском нигилистическом восприятии, то это будет беспредельное чёрное пространство, чёрная пустота; а в этом пространстве мельтешат одинокие, отъединённые друг от друга свободные атомы – личности. Они появляются из этой чёрной пустоты неведомо как, существуют некоторое, отпущенное каждому из них время и снова растворяются без следа в беспредельном вселенском вакууме. Данная картина мира общая и для либерализма и для коммунизма. Но в рамках этой картины они делают акцент на разных её элементах, – внимание либералов приковано к атомам – личностям, коммунисты же сосредоточивают своё внимание на чёрном вселенском вакууме («материи»), всё порождающем и всё поглощающем. Вот в этом, в основе своей, и заключается сходство и отличие двух близкородственных негативных систем – либерализма и коммунизма: единая мировоззренческая картина и разность акцентов в рамках общей для обеих систем картины.
Таким образом, социализм, явившийся идеологической основой создания коммунистических деспотических режимов, по происхождению есть продукт Европы, одна из негативных систем, один из продуктов европейской обскурации. Поэтому неверно считать коммунизм порождением только России. Без участия Запада коммунистический режим никогда бы не возник.
Придя в Россию, марксизм сильно национализировался, – это общеизвестно. Как писал Бердяев, «Маркс был слит со Стенькой Разиным». То же самое произошло и в других странах, где марксисты пришли к власти (Китай). В отличие от либерализма социализм оказался способен гибко приспосабливаться к внешней этнической среде. Давно уже замечен тот, казалось бы, парадоксальный факт, что идеология фабричного пролетариата и индустриального общества побеждала только в «отсталых», преимущественно крестьянских странах. Но крестьянская масса – главный и последний хранитель этнического сознания народа. Значит, марксизм одержал победу лишь там, где он соединился с этносом; где этнос был ещё достаточно силён, чтобы оказать противодействие самой откровенной антиэтнической идеологии антисистемы – либерализму; и достаточно слаб, чтобы допустить в свою среду другую негативную систему. Вспомним, что и в Европе коммунизм добился наибольшего влияния на романском юге с более сильным европейско-католическим этническим сознанием, а не на протестантском севере.
Повышенная способность социализма сочетаться с различной этнической средой привела к его расколу на два течения, которые можно условно обозначить как доктринёрское и народное, – воплощением первого явилась европейская социал-демократия; самым ярким образцом второго – русский большевизм. Вот как характеризует эти течения испанский историк Антонио Ортис:
«Из истории коммунистических партий… видно, что практически во все времена их существования в них имели место два проекта коммунизма и два проекта партии. Наличие этих двух проектов не всегда осознаётся, можно даже сказать, что они существуют на интимном уровне. Различаются они не на уровне идеологии, а на уровне самого восприятия жизни и смысла существования человека в обществе.
Есть коммунизм, культурной основой которого является такая солидарность, которую мы можем назвать традиционной, народной, крестьянской… Народ, государство, общество и человек воспринимаются как единые, тотальные естественные субъекты. Они – совокупность объективных и субъективных, материальных и духовных ипостасей, которые их образуют. В этой модели коммунизма человек соединён узами солидарности со всем обществом и с природой. Его солидарность выходит за рамки социального и распространяется на природу, с которой человек устанавливает особые отношения. В Европе и России основаниями этого коммунизма были и продолжают оставаться традиции солидарности с крестьянскими корнями. Они поддерживаются, с одной стороны, культурными религиозными традициями, особенно восточным Православием и народным католицизмом католических стран Южной Европы.
С другой стороны, их укрепляют социальные структуры и образ жизни, которые, несмотря на наступление индустриального общества в форме капитализма или социализма, сохранились в жизнеспособном виде в некоторых частях Европы вплоть до середины ХХ века, а в СССР и до наших дней. Даже когда эти структуры и образ жизни были подорваны в Европе, возникающий рабочий класс, в подавляющем большинстве происходящий из крестьянства, сохранил эти традиции, а с ними и способ восприятия и понимания окружающей действительности. В течение нескольких поколений промышленные рабочие продолжали оставаться крестьянами – в психологическом и даже в значительной степени в социологическом смысле…
Другой проект коммунизма – городской, рационалистический. Он унаследовал ценности Просвещения и Французской революции, принял модель атомизированного человека и с нею индивидуализм. Этот проект коммунизма отвергает традиционное крестьянское мироустройство, народный мир как пережиток феодализма. Он принимает все мифы сложившейся после Французской революции европейской историографии относительно крестьянского мира и „Старого порядка“. Согласно этому проекту, коммунизм должен быть построен на основе свободных индивидов, соединённых классовыми интересами и классовым сознанием. Крестьянский мир с его связями солидарности – остаток феодализма. Отсутствие классового сознания в среде крестьян делает их мелкими буржуа, превращает их в „мешок картошки“. Это проект коммунизма, который, в конце концов, согласился с основными принципами, на которых стоит капиталистическое общество. Он признал регулирующую роль рынка (эвфемизм, за которым скрывается принятие рыночной экономики и частной собственности) и гражданское общество, основанное на концепции человека как атома, а также принял парламентскую демократию как политическую систему… Это – атомизированное общество, продукт протестантской Реформации, Научной революции и культуры современного индустриализма. Традиционные общинные ценности, традиционная солидарность, основанная на модели делимого „общего человека“ („часть меня присутствует во всех людях, а во мне присутствует часть всех людей“), рассматриваются в этом коммунизме как реликты предыдущих эпох в существовании человека.
Реликты, которые служат препятствием прогрессу и обречены на исчезновение»[86].
Перед нами картина двух направлений социализма – народного, этнического и социализма буржуазного, прагматического, обскурационного. В цитированном фрагменте живо подмечено, как социализм пропитывается этнической средой, где последняя ещё достаточно сильна. В отрыве от этнической среды социализм становится вполне буржуазной идеологией. Современные социал-демократические партии Европы совершенно обуржуазились, так что даже невозможно различить, где кончается идеология и политика либералов, а где начинается – социал-демократов; чем отличаются Коль и Шредер, «левый» Блэр от «правого» Ширака.
Почему именно социализм оказался способен соединиться с множеством этносов во всех уголках мира, достаточно понятно, – ведь он проповедует общность, коллективизм, а это очень созвучно всякому этническому чувству. В период угасающего этнического сознания такая коллективная идеология могла дать ему какую-то точку опоры в противостоянии экспансии Запада. Соединившись с негативной системой коммунизма, этнос направил её оружие против породившей её антисистемы. Социализм дал этносам Востока рациональную организацию хозяйства, современную индустрию, технику и научный прогресс. Вооружившись этими техническими средствами, народы Востока смогли длительное время оказывать эффективный отпор Западу и временами даже переходить в контрнаступление. Диалектика исторического развития оказалась такова, что этнос, соединившись с негативной системой, паразитирующей на его энергии, – с другой стороны, благодаря этому создал конструкцию, защищавшую его от мощной экспансии другой негативной системы и быстрого поглощения Западом.
Именно так обстояло дело в России. Становление коммунизма привело к индустриализации страны, большому продвижению в науке и технике. Прежде отсталая страна стала второй в мире индустриальной державой. На базе развитой промышленности и науки была создана сильная армия, способная успешно противостоять любой военной машине мира. В результате экспансия Запада наткнулась на твёрдое сопротивление; так родилось противостояние Запада с Советским Союзом и коммунистическим блоком.
В России социализм имел дело с ещё весьма сильным этносом, и по мере существования СССР советский коммунизм всё более национализировался. Ортодоксальные марксисты – космополиты, троцкисты – были быстро оттеснены от власти. Уже в начале 30-х утратила своё идеологическое господство нигилистическая школа историка Покровского, были восстановлены в своих правах национально-государственная история России и понятие патриотизма. «Социалистическое отечество» в грозные 40-е становится просто Россией, а «советский» патриотизм превращается в традиционный российский, иногда даже прямо – в русский патриотизм. Основой культуры советского общества, несмотря на официальное поклонение марксизму, служила традиционная культура народов России, прежде всего русская, и классическая мировая культура. Богатство и высокий уровень культуры советского периода свидетельствуют о её крепких этнических корнях и ярко контрастируют с небывалым упадком в эпоху «демократических реформ», особенно очевидным в наиболее массовых видах искусства – литературе и кино.
При всём том коммунистический Советский Союз оставался гибридом русского этноса с социализмом – негативной обскурационной системой; причём системой чуждой, внешней по происхождению (в отличие от ситуации на Западе, где этнос сочетался со своим же собственным продуктом). В таких условиях советская политика не могла не быть противоречивой. Она металась между отстаиванием интересов негативной системы и защитой российских национальных интересов (для собственного самосохранения). В этой противоречивости заключалась внутренняя слабость советской системы, которая привела её к поражению в борьбе с Западом – тоже химерой, но более однородной по составу и, вследствие этого, более прочной.
Русский народ постепенно преодолевал коммунистический соблазн. Первоначальный энтузиазм сменялся усталостью от великих трудов и тяжелейших жертв, выпавших на долю России в XX веке. А вслед за ней пришло разочарование в утопии и равнодушие: жертвовать более было не для чего. Внутренний энергетический источник существования химеры иссякал. Натолкнувшись на упорное сопротивление Запада, коммунистический режим не мог решить свои проблемы и за счёт внешней экспансии. Так что почти всё время после Второй мировой войны было периодом его постепенного ослабления вплоть до неожиданного для большинства крушения.
Сын Хрущёва эмигрировал в США. Это символично. «Идейный» коммунизм рано или поздно возвращается в материнское лоно – на Запад.
Коммунисты, оставшиеся верными прежним идеалам, обвиняют руководство КПСС в предательстве. Это поверхностная трактовка событий. Тот факт, что почти вся партийно-советско-комсомольская элита в мгновение ока обуржуазилась и «капитализировалась», имеет под собой более веские основания. Дело в том, что с течением времени обнаружилась буржуазная природа самого социализма. Настал момент истины: коммунизм распался на свои составляющие, и коммуно-обскуранты без колебания перешли на сторону более последовательной и эффективной буржуазной системы, сулившей им гораздо большие материальные выгоды. Внешне это массовое ренегатство действительно производило эффект поразительный. В основе же данного феномена лежит распад этнической химеры коммунизма, произошедший в России на исходе XX века. Антисистемная составляющая химеры слилась с Западом, а русский этнический компонент отделился и обособился от прежней связи. В этом освобождении от влияния негативной системы заключается залог будущего возрождения русского народа.
Глава 25 Национализм
В наше время довольно трудно понять, о чём говорят люди, когда произносят слова «национализм», «националистический». В сознании либерального общества этот термин прочно соединился со всевозможными негативными ассоциациями, в конечном счёте просто обратился в ругательство. Если судить по маловразумительным утверждениям многих журналистов, политиков, политологов, чиновников, повседневно употребляющих это слово, то можно сделать лишь тот вывод, что они попросту не знают его смысла, потому что сплошь и рядом именуют националистов фашистами и наоборот; или, скажем, фашистов называют «крайними националистами» и т. д. Эту кашу частенько приправляют расизмом, шовинизмом, антисемитизмом, – так что становится совсем уже трудно что-либо разобрать. Попробуем хоть несколько прояснить этот густой идеологический туман.
Термин «национализм» происходит от латинского слова «нация», которое является эквивалентом греческого «этнос» (народ, племя). Однако за словом «нация» укрепилось несколько особое значение. По-настоящему оно зазвучало только в XIX веке, когда в Европе явились «национальные» проблемы. Тогда же возник и термин «национализм», которым стали обозначать идеологию, отстаивающую «национальные» интересы. Появилось множество «национальных» движений, защищающих права той или иной этнической общности.
Стремления националистов сводились, главным образом, к политическому объединению всех людей, говорящих на одном языке, и образованию на этой базе независимого «национального» государства. Иногда, впрочем, сначала создавалось государство, и только после этого жители различных его провинций учились кое-как понимать друг друга. Националисты стремились к наивозможному усилению, расширению и процветанию национальных государств. Это стремление во внутренней политике выражалось в насильственной ассимиляции национальных меньшинств, в навязывании им языка титульной нации. Во внешней политике националисты оправдывали агрессивную экспансию своих государств. Они претендовали на присоединение к своему национальному государству всех территорий, на которые данная этническая общность имела хоть какие-то исторические права (хотя бы и весьма сомнительные). А поскольку первоначально национальные права признавались только за европейцами, то в остальном мире национализм смыкался с колониализмом и империализмом. Впрочем, национальная политика нередко носила и освободительный характер – со стороны народов порабощённых и угнетённых.
Такова, вкратце, идеология и политическая практика того новоевропейского движения, которое чаще всего и подразумевают, рассуждая о национализме. Однако есть и существенно иной подход к определению национализма. Лучше всех его выразил русский философ Иван Ильин: «Национализм есть любовь к историческому облику и творческому акту своего народа во всем его своеобразии. Национализм есть вера в инстинктивную и духовную силу своего народа, вера в его духовное призвание. Национализм есть воля к тому, чтобы мой народ творчески и свободно цвел в Божием саду. Национализм есть созерцание своего народа перед лицом Божиим, созерцание его души, его недостатков, его талантов, его исторической проблематики, его опасностей и его соблазнов. Национализм есть система поступков, вытекающих из этой любви, из этой веры, из этой воли и из этого созерцания»[87].
Определение Ильина делает акцент не на политическую силу, а на духовную самобытность и культурную самостоятельность своего народа. Такая трактовка национализма сближает его с культурным консерватизмом. Такой национализм есть скорее национальный патриотизм, а не «идеи национального превосходства и национальной исключительности». Ненависть и презрение ко всему иноземному Ильин характеризовал как «больные и извращённые формы национального чувства и национальной политики». Национализм существует в двух ипостасях: как любовь к своему народу и как ненависть к другим народам – это разные вещи, и они не всегда и не обязательно совмещаются. Конечно, всегда существует опасность, что любовь вызовет ненависть, – но это обычная общежитейская проблема; и решать её через отрицание и уничтожение всякого национального чувства – всё равно что бороться с болезнью путём умерщвления больного.
Итак, термином «национализм» обозначают по крайней мере две концепции, существенно отличные по своему содержанию. Значит, рассуждая о национализме, надо всегда чётко представлять и оговаривать, о какой именно из этих концепций идёт речь. Иначе наличие двух различных предметов под одним именем неизбежно порождает путаницу и возможность для манипуляции.
Взять, например, известный спор о том, является ли национализм уникальным феноменом Нового времени, или он столь же древен, как мир. Большинство учёных утверждают первое, но есть и те, кто придерживается иной точки зрения. Если исходить из существования двух различных концепций национализма, – для спора просто не остаётся места. Если мы ведём речь о культурном национализме, то во все времена люди испытывали естественную привязанность и любовь к традициям, обычаям, ценностям своего народа. И во все эпохи люди прилагали усилия к сохранению привычных им традиций и обычаев. Примеров подобного «национализма» можно найти в истории немало. Вспомним русских старообрядцев, которые ради сохранения некоторых национальных форм русского церковного обряда пошли на разрыв с официальной церковью и государством. В фигуре Марка Порция Катона и возглавляемой им партии, боровшейся за возрождение старинных римских нравов и порядков, явственно просматриваются черты культурного национализма. Можно уверенно говорить о греческом национализме в поздней Византии. Культурный национализм – обычное явление на большом протяжении истории Китая. Такой национализм можно проследить вплоть до самой глубокой древности. Лео Оппенхейм, видный ассириолог, утверждал, что в Ассирии «бесспорно, был силён дух „национального самосознания“, который не раз помогал ей выстоять и при поражениях, и в периоды иноземного господства»[88]. Ассирийские националисты были той силой, которая противостояла культурному влиянию более развитой вавилонской цивилизации. Словом, ясно, что культурный национализм – явление универсальное для всех времён и народов.
Столь же ясна уникальность новоевропейского национализма, которому за пределами данной эпохи не отыщешь ничего похожего. «Национализм сравнительно молод, он появился на рубеже XVIII и XIX веков, в период возникновения демократических движений, когда народы конституировались в нации», – считает германский политолог Ян. И многие другие также связывают появление национализма с Французской революцией, с образованием «третьего сословия» – буржуазии, с развитием капитализма. Напрасно в опровержение данного тезиса приводится пример Жанны д’Арк, другие примеры патриотического поведения в истории. Патриотизм и национализм – явления различные, хотя во многом близкие. Даже если национализм включает в себя патриотизм, то для патриотического сознания национализм совсем не обязателен. Жанна д’Арк была патриоткой, но не националисткой. Патриотизм – это любовь к родине, к своей стране, готовность защищать её от внешней угрозы. Всё это было присуще Жанне д’Арк, – она ненавидела англичан и сражалась с ними, потому что те несли бедствия её родине. Но Жанна вовсе не была демократкой, а ведь новоевропейский национализм – детище либерально-демократической эпохи, предполагает формальное политическое равенство всех членов нации. И к тому же Жанна была вполне равнодушна к языковой проблеме, составляющей, можно сказать, сердцевину новоевропейского национализма, идеалом которого является суверенная государственность на основе моноязычия. Уроженка Лотарингии, Жанна и сама говорила по-французски с акцентом.
Национализм появился во Франции столетие с лишним спустя после гибели Жанны, во времена Религиозных войн, – то был культурный национализм. Он выразился в католическом движении против гугенотства. Во времена Жанны д’Арк к такому национализму не было повода: англичане хотя и разоряли Францию, но не угрожали её культурной самобытности, её вере. Когда же возникла угроза получить на французский престол короля-еретика, парижане сделались консерваторами и вступили в Католическую лигу. Культурный национализм или консерватизм, таким образом, есть реакция на экспансию чуждой культурной среды. Когда угроза миновала, это движение во Франции надолго затихает.
То же самое происходило на Руси. И здесь патриотизм предшествовал национализму. Автор «Слова о полку Игореве» – патриот, он глубоко переживает беды своей страны, зовёт к объединению сил для отражения внешних врагов, – но в его речах нет и следа национальных идей. Внешняя угроза в его время была чисто материальной, физической, а не духовной и культурной: русской культурной самобытности половцы не угрожали. В России, как и во Франции, культурный национализм появляется в стадии надлома при столкновении с чужой культурой. Первый его подъём был вызван польско-католической экспансией против России в годы Смуты. Затем, уже на исходе фазы надлома, культурный национализм сформировал мощное движение против исправления религиозных книг и обрядов по греческому образцу. После раскола в церкви это движение уходит вглубь и как бы незримо существует в недрах официальной России. Новая волна национализма (и в культурной и в новоевропейской форме) уже преимущественно на базе светской культуры поднимается в фазе инерции XVIII–XIX веков в связи с влиянием Европы и экспансией Запада.
Таким образом, очерёдность явлений в процессе этногенеза такова: патриотизм, как правило, предшествует национализму; последний (в форме культурной) появляется не ранее фазы надлома, – но только в случае реальной угрозы культурным традициям народа; если же такой угрозы нет, культурный национализм развивается гораздо позднее. Что же до новоевропейского западного национализма, то он впервые появляется в Европе в обскурационной фазе и затем уже распространяется по всему миру, как западное влияние.
Чем объясняется такая последовательность возникновения этих явлений? Здесь мы подходим к сути отношений этноса и нации, патриотизма и национализма. Ясно, что в основе и того и другого лежит этническое чувство. Но кроме чувства здесь необходимо ещё и сознание. Если этнос воспринимается личностью непосредственно, интуитивно, то национализм – это рациональная идеология. Национализм проявляется в процессе этногенеза не с его начала, а уже на спаде этнической напряжённости, в фазе надлома. Явление национализма – симптом ослабления этнического чувства. Пока интенсивность воздействия этноса на личность велика, она не имеет нужды в национализме, т. е. не испытывает необходимости в каком-либо рациональном утверждении своего исторического бытия. Эта утверждённость на ранней стадии этногенеза дана личности этносом непосредственно и не требует доказательств и рациональных подпорок. Поэтому народная масса не интересуется национализмом до самой поздней стадии этногенеза.
Когда напряжённость этнического поля падает и этническая связь слабеет, личность начинает ощущать одиночество и неуверенность. Теперь, чтобы утвердить своё историческое существование, она нуждается в средствах разума. Пустота, образующаяся в душе с ослаблением непосредственного этнического чувства, заполняется идеологией, рациональным осмыслением своеобразия родной этнической культуры и её места в истории.
Таким образом, различие между понятиями «народ» и «нация» – есть различие между той частью этноса, которая воспринимает его преимущественно интуитивно, и воспринимающими этнос преимущественно рационально. «Нация» – в узком смысле это не народ в целом, а лишь рационально мыслящая его часть, «интеллигенция» (термин употреблён в общетеоретическом, а не в социальном смысле). Можно также сказать, что нация – это «сознательная» часть народа (народа как этноса в целом). Понятно, что по мере прогрессирования обскурационного процесса «нация» растёт, а «народ» уменьшается. Понятно также, что национализм (культурный) – не только отражение обскурационного процесса, но и средство, ему противостоящее. Националисты противопоставляют угасанию этнического чувства доступные им средства разума, воли, исторической памяти. С помощью этих средств националисты пытаются вновь утвердить своё историческое бытие и противостоят распаду личности под натиском антисистемы.
Что такое национализм как духовное явление? Что он даёт человеку? Национализм расширяет сферу существования личности. Это выход из узкого индивидуального мира бытовых, семейных, хозяйственных интересов на простор своей страны, приобщение к великим историческим свершениям; осознание единения с другими людьми вокруг тебя и с другими поколениями людей, минувшими и будущими; причастность к существованию, бесконечно превосходящему силы, возможности и сроки жизни отдельного человека. Национализм – это самоутверждение личности в истории, это воля к историческому существованию. Этнос – тоже самоутверждение личности в истории, но самоутверждение интуитивное, чувственное; национализм же есть самоутверждение рационально-волевое.
Всё только что сказанное о национализме можно было бы с полным основанием отнести и к патриотизму. Эти два понятия духовно близкородственны, ведь в основе того и другого лежит этническое чувство, особым образом рационально осознанное. Однако есть между ними и разница. Патриотизм акцентирует внимание на политическом аспекте исторического существования, а национализм – на культурном. Поэтому патриотизм появляется в этногенезе раньше национализма, – ведь политические угрозы поджидают этнос на всём протяжении его существования; угрозы же его культурным традициям возникают позже, когда обскурационный процесс значительно продвинется. Впервые появившись в фазе надлома, в первый кризисный период, национализм затем на время затухает, – как правило, в данной фазе этносу удаётся справиться с угрозой его культуре. Сила этнического поля ещё велика, и на протяжении фазы инерции доминирует патриотическое сознание.
Патриотизм – тоже сознание своей национальности. Но это сознание гораздо менее рационально разработанное в культурном плане. Оно довольствуется самым общим образом – «Прекрасная Франция», «Русская земля». Объект патриотизма – страна, объект национализма – народ. Народ может потерять свою страну (как евреи, изгнанные из Палестины). О патриотизме в такой ситуации говорить не приходится, национализм же удвоит свою силу и значение. Если же страна «потеряет» свой народ; если этнос, создавший страну, исчезнет, растворится, умрёт, – то тут уже нет смысла говорить ни о национализме, ни о патриотизме. «Страна» – без народа, без культурной самобытности и этнической самостоятельности – это скорлупа без ядрышка, пустая оболочка без всякого содержимого; нечто бессмысленное, никому не нужное и ни на что не годное – именно таков либеральный патриотизм.
Всё вышесказанное об отношениях этноса и нации, патриотизма и национализма относится, главным образом, к культурному национализму. Теперь следует разобрать вопрос – в каком отношении находится культурный национализм к новоевропейскому, западному национализму?
В отличие от универсального культурного национализма, который существовал во всех концах мира на всём протяжении истории, новоевропейский национализм можно точно локализовать по времени и месту его возникновения. Как уже упоминалось, первое его явственное проявление произошло в Западной Европе в период Французской революции. С этого момента он быстро распространился по Европе, а затем и по всему миру.
При первом же своём появлении новоевропейский национализм был тесно связан с либерально-демократической идеологией. Французская революция отвергла аристократические порядки старой Франции и выдвинула идею народного правления. «Нация» как сумма всех жителей Франции была противопоставлена королю и аристократии. Такой национализм является, по сути, чистым либерализмом, и в этом первоначальном смысле – ключ к определению его природы. Именно буржуазия была изначальным и главным носителем новоевропейского национализма. Буржуазный характер его осознал уже Токвиль; он писал, что представители третьего сословия «любят свою страну так же, как любят самих себя, перенося формы личного тщеславия на чувство национальной гордости». Эта «национальная гордость» есть не что иное, как индивидуальная гордость буржуа, а «национальная» исключительность – то же абсолютное самоутверждение буржуазного индивидуума. Отсюда и национальный эгоизм, особенно характерный для новоевропейского национализма, – эгоистическое превознесение интересов своей нации, игнорирование прав и интересов других наций, оправдание агрессивной политики шествования по чужим костям к удовлетворению своих желаний и потребностей. Здесь не сопричастие отъединённого «я» с традициями, ценностями, интересами народа, а эгоистическое расширение своей индивидуальности на весь народ, стремление поставить его на службу собственным амбициям и страстям (Наполеон).
Буржуазная природа новоевропейского национализма означает его противоположность культурному национализму. Это вытекает уже из негативного характера либеральной идеологии, которая везде и всюду враждебна этносу. Однако в реальности дело обстоит несколько сложнее. Французский национализм первоначально распространял только либеральные идеи. Но, выйдя за пределы Франции, «национальная система» вступила в иную этническую среду, и сразу же обнаружились межэтнические противоречия. Образовалось множество «национальных» государств. Возникновение системы национальных государств произошло вследствие сохранения в Европе и мире ещё достаточно сильной этнической среды, множества разнообразных этносов. Не будь этой разнообразной этнической среды, – экспансия буржуазного национализма привела бы к созданию единого всемирного либерального государства. К этому либералы, в сущности, и стремятся, – для них «нация» есть временная фаза существования общества на пути к глобальной либеральной империи. Это говорит о переходном характере буржуазного национализма. Последовательным либералам он уже не нужен; они упрекают его в агрессивности и авторитаризме, нетолерантности и недемократичности. И он действительно ещё во многом «недемократичен», что вызвано присутствием в нём остатков этноса. Таким образом, буржуазный национализм есть ещё не чистый либеральный обскурантизм, но некая промежуточная ступень к нему. Он есть признак ещё не завершившегося, но уже завершающегося обскурационного процесса. Буржуазный национализм – та модификация негативной системы, которая предназначена для ещё не полностью деградировавшей этнической среды. В жерновах такого «национализма» антисистема перемалывает последние остатки этноса.
Со времени распространения буржуазного национализма в Европе её этническая деградация ускорилась. Это и понятно, – ведь новоевропейский национализм не несёт в себе никакого положительного содержания. Его распространение означало насаждение одной и той же для всех народов общественно-политической системы, для чего требуется уничтожить оригинальные особенности политического строя каждой страны. Будучи внутренне пуст и бессодержателен, он цепляется за языковые различия, – как за последнее оправдание своего существования. Единственным интересом буржуазного национализма является язык: насаждение языкового однообразия внутри страны, политическая целостность на основе моноязычия. По справедливости, новоевропейский национализм должен быть назван лингвистическим. Но язык сам по себе – это чистая форма без содержания. Русское философское сознание быстро уловило бессодержательность и разрушительность западного национализма. По этому поводу Константин Леонтьев заметил:
«Язык? Но язык что такое? Язык дорог особенно как выражение родственных и дорогих нам идей и чувств. Антиевропейские блестящие выходки Герцена, читаемые на французском языке, производят более русское впечатление, чем по-русски написанные статьи Голоса и т. п.
Любить племя за племя – натяжка и ложь. Другое дело, если племя родственное хоть в чём-нибудь согласно с нашими особыми идеями, с нашими коренными чувствами.
Идея же национальностей в том виде, в каком её ввел в политику Наполеон III, в её нынешнем модном виде есть не что иное, как тот же либеральный демократизм, который давно уже трудится над разрушением великих культурных миров Запада. Равенство лиц, равенство сословий, равенство (т. е. однообразие) провинций, равенство наций – это всё один и тот же процесс; в сущности, всё то же всеобщее равенство, всеобщая свобода, всеобщая приятная польза, всеобщее благо, всеобщая анархия, либо всеобщая мирная скука.
Идея национальностей чисто племенных в том виде, в каком она является в XIX веке, есть идея, в сущности, вполне космополитическая, антигосударственная, противорелигиозная, имеющая в себе много разрушительной силы и ничего созидающего, наций культурой не обособляющая: ибо культура есть не что иное, как своеобразие, а своеобразие нынче почти везде гибнет преимущественно от политической свободы. Индивидуализм губит индивидуальность людей, областей, наций»[89].
Противоположность «лингвистического» национализма этносу замечена и на Западе: «Чем меньшее значение ему (языку) придавалось, тем крепче было коллективное самосознание людей» (Э. Хобсбаум). Среди крестьянства, главного носителя этнического чувства, этот буржуазный лингвистический национализм распространяется позднее и труднее всего.
Буржуазный национализм отстаивает создание отдельного государства для каждого этноса. Однако многие малые этносы могут сохранить своё своеобразие только в безгосударственном состоянии. Организация своего государства для них непосильна и означала бы ликвидацию их своеобразного жизненного уклада, а ведь такое своеобразие и есть главное выражение этнической жизни. Для многих, особенно старых этносов (а молодых сейчас почти не осталось) пребывание в составе большой полиэтнической державы есть условие их долголетия. «Национальная независимость» их быстро доконает, что мы и наблюдаем на примере новых «независимых» государств, образовавшихся на обломках многонациональных федераций. «Национальное возрождение» в некоторых из этих новообразований, которое справедливее назвать национальным вырождением, оставляет впечатление густого безнадёжного маразма.
Разрушительный буржуазный национализм явным образом представляет собой орудие обскурационного процесса, – это форма экспансии западной антисистемы. Именно в этом смысл его распространения по миру, что особенно очевидно, когда «нации» формируются «сверху», административным порядком. Как сказал Пилсудский: «Государство делает нацию, а не нация – государство». Массимо д’Азеглио провозгласил в 1860 году: «Мы создали Италию; теперь мы должны создать итальянцев».
«Создавать итальянцев» нужно было потому, что до объединения жители различных областей полуострова говорили на разных наречиях и нередко просто не понимали друг друга; а главное – вовсе не считали друг друга соотечественниками: «Большинство жителей Северной Италии смотрели на соотечественников из Южной Италии как на разновидность африканских дикарей» (Э. Хобсбаум). По-видимому, жители севера и юга Италии отнюдь не принадлежали к одной этнической общности, а подлинное этническое своеобразие итальянцев существовало на областном уровне. Но когда в проекте лежит одинаковый для всех либерально-демократический трафарет, создавать можно что угодно из кого угодно: итальянцев, украинцев, боснийцев, косоваров… Суть политики «национальных» государств состоит в нивелировании всех этнических особенностей, в приведении всех народов к единому «демократическому» знаменателю.
Мы видим, что две разновидности национализма – культурный и западный – проводят противоположную друг другу политику. Если культурный национализм пытается сохранить остатки этнических традиций, то западный национализм их разрушает. Чтобы резче отграничить одну идеологию от другой, следовало бы дать культурному национализму другое название, не вызывающее ложных ассоциаций с «национализмом» как негативным продуктом Запада. Из всех терминов, пожалуй, наиболее подходящими являются национальный патриотизм либо культурный консерватизм. Итак, мы имеем две идеологии, принципиально противостоящие друг другу: национальный патриотизм, отстаивающий ценности культурного своеобразия своего народа, его свободного и самостоятельного существования, прежде всего в плане культурного творчества (без чего и политический суверенитет теряет смысл); и западный национализм – абсолютное политическое самоутверждение либеральной нации с пренебрежением к правам и интересам других наций, при всеобщей культурной унификации.
Путаница в обыденном сознании того и другого вполне понятна, – ведь немногие люди умеют мыслить логически, ещё меньше – способны переносить эту логику в жизненную практику. В политической реальности нередко та и другая форма вступают в симбиоз и таким образом дают повод для отождествления. Впрочем, категорическое нежелание либеральной публики различать эти понятия вызвано причинами более глубокими. За этим стоит ненависть негативной системы ко всякому этническому содержанию вообще, к любым этническим проявлениям, – а ведь такие проявления, пусть даже в вырожденческом виде, существуют и в буржуазном национализме. Для либерала, как чистого и последовательного обскуранта, различие между формами национализма несущественно – все они сливаются в единый ненавистный для него образ.
Итак, новоевропейский, буржуазный, западный национализм или просто «национализм» (если оставить это название исключительно за данной системой) есть совмещение либерализма с этносом; причём на долю либерализма здесь приходится фактически вся содержательная часть, а от этноса сохраняются лишь кое-какие формальные признаки. Таким образом, перед нами явно обскурационная конструкция: негативная система в теории и химера – при её реальном осуществлении.
Национализм как реальность есть химера, соединение негативной идеологии либерализма с этносом, – ещё одна химера европейской антисистемы, притом родственно близкая либеральной химере – Западу. Отличие двух родственных химер – в уровнях, на которых они существуют: Запад – европейская химера суперэтнического уровня, национализм – химера на этническом уровне.
В данном сходстве и различии коренятся отношения притяжения и отталкивания (соперничества), характерные для двух химер. Запад поощряет национализм во вновь присоединяющихся к его системе странах (Восточная Европа); и в то же время Запад систематически подавляет его на своей «староосвоенной» территории. Национализм в Западной Европе существует в придавленном состоянии, под полным господством Запада и его идеологии «демократии». Когда национализм делает попытку подняться из отведённой ему на Западе ниши и занять первенствующее положение, – вся западная пропагандистская машина немедленно обрушивается на него и подвергает беспощадному шельмованию (националисты на выборах во Франции). Национализму в западной системе отведена вспомогательная роль точки приложения и выхода национальных эмоций, объекта притяжения этнической энергии для последующего переключения её на либеральные цели. Если же национализм бросает вызов «демократии» и открыто утверждается у власти (хотя бы и вполне демократическим путём), Запад не стесняется в средствах его подавления: разгром Югославии у всех перед глазами.
Для нас особенно ярко негативную сущность национализма демонстрирует пример Украины. Украинцы (малорусы) по своему национальному происхождению такие же русские, как и великорусы, – нравится это кому-то или нет. Многочисленные уродства украинского национализма у всех на глазах, нет надобности их заново перечислять. Ограничимся одной цитатой очевидца: «„Украинцы“ – это особый вид людей. Родившись Русским, украинец не чувствует себя русским, отрицает в самом себе „русскость“ и злобно ненавидит всё русское. Он согласен, чтобы его называли кафром, готтентотом – кем угодно, но только не русским. Слова: Русь, Русский, Россия, российский – действуют на него, как красный платок на быка. Без пены у рта он не может их слышать. Но особенно раздражают „украинца“ старинные предковские названия: Малая Русь, Малороссия, малорусский, малороссийский. Слыша их, он бешено кричит: „Ганьба“ (польск. позор)»[90]. Как видим, за протекший век украинские националисты не поумнели. Да, прав Лосев: именно «сгусток аффективного напора и слепого нападения – на своё же собственное существо…»
В заключение следует сказать несколько слов о природе фашизма, который так часто вольно или невольно путают с национализмом. Очевидно, что в основе фашизма лежит западный национализм. Хотя фашизм в своей идеологии охотно апеллирует к национальной культуре, историческим традициям, – однако все его интересы сконцентрированы на государстве, и сама нация для него – лишь материал для создания сильного государства. По словам теоретика итальянского фашизма Джентиле: «Для фашизма всё заключено в государстве. Ничто человеческое или духовное не существует само по себе, в ещё меньшей степени это обладает какой-либо ценностью вне государства. В этом смысле фашизм тоталитарен, и фашистское государство как объединение и унификация всех ценностей даёт толкование жизни всего народа… Вне государства не должны существовать ни индивиды, ни группы (политические партии, общества, синдикаты и классы)». В фашизме всё приносится в жертву идолу государственной силы. Характерная для западного национализма вообще политическая агрессивность достигает в фашизме крайней степени.
В то же время фашизм крайне враждебен либерализму, всем атрибутам «демократического» общества. Чтобы защититься от наступления либерализма, фашисты, с одной стороны, ищут опоры в народных традициях, с другой – используют методы тоталитарного политического режима. Фашизм, собственно, есть соединение национализма с тоталитаризмом.
Период подъёма и расцвета фашизма оказался очень недолог. В конкретных исторических условиях XX века фашистский режим Германии возник между двумя мощными мировыми силами – Западом и СССР, которые раздавили и уничтожили фашистскую империю в Европе. Бесчеловечная идеология и преступления германских нацистов совершенно дискредитировали эту систему в мире. Немецкий национализм был последней крупной силой в Европе, способной бросить вызов господству Запада. После его разгрома на европейском этническом пространстве остались только мелкотравчатые постсоветские националистические режимчики, которые Запад уверенно контролирует. Поэтому опасность возрождения фашизма в мире крайне невелика. Ещё более невелика она в России, получившей хорошую от него прививку в ходе Великой Отечественной войны, – иммунитета хватит надолго. Истерия по поводу угрозы фашизма в России искусственно нагнетается либералами в целях шельмования своих политических противников. Фашизм в современной России действительно присутствует; он появился здесь после крушения коммунизма как одна из разновидностей западного влияния, сопутствующая либерализму. Но в обозримом будущем развитие фашизма в России, как и во всём остальном мире, не превысит масштабов маргинальных политических сект.
Глава 26 «Правые» и «левые»
Вряд ли найдутся в политике другие какие-нибудь термины, столь часто употребляемые и столь же запутанные и неясные по смыслу, как классификация политических партий на «правые» и «левые». Со времени своего возникновения эти понятия в постоянном политическом обиходе, – их употребляют так привычно и уверенно, словно их смысл есть нечто абсолютно ясное и само собой разумеющееся. Но когда всматриваешься пристальнее, под давно привычной вывеской обнаруживается невообразимая путаница смысловых отождествлений.
Чтобы прояснить ситуацию, обратимся сначала к истории проблемы. Разделение на «правых» и «левых» возникло с появлением на политической сцене либерализма – первой массовой идеологии. Либерализм отстаивал права автономной личности и приоритет этих прав перед интересами общества и государства. Либералы требовали прежде всего «свободы»: свободы личности, свободы торговли и конкуренции, свободы от вмешательства государства в хозяйственную и частную жизнь. Они выступали против привилегий аристократии и церкви, против стеснительной регламентации и феодальных порядков, против произвола абсолютистского государства, за парламентское правление.
В ответ на вызов либерализма сформировалась идеология консерватизма, который защищал традиционные основы общественного устройства: иерархию, привилегии аристократии, религию и права церкви, сословность, наследственную монархическую власть. Консерваторы боролись против равенства, против неограниченной экономической свободы, против технократизма и рационализма либеральной идеологии. Идеи консерватизма были знаменем старых, привилегированных сословий, оттесняемых от власти буржуазией, прежде всего дворянства; но консерваторы искали опоры и среди беднейших слоёв народа, по головам которых шествовал свободный рынок и технический прогресс.
Таким образом, возникло противостояние консерваторов и либералов. Причём консерватизм сразу же стал отождествляться с «правым», а либерализм – с «левым» сектором политического спектра.
В дальнейшем «левый» сектор пополнился идеологиями социализма (социал-демократии) и коммунизма, которые требовали уже не только гражданских и политических прав, но также гарантий политических и социальных. Социализм и коммунизм отличались друг от друга не столько идеалами, сколько средствами и методами их достижения. Но, по общему мнению, те и другие были именно «левыми». Справа тоже произошли перемены. Феодально-аристократическая составляющая консерватизма к началу XX века заглохла вместе с падением значения потомственного дворянства, а её место занял национализм. Появились также «крайне правые» идеологии – фашизм и расизм.
Дальнейший ход политического развития привёл в настоящем примерно к следующей ситуации. Слева – коммунизм после краткого и бурного расцвета к концу XX века сходит с мировой политической сцены. Социал-демократия в целом отстояла свои позиции и в настоящее время занимает место главной «левой» идеологии. Либерализм всё время занимал какое-то промежуточное положение между «левыми» и «правыми», так что его могли относить и к «левым» – в странах с сильным «правым» политическим крылом; и к «правым» – там, где преобладали «левые». Кроме того, внутри самого либерализма нередко существовало разделение на «правых» и «левых». В целом либерализм заметно «социализировался»: ослаб его упор на индивидуальную свободу, значительно угас энтузиазм в отношении свободного рынка, – характерные для классического либерализма. Реформированный либерализм в качестве «неолиберализма» считает необходимым усиление государственного регулирования в экономической и социальной сферах для устранения негативных рыночных перекосов, оказание помощи наиболее обездоленным слоям населения. Неолибералы выдвинули идею «плюралистической демократии»: принятие политических решений на основе учёта интересов всех слоёв общества, строгое соблюдение всех демократических норм, равноправное положение представителей всех слоёв и форм собственности.
Но особенно интересна эволюция «правой» части политического сообщества. Ныне «правые» на Западе представлены прежде всего так называемыми неоконсерваторами. Неоконсерватизм сохраняет такие традиционные консервативные ценности, как семья, мораль, религия и т. д. В то же время он соединяет их с «классически либеральными» идеями отстранения государства от управления экономикой и социальной сферой, свободы рынка, конкуренции, частного предпринимательства. Но хотя консерваторы отвергают бюрократическое вмешательство в экономику, они выступают за всяческое укрепление властных функций государства в сфере права и охраны порядка. Выступая против уравнительных тенденций, они считают функцию политического управления уделом элитарных слоёв общества.
Итак, общепринятое разделение на «правых» и «левых» налицо. Где же критерий этого разделения? Он отнюдь не очевиден.
В самом деле, почему «правые» называют себя «правыми»? В наше время в России «правыми» считаются либералы – сторонники рыночных реформ, свободного рынка. Примерно такая же ситуация и на Западе. Но исторически свобода рынка – это «левая» ценность! В XIX веке тогдашние «правые» в Европе выступали за существенное ограничение рыночных отношений. Например, в Англии лозунг «свободы торговли» отстаивали либералы – «виги», а «правые» – «тори» защищали протекционизм. «Правые силы» в те времена стояли за государственную регламентацию производства и торговли, ограничение рыночного оборота земли (майораты и церковно-монастырское землевладение). Можно констатировать, что по проблеме свободного рынка и государственного регулирования между «правыми» и «левыми» на Западе произошёл обмен идеологическими установками. Если при возникновении данного разделения «правые» защищали вмешательство государства и меры ограничения свободного рынка, то теперешние «правые» – за всяческое сокращение государственного вмешательства и рыночную свободу; «левые» же, соответственно, наоборот. Значит, если в разделении на «правых» и «левых» есть какой-то постоянный смысл, то не проблема рынка, не проблема экономической свободы лежит в его основе.
Есть веские основания считать, что в обыденном сознании «правые» часто ассоциируются с правящими, социально господствующими классами; а «левые» – с низшими, угнетёнными слоями общества. Если так – тогда понятно, почему «правые» всегда были «государственниками» в сфере охраны порядка, – ведь это необходимое условие уверенного пользования материальными благами. Понятно также, почему «правые» до конца XIX века были противниками свободного рынка, а затем превращаются в «рыночников»: до конца XIX века господствующим привилегированным классом было дворянство, интересы которого коренились в земельной собственности, а не в рыночной сфере; с развитием капитализма правящим классом становится буржуазия, и отношение к рынку со стороны «правых» резко меняется. Всё это так. Но в таком случае подразделение на «левых» и «правых» не имеет идеологического смысла.
А кроме того, есть основания утверждать, что «правые» (во всяком случае, старые «правые» – образца XIX века) защищали интересы не только привилегированных, но отчасти и угнетённых слоёв тоже. Вспомним о том, что социальное рабочее законодательство в Англии было делом правых – «тори». Да и попытки «феодальной реакции» отстоять церковные земли от секуляризации и введения в рыночный оборот тоже объективно защищали интересы беднейшего крестьянства и множества социально опустившихся людей, кормившихся на церковных землях и от доходов церкви. Буржуазия, экспроприировавшая владения церкви, оставляла их без куска хлеба. Эти беднейшие слои составляли реальную политическую базу «правых» на юге Европы, опираясь на которую «правые» без труда подавляли многочисленные либеральные заговоры и мятежи.
Существует ещё одно довольно распространённое отождествление «правых» и «левых» с консерваторами и реформаторами: «правые», как считается, – консерваторы, т. е. сторонники сохранения существующих социально-политических порядков, учреждений, институтов; «левые» же – сторонники реформ и прогресса. Помнится, в начале «перестройки» коммунистов именно в этом смысле нередко именовали «правыми», а «демократов» – «левыми». Но с тех пор как последние пришли к власти, роли поменялись; ныне уже «демократы» – «правые», а коммунисты заняли своё традиционное место на левом фланге. И в этом очевидное слабое место данного толкования. Стоит реформаторам прийти к власти, как они вскоре сами становятся консерваторами. Ни о каком устойчивом идеологическом смысле противопоставления «правых» и «левых» здесь и речи быть не может.
Таким образом, при ближайшем рассмотрении сущность данных понятий постоянно ускользает. Впору отчаяться, опустить руки и объявить, что они вообще лишены какого-либо постоянного смысла. К такому выводу пришёл, к примеру, известный русский философ-либерал С. Л. Франк. Он выразил мнение о том, что понятия «правого» и «левого» сложились как более или менее случайные комбинации определённых противостоящих друг другу признаков, которые на каком-то историческом этапе отражали реальное общественно-политическое противостояние, а затем распались; что это деление устарело, не отражает современную проблематику и продолжает господствовать лишь по инерции, «проще говоря – по недомыслию»[91].
Категория «этноса» позволяет и в данном случае найти выход из тупика, проникнуть в глубинный смысл разделения на правое и левое в политике, определить его ясно и недвусмысленно.
Прежде всего, следует обратиться к традиционному мифологическому, т. е. этническому по своей природе, сознанию. Левое и правое – одно из главных мифологических противопоставлений. В восприятии большинства этносов, в том числе индоевропейских народов, «левое» ассоциируется с «отрицательным», а «правое» – с «положительным». Хотя в мифологии многих племён Африки и Америки существует обратное отношение. Если выстроить ряд противопоставлений, связанных с правым и левым в традиционном этническом сознании, то получится примерно следующее[92]:
Таким образом, применительно к этносу понятие «правого» соответствует положительным жизнеутверждающим ценностям сознания, а «левое» – всему негативному.
Теперь попробуем навести мостик от сферы этнического сознания к политике. Наиболее устойчивым синонимом «правого» является «консерватизм», – эти два термина постоянно сопутствуют с момента их появления в политической жизни. Мы уже отметили, что консерватизм социально-политических учреждений и институтов не может служить основой понятия «правого». Если под «правым» подразумевается существующий режим, сгнивший внутренне, в котором правящие слои лицемерно апеллируют к традиционным ценностям лишь для поддержания своего господствующего положения, – то, пожалуй, именно «левые», разрушающие этот паразитический строй, больше отвечают этнической правде.
Но если предположить, что речь идёт не о консерватизме сложившихся исторических форм, а о консерватизме духовных ценностей, то это меняет дело. Духовные ценности народа имеют долговременный характер и не связаны жёстко с теми или иными конкретными социальными учреждениями. В различные исторические эпохи они могут выражаться различными способами. Консерватизм духовных ценностей имеет целью сохранить неизменное духовное ядро в меняющейся исторической обстановке. Такой консерватизм совсем не обязательно «консервирует» сложившиеся социальные и политические институты. На определённом этапе развития общества последние могли вполне соответствовать своему предназначению – служить установлению оптимального социально-политического порядка согласно с духовными воззрениями народа, могли быть вполне адекватны текущей ситуации, – но с течением времени неизбежно устаревали, превращаясь в препятствие к своей изначальной цели, в паразитический нарост на теле народа. Так, крепостное право в России изначально возникло для того, чтобы обеспечить материальными средствами государственных слуг для исполнения ими своих служебных обязанностей. Но с освобождением дворянства от обязанности государственной службы крепостничество потеряло своё морально-правовое оправдание. В XIX веке этот средневековый институт использовался для буржуазной эксплуатации крестьян помещиками, стал носить паразитический характер. И слом этого паразитического строя вполне соответствовал принципам духовного консерватизма, если уж невозможно было наполнить его прежним содержанием. Причём духовный консерватизм вступил здесь в противоборство с консерватизмом формальным, отстаивавшим, по сути, только привилегии помещиков.
Консерватизм всегда пытался противопоставить рационализму либералов опору на «органически» сложившиеся структуры, а всё органическое в жизни общества имеет этническую основу. В отличие от других идеологий консерватизм имеет чисто формальный характер, – содержание в него привносит этнос. Ведь все духовные ценности народа имеют этническое происхождение; не только «национальные», «державные» традиции, но и ценности семьи, брака, религии, труда, собственности, порядка – всё то, что отстаивает консерватизм, – неизбежно этнически окрашены. Духовные ценности нации – суть ценности этнической культуры, продукты этнического сознания. Духовный консерватизм отстаивает оригинальность культурного лица своего народа, свободу его жизненных проявлений, продолжение его существования.
Традиционными противниками консерваторов выступали либералы, а затем и социалисты – «левые». Из всех ассоциаций, которые сопутствуют в политике «левому», главной и непременной является «свобода»; нередко к ней прилагается также «равноправие», «равенство» (лозунги либерально-буржуазной Французской революции). Различие среди «левых» идеологий только в степени этой «свободы» и в сфере распространения «равенства». Либерализм акцентирует внимание на «свободе», а социализм – на «равенстве». Причём, принципиально, пределов им не полагается: в либерализме – для свободы индивидуума, так как человеческая личность превыше всего; в социализме – для равенства, поскольку равенство, тождественное справедливости, здесь есть высшая ценность. Но что такое эта «свобода» и это «равенство»? «Свобода» в либерализме – это свобода от всех стеснений, от всех рамок, от всякой иерархии. Правда, либералы не делают последних выводов из своих посылок, останавливаются на полпути, стесняя из прагматических соображений индивидуальную свободу искусственными законами. Но, конечно, подобные условности не могут остановить человека, и за них эти выводы делают более последовательные собратья либералов из «левого» лагеря – анархисты, которые доводят либеральную идею до логического конца. А поскольку этническое сознание всегда иерархийно, то либерализм выражает тенденцию для этноса разрушительную. Свобода здесь – это свобода атомизированного существования, избавленного от включённости в какую бы то ни было иерархию. И социалистическое равенство достижимо лишь при подобной «свободе», как равенство свободных атомов. В любой иерархичной структуре атомы займут совершенно различные («неравные») положения. Это отношение «свободы» и «равенства» наглядно демонстрирует подлинное генетическое родство либерализма и социализма, при всех их внешних шумных разногласиях.
Подведём итоги. Левые (теперь мы можем писать этот термин без кавычек) принципиально антагонистичны этносу и этнической культуре, а правые принципиально привержены этнической культуре и традиции. Для правого, пассионарного сознания отношение к существующему социально-политическому порядку определяется степенью соответствия его этническому идеалу. Обскуранты относятся к существующему порядку положительно или отрицательно в зависимости от того, какое место они в рамках его занимают: принадлежат ли к господствующим материально обеспеченным верхам («эксплуататорам») или к обездоленным низам («эксплуатируемым»).
Во избежание недоразумений необходимо сразу же оговориться, что наш вывод о содержании различия правого и левого в политике имеет теоретический, умозрительный характер. Мы установили действительную основу для противопоставления истинно правой и левой идеологий. Но это ещё ничего не говорит об идеологической физиономии «правых» и «левых» партий в реальной политической жизни, – насколько «правые» партии причастны истинно правой идее – и, соответственно, о содержании идеологии «левых» сил. Но теперь, опираясь на полученные выводы, можно установить, какой в действительности характер имеет та или другая идеология – правый или левый и насколько последовательно проводится определённая линия каждой конкретной политической силой.
Возьмём, к примеру, победно шествовавший на Западе с конца 70-х прошлого века неоконсерватизм. Что касается его декларативной опоры на традиционные институты – семья, школа, церковь, – это, конечно, элементы правой идеологии. Также правый характер имеет стремление к укреплению законного государственного порядка (ценность порядка присутствует в сознании любого этноса), равно как и придание общественной структуре некоторой иерархичности. А вот лозунг свободы рынка и конкуренции, стремление превратить экономику в сферу исключительно частного интереса, вытеснить из неё общество и государство, имеет совершенно другую природу: изначально это левая, либеральная идея. Система свободного рынка, отрицающая вмешательство государства, есть идеология атомизированного обскурационного общества. Она отрицает реальное существование народной целости, этноса и выводит его за скобки экономической жизни. А поскольку именно свободный рынок занимает центральное место в идеологической программе неоконсерваторов, то мы вправе сделать вывод, что это идеология не столько правых, сколько правящих буржуазно-олигархических слоёв, которым свободный рынок материально выгоден. По этой же причине здесь возникает лозунг укрепления государственной власти. Крепость государства нужна этим «правым» лишь для охранения привилегированного положения класса богатых.
Так же как и в среде «правых», далеко не все идеологические положения «левых» партий имеют левый характер. Полное социальное равенство (имущества, доходов, положения) есть очевидная утопия, а при попытках воплотить её в действительность – утопия разрушительная. Очевидно, что это чисто обскурационная идея. Однако социальное равенство – до определённого предела, в каких-то лишь определённых отношениях – является непременным условием существования всякого стабильного общества. Например, требование жизненного минимума для всех: каждый имеет право на кусок хлеба, крышу над головой, на тёплый очаг в зимнюю пору, на больничную койку и лечение в случае болезни. Всякая этническая община признаёт такие права за каждым своим членом, при условии, что и он оказывает ей посильное содействие (или лишён такой возможности). Некоторые дополнительные расходы при этом оборачиваются куда большими прибылями; люди, уверенные в обеспеченности своего существования, с доверием относятся к своему обществу, свободно поддерживают его и щедро дарят ему плоды своего труда. Возможность получения образования и дальнейшего карьерного роста для талантливых выходцев из социальных низов выгодна не только для них самих, но позволяет и всему обществу пользоваться плодами их энергии и талантов. Таким образом, требование «левых» обеспечения жизненного минимума для социальных низов носит вовсе не левый, а правый, этнический характер. Важно лишь не переборщить в подобных требованиях, – чтобы это был действительно достаточный минимум, а не претензия на незаслуженное излишество, обременительное для других граждан, за счёт труда которых оно будет обеспечиваться. В противном случае такая претензия приобретает уже левый, обскурационный, паразитический характер.
Столь же левый, обскурационный характер имеют претензии абсолютного преобладания личности над государством и обществом или государства над личностью. Требование, чтобы государство было служанкой личности, совершенно несостоятельно, поскольку государство существует, главным образом, для защиты общественного, народного права и интереса («блага общего»). Прямая обязанность государства – защищать прежде всего благо и достояние нации в целом, а не индивидуальной личности. А поскольку общественный, этнический момент – один из важнейших аспектов существования личности, то через защиту общего блага государство служит и индивидууму, защищает его права (но служит не напрямую, как требуют либералы, а опосредованно). Претензия же подчинения общественного органа, государства, индивидуальной личности является совершенно разрушительной, ибо в этом случае потребности одного индивидуума (более энергичного и нахрапистого) будут удовлетворяться за счёт других индивидуумов данного общества, – что разрушает сам принцип общественного устройства и цельность коллектива. В конечном счёте такая идеология всегда приводит к тирании, что находит конкретное выражение в диктатуре отдельного индивидуума – Гитлера, Сталина, Наполеона – над всеми и каждым. Все периоды расцвета либерализма и «прав человека» как раз и заканчивались подобными тираниями.
С другой стороны, столь же обскурационен и тезис полного подчинения личности государству. Государство призвано для обеспечения общих интересов. Но ведь общество, интересы которого оно обязано обслуживать, есть общество личностей. Значит, подчинение индивидуума государству может простираться лишь до того предела, пока не ставится под угрозу статус индивидуума как личности. Когда государство эту границу переходит, оно теряет оправдание своего существования. Такое государство действует в направлении противоположном своему назначению, а стало быть, подтачивает основы собственного существования и устремляется к своему крушению.
Положительная правая идеология подразумевает не абсолютное подчинение чего-то кому-то, а самостоятельное существование личности, общества и государства – их сосуществование в отношениях определённого равновесия и взаимной поддержки.
Вернёмся к свободе экономики и рыночных отношений. Если обратиться к реалиям истории и этногенеза, то только в США имеются какие-то основания рассматривать экономическую свободу в качестве консервативной ценности. То, что США изначально были обществом свободного предпринимательства, является одним из мифов американского национального сознания. Так ли было дело в действительности – вопрос спорный (тут можно припомнить и тариф Мак-Кинли и много ещё чего). Но, в конце концов, для этнонационального сознания реальностью является особая мифологическая реальность. А потому, с оговорками, можно признать для Америки идеологию свободного рынка в качестве консервативной. Однако признать её таковой для Европы совершенно невозможно. На протяжении всего существования Европы экономическая деятельность в ней самым серьёзным образом регламентировалась. Даже в Англии – самой либеральной стране Европы сельское хозяйство находилось под защитой государства вплоть до конца XIX века, а промышленность ещё гораздо дольше. Что говорить о других европейских странах, где экономической свободы было гораздо менее. Экономическая свобода прогрессирует лишь по завершении активного периода существования европейских этносов, во времена торжествующей обскурации.
«Неоконсерватизм» в Европе – это уже совсем не правая идеология, а идеология обскурации и обскурантов, признак этнической деградации и американизации Европы. То же самое и в России, где одна из самых левых партий – так называемый Союз правых сил. Стержнем идеологии этого союза является всё та же свобода рынка, – что является таким же признаком западнизации и обскурации, как и в Европе. Никаких корней в русской национальной традиции «рыночные ценности» не имеют. Да и вообще, данная партия явно враждебна национальной традиции России, как и прочие близкие ей по духу «демократические» силы. О семье и религии, которые отстаивают (хотя бы декларативно) «правые» на Западе, у российских «правых» нет и помина.
Американизация – вестернизация – западнизация мира… Не здесь ли собака зарыта? Негативная обскурационная идеология рыночного либерализма становится «правой» вместе со становлением системы Запада в качестве господствующей мировой силы. Ну конечно! Так оно и должно быть! Мы выяснили, что есть правое и левое в этнической психологии, по законам положительной этносистемы. Но ведь в лице Запада мы имеем дело прежде всего с антисистемой, в рамках которой все законы и ценности этноса извращаются и переворачиваются, ставятся с ног на голову! В рамках этой особого рода структуры духовный порядок, присущий положительной системе, переиначивается шиворот-навыворот, задом наперёд и кверху ногами; чёрное становится белым, а левое – правым. Для людей, принимающих новый порядок ценностей, установленный западной антисистемой, правое и левое меняются местами, и теперь уже негативная идеология – плод обскурационного сознания становится «правой».
Но поскольку реальный Запад представляет собой пока ещё химеру, смесь этноса и антисистемы, то и в идеологию «правых» в странах Запада вкрапливаются истинно правые элементы – наследие угасающей этнической культуры Европы. Такую же мешанину элементов различного происхождения представляет собой и идеология западных «левых». Собственно говоря, деление на «правых» и «левых» в рамках западной антисистемы теряет всякий идеологический смысл, что и понятно, – в обществе обскурантов господствует не идеология, а эгоистический интерес. Противостояние «левых» и «правых» эволюционирует, по своему характеру, из идеологического в прагматическое и утилитарное: «правые» – защитники интересов крупных собственников, имущей социально господствующей олигархии; «левые» – представители неимущих, социально угнетённых низов. Между ярко выраженной «правой» и «левой» крайностями колыхается аморфная масса, именуемая «средними слоями», примыкающая в зависимости от текущей ситуации то к одним, то к другим.
Посредством инструментария теории этногенеза, полагаю, нам всё же удалось рассеять идеологический туман, усердно сгущаемый современными средствами массовой информации, в частности прояснить истинные значения понятий. Итак, в мире существуют две системы координат – этнос и антисистема, в каждой из которых присутствует подразделение на «правое» и «левое». Конкретное значение этих понятий зависит от того, в какой именно системе координат их рассматривать. В системе этноса в основе «правого» лежит пассионарное утверждение этнонациональных ценностей, а «левого» – обскурационная идеология нигилизма, отрицающая эти ценности и само существование этноса. В антисистеме характер противопоставления «правого» и «левого» существенным образом меняется: то и другое представлено различными вариантами негативного обскурационного мировоззрения, водораздел между которыми пролегает по принципу утилитарной житейской выгоды. Впрочем, доколе Запад не утратит выраженной химерной природы, идеологии «правых» и «левых» в реальной жизни будут оставаться пёстрым смешением этнических и антисистемных элементов в различной пропорции.
Глава 27 Тоталитаризм – судьба Запада
Определение тоталитаризма должно быть коротким и немногословным, для чего нужно взять коренное его свойство, составляющее самую сущность данного явления. Даваемые западной политической наукой развёрнутые определения с перечислением многочисленных признаков (взять хотя бы известное определение Бжезинского) неизбежно страдают привязкой к реалиям конкретных исторических режимов. Примем в качестве определения примерно следующее: тоталитаризм – это общественное устройство, при котором государственная власть произвольно вмешивается во все без исключения сферы существования человеческой личности, стремясь установить над ней абсолютный контроль.
В западной науке тоталитаризм ассоциируется с коммунистическими и фашистскими режимами. Действительно, практика этих режимов полна систематическим и грубым попранием прав личности и говорит сама за себя. Да и сама концепция тоталитаризма впервые сформулирована именно фашистскими идеологами. Суть её кратко обобщил Муссолини: «Всё в государстве, ничего вне государства, ничего против государства».
С другой стороны, на Западе декларируется полная противоположность тоталитаризму западного строя – «демократии». Описания западными идеологами этой противоположности исполнены скрытого комизма, тем более что авторы, кажется, его не замечают. Ирония состоит в том, что большинство характеристик, даваемых «тоталитаризму», в той или иной степени вполне приложимы к «демократическому» обществу, с которым тоталитаризм якобы совершенно несовместим.
Но откуда, собственно, взялось убеждение, что «демократия» (т. е. либеральная система, существующая на Западе) и тоталитаризм полностью несовместимы? Разумеется, отличия западной системы от режимов, именуемых тоталитарными, всем известно и бросается в глаза. Но нет ли при всём при этом у них какой-то общей точки?
Связь между либерализмом и тоталитаризмом, несомненно, существует, – чтобы её обнаружить, требуется не так уж много наблюдательности. Всем известным тоталитарным режимам предшествовало общество весьма либеральное: в Германии фашизм стал преемником очень демократичной Веймарской республики; в России диктатура коммунистов пришла на смену «самой свободной в мире» Февральской республике, да и дореволюционное общество царской России было, по сути, очень либерально. Является ли подобная последовательность политических режимов случайностью? Вряд ли.
Причины возникновения тоталитарных режимов сводятся западной политической мыслью к двум основным факторам. Первый заключается в особенностях культурно-исторических традиций: считается, что тоталитаризм возникал в странах с неразвитой, слабой демократической политической культурой, – в Германии и России традиционно царили авторитарные порядки, институты гражданского общества были слаборазвиты, ещё не укрепились, – вот они и стали жертвами тоталитаризма. Отсюда успокоительный для западных либералов вывод, что в странах с давними и прочными либерально-конституционными традициями ничего подобного произойти не может.
Данный вывод подкрепляется ещё тем соображением, что тоталитаризм есть просто следствие неумелости политических деятелей, неумеренного применения «инструментария социальной инженерии». Дескать, в кризисной ситуации, в которую попали означенные страны, их правящие политические силы не смогли найти верных решений; стали решать проблемы силовыми методами, тогда как можно было обойтись и без таких крайностей, что и было продемонстрировано рядом демократических стран (США, страны Скандинавии и т. д.). Это прагматически-волюнтаристское объяснение также весьма успокоительно для либералов-западников: делай только всё «правильно» – и от тоталитаризма ты гарантирован.
Между тем философия либерализма не содержит каких-либо серьёзных препятствий для тоталитарных выводов. Либералы много рассуждают о правах и свободах личности, но в отсутствие реальной объективной опоры эти права повисают в воздухе. Бентам с полным основанием высмеял концепцию «естественных и неотчуждаемых» прав личности, для которой в рамках субъективной философии либерализма нет никакой основы. А раз так, то вся философия и практика либерализма по необходимости становится философией и практикой компромисса, бегства от крайностей. В благоприятных условиях такая политика может приносить удовлетворительный результат. Но в кризисные периоды почва для компромисса резко сужается, и логика развития событий устремляется в крайнем направлении. Вот почему перерождение либеральных систем в тоталитарные – не случайность; моральный и правовой релятивизм Бентама в такие периоды приводит к тоталитарному Левиафану Гоббса.
Либерализм – идеология обскурантов, не связанных друг с другом никаким объективным положительным содержанием. Общество либералов лишено органических этнических связей. А ведь только связь органическая является для личности свободной связью, поскольку означает зависимость от того, что по природе тебе не чуждо, что составляет неотъемлемую часть твоей личности. Только такую зависимость личность поддерживает свободно и без принуждения.
Зависимость механическая, в отличие от органической, по необходимости оказывается рабством, как зависимость от абсолютно чуждого для личности предмета. В отсутствие органической связи обскурантское либеральное общество может быть скреплено лишь механическими связями, которыми только и можно удержать хоть в каком-то порядке хаотически перемещающиеся свободные атомы – человеческие индивидуумы. Любая зависимость в таком обществе воспринимается человеком как чуждая и рабская, а потому он, разумеется, стремится освободиться от всякой зависимости. Поэтому личность в обскурационном обществе приходится принуждать к поддержанию зависимости теми или иными насильственными способами: физическим принуждением или насилием пропагандистского идеологического обмана.
В механизме, как известно, каждая отдельная часть («винтик») должна выполнять строго предписанную функцию и никакие вольности ей не разрешаются. Если отдельные винтики, гайки, шпонки начнут выкидывать разные фортели (вести себя свободно и независимо), это нарушит отлаженную работу механизма; он может вообще разлететься ко всем чертям. Общественное объединение на основе только механической связи является абсолютным тоталитаризмом. Государство просто вынуждено становиться над обществом и личностью во избежание анархии и хаоса (Гоббс), ведь «война всех против всех» – точная характеристика общества этнических обскурантов.
Либералы хотят построить общество исключительно на отношениях контракта: наёмная армия, наёмный бюрократический аппарат, наёмный депутатский корпус, наёмная свободная пресса, наёмная честная полиция и т. д., – которые за хорошее вознаграждение будут эффективно обслуживать свободного гражданина.
«Общество по контракту» есть такая же утопия, как и коммунистическое общество, где каждый получит «по потребности». Общество и государство не способны стоять только на контракте хотя бы уже по той очевидной причине, что потребности людей безграничны; они неизмеримо больше, чем ресурсы общества, чем любое возможное вознаграждение за труд. Поэтому никакое материальное вознаграждение не способно полностью удовлетворить запросы работника. И если зарплата – их единственный интерес, – то одни, по возможности, всегда будут брать взятки, торгуя своими служебными полномочиями; другие отлынивать от работы, если это можно сделать без ущерба для заработка. А всё это вместе взятое ставит крест на эффективности общественного механизма.
Из несоизмеримости потребностей людей и реальных возможностей их удовлетворения следует, что никакое общество не существует только на отношениях найма и материальной выгоды. Для существования государства и общества всегда были необходимы бескорыстные жертвы его граждан: дары любви, верности, преданности – своей державе, своему народу, своей общине, своей семье, своему господину, наконец. Гарантия честного и добросовестного выполнения человеком своих обязанностей не в большом окладе, а в личном отношении к предмету труда или службы. Если человек любит своё дело, он будет хорошо и творчески работать за любое минимально приемлемое вознаграждение. Таможенник Верещагин не брал мзды не потому, что получал большое жалованье, а потому, что служил своей Русской державе. Бескорыстная служба чиновника, добросовестное отношение к своим обязанностям служащего возможны, лишь когда человек способен испытывать чувства любви и верности к чему-то вне своей индивидуальности и когда он эти чувства действительно испытывает.
Когда бескорыстная жертвенность из общества исчезает и остаются только голая выгода и «контракт», то государство разъедается повальной коррупцией, а гражданский коллектив распадается при всеобщей апатии и эгоизме. В обществе либеральном жертвовать некому, нечему и незачем: народность упраздняется, а в Бога не верят. И раз «человек – высшая ценность», то каждый сам для себя и становится высшей ценностью. Существование общества только на принципах либерализма невозможно. Для своего реального существования либерализм должен обязательно подпитываться какой-то внешней, посторонней энергией. Либерализм есть паразит по натуре.
Существует лишь один способ построить общество либерального индивидуализма без жертвенного дара – это полный абсолютный контроль. Если человек более не жертвует бескорыстно и добровольно свою энергию для поддержания общественно-государственного порядка, – то единственный способ мобилизовать необходимые государству энергетические людские ресурсы и пресечь злоупотребления – тотальное насильственное принуждение, постоянный контроль и полная прозрачность жизни и деятельности человека. Таким образом, либеральные принципы осуществимы лишь тоталитарными методами. При исчерпании источников внешней энергетической подпитки (этнос) либеральная химера неизбежно устремится к тоталитаризму.
Итак, либерализм – это, в конечном счёте, тоталитаризм (согласно Достоевскому, абсолютная свобода переходит в абсолютное рабство). Разумеется, нельзя отрицать наличия реальных свобод в современном обществе Запада и невозможно определить его как тоталитарное. Речь идёт не о настоящем моменте, а о тенденции развития. Необходимо отличать процесс становления от предела становления – того положения, к которому этот процесс стремится.
Тоталитарные режимы возникают в периоды глубокого кризиса при отсутствии возможности выйти из него за счёт внешней экспансии. Поражение приводит к обрушению старого порядка, крайней либерализации и анархии, которые затем сменяются жёстко деспотическим строем. Вспомним Германию, где после поражения в войне установилась весьма либеральная система. В более или менее благополучные 20-е годы либеральные порядки ещё держались, но с приходом первого же серьёзного кризиса они сменились нацистской диктатурой. И в России диктатура коммунистов возникла после провала двух попыток прежней системы решить свои проблемы за счёт экспансии (на востоке и на западе). А после того как рассеялись надежды на «мировую революцию» и потерпели неудачу попытки распространить советскую систему за пределы России, внутренний режим был резко ужесточён. Успешная же экспансия в результате победы во Второй мировой позволила (хотя и не сразу) существенно его смягчить, – наступила «оттепель».
У системы Запада до сего времени сохраняются возможности для расширения. Но когда Запад исчерпает ресурсы экспансии, он попадёт в жёсткий кризис, в условиях которого его общественный строй резко изменит свой характер. Президенту Трумэну приписывают слова: «Весь мир должен принять американскую систему. Американская система может выжить, если только она станет мировой системой». (Под «американской» понимай западную.) Неважно, сказал это Трумэн или кто-то другой, но данное выражение не совсем верно. Следовало бы сформулировать так – западная система может выживать, пока она становится мировой системой; когда же она станет мировой системой – это будет её концом, в том смысле, что с этого момента совершенно изменится характер данной системы.
Свидетельством направления, в котором эволюционирует Запад, служат те существенные изменения, которые произошли в его структуре на протяжении второй половины XX века. Хотя возможности экспансии Западом в этот период и не были исчерпаны, но он сталкивался с серьёзным сопротивлением коммунистического блока, что поддерживало Запад в постоянном напряжении. А. Зиновьев указывал на тенденцию сближения системы Запада с системой «тоталитарного» коммунизма. Среди признаков такого сближения он назвал огосударствление партийной системы, формирование партийной номенклатуры («политический класс»); бюрократизацию сфер образования, науки и информации; усиление государственного регулирования экономической и социальной сферы. В сфере экономической развивается тенденция, которая состоит в том, что действительным собственником становится не тот, кто формально ею владеет, а тот, кто реально этой собственностью распоряжается, кто осуществляет властные функции в процессе производства. Происходит бюрократизация крупного бизнеса. Реальная собственность становится неотделима от власти, от статуса. А ведь деперсонификация собственности, становление собственности-власти является характерной чертой деспотических режимов.
В сфере политической происходит образование неформальных институтов сверхвласти (аналог верхушки компартии). Система государственной власти представляет собой огромное число людей и учреждений. Она сама нуждается в управлении. Этим и занимается структура сверхвласти, которая есть неформальный орган, не имеющий официального статуса. Система сверхгосударственной власти абсолютно недемократична, её деятельность находится за пределами публичной гласности. «Тут вырабатывается особая „культура управления“, которая со временем обещает стать самой деспотичной властью в истории человечества».
Зиновьев подчёркивает устойчивость данных изменений: созданный в ходе холодной войны мощный военно-силовой и политико-пропагандистский аппарат нимало не демонтируется, потому что он необходим для удержания завоёванных позиций (и дальнейшего наступления). Но подобный аппарат – характерная особенность тоталитарного общества.
Особо следует отметить создание Западом мощной системы средств массовой информации, которой не имеется аналогов в истории по степени её влияния на людей, по изощрённости, всеохватности этого влияния, по его интенсивности. Пропагандистские системы «тоталитарных» режимов были несравненно слабее этой «информационной империи», как называют массмедиа на Западе, подчёркивая совершенно недемократический характер этой структуры. Средства массовой информации не столько услужливо снабжают население необходимой ему информацией, сколько служат инструментом властвования над умами и душами людей. И власть эта носит вполне деспотический характер. Информация, поставляемая массмедиа, тщательно отбирается в соответствии с теми или иными установками, дозируется, контролируется, редактируется, сообщения подаются в нужном ракурсе и контексте. В эфир нередко выдаётся заведомо ложная информация, а неугодная замалчивается.
Западный информационный империализм осуществляет влияние, которое не просто значительно превосходит всё доселе существовавшее по интенсивности, но имеет качественно иной характер, – современные технические достижения позволяют влиять не только на сознание, но и на подсознательный уровень. И возможности подобного манипулирования непрерывно растут с совершенствованием техники и технологии СМИ. Западный тоталитаризм проникает в человека гораздо глубже и осуществляет гораздо большее насилие над личностью, чем все предшествующие тоталитарные модели, – ведь они пытались установить только внешний контроль, не претендуя на сферу подсознания. Если в деспотиях восточного типа люди мирились с внешней зависимостью от государственной власти при сохранении своей внутренней свободы и реальной бытовой свободы в повседневной жизни (даже в случае посягательства на эти свободы древние деспотии не имели технических возможностей их подавить), – то деспотия Запада посягает на внутреннюю свободу личности и имеет для этого соответствующие технические средства. Вполне возможна и ликвидация даже бытовой свободы человека: совершенствование микроэлектронных и компьютерных технологий делает это вполне осуществимым. И соблазн использования таких возможностей слишком велик, чтобы не было сделано попыток реализации.
Причина появления тоталитаризма – нарастание этнической обскурации в условиях истощения мирового процесса этногенеза. А коли так, тоталитаризм – не случайность, а явление закономерное и неизбежное. Возникновение тоталитаризма в формах коммунизма и фашизма можно считать лишь первыми и грубыми его опытами. Тоталитаризм в формах коммунизма и фашизма уже дискредитирован и не сможет возродиться в том же виде. Новая его попытка последует уже в другой форме. Фашизм и коммунизм – лишь предвестники гораздо более изощрённых форм тоталитаризма.
Из формально типологического тождества трёх ведущих новоевропейских негативных систем – либерализма, социализма и национализма – напрашивается определённый вывод. На примерах последних двух видно, что в кризисной ситуации негативная система в целях выживания соединяется с тоталитаризмом. Социализм и национализм уже сделали свои попытки, их тоталитарные режимы уже рухнули. Следует ожидать подобной же попытки в соответствующей ситуации и от третьей оставшейся негативной системы.
При первом своём появлении тоталитаризм имел явный, очевидный характер, – энтузиазм новизны привёл к официальному его провозглашению. Однако это вовсе не обязательно. Потерпели поражение открытые формы, – тоталитаризм явится в скрытой, неявной форме. Все эти «признаки тоталитаризма», даваемые западной политологией, – ерунда.
Наличие массовой правящей партии с официально закреплённым статусом, единая официальная идеология, культ вождя и проч. – всё это необязательные признаки, конкретные формы, порождённые определённой исторической ситуацией. Они могут ещё и возродиться с некоторыми модификациями, но суть не в них. Тоталитарная власть может осуществляться не официальной партией, а скрытой от глаз группой олигархии; духовное единство может достигаться не грубым навязыванием официальной идеологии, а скрытой манипуляцией человеческим сознанием; такой же неявный характер может иметь централизованное управление экономикой через концентрацию и монополизацию капиталистической олигархией мировых финансовых ресурсов; «невидимый» характер способен принять и террор правящей элиты против недовольных руками тайных спецслужб.
Неявный характер тоталитарных институтов вполне соответствует общему характеру химеры Запада, и до падения этой господствующей в мире силы они будут существовать именно таким образом. Лишь после крушения либеральной химеры тоталитаризм, отбросив остатки «демократии», вновь явится «весомо, грубо, зримо» и уже во всемирном масштабе.
Глава 28 Россия
Россия – одна из самых молодых суперэтнических систем мира, образованная великорусским этносом на ранней стадии его этногенеза. Поэтому великорусский этнос явно доминирует в системе на протяжении первых веков существования этнической системы. История России XVI–XX веков есть, по преимуществу, история великорусского этноса.
Великорусский этнос возник предположительно в начале XIII века на финно-балто-славянском субстрате Северо-Восточной Руси. Этнический толчок произошёл в западной части междуречья Волги и Оки, где и протекал ранний этногенез великорусов.
Место рождения великорусского этноса располагалось в пределах этнической системы (Древней) Руси. В момент великорусского этнического толчка древнерусский этнос переживал стадию перехода из фазы надлома в фазу инерции, т. е. был ещё достаточно силён. В таких условиях новорождённому этносу была уготована участь пребывать разве что на субэтническом уровне древнерусской системы. Существовала вероятность, что он уже в зачаточной стадии этногенеза мог быть поглощён более сильным и развитым соседом – суздальским субэтносом древних русичей. Заметим, кстати, что великорусов (москвичей) следует отличать от русичей-суздальцев. Последние представляли собой этнос, возникший раньше великорусов и находившийся всецело в древнерусском этническом поле. Месторазвитием суздальского субэтноса была центрально-восточная часть Волго-Окского междуречья, восточнее великорусской изначальной области. Территория суздальцев была самой благоприятной для хозяйственного освоения частью Северо-Восточной Руси, сюда и устремились первоначально потоки славянских поселенцев.
Однако историческая буря, разрушившая плавное течение древнерусской жизни, властно изменила судьбу юного этноса. По Руси прокатилось опустошительное монголо-татарское нашествие, нанёсшее ей громадный урон – материальный, культурный, политический. С точки зрения этногенеза самым значительным результатом нашествия были надрыв и долговременный упадок пассионарных сил древнерусского этноса, – ведь большая часть самых храбрых и патриотичных русичей полегла в боях с агрессорами. Да и в дальнейшем пассионарные силы Руси были постоянно придавлены подавляющей мощью Орды, под власть которой она надолго попала.
Но это же существенное ослабление древнерусского этноса открыло перспективы новому этногенезу. Теперь этническое поле Древней Руси не представляло серьёзной помехи для развития великорусского этноса. Девственное природное пространство в пределах русской этнической системы хранило потенциальные варианты нового этногенеза. Один из них реализовался и стал собирателем разбросанных русских сил, достойно ответив на вызов разрушительного удара извне.
В то время как ордынцы подавляли редкие восстания и постоянное недовольство в старых русских центрах, новый этнос поднимался тихо и незаметно, до самого конца XIII века не привлекая к себе излишнего внимания. Месторазвитие его было благоприятно для роста в сложившейся на Руси ситуации. Достаточно плодородные почвы и густые леса давали средства к существованию местным жителям и укрытие во время набегов. Соседние русские княжества прикрывали эти земли от ордынских нападений, принимая на себя первый удар, – так что множество народа отовсюду искало себе прибежище на западе междуречья. Это сбродное население пополняло растущий этнос, происходила быстрая концентрация людских и материальных сил вокруг этнического ядра. Центральным местом изначального великорусского этнического ареала являлся город Москва – он и стал естественным политическим центром поднимающегося этноса.
Уже в первые годы XIV века московские князья продемонстрировали свою возрастающую силу, захватив обширные владения соседних русских княжеств: Переяславль, Коломну, Можайск. Вскоре Москва добилась политического первенства среди всех княжеств Северо-Восточной Руси и уже не выпускала его из своих рук. Таким образом, скрытый период этнического подъёма окончился, и новая этнополитическая реальность предстала изумлённым взорам своих же русских соплеменников: «Кто думал-гадал, что Москве государством быти?!» А ещё через полвека Москва выступила как признанный лидер Восточной Руси, возглавила её и повела на Куликово поле.
Почти вся фаза подъёма великорусского этноса пришлась на эпоху ордынского ига, что провело глубокие черты в национальном характере великорусов и их политическом жизнеустройстве (далеко не всегда положительные). Воспитание в школе восточного рабства и деспотизма, полученное по воле исторической судьбы, сильно и надолго исказило природный склад великорусов. С другой стороны, дух восточного равенства охранил их от национального чванства, столь характерного для европейских народов, что позволяло легко вступать в контакт с другими народностями и налаживать с ними добрососедские отношения. Эта же тяжёлая школа выработала небывалую для народов европейского происхождения житейскую выносливость, помогавшую великорусам преодолевать все невыразимые тяготы своего существования и быстро восстанавливать силы после катастрофических срывов.
От других этносов древнерусской системы великорусы заметно отличались государственной выносливостью и политической сплочённостью вокруг правителя – государя, предрасположенностью к социальному равенству. Такие качества позволили им, единственным их всех народов славянского происхождения, создать великую державу. Именно великорусы из всех славян и «одни за всех» отстояли в исторической борьбе свободу, честь, достоинство и самостоятельность восточноевропейского славянского мира от многочисленных покушений его порабощения с запада и востока; утвердили культурную и политическую равноценность славян рядом с соседними европейскими народами, гордыми своей цивилизацией.
В этот же период произошли события, в результате которых молодой поднимающийся народ отныне и на всю оставшуюся жизнь получил свою национальную сверхидею. С падением Константинополя в 1453 году его мировая политическая роль и значение естественным образом переходят к России. И дело было даже не в династической связи, а в том, что Московское государство – Русь – после гибели Византии осталось единственной независимой православной страной. И притом страной великой по своим природным и политическим ресурсам – державой, в полном смысле слова. На её плечи теперь ложится миссия сохранения, защиты и утверждения в мире истинного христианства – православия. Из всех стран и народов это было под силу только России. Были и есть другие, кроме России, православные страны, но из их числа только Россия – держава. Существовали и существуют другие державы, но Россия – единственная из всех – православная. Соединение этих двух элементов и образовало великую русскую национальную идею – православной державности. Россия является единственным носителем этой идеи, которая составляет глубинное ядро оригинальной русской культуры и заключает в себе смысл существования Российского государства, – носителем преемственным и последним («Третий Рим»). Россия приняла на себя этот крест при рождении и будет нести его до конца своего государственного существования.
Превращение Московского княжества в Российскую державу произошло в заключительное 50-летие фазы великорусского подъёма (последняя треть XV – начало XVI века). Данный период почти целиком совпадает с правлением Ивана III Великого, а также включает начало правления его сына – Василия. Центральным событием периода было покорение Москвой Великого Новгорода. Присоединение к Москве его обширных северных и восточных колоний сразу же безбрежно раздвинуло рубежи великорусского государства. Они затерялись где-то в пустынях Ледовитого моря и за Камнем. Все прочие, прежде самостоятельные восточнорусские земли (Рязанская, Тверская и т. д.) также были присоединены к Русской державе в этот период.
Стремление объединить всё русское население в едином государстве было одним из главных великорусских этнических императивов. Московские князья совершенно ясно заявили об этой цели ещё тогда, когда далеко не располагали необходимыми для её достижения силами. Уже Семён Гордый в середине XIV века объявил себя государем «всея Руси». Иван III перешёл к практическому осуществлению задачи объединения Восточной и Западной Руси. Натиск великорусов на запад привёл к отвоеванию у Литвы обширных западнорусских территорий, население которых – потомки древних русичей – большей частью влилось в состав великорусского этноса. Самым ценным приобретением стал Смоленск, завоёванный государем Василием Ивановичем в 1514 году. Этнически особо близкие москвичам смоляне (по кривичскому племенному происхождению) уже вскоре вошли в ядро великорусской нации.
После взятия Смоленска продвижение России на Запад приостановилось. На помощь ослабевшей Литве пришла Польша, – совместными силами они отразили великорусское наступление. С другой стороны, на востоке, экспансия также застопорилась. Камнем преткновения здесь было сильное Казанское ханство – один из осколков Золотой Орды, обширная империя народов Поволжья и Приуралья во главе с тюркской знатью. Казанцы опирались на поддержку крымских татар и ногаев. Земли тех и других были в ту пору недосягаемы для русских войск, а их постоянные набеги сдерживали продвижение в плодородные южные степи.
С остановкой экспансии витальные ресурсы великорусов стали быстро истощаться. Державная политика Москвы требовала от народа большого напряжения сил, а черпались эти силы из скудных северных земель, которые кормили этнос не слишком сытно. Наступала эпоха надлома, первыми событиями которой явились жестокая борьба за власть между родственниками Василия III после его смерти и боярские смуты в малолетство Ивана IV. Этот первый период внутреннего кризиса завершился грандиозным народным бунтом в Москве (1547).
Правительству Избранной рады при молодом государе удалось справиться с кризисом. Общество было на время консолидировано вокруг венчанного на царство Ивана, а энергия этноса направлена на внешние завоевания. Мощным натиском ратных сил Москвы удалось сокрушить Казанскую державу. Эта победа имела величайшее значение в становлении России. В результате её все земли бассейна Волги вошли в состав Русского государства; русские прочно утвердились в Приуралье, усилилось влияние России в Сибири и на Северном Кавказе. Открылись необозримые перспективы продвижения и колонизации во всех направлениях на юг и восток.
Вхождение в состав Российской державы Среднего Поволжья существенно изменило её характер. Прежде она была однонациональной по составу населения – подавляющую его массу составляли русские. Лишь на севере, на необозримых пространствах тайги и тундры были рассеяны малочисленные финно-угорские племена. Теперь на территории государства проживало многочисленное разноплемённое население народов Поволжья, на полную ассимиляцию которого нечего было и надеяться. От великорусского этноса требовалось выработать долговременные, устойчивые формы совместного проживания и взаимодействия различных этносов в составе одного политического целого. Великорусам удалось в конечном счёте справиться с этой задачей, что сделало реальностью российский суперэтнос.
Таким образом, овладение Поволжьем стало исходным пунктом становления той России, которую мы знаем и в которой живём, – полиэтнического государства, суперэтнического объединения множества этносов и культур в единую этнополитическую целость, в которой каждый народ сохраняет своё оригинальное лицо. Этот исторический факт ярким образом отразился в народной культуре: «матушка-Волга» – так стал величать народ эту главнейшую центральную артерию великой страны.
Предпосылкой возникновения российского суперэтноса стали тесные контакты русско-славянского этнического элемента с тюркским и угро-финским в регионе Поволжья после его вхождения в состав Российской державы. Вероятный момент суперэтнического толчка – конец XVI века.
В то время, однако, все великие достижения и материальные прибыли от покорения Поволжья были ещё впереди, а 10-летняя Казанская война серьёзно измотала силы государства. Война на юге продолжилась и после замирения Казанской земли. Без разгрома Крымского ханства спокойствия на южной границе ждать было нечего. Экспедиции против Крыма (с высадкой на полуострове) были эффектны, но не обещали немедленного успеха. Гораздо заманчивее выглядело овладение богатой и слабой Ливонией. И царь делает роковую ошибку: отвергнув прагматичную, последовательную политику Избранной рады и не завершив войну с Крымом, он начинает новую войну на противоположной границе – в Прибалтике.
Разумеется, соседи России не позволили царю в одиночестве проглотить столь жирный кус, как богатая Ливония. В войну вмешались Литва, Польша, Швеция, Дания; борьба затянулась и потребовала чрезвычайного напряжения сил. Между тем крымские татары продолжали терзать южные границы России. Разделение сил на два фронта не позволяло добиться решительного успеха ни здесь, ни там. Тяжёлое напряжение и военные неудачи породили острейший внутренний кризис, – начался опричный террор Ивана Грозного, подрывавший изнутри и без того истощённые силы народа. В итоге страну постигла настоящая катастрофа: крымские татары опустошили Москву, сам Грозный – Новгород, природные бедствия и хозяйственное разорение поразили большую часть страны, 25-летняя Ливонская война была полностью проиграна, – огромные ресурсы растрачены впустую.
Великий и трагический XVI век близился к концу. Для великорусского этноса то был век величайших завоеваний и тягчайших испытаний. Свет и тьма густо перемешались в тогдашней российской действительности, и даже среди черноты тяжёлых поражений и бедствий вспыхивали светлые сполохи. В исходе царствования Грозного казачий отряд атамана Ермака разгромил ещё один осколок империи Чингисхана – отдалённое Сибирское ханство – и проложил русским дорогу к овладению Сибирью.
В конце XVI века Россия немного оправилась от «великого разорения», приступила к активному освоению Сибири, Поволжья, степей юга. Но мирная пауза оказалась непродолжительна; вскоре страну потряс новый и ещё более мощный внутренний кризис, поводом к которому послужило пресечение династии московских Рюриковичей. Великая Смута начала XVII века, казалось, поставила под вопрос само существование России как самостоятельного государства. Ожесточённой внутренней борьбой воспользовались иностранцы, захватившие обширные приграничные земли. Католическая Европа, выставляя своим авангардом польское шляхетство, лелеяла планы политического и религиозного подчинения, этнокультурной ассимиляции великорусов. Но в этот критический момент обнаружил себя глубинный источник мощи великорусского этноса. В то время как высшие чины государства уже прогнулись и принесли присягу чужеземной и иноверной власти, простые люди и рядовые дети боярские сказали: «Нет! В Кремле сидят поляки – ненавистники и уничтожители православия. Не может им быть ни веры, ни присяги!» Вокруг идеи исконной православной веры сплотились все русские люди, невзирая на социальную рознь, и освободили Москву и Россию от чужеземных поработителей.
Последствия Смуты были ещё более тяжкими, чем итоги опричнины. Страна была полностью разорена, отброшена от Балтийского моря, потеряла важные западные территории. Но богатства естественных ресурсов в её обширных пределах позволяли народу быстро восстанавливать свои силы. Уже в середине XVII века Российское государство вновь окрепло и с помощью малорусов взяло реванш у Речи Посполитой. Россия вернула Смоленск и присоединила Левобережную Украину. Переяславская рада положила начало воссоединению Восточной и Западной Руси. Малорусы («украинцы»), этнос более молодой по рождению, чем великорусы, возникший на южной окраине (украйне) западнорусского ареала, – добровольно вошли в состав Российской державы и вскоре были интегрированы в русский суперэтнос на основе исторической и религиозной общерусской близости (да и называли они себя в то время не иначе, как русскими). Вырвать из-под польско-католической власти всю Западную Русь не удалось, но заявка была сделана весомая. Важно было и то, что центр Западной Руси – Киев остался в составе России.
На заключительной стадии фазы надлома Россию ещё ждали крупные потрясения. Крестьянская война Разина поставила под угрозу существующий крепостнический режим. Социальный раскол великорусского этноса усугубился религиозным расколом в результате никоновской реформы церковного обряда. Реформа утверждала вселенский характер православия, но проводилась грубыми и оскорбительными по отношению к великорусской церковно-культурной традиции методами. Это оттолкнуло от официальной церковной и светской власти значительную часть русских пассионариев, ушедших в раскол, что сильно ослабило этнос в целом.
На рубеже XVII–XVIII веков состоялся переход великорусского этноса из фазы надлома в фазу инерции. В фазе надлома великорусы присоединили обширные территории, что создавало благоприятные перспективы дальнейшего развития, но всё более остро чувствовалась культурно-техническая отсталость от соседней Европы. Находясь на отдалённой периферии мировой цивилизации, в стране с суровыми природными условиями, великорусский этнос медленно прогрессировал в культурном и техническом отношениях. Чтобы преодолеть эту отсталость, необходимы были тесные связи с развитой цивилизацией Европы, которые наилучшим образом могли быть установлены через Балтийское море. На пути России стояла Швеция, захватившая прибалтийские русские земли и удобные ливонские гавани.
Задачу установления связей с Европой и заимствования достижений цивилизации решил Пётр I. В Северной войне созданная им регулярная русская армия захватила Восточную Прибалтику, которая и послужила мостом для тесных отношений с Европой. Реформы Петра потребовали страшного напряжения от страны, огромных материальных затрат. Тяжесть повинностей, навалившаяся на народ, и непонятные иноземные нововведения вызывали массовое сопротивление, то и дело прорывавшееся открытыми мятежами. Пассионарная слабость этноса – следствие религиозного раскола – обернулась многими уродствами и перекосами в культурной жизни страны. Вместе с необходимыми техническими новациями были заимствованы множество бесполезных элементов европейской светской культуры, что сопровождалось репрессиями против отечественных нравов и обычаев. Новая светская культура утверждалась только в высшем сословии – дворянстве, а это вело к его резкому отличию в культурно-бытовом отношении от массы народа, к углублению разделения и взаимного непонимания верхов и низов нации.
Но в техническом отношении реформы Петра удовлетворили потребности государственного укрепления России. Приданный Петром импульс позволил успешно развивать экономику и культуру на протяжении двух веков фазы инерции. За всё это время случился лишь один крупномасштабный социальный катаклизм – крестьянская война Пугачёва. Она со всей ясностью продемонстрировала глубину раскола между европеизированными верхами и народной массой. Подавление восстания не решило проблемы, но лишь законсервировало социальный раскол на долгие годы; внутренний порядок искусственно поддерживался усилившейся мощью имперской административно-полицейской организации.
Во внешних отношениях России время инерции было эпохой успехов и славы. Освоение европейской техники значительно увеличило материальные и военные силы Российского государства, так что оно могло успешно решать и старые, и вновь встающие перед ним задачи. При Екатерине II была окончательно ликвидирована угроза набегов со стороны крымских татар и ногаев. Крымское ханство было упразднено, а его земли вошли в состав России, так же как и всё Северное Причерноморье, получившее название Новороссии. Таким образом, в тяжёлой борьбе с Османской империей была решена проблема выхода страны к морю на юге. Тогда же Россия осуществила стародавнее стремление объединения всех русских земель: в результате разделов Речи Посполитой почти вся Западная Русь (за исключением Галичины и Закарпатья) вошла в состав Российской империи.
В XIX веке последовали другие более или менее крупные приобретения: Бессарабия, Финляндия, Кавказ. После победы над Наполеоном в составе России оказалась даже значительная часть Польши. Намного возросло влияние России на европейские дела. Случались и неудачи (Крымская война), но в целом Россия твёрдо отстаивала свои позиции и понемногу округляла владения. Горечь поражения в Крымской войне вскоре растворилась в новых обширных завоеваниях в Средней Азии и на Дальнем Востоке.
Фаза инерции великорусского этноса была в то же время эпохой подъёма суперэтнической системы. Успешная экспансия XVIII–XIX веков определила её территориальные границы и сферы влияния поднимающегося суперэтноса. Границы империи и суперсистемы в основном совпадали, но некоторые западные провинции (Польша, Финляндия) оставались под преимущественным влиянием Европы, а южные – исламского мира. Главным внешним устремлением суперэтноса являлось направление на Балканы и Ближний Восток – к древним святыням православно-христианского мира.
Овладев достижениями европейской цивилизации, русская наука, техника, эстетическая культура встали вровень с ведущими европейскими нациями. Русские учёные, изобретатели, инженеры, писатели, художники, композиторы внесли весомый вклад в общемировую культуру. С конца XIX века быстрыми темпами развивались передовые отрасли промышленности. По видимости, Россия процветала, и перспективы её развития и роста сторонним наблюдателям казались беспредельными.
Но под внешним благополучием существовали и углублялись острые противоречия. Благами цивилизации пользовались, главным образом, привилегированные слои населения, а крестьяне жили почти так же, как и до Петра. Мощное влияние соседней более развитой западноевропейской цивилизации по-прежнему разделяло русский народ на «образованное» общество и простонародье. Образованный класс России был культурен западноевропейской культурой. Российская светская культура эпохи после Петра была европейской по формам и, в значительной степени, по содержанию. Увлечение образованной элиты русской нации европейской культурой приводило к тому, что национально-русские формы оставались в пренебрежении и без развития консервировались в простонародной среде, деградировали и исчезали. Образованное русское общество постепенно теряло живительную корневую связь с народной почвой, переходя на питание исключительно искусственным раствором западной цивилизации.
Таким образом, верхи и низы нации противополагались как две различные этнокультурные общности, причём для низов интеллигентское образование было и непонятно и ненужно. Например, в вопросе о собственности на землю образованное русское общество придерживалось формально-правового буржуазного принципа западной цивилизации; крестьяне же отстаивали стихийные этноправовые воззрения, по которым землёй должны владеть те, кто на ней трудится. Этот раскол и трагическое взаимное непонимание стали глубинной причиной революции в России, произошедшей уже в фазе обскурации в начале XX века.
В XIX веке в России появились люди европейски образованные и в то же время интеллектуально самостоятельные, осознающие отличие русского типа культуры от европейского («славянофилы»). Но подавляющее западноевропейское влияние оттеснило их на обочину общественной жизни России. В идеологии образованного общества господствовало западничество в различных его разновидностях. Правящие верхи придерживались консервативного абсолютистско-дворянского направления, пытаясь утвердить в России средневековые европейские политические устои. Интеллигенция и буржуазия (от декабристов до кадетов) привержены были либерально-конституционному направлению, которое они продвигали всеми методами – от реформистских до революционных.
Европейская культура туго приживалась в народе, хранящем свою этническую традицию. Как целое простой народ выступал силой антиевропейской и антизападной. С элитой российского общества его связывали только самодержавие и православие. Пока то и другое в народе было крепко, Россия стояла несокрушимо. Однако обскурация постепенно делала своё дело. Русское образованное общество первым повело самоубийственные атаки на условия собственного существования, выступив против монархии и с проповедью атеизма. С переходом этноса в фазу обскурации, под давлением бурной экспансии капитализма, разрушавшей традиционный жизненный уклад, народ становился всё более восприимчив к нигилистической пропаганде.
На рубеже XIX–XX веков внешняя экспансия России была остановлена. Попытки дальнейшего расширения повели к тяжёлым и обидным поражениям, уронившим авторитет царского режима. Все усилия, затраты, потери оказались напрасны, – поддержать энергетику российской системы за счёт внешнего мира не удалось. А между тем витальные ресурсы этноса эксплуатировались по нарастающей в ходе капиталистической индустриализации. Напряжения Мировой войны Россия уже не выдержала. В трудный для страны момент силы обскурации опрокинули традиционную русскую форму правления – самодержавие, в России победила революция.
Преобладающее западноевропейское влияние стало причиной того, что в России не сложились собственные негативные системы, – русские обскуранты, как обычно, заимствовали продукты Запада. Негативные западные идеологии либерализма и социализма стали объединяющей основой обскурационной массы. Так как в России ещё существовала мощная инерция этнического сознания, то победа в соревновании двух негативных систем досталась поначалу социализму, который обнаружил больше гибкости в приспособлении к неевропейской этнической среде. На основе взаимодействия социализма и русского этноса в обскурационной фазе возникла химера – нестойкое сочетание этноса и негативной системы в форме коммунистического режима.
Острый и глубокий кризис великой революции причинил народу России невиданные прежде страдания и потери. Огромный размах и степень катастрофичности этого кризиса во многом объясняются наложением друг на друга различных разрушительных сил: внутренней обскурации, негативного влияния Запада, а также совпадением по времени кризисных фаз великорусского этноса (фаза обскурации) и российского суперэтноса (фаза надлома). В результате образовался резонанс исключительной разрушительной силы. (Европе и в этом больше повезло: кризисные фазы общеевропейского этногенеза и этногенеза крупнейших этносов Европы не совпадают, благодаря чему исторический процесс протекал более ровно и стабильно.)
В этническом плане последствия кризиса были двойственны. С одной стороны, негативный потенциал коммунизма обрушился на традиционные основы культуры народов России, прежде всего на русских. С другой стороны, революция была мощным выплеском антизападных, антибуржуазных сил, которые смели утверждавшееся в России буржуазно-либеральное общество. И, таким образом, влияние Запада в результате революции надолго ослабло. Между растущей химерой Запада, имеющей своей идеологической базой либерализм, и коммунистическим режимом, опиравшимся на другую негативную идеологию – социализм, возникло противостояние.
Одержав победу лишь в одной стране – России, социализм для своего утверждения волей-неволей должен был приспособиться к её этнической структуре и в своих собственных видах, хотя бы частично, отстаивать национальные интересы страны своего базирования. Мечты о мировой революции скоро были задвинуты в дальний ящик, режим быстро национализировался уже в 30-х годах. Если не по содержанию, то по форме он видоизменился в соответствии с российской этнической средой: культ вождя – на место самодержавия; светское вероучение коммунизма, обставленное своеобразным ритуалом, – вместо православия; народность – как отсутствие класса «хозяев», эксплуатирующих простой народ.
Наднациональный характер идеологии коммунизма вполне соответствовал суперэтнической структуре России и на время содействовал сплочению её многочисленных народностей. А мировая мессианская устремлённость коммунизма отвечала пассионарным чаяниям великорусов. Таким образом, возник симбиоз негативной системы и этнической среды – этническая химера. На месте России образовался Союз Советских Социалистических Республик, который на время сплотил растреснувшую этнополитическую структуру Российской империи.
Для успешного противостояния Западу необходимо было преодолеть промышленную и научно-техническую отсталость России. В процессе решения этой задачи коммунистический режим не останавливался ни перед какими средствами. Изъятие ресурсов для немедленной индустриализации проводилось абсолютно бесчеловечными методами и повлекло страшную трагедию для крестьянства России. Монолитная целостность режима поддерживалась постоянным террором и перетряхиванием аппарата управления. Ценой предельной мобилизации человеческих и материальных ресурсов коммунистам удалось создать в кратчайшие сроки мощную передовую тяжёлую индустрию и военную промышленность.
Все вкупе социальные и экономические достижения советского строя (могучая индустрия, социальная и национальная сплочённость, жёсткая централизация управления, беспощадный репрессивный аппарат, эффективная пропагандистская машина) позволили СССР выдержать сокрушительный удар фашистской империи. Угроза самому существованию нации сплотила её против врага под национально-патриотическим знаменем. Вновь помогло народу и обширное пространство России, овладеть которым очередной агрессор оказался не способен так же, как и все предыдущие.
В ходе Великой Отечественной началась дифференциация этнонациональных и негативных элементов химеры. Для достижения победы коммунизм был вынужден попустительствовать первым и даже специально их культивировать. Когда победа была одержана, Сталин пытался отыграть назад и вновь закрутить все гайки жёстко репрессивного режима. Но то была попытка, обречённая на неудачу. Поддержание целостности тоталитарного режима требует величайшего напряжения, которое ни один народ не в состоянии выдерживать долго. От террора устали все, не исключая партийной верхушки. Люди, прошедшие сквозь огонь великой войны, обрели собственное достоинство, узнали себе цену – и уже не собирались возвращаться на положение винтиков тоталитарной машины. Тоталитаризм в России не был разрушен извне, как это случилось в Германии. Русский народ сам преодолел его в себе в ходе великой духовной мистической битвы в годы Великой Отечественной. Её огромные жертвы, страдания и подвиг стали для русской души очистительной купелью от скверны обскурационного тоталитаризма. Трещина между этносом и негативной системой нарушила целостность химеры и стала расширяться. Этот процесс постепенно протекал весь послевоенный период до неожиданного для внешнего наблюдателя обрушения коммунистического режима.
Эпохальная победа над фашистской Германией имела глубокие последствия для коммунистической системы. Формально то был величайший триумф коммунистического режима. Но с этого момента всё его дальнейшее существование стало процессом постепенного падения. Только авторитет Сталина удерживал ещё тоталитарную систему от крушения, – но то была уже агония. Со смертью Сталина рухнула главная подпора тоталитаризма – репрессивный аппарат, система ГУЛАГа. Оставался только внешний, постепенно ветшающий антураж. Хрущёв безуспешно пытался его обновить. Хрущёвское форсированное строительство коммунизма, борьба с религией и остатками частной собственности – последний приступ нигилистского социалистического энтузиазма.
Импульс победы в великой войне позволил коммунистическому режиму просуществовать ещё четыре десятилетия. Победа над фашизмом придала ему большой мировой авторитет. Успешная экспансия на заключительном этапе Второй мировой войны поставила под власть СССР всю Восточную Европу. Извлекли выгоду коммунисты и из ослабления стран Запада в ходе крушения колониальных империй. Большой социалистический блок, образовавшийся в результате этих событий, увеличил ресурсы и возможности коммунистической системы. Крупные заделы в индустрии и науке позволяли поддерживать на уровне обороноспособность, добиваться отдельных прорывов в передовых областях (атомная энергетика, космос). Огромные ещё не освоенные природные ресурсы страны предоставляли возможности для экстенсивного индустриального развития.
Тоталитаризм для СССР остался в прошлом, сменившись гораздо более мягким авторитарно-полицейским идеократическим режимом. Его внутренняя энергетика в послевоенные годы неуклонно падала. Возможности мобилизации человеческой энергии на поддержку режима внутри СССР постоянно сокращались: во-первых, вследствие падения авторитета самого режима, в идеологию которого не верила доже значительная часть партийного аппарата; во-вторых, из-за огромного витального истощения великорусского этноса – несущей основы всей этнополитической системы СССР. В войнах и бедствиях XX века он понёс огромные жертвы, напряжение непрерывной почти вековой индустриализации и холодной войны с Западом истощило его витальные ресурсы. К исходу века русская деревня – витальная основа нации оказалась совершенно вычерпана; по мере того как росли города и промышленные стройки, деревня приходила в упадок и пустела.
Разделение пассионарных элементов и обскурантов-нигилистов в рамках химерной системы лишало её поддержки первых (которых она продолжала подавлять); а вторые, освободившись от пресса репрессивной машины НКВД, стали под личиной конформизма паразитировать на существующем режиме. С оскудением внутренних источников коммунистическая химера могла бы, теоретически, поддержать своё существование за счёт мировой экспансии. Но здесь коммунизм столкнулся с серьёзным конкурентом – либеральной химерой Запада. Последняя нуждалась в экспансии не меньше, чем СССР, но, будучи по структуре более цельным образованием (европейский этнос + европейская негативная система), обладала большей внутренней прочностью и вдобавок располагала значительно превосходящими материально-техническими ресурсами.
Таким образом, энергетические источники существования коммунистической химеры были исчерпаны. Отсутствие перспектив ощущалось уже во всеобщей апатии 70-х. Нефтяной допинг Сибири несколько продлил годы её существования. Но в середине 80-х пошёл процесс обвального разрушения, получивший наименование «перестройки». Запад усилил натиск на истощённого противника, и восточная социалистическая химера рухнула. Но главная причина катастрофы была не в активности Запада; падение СССР явилось результатом внутреннего распада химерной целости.
С крушением СССР территориально обкорнанная Россия попала под власть Запада, стала элементом его мировой политической системы. Господство в идеологии захватила новая негативная система – либерализм («демократия»), на которую мгновенно переключились советские обскуранты с партбилетами и без оных. Пассионарные патриотические силы России были слишком ослаблены и разобщены многолетним господством марксистского режима, а витальность народа слишком истощена, чтобы можно было оказать действенное сопротивление распаду державы, разграблению национального достояния иностранными и доморощенными хищниками.
Господство либеральных обскурантов ввергло страну в настоящую экономическую катастрофу с обвальным падением производства и жизненного уровня, обнищанием населения, – фактическим его вымиранием. Реформы гуманистов – либералов по демографическим потерям для России вполне сопоставимы с потерями при тоталитарном коммунистическом режиме. Но постсоветский либеральный режим это мало беспокоит, ведь по существу он представляет собой филиал глобальной антисистемы Запада с функциями контроля над колонией и посредничества в паразитической эксплуатации её природных богатств. А западные наставники и руководители российских либералов не стесняются заявлять, что их вполне устроит сокращение населения России до 50, а то и до 15 миллионов.
Положение трагическое, но не безысходное. С окончанием холодной войны и значительной деиндустриализацией России витальность народа так или иначе восстановится. Падение же коммунистической химеры имеет то положительное следствие, что пассионарные элементы этноса и негативные элементы антисистемы окончательно разделяются. Либерализм гораздо менее способен увлекать пассионариев химерной утопией, чем коммунизм. Это создаёт предпосылки консолидации пассионарных сил народа России.
На первый взгляд, в положении России ничего не изменилось: одна химера сменила у власти другую. На самом деле разница между прежним и новым положением принципиальная: если в состав коммунистической химеры русский этнос входил составным элементом, то либеральная химера для него – система совершенно внешняя и чуждая. Таким образом, этнический и антисистемный элементы в России разделяются и будут существовать самостоятельно друг от друга. Освободившийся от связи с негативной системой русский этнос теперь прямо противостоит антисистеме, которую продвигает либеральная химера, паразитирующая на энергии народа России и её материальных ресурсах. Таким образом, перед народом в повестку дня встаёт задача выработки эффективных способов противодействия либерально-западной паразитической эксплуатации и поиска приемлемой формы существования в условиях господства Западной Орды. Сможем их решить – переживём Западную Орду так же, как пережили Золотую Орду.
Великорусский этнос вступил в заключительную половину фазы обскурации и приближается к окончанию периода активного существования. Скорее всего, у великорусов до перехода в мемориальную фазу ещё есть в запасе не менее полувека. Но они оставляют после себя российскую (русскую) суперэтническую систему – этническую структуру более высокого порядка, гораздо более мощную и долговечную. Так что русская история продолжается и конца ей пока не видно.
Глава 29 Перспективы мирового развития
В заключение можно попытаться наметить вероятные пути развития мировой этнополитической ситуации. Определяющим фактором в обозримом будущем остаётся экспансия Запада. Она делает невозможным подъём сколько-нибудь значимого нового этногенеза. Современные «национальные» движения есть не что иное, как орудия распространения всё той же антисистемы.
Значит, в ближайшую эпоху речь можно вести, по большому счёту, лишь о выживании старых этносов. Смысл современного мирового противостояния не столько в борьбе культур или цивилизаций, сколько (если воспользоваться терминологией Шпенглера и отождествить этнос с культурой, а антисистему с цивилизацией) в борьбе этносов – культур с цивилизацией – Западом за собственное выживание.
Наилучшие шансы в этой борьбе имеют не самые развитые страны Запада, которыми антисистема овладела вполне, а страны периферийные, «отсталые», менее интересные для эксплуатации. Существование в них будет более скудным материально, зато давление пресса антисистемной цивилизации – гораздо слабее. Соответственно, основные надежды мирового этногенеза связаны не с Европой и Северной Америкой, а со странами третьего и второго миров. Здесь существует несколько древних суперэтносов: Китай, Индия, Исламский мир. Всё это мощные системы с богатой, устоявшейся культурной традицией. Думается, что инерции в них хватит ещё надолго. Но вряд ли они способны на активное противостояние Западу. Цивилизации Индии и Китая локально замкнуты; они обладают большим потенциалом приспособляемости, но не выходят за собственные границы. Китай стоит перед важным историческим рубежом – падением коммунистической химеры, которое уже не за горами. Это событие будет иметь серьёзные последствия не только для самого Китая, но и для всего мира, особенно для его соседей. Несомненно, что экспансия антисистемы в Китае в результате этого намного усилится.
Исламский мир в борьбе с Западом опирается на свою сильную религию, обширность пределов и естественные богатства. Мусульманский суперэтнос древнее европейского, но ему легче бороться с антисистемным нигилизмом, – ведь Запад для него есть нечто совершенно внешнее и чуждое. Отстаивая традиции своей культуры, мусульмане проявляют самую пламенную веру и жертвенность. Но в идеологическом плане ислам остался в рамках Средневековья, не выработав никакой конструктивной альтернативы современного развития. Остаётся только культивирование архаики и срыв в терроризм.
Особняком, по своей юности, в третьем мире стоит Латинская Америка. Этот один из самых молодых суперэтносов возник в результате колонизации испанцами и другими латиноевропейцами Южно-Американского континента. На исходе XX века суперэтническая система Латинской Америки вышла из фазы надлома, которая началась Войной за независимость колоний и была заполнена бесчисленными гражданскими войнами, революциями, восстаниями народа, мятежами латифундистов, военными путчами и хунтами; постоянной борьбой унитаристов с федералистами, консерваторов с либералами, умеренных и радикалов, церковников и антиклерикалов, крестьянской бедноты и латифундистов.
После падения диктаторских военных режимов и установления «демократии» ситуация в Латинской Америке заметно стабилизировалась, несмотря на существование ещё кое-где очагов повстанческого движения. Это позволяет говорить о переходе Латинской Америки в спокойную фазу инерции. О молодости латиноамериканской этносистемы свидетельствуют богатство и разнообразие художественной культуры: литературы, музыки, танца, изобразительного искусства; даже в примитивном масс-культурном жанре телесериала бьёт ключом щедрая эмоциональность латиноамериканцев, ощущается живое и серьёзное народное чувство.
Однако на этническом уровне в Латинской Америке не появилось пока ни одной сильной нации. Среди разнообразнейшей расово-этнической пестроты не поднялась ещё крупная политическая величина мирового масштаба. Отсюда разобщённость и трагическая открытость Латинской Америки внешнему миру. Обладающая огромными и легкодоступными природными ресурсами, она рано стала объектом западной эксплуатации. Латиноамериканская система не успела как следует окрепнуть, как подверглась усиленной эксплуатации Западом. А значит, здесь найдут приложение крупные силы антисистемы, её власть и влияние будут усиливаться, а крупнейшие природные и людские ресурсы – по-прежнему истощаться в чуждых интересах.
При всём обилии жизненных и творческих сил латиноамериканцы не имеют дисциплинирующей идеи – необходимого условия политической самостоятельности. Однако уже в силу своей молодости у Латинской Америки впереди ещё длительное существование и надежда пережить крушение антисистемы.
На общем фоне не так уж плохи перспективы России. Расположенной на суровой евразийской окраине стране уготована участь периферийной колонии западной империи, что в плане этногенеза является выгодным преимуществом. Русская нация обладает ясной мировой идеей, мобилизующей и организующей на бескомпромиссное духовное противостояние западному нигилизму. Пассионарное русское ядро вполне способно выдержать его натиск даже в условиях тоталитаризма и передать православную традицию в руки поколений, которые будут жить в эпоху после крушения мировой тоталитарной империи.
Мировое историческое развитие свидетельствует, что наибольшим потенциалом духовного прогресса обладает христианская цивилизация. Западный её вариант заходит в самоубийственный тупик. Сбудется ли надежда на восточный? Будущее покажет.
Складывающаяся сейчас в мире этнополитическая ситуация многими чертами напоминает Эллинистический мир – систему деспотий и автономных гражданских полисов, возникшую в последние века до нашей эры на Ближнем Востоке и Балканах. То была система, в которой доминировали деспотические монархии Востока; будучи восточными по своему местоположению, они были западными (македонскими) по происхождению и опирались в основном на греко-македонских колонистов. Последним были дарованы разного рода льготы и привилегии, в том числе автономное полисное («демократическое») устройство и определённые свободы в рамках своего полиса. Такие полисы владели не только собственной землёй, но им была подчинена и обширная территория местных общин, коренного населения Востока. Таким образом, существовал союз эллинистических деспотий и автономных греко-македонских полисов на основе совместной эксплуатации коренного населения Востока. Это население эксплуатировалось разными способами: в одних деспотиях оно было прямо закрепощено государством; в других, например в Египте, «царские земледельцы» были юридически свободны, но, лишённые всякой собственности, вынуждены были батрачить на государственных землях под жёстким контролем администрации, – их фактическое положение было хуже крепостного.
Мы отмечали, что Запад по многим признакам эволюционирует в сторону деспотии. Социальные системы, в которых допускается неограниченная частная собственность, отличаются нестабильностью. Периоды бурного развития товарно-денежных отношений сравнительно кратковременны. Фаза расцвета Запада несколько затянулась вследствие того, что ему удалось охватить своей экспансией весь мир, все мировые ресурсы, – в отличие от прежних локальных систем. Когда возможности экспансии будут исчерпаны, на место либеральных порядков неизбежно придёт деспотия. Эта форма потому и господствовала на Древнем Востоке, имевшем гораздо более длительную историю цивилизованного существования, чем Европа, что является более стабильной формой общественного устройства. В отсутствие возможностей для экспансии деспотия – единственно возможная форма политического устройства в крупном масштабе.
А теперь посмотрим на структуру Запада, как она сложилась к нашему времени, и проведём аналогии с Эллинистическим миром. Имеется древний и культурно богатый мир, но обессилевший политически – Европа (Эллада). Имеется также народ сравнительно молодой и сильный, но культурно скудный, находящийся в культурном отношении под влиянием более древнего – США (Македония). Две эти части сочетаются в единой этнополитической структуре – НАТО (Македонская империя на Балканах и в Греции). В общих интересах Запад завоёвывает окружающий мир (Восток). При этом образуется мировая западная империя (эллинистическая деспотия), где один или несколько крупных авторитарных режимов (эллинистические монархии) соседствуют с автономными «демократическими» обществами – национальные государства Запада (греческие государства Эллады) и транснациональными западными корпорациями (греко-македонские полисы и военные колонии на Востоке). Деспотическая империя Запада и автономные гражданские общества западного мира сотрудничают в целях эксплуатации покорённых по всему миру аборигенов, свою долю получает и компрадорская туземная элита.
Такова структура Запада. В этом направлении она будет развиваться, оформляться, совершенствоваться в ближайшем будущем. Такая либерально-олигархическая система в общем соответствует концепции «золотого миллиарда».
В дальнейшем, по мере исчерпания ресурсов роста, будет происходить трансформация в более жёсткую авторитарную структуру. Этническое угасание ослабляет солидарность в привилегированных нациях Запада, расслоение на богатых и бедное большинство усилится, а средний класс скукожится. Гражданское общество в странах Запада отомрёт, а нации Запада постепенно лишатся привилегированного статуса. Вследствие упадка США и других ведущих стран Запада в мире будет нарастать анархия, нестабильность, что породит потребность в укреплении глобальных структур власти; в конечном счёте приведёт к образованию единой общемировой империи. Массовой опорой этой империи послужит бесчисленный обездоленный и озлобленный люмпен-пролетариат третьего мира, так же как и новообразованный пролетариат стран Запада. Поддержат ради спокойствия и состоятельные слои.
Либеральная химера Запада распадётся на свои составляющие. Антисистема западной цивилизации отделится от окончательно истощённых этносов европейского культурного мира и займёт доминирующее положение в качестве официальной структуры, а привилегированные прежде «западоиды» будут поставлены в общий ряд подданных новоявленной империи. То есть с Западом произойдёт примерно то же, что некогда случилось и с Римской империей (если продолжить античную аналогию). Из структуры республиканско-олигархической, с привилегированным италийским центром, с многочисленным паразитическим средним классом привилегированных римских граждан («золотой миллиард»), она преобразуется в структуру авторитарно-имперскую, с уравненным положением всех провинций империи, с уравнительно-тягловым статусом подданных и служебной обязанностью высших сословий. При этом контроль за лояльностью подданных и исполнением ими своих обязанностей будет обеспечиваться с применением новейших технических достижений цивилизации. Это будет самая деспотичная из всех доселе существовавших империй, тоталитарная в полном смысле слова, – апокалиптическое царство Антихриста. Но такая жёстко деспотичная структура не сможет продержаться сколько-нибудь долго. Она рухнет под собственной тяжестью, как рухнула некогда тоталитарная империя Цинь. Если это событие не вызовет мировой уничтожающий катаклизм, то тогда в мире сложится более анархичная, но и более свободная ситуация. В таких условиях могут произойти новые этнические толчки. И тогда возрождённый земной мир расцветёт новым культурным разнообразием творчества жизни.
Список литературы
1. Аристотель. Афинская полития. М.: Соцэкгиз, 1937.
2. Арриан. Поход Александра. М.: МИФ, 1993.
3. Бартенев С.А. Экономические теории и школы. М.: БЕК, 1996.
4. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М.: Наука, 1983.
5. Васильев А. А. История Византийской империи. СПб.: Алетейя, 1998.
6. Васильев Л. С. История Востока. М.: Высшая школа, 1993.
7. Вдовин А. И. Русские в XX веке. М.: Олма-пресс, 2004.
8. Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.
9. Всемирная история. Минск: Современный литератор, 1999.
10. Всемирная история экономической мысли. М.: Мысль, 1994.
11. Герберштейн С. Записки о Московии. М.: Изд. МГУ, 1988.
12. Гизо Ф. История цивилизации в Европе. М.: Территория будущего, 2007.
13. Грановский Т. Н. Лекции по истории Средневековья. М.: Наука, 1986.
14. Гумилёв Л. Н. Конец и вновь начало. М.: Рольф, 2001.
15. Гумилёв Л. Н. От Руси до России. М.: Дрофа; Наталис, 1996.
16. Гумилёв Л. Н. Хунны в Китае. СПб.: Абрис, 1994.
17. Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. М.: Мишель и К°, 1993.
18. Давидсон А. Сесил Родс – строитель империи. М.: Олимп; Смоленск: Русич, 1998.
19. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М.: Книга, 1991.
20. Дашков С. Б. Императоры Византии. М.: Красная площадь, 1997.
21. Дюпюи Р. Э., Дюпюи Т. Н. Всемирная история войн. М.; СПб.: Полигон; АСТ, 1997.
22. Егер О. Всемирная история. СПб.: Полигон, 1999.
23. Жак К. Египет великих фараонов. М.: Наука, 1992.
24. Зиновьев А. А. Запад. М.: Центрполиграф, 2000.
25. Зомбарт В. Буржуа. М.: Наука, 1994.
26. Иванян Э. А. История США. М.: Дрофа, 2006.
27. Ильин И. А. Собрание сочинений. М.: Русская книга, 1993.
28. История Древнего мира / Под ред. И. М. Дьяконова. М.: Наука, 1989.
29. История Древнего Рима / Под ред. В. И. Кузищина. М.: Высшая школа, 1993.
30. История Древней Греции / Под ред. В. И. Кузищина. М.: Высшая школа, 1996.
31. История Средних веков / Под ред. С. П. Карпова. М.: ИНФРА-М, 1997.
32. История Средних веков / Под ред. Н. Ф. Колесницкого. М.: Просвещение, 1980.
33. Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием в России сегодня. М.: Алгоритм, 2001.
34. Кинросс Л. Расцвет и упадок Османской империи. М.: Крон-пресс, 1999.
35. Кондратьев Н. Д. Избранные сочинения. М.: Экономика, 1993.
36. Костомаров Н. И. Смутное время Московского государства. М.: Чарли, 1994.
37. Курбатов Г. Л. История Византии. М.: Высшая школа, 1984.
38. Леонтьев К. Н. Восток, Россия и славянство. М.: Республика, 1996.
39. Лондон Д. Лунная долина. М.: АСТ, 1998.
40. Лосев А. Ф. Бытие – имя – космос. М.: Мысль, 1993.
41. Лосев А. Ф. Диалектика мифа. М.: Политиздат, 1991.
42. Лосев А. Ф. История античной эстетики. М.: АСТ, 2000.
43. Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М.: Мысль, 1993.
44. Лурье С. В. Историческая этнология. М.: Аспект-пресс, 1998.
45. Макаренко В. П. Главные идеологии современности. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000.
46. Макконнелл К., Брю С. Экономикс. Баку: Азербайджан,1992.
47. Мифы народов мира. М.: Советская энциклопедия, 1992.
48. Миллер Г. Тропик Рака. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000.
49. Моммзен Т. История Рима. СПб.: Лениздат, 1993.
50. Мухаев Р. Т. Политология. М.: ПРИОР, 1997.
51. Оппенхейм Л. Древняя Месопотамия. М.: Наука, 1990.
52. Ортис А. Ф. Пути левой интеллигенции: коммунизм, еврокоммунизм, советский проект // .
53. Пайпс Р. Собственность и свобода. М.: Московская школа политических исследований, 2000.
54. Платон. Государство. М.: Мысль, 1999.
55. Плутарх. Жизнеописания. М.: Наука, 1994.
56. Политология / Под ред. Д. С. Клементьева. М.: Знание, 1997.
57. Посошков И. Т. Книга о скудости и богатстве. М.: Соцэкгиз, 1937.
58. Самуэльсон П. Экономика. М.: Машиностроение, 1993.
59. Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М.: Наука, 1983.
60. Современная западная социология. М.: Политиздат, 1990.
61. Современная западная философия. М.: Политиздат, 1991.
62. Стороженко А. В. Украинское движение // Украинский сепаратизм в России. Идеология национального раскола: Сборник. М., 1998.
63. Тойнби А. Постижение истории. М.: Прогресс, 1991.
64. Токвиль А. Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1992.
65. Трухановский В. Г. Бенджамин Дизраэли или история одной невероятной карьеры. М.: Наука, 1993.
66. Франк С. Л. По ту сторону «правого» и «левого» // Новый мир. 1990. № 4.
67. Фукидид. История. М.: Наука, 1993.
68. Хобсбаум Э. Век империи. Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.
69. Хобсбаум Э. Век капитала. Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.
70. Хобсбаум Э. Век революции. Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.
71. Хониат Н. История. СПб., 1860–1862.
72. Шлезингер А. Циклы американской истории. М.: Прогресс, 1992.
73. Шпенглер О. Закат Европы. Новосибирск: Наука, 1993.
74. Ян Э. Национализм – это следствие утраты доверия // За рубежом. 1990. № 4
Примечания
1
Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. М.: Наука, 1983. С. 56–57.
(обратно)2
Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. М.: Мишель и К°, 1993. С. 15.
(обратно)3
Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. М.: Мишель и К°, 1993. С. 56.
(обратно)4
Там же. С. 49.
(обратно)5
Шибутани Т. Социальная психология. М., 1969. С. 28.
(обратно)6
Лосев А. Ф. Диалектика мифа. М.: Политиздат, 1991. С. 74.
(обратно)7
Лосев А. Ф. Диалектика мифа. М.: Политиздат, 1991. С. 46.
(обратно)8
Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. М.: Мишель и К°, 1993. С. 22.
(обратно)9
Лосев А. Ф. Диалектика мифа. М.: Политиздат, 1991. С. 92–93.
(обратно)10
Там же. С. 100.
(обратно)11
Лосев А. Ф. Бытие – имя – космос. М.: Мысль, 1993. С. 132.
(обратно)12
Лосев А. Ф. Диалектика мифа. М.: Политиздат, 1991. С. 38.
(обратно)13
Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. М.: Мишель и К°, 1993. С. 315.
(обратно)14
Гумилёв Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М.: Мишель и К°, 1993. С. 345.
(обратно)15
Там же. С. 341–345.
(обратно)16
Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. М.: Мишель и К°, 1993. С. 498.
(обратно)17
Гумилёв Л. Н. От Руси до России. М.: Дрофа; Наталис, 1996. С. 15.
(обратно)18
Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. М.: Мишель и К°, 1993. С. 335.
(обратно)19
Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. М.: Мишель и К°, 1993. С. 340.
(обратно)20
Там же. С. 346.
(обратно)21
Гумилёв Л. Н. От Руси до России. М.: Дрофа; Наталис, 1996. С. 14–16.
(обратно)22
Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. М.: Мишель и К°, 1993. С. 212.
(обратно)23
Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. М.: Мишель и К°, 1993. С. 268.
(обратно)24
Там же. С. 266.
(обратно)25
Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. М.: Мишель и К°, 1993. С. 497.
(обратно)26
Там же.
(обратно)27
Всемирная история. Т. 15. Минск: Современный литератор, 1999. С. 428–429.
(обратно)28
Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. М.: Мишель и К°, 1993. С. 285.
(обратно)29
Леонтьев К. Н. Восток, Россия и славянство. М.: Республика, 1996. С. 110.
(обратно)30
Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. М.: Мишель и К°, 1993. С. 495.
(обратно)31
Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. М.: Мишель и К°, 1993. С. 472.
(обратно)32
Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. М.: Мишель и К°, 1993. С. 335.
(обратно)33
Егер О. Всемирная история. Т. 3. СПб.: Полигон, 1999. С. 11.
(обратно)34
Бартенев С. А. Экономические теории и школы. М.: БЕК, 1996. С. 292.
(обратно)35
Там же.
(обратно)36
Бартенев С. А. Экономические теории и школы. М.: БЕК, 1996. С. 295–298.
(обратно)37
Самуэльсон П. Экономика. Т. 1. М.: Машиностроение, 1993. С. 242.
(обратно)38
Макконнелл К., Брю С. Экономикс. Т. 1. Баку: Азербайджан, 1992. С. 360.
(обратно)39
Курбатов Г. Л. История Византии. М.: Высшая школа, 1984. С. 102.
(обратно)40
История Средних веков / Под ред. С. П. Карпова. М.: ИНФРА-М, 1997. С. 109.
(обратно)41
История Средних веков / Под ред. С. П. Карпова. М.: ИНФРА-М, 1997. С. 214–215.
(обратно)42
Там же. С. 134.
(обратно)43
Курбатов Г. Л. История Византии. М.: Высшая школа, 1984. С. 78–79.
(обратно)44
Курбатов Г. Л. История Византии. М.: Высшая школа, 1984. С. 80–81.
(обратно)45
Васильев Л. С. История Востока. Т. 1. М.: Высшая школа, 1993. С. 244.
(обратно)46
Пайпс Р. Собственность и свобода. М.: Московская школа политических исследований, 2000. С. 143.
(обратно)47
Пайпс Р. Собственность и свобода. М.: Московская школа политических исследований, 2000. С. 143.
(обратно)48
Грановский Т. Н. Лекции по истории Средневековья. М.: Наука, 1986. С. 247–248.
(обратно)49
Курбатов Г. Л. История Византии. М.: Высшая школа, 1984. С. 89.
(обратно)50
Лурье С. В. Историческая этнология. М.: Аспект-пресс, 1998. С. 27–29.
(обратно)51
Шлезингер А. Циклы американской истории. М.: Прогресс, 1992. С. 226.
(обратно)52
Мухаев Р. Т. Политология. М.: ПРИОР, 1997. С. 149.
(обратно)53
Политология / Под ред. Д. С. Клементьева. М.: Знание, 1997. С. 111.
(обратно)54
Хобсбаум Э. Век революции. Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. С. 88–89.
(обратно)55
Политология / Под ред. Д. С. Клементьева. М.: Знание, 1997. С. 109–110.
(обратно)56
Там же.
(обратно)57
Мухаев Р. Т. Политология. М.: ПРИОР, 1997. С. 176.
(обратно)58
Там же. С. 180.
(обратно)59
Фукидид. История. М.: Наука, 1993. С. 80–81.
(обратно)60
Пайпс Р. Собственность и свобода. М.: Московская школа политических исследований, 2000. С. 16.
(обратно)61
Костомаров Н. И. Смутное время Московского государства. М.: Чарли, 1994. С. 592–593.
(обратно)62
Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 80.
(обратно)63
Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 73.
(обратно)64
Зомбарт В. Буржуа. М.: Наука, 1994. С. 86–100.
(обратно)65
Зомбарт В. Буржуа. М.: Наука, 1994. С. 121–124.
(обратно)66
Зомбарт В. Буржуа. М.: Наука, 1994. С. 131–132.
(обратно)67
Там же. С. 138.
(обратно)68
Зомбарт В. Буржуа. М.: Наука, 1994. С. 140.
(обратно)69
Хобсбаум Э. Век империи. Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. С. 80.
(обратно)70
Лосев А. Ф. Диалектика мифа. М.: Политиздат, 1991. С. 31.
(обратно)71
Там же. С. 125.
(обратно)72
Лосев А. Ф. Диалектика мифа. М.: Политиздат, 1991. С. 107.
(обратно)73
Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М.: Мысль, 1993. С. 835.
(обратно)74
Зиновьев А. А. Запад. М.: Центрполиграф, 2000. С. 28.
(обратно)75
Там же. С. 25.
(обратно)76
Зиновьев А.А. Запад. М.: Центрполиграф, 2000. С. 30.
(обратно)77
Зиновьев А. А. Запад. М.: Центрполиграф, 2000. С. 23–24.
(обратно)78
Там же. С. 50.
(обратно)79
Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. М.: Мишель и К°, 1993. С. 313.
(обратно)80
Шлезингер А. Циклы американской истории. М.: Прогресс, 1992. С. 41–42.
(обратно)81
Зомбарт В. Буржуа. М.: Наука, 1994. С. 178.
(обратно)82
Зомбарт В. Буржуа. М.: Наука, 1994. С. 234.
(обратно)83
Миллер Г. Тропик Рака. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. С. 368–369.
(обратно)84
Лосев А. Ф. Диалектика мифа. М.: Политиздат, 1991. С. 108.
(обратно)85
Лосев А. Ф. Диалектика мифа. М.: Политиздат, 1991. С. 114–115.
(обратно)86
Ортис А. Ф. Пути левой интеллигенции: коммунизм, еврокоммунизм, советский проект // .
(обратно)87
Ильин И. А. Собрание сочинений. Т. 2. Книга 1. М.: Русская книга, 1993. С. 363–364.
(обратно)88
Оппенхейм Л. Древняя Месопотамия. М.: Наука, 1990. С. 53.
(обратно)89
Леонтьев К. Н. Восток, Россия и славянство. М.: Республика, 1996. С. 108.
(обратно)90
Стороженко А. В. Украинское движение. М.: Украинский сепаратизм в России. Идеология национального раскола: Сборник. 1998. С. 250–251.
(обратно)91
Франк С. Л. По ту сторону «правого» и «левого» // Новый мир. 1990. № 4.С. 226–233.
(обратно)92
Мифы народов мира. Т. 2. М.: Советская энциклопедия, 1992. С. 43–44.
(обратно)


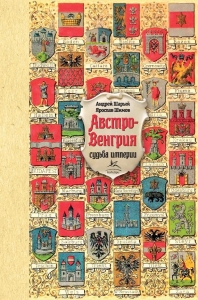
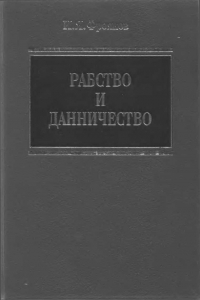



Комментарии к книге «Энергетика истории. Этнополитическое исследование. Теория этногенеза», Павел Васильевич Кочемаров
Всего 0 комментариев