В. Д. Сиповский Родная старина Книга 3 Отечественная история с конца XVI по начало XVII
Царь Федор и Борис Годунов
Царствование Федора Ивановича
Боярские смуты. Домашняя жизнь царя. Войны и отношения с соседями. Учреждение патриаршества. Убиение царевича Дмитрия. Прикрепление крестьян к земле. Избрание Бориса Годунова на престол
Боярские смуты
После смерти Ивана Васильевича начинаются боярские смуты. Наследовать престол пришлось второму сыну Грозного, Федору. Он вовсе не походил ни на своего отца, ни на старшего брата — был слабого здоровья, малого роста, дряблый телом, с бледным, пухлым лицом, с которого почти никогда не сходила простодушная улыбка. Ходил он тихими, неровными шагами; нравом был чрезвычайно добродушен, приветлив, кроток, но недалек умом. По склонностям своим он был более инок, чем царь: беседы с богомольцами — странниками и монахами — занимали его гораздо более, чем речи думных бояр; богослужение и церковные обряды были ему милее государственных дел, а церковный благовест — слаще всякой музыки… Что царский трон был не по нем — это вполне сознавал Иван Васильевич и сильно скорбел о старшем своем сыне, который больше походил на отца, чем Федор.
Хотя Федору было тогда 27 лет, но у него не было ни сил, ни охоты править государством, и потому вопрос о том, какой боярский род станет у престола, являлся очень важным. В это время два княжеских рода выдвигались на первое место: князья Мстиславские, потомки Гедимина, и князья Шуйские, из дома Рюрика. Представители первого рода не отличались особенными способностями; во главе рода Шуйских стоял знаменитый князь Иван Петрович, доблестный защитник Пскова, поднявший славу своего рода, сильно пострадавшего от опал Грозного. Наряду с этими знаменитыми княжескими родами стояли два старых боярских рода, породнившихся с царским домом: Романовы-Юрьевы и Годуновы. Боярин Никита Романович Юрьев, родной дядя государя, был представителем первого рода, а боярин Борис Федорович Годунов, царский шурин, — представителем второго. Царь Федор был женат на его сестре Ирине.
Уже в ночь после смерти царя Ивана сторонники Федора распорядились отправить маленького Дмитрия, его мать и родственников, бояр Нагих, в Углич, который был дан в удел Дмитрию отцом.
Скоро после этого поднялся мятеж: в народе разнесся слух, что боярин Богдан Вельский, сторонник Нагих, отравил покойного царя и хочет извести Федора. Толпы народа ломились в Кремль и требовали выдачи царского лиходея. Вельского спасли только тем, что тотчас же выслали из Москвы.
Сначала главным лицом при царе и правителем был Никита Романович, но недолго: он скоро заболел и умер. Тогда место его занял царский шурин.
Борис Годунов был человеком очень умным, честолюбивым, ловким, изворотливым, притом чрезвычайно осторожным: задавшись какой-либо целью, он шел к ней потихоньку, как бы крадучись. Он был в числе опричников, женился на дочери Малюты Скуратова, но держался так осторожно, что не запятнал себя кровью и в то же время сумел вкрасться в доверие и милость царя, — уже одно это показывает гибкий ум Бориса. Говорят, что Годунов бросился было защищать царевича Ивана от ударов разгневанного царя и был сильно побит, зато потом, когда царь раскаялся в своем преступлении, Борис вошел в большую честь.
Красивый собою, умный и красноречивый, царский шурин, понятно, должен был иметь важное значение при слабом Федоре.
Царь и великий князь Федор Иоаннович Царский титулярник XVII века
31 мая происходило венчание Федора на царство. Торжество это совершилось чрезвычайно пышно. Целую неделю продолжались пиры, веселье, народные празднества, потехи и забавы. Щедро посыпались царские милости на митрополита, духовенство, бояр и народ: были уменьшены налоги, освобождены заключенные, отпущены военнопленные, несколько заслуженных сановников возведено в боярское достоинство; Ивану Петровичу Шуйскому пожалованы все доходы с города Пскова, доблестная защита которого была всем памятна. Словом, никогда еще Москва не видала столько царских милостей, как при венчании на царство добродушного Федора Ивановича. Но никто не был осыпан такими щедротами, как Борис Годунов: он получил не только высокий сан конюшего, но и титул ближнего великого боярина, наместника двух царств, Казанского и Астраханского; ему даны были громадные поместья, все луга на берегу Москвы-реки, сборы с целых областей, доходы с некоторых промыслов сверх денежного жалованья. Годунов и так был не беден, но эти новые, щедрые пожалования сделали его богатейшим человеком в России. Ежегодные доходы его, говорят, достигали до ста тысяч рублей; он мог на свой счет снарядить из своих крестьян стотысячную рать. Никто из самых даже знатных бояр не мог равняться богатством с ним; царь один был богаче его. Понятно, что завистников у Годунова было немало: не только богатство, но и высшая власть в государстве попадала в его руки, а происхождением своим он стоял ниже многих бояр. (Свой род вел он от татарского мурзы Чета, который в XIV веке поселился на Руси и принял крещение. Внук его, Иван, получил прозвище Годун, от которого и стали все потомки зваться Годуновыми.) Хотя в боярской думе Годунов не занимал первого места — он садился обыкновенно четвертым, — но скоро все поняли, что он главное лицо в государстве и высшая власть в его руках. Все делалось по его желанию. Царь во всем слушался его; в иных случаях, когда надо было, Борис действовал на царя чрез свою сестру Ирину, которую Федор боготворил.
Патриарх Иов Икона
Некоторым из знатных бояр невыносимо было, что Годунов, человек не особенно знатный, незаслуженный, татарского происхождения, притом еще юный, тридцатидвухлетний, орудует всеми делами в государстве. Против него составился заговор. Князья Шуйские, Воротынские, Голицыны и др. порешили извести его: уговорили князя Мстиславского, с которым он был близок, зазвать его к себе на пир и тут думали его убить. Заговор этот был открыт. Князь Иван Мстиславский был схвачен и пострижен в монахи, многих разослали по разным городам, некоторых заключили в темницы. Казней не было. Шуйские вывернулись из беды — их не тронули. Годунов сильно злобился на них, но, зная, как их любят в Москве, особенно торговый люд, он попытался даже сблизиться с ними. Митрополит хотел быть примирителем: призвал к себе Годунова и Шуйских и умолял их оставить вражду. Враги примирились, но ненадолго. Когда Иван Петрович Шуйский, вышедши от митрополита, объявил своим сторонникам, толпою стоявшим у Грановитой палаты и ждавшим его, что они, Шуйские, помирились с Борисом Федоровичем, то из толпы выступили два купца и сказали:
— Помирились вы головами нашими: и вам пропасть от Бориса, и нам!
В ту же ночь оба эти купца пропали без вести: были схвачены и сосланы неведомо куда. Это, конечно, снова возбудило у Шуйских вражду к Годунову. Повели на этот раз дело более тонко: составили челобитную государю, в которой просили его развестись с бездетной Ириной и вступить в новый брак, так как для блага государства нужен наследник царю. Уговорили и митрополита Дионисия подписаться и умолять царя о новом браке. Челобитную подписали, кроме бояр, именитые московские купцы. Годунову грозила опасность. Как ни любил Федор Ирину, но мог уважить и просьбу москвичей, а особенно митрополита. Но Годунов вовремя узнал о враждебном замысле и постарался всеми силами уговорить Дионисия отстать от этой затеи: он выставил ему на вид, что дети еще могут быть у Ирины, а если их не будет, то законный наследник уже есть — брат царя, Дмитрий Углицкий. Дионисий согласился не начинать этого дела, и замысел Шуйских, таким образом, расстроился.
После этого случая Годунов убедился, что для него опасно оставлять Шуйских в Москве: они могли еще новое что-нибудь предпринять против него. По словам летописи, по наущению Бориса подкупленные слуги Шуйских донесли на своих господ, что они задумали измену. Этого доноса было достаточно Годунову. Шуйских перехватали; людей их пытали, добивались от них новых улик против господ, но ничего не добились. Несмотря на это, Иван Петрович Шуйский был отправлен в Белоозеро и там, говорят, по приказу Годунова, удавлен. Такая же участь постигла другого Шуйского. Пострадали и многие сторонники их: одни были казнены, другие — заключены в тюрьмы, третьих заслали в далекие города…
Дионисий, видя эту жестокую расправу Годунова со своими недругами, задумал было, по старому обычаю святителей, печаловаться у царя за опальных бояр и жаловаться на насилия и неправды Годунова, но последствия были плачевны для митрополита. Годунов уверил Федора, что Дионисий не пастырь, а волк в овечьей коже. Дионисий был свергнут и заточен в монастырь, а в митрополиты возведен Иов, ростовский архиепископ, человек вполне преданный Годунову.
Теперь у Годунова не было соперников и сильных врагов; никто не стоял ему поперек дороги, и он стал всемогущим правителем.
Неизвестный художник Портрет царя Феодора Иоанновича
Домашняя жизнь царя
Федор Иванович совсем не вмешивался в дела правления и всецело отдавался своим склонностям. Мы имеем весьма любопытные и обстоятельные сведения о его домашней жизни. Вставал он рано, около четырех часов утра. К нему являлся тогда его духовный отец, придворный священник, с крестом, благословлял его, прикасаясь концом креста к его лбу и ланитам. Царь целовал крест. Затем вносилась в покой икона с изображением того святого, который праздновался в тот день. Икону эту ставили к прочим образам, которыми была уставлена вся комната. Пред образами, богато украшенными жемчугом и драгоценными камнями, теплились лампады и горели восковые свечи. Царь молился с четверть часа. Затем священник вносил серебряную чашу со святой водой и кропил ею сперва образа, потом царя. Святую воду ежедневно приносили свежую; ее присылали царю игумены ближних и дальних монастырей от имени того святого, в честь которого построен монастырь.
Е. Данилевский Царь
После утренней молитвы царь посылал к царице спросить, хорошо ли она почивала, в добром ли она здравии, а немного времени спустя сам шел здороваться с ней, и оба шли в свою домовую церковь к заутрене, которая длилась около часа. Вернувшись из церкви, царь садился в большом покое, куда приходили к нему на поклон бояре, которые были в милости при дворе. Здесь царь и бояре, если имели что сказать, беседовали между собой. Так бывало всякий день, если только здоровье царя или какие-либо случаи не мешали этому.
Около девяти часов утра царь шел в другую церковь (в один из кремлевских соборов) к обедне, продолжавшейся около двух часов; после нее царь беседовал несколько времени с боярами и разными сановниками, затем возвращался домой и отдыхал до обеда.
За обедом (обыкновенно в полдень) проводил царь немало времени. Каждое кушанье, отпуская его на государев стол, должен был сперва отведать повар в присутствии главного дворецкого; потом дворяне-слуги (называемые жильцами) несли блюдо к столу; впереди шел дворецкий. У царского стола кушанье принимал крайчий, давал отведать его сперва особому для того чиновнику, а потом ставил блюдо пред государем. Число кушаний, подаваемых обыкновенно за царским столом, бывало около семидесяти; в праздники или при угощении послов блюд подавалось гораздо больше. Сперва приносилось разное печеное, потом жареное и, наконец, похлебки. В царской столовой, за особым столом, ежедневно обедали некоторые из знатнейших придворных сановников и царский духовник.
В стороне стоял еще стол с прекрасной и богатой посудой и большим медным чаном со льдом и снегом; здесь были кубки с напитками, которые подавались за столом. Чашу, из которой пил сам царь, в продолжение всего обеда держал особый чиновник и подносил ее по требованию царя, каждый раз приветствуя его низким поклоном. Кушанье, поданное на стол, раскладывали на несколько блюд, и царь, в знак своего благоволения, посылал их своим сановникам.
После обеда царь ложился отдыхать и почивал обыкновенно три часа или два — меньше в том случае, когда ходил в баню или отправлялся смотреть на кулачный бой, любимую народную потеху. Спать после обеда было в обычае у всех русских. После отдыха царь шел к вечерне, после которой проводил обыкновенно несколько времени с царицею и тешился шутами, карлами и карлицами, которые всячески дурачились, кувыркались, пели песни. Это было самой любимой забавой Федора. Несмотря на свою доброту, он иногда тешился и другой потехой, которая наряду с кулачными боями свидетельствовала о грубости тогдашних нравов, — смотрел на бой с медведями.
Ю. Кугач Русская сказка
Бой происходил следующим образом. В круг, обнесенный стеной, ставили человека, который должен был бороться с медведем, — бежать и скрыться было некуда. Медведей ловили нарочно для этой потехи и самых крупных и лютых держали в железных клетках для боя. Когда выпускали медведя, он, став на задние лапы, с ревом и с разинутой пастью шел прямо на своего противника. Спасение последнего зависело от ловкости его. Если ему удавалось всадить в грудь медведя между двумя передними лапами рогатину и упереть другой конец ее у своих ног, то победа над зверем была одержана. Чаще всего так и случалось, потому что на бой с медведем решались выходить лишь опытные и лихие охотники. Но бывали и несчастные случаи, когда охотник давал промах; тогда лютый зверь на глазах зрителей раздирал несчастного своими когтями и зубами. Искусного бойца, одолевшего зверя, вели к царскому погребу, где вдоволь поили в честь государя. Такие потехи бывали только по праздникам.
А. Максимов На государеву службу
Иногда царь проводил время, рассматривая изделия своих мастеров золотых дел, портных, золотошвеек и пр. Царские одежды и украшения, особенно торжественные, отличались, как известно, необыкновенной роскошью и великолепием.
Когда после ужина наступало время спать, священник читал несколько молитв, и царь молился перед сном, как и утром, около четверти часа.
Главные придворные сановники были следующие: конюший, дворецкий, казначей, постельничий и некоторые другие. Названия этих должностей показывают их значение. Кроме этих высших придворных сановников, при особе царя находилось для услуг двести человек дворян, так называемых жильцов. Две тысячи стрельцов составляли отряд царских телохранителей; он делился на части, которые поочередно стояли на страже на царском дворе.
В ночное время при царской спальне находился постельничий с одним или двумя лицами, особенно близкими к царю. В смежной комнате помещалось еще шесть человек из придворных, известных своей верностью. В третьем покое спали жильцы, которые должны были сменяться каждую ночь по сорок человек.
Порядки домашней жизни царя Федора были, конечно, те же, что и у прежних государей; отличалась она лишь еще большим проявлением набожности, да не было тех шумных удовольствий, которым любил порой предаваться Грозный.
Войны и отношения с соседями
Царствование Федора Ивановича было довольно мирным: ни царь, ни правитель войны не любили, но избегнуть ее все же не могли.
Годунов, при его тонком, изворотливом уме, осторожном, но твердом нраве, был настоящим государственным человеком, но, на беду, слишком уж был осторожен, и потому хорошо задуманное дело иногда ему не удавалось, если для довершения его нужны были смелость и быстрая решимость.
В 1586 году умер Стефан Баторий, непримиримый и опасный враг Москвы. В числе лиц, легко могущих попасть после него на польский престол, был Сигизмунд, сын шведского короля Иоанна, а по матери родной племянник Сигизмунда Августа, польского короля из дома Ягайло. С избранием Сигизмунда на польский престол Польша и Швеция, два постоянных врага Москвы, могли соединиться под одной властью. Годунов понимал, как это опасно для Москвы, и начал сильно хлопотать, чтобы этого не случилось: он отправил в Польшу послов, которым было наказано постараться об избрании в короли царя Федора, а если это не удастся, то порадеть в пользу эрцгерцога австрийского Максимилиана, брата германского императора. Литовцы очень хотели царя Федора. Слабость его и неспособность к управлению не могли считаться помехой к избранию: король в Польше был только для вида, а всеми делами орудовали вельможи и паны на сеймах. Сначала дело пошло было успешно для Федора, но Годунов медлил, не воспользовался удобным временем. Послы его были очень щедры на обещания, но денег им не было дано, чтобы ублаготворить сторонников Федора и привлечь к нему новых доброхотов. Тянулись переговоры о вере: поляки не хотели иметь королем некатолика, а Федор, конечно, не мог переменить своей веры. Дело не сладилось. Русским послам без денег не удалось поддержать и Максимилиана; одержали верх сторонники Сигизмунда. Он был избран и вступил на престол (1587). Русским удалось только добиться заключения перемирия на пятнадцать лет.
Польский король Сигизмунд
Со Швецией по окончании перемирия началась война — в 1590 году. Борис двинул на врагов огромную рать. Сам царь был при войске для воодушевления его. Война была удачна для русских: Ям, Иван-город и Копорье, отнятые у них при Грозном, были возвращены. Поляки не помогли шведам. По смерти шведского короля Иоанна в 1592 году король польский Сигизмунд стал и шведским королем, но ненадолго. Он был ревностным католиком и сильно враждовал против лютеранства, а шведы были лютеране, и потому они его крепко невзлюбили. Этим задумал воспользоваться дядя Сигизмунда, Карл, правитель Швеции, и завладеть шведским престолом. Им обоим было тогда не до войны, и в 1595 году был заключен вечный мир России со Швецией. Ям, Иван-город, Копорье и Корела достались русским.
Крымские татары держали в постоянной тревоге нашу южную украину. Хан Казы-Гирей лукаво заговаривал с московским правительством о союзе против Литвы, требовал щедрых подарков, и в то же время шайки татар нападали на русские села и деревни, грабили их и жгли. Это было делом обычным. Но 26 июня 1591 года прискакали в Москву гонцы с вестью, что степь покрылась тучами ханской силы, что не менее полутораста тысяч татар быстро идет к Туле. Крымцы так внезапно очутились на Оке, что русским оставалось думать только о защите столицы. На беду, главные военные силы наши находились на севере, так как со дня на день ждали разрыва со Швецией. Годунов, однако, не упал духом, приказал всем воеводам степных крепостей с их отрядами спешить к Серпухову. Таким образом собралась значительная рать; начальство над ней было вручено князю Мстиславскому. Москва приготовилась к осаде. Быстро были построены деревянные стены вокруг предместья за Москвой-рекой, чтобы татары не могли снова сжечь столицу, как двадцать лет тому назад. Пригородные монастыри были обращены в настоящие крепости. Русское войско у самого города в поле укрепилось и ждало врага. Добродушный царь побывал в войске, милостиво ободрял воевод. Годунов в блестящих доспехах объезжал рать. Его приветствовали как главного вождя, но он предоставил высшее начальство над войском князю Мстиславскому, а сам занял второе место.
Царь-пушка
4 июля подошли татары к Москве. Хан, обозрев с Поклонной горы местность, приказал ударить на русских. Татарская конница спустилась с высот и напала на передовой русский отряд. Загремели пушки с кремлевских стен, со стен монастырей, из укрепленного стана. Ядра и пули из ручных пищалей осыпали татар, которые поэтому принуждены были нападать врассыпную. Сломить русских им было очень трудно.
На стенах городских, башнях, колокольнях громоздился народ, со страхом и любопытством следивший за боем. В церквах молились. Молился усердно и благочестивый царь.
Сражение было нерешительно. Главные силы той и другой стороны еще не вступали в бой, но поле битвы было покрыто трупами, и татарских тел было гораздо больше, чем русских: пушки и ручные пищали выручили русских из беды. Годунов обращал большое внимание на военное дело. В Москве в это время иностранные и русские мастера отливали пушки, иногда даже огромных размеров (Царь-пушка). Стрельцы обучались стрельбе из ручных пищалей. В русском войске были отряды иностранных опытных мушкетеров. Хотя тогдашние пушки и ружья были еще очень несовершенны, но все же вреда наносили гораздо больше, чем татарские стрелы, а своим громом пугали лошадей, и татарская конница не могла действовать как следует.
Годунов не жалел пороху, и всю ночь гремела пальба. Татары стали спрашивать у русских пленников, что это значит, а те догадались сказать, что в Москве пальбой выражают радость, так как прибыли, вероятно, свежие войска, давно ожидаемые из Новгорода. Хан рассчитывал было взять Москву врасплох, но, встретив сильный отпор и боясь, чтобы и в самом деле к русским не подоспели главные их боевые силы, велел поспешно отступить в ту же ночь. С рассветом в Москве разнеслась радостная весть, что хан бежал. При звоне всех московских колоколов и радостных криках народа конные полки кинулись в погоню за татарами. Русские захватили большую добычу, перебили и забрали в плен множество врагов.
Щедро были награждены воеводы: и почетными наградами (золотыми медалями), и другими царскими милостями, а Годунов, кроме разных дорогих подарков, получил самый почетный титул — «Слуги», который давался очень редко, и то за особые услуги.
На следующий год татары снова сделали набег на рязанские, каширские и тульские земли и увели на этот раз огромное число пленных. Хотя Годунов для укрепления южной степной украины устроил целый ряд новых укреплений, засек и крепостей (Белгород, Оскол, Валуйки и другие), но оборонить длинную степную границу было все-таки очень трудно.
Ф. Солнцев Старинные пищали
Завел было Годунов переговоры с Турцией, просил султана обуздать татар, но турецкое правительство отнеслось к русским высокомерно, требовало, чтобы Москва отдала султану Астрахань и Казань, удалила с Дона казаков, сильно беспокоивших и турок и татар, и отступилась от кахетинского царя. Кахетинский, или иверский, князь Александр незадолго пред тем обратился в Москву с мольбой к царю — взять Кахетию под свою высокую руку и спасти от притеснений нечестивых врагов. Кахетия, которую теснили в то время с одной стороны турки, с другой — персы, была принята в московское подданство. Понятно, что турецкий султан злобился за это на Москву, и потому переговоры кончились ничем.
Пришлось позаботиться о союзниках на случай войны с турками. Несколько лет с этой целью велись сношения с германским императором, велись переговоры о том же и с персидским шахом, но все попытки найти надежных союзников для борьбы с Турцией оказались бесплодными.
Деятельные сношения с Англией не прерывались; английская королева, видимо, очень дорожила дружбой Москвы, величала Годунова своим «кровным, любительным приятелем». Для Англии была очень выгодна беспошлинная торговля с Россией. В свою очередь Годунов старался усилить торговые сношения с Западной Европой; на Белом море, по его приказу, была заложена Архангельская пристань.
А. Волков Рассвет над Москвой-рекой
На востоке дела русских шли удачно. После гибели Ермака, казалось, погибнет и его дело и полудикие татарские орды снова будут владеть богатым Сибирским краем, но Годунов понимал, как важно обладание этой страной для торговли, и посылал в Сибирь отряд за отрядом. Владычество русских здесь мало-помалу упрочивалось и постройкой городов (Тобольск, Пелым, Березов, Тюмень и другие).
Учреждение патриаршества
Пал Царьград — с ним пало и значение царьградского, или византийского, патриарха: он стал как бы пленником турецкого султана. Турки смотрели на христиан с презрением, всячески их теснили, грабили — и некогда богатые христианские области на Востоке запустели. Восточные патриархи, в том числе и византийский, стали искать в Москве покровительства и денежной помощи. С Востока беспрестанно являлись сюда духовные лица, приносили царю от патриархов в дар частицы мощей и разные священные вещи и умоляли о денежной помощи. В посланиях царю ярко выставлялись бедствия и нищета христианской церкви на Востоке; русского царя величали вторым Константином, самодержцем всего христианского мира, христианским солнцем, освещающим всю вселенную, и прочее. Москву стали называть третьим Римом. С большим почтением, а иногда и подобострастием обращались патриархи в своих письмах и к московским митрополитам, прося у них денежной помощи. С половины XV века русская церковь была уже вполне независима от византийского патриарха. Московский митрополит и по власти, и по средствам стоял несравненно выше его, и потому русскому первосвятителю титуловаться ниже его было некстати. Уже при венчании Иоанна IV на царство по тому чину, по какому цезари римские венчались папами и патриархами, чувствовалась неловкость, что обряд этот совершает митрополит, а не патриарх.
В 1586 году, летом, в Москву прибыл антиохийский патриарх Иоаким, за милостыней. В первый раз еще Москва видела патриарха в своих стенах. Встреча была устроена чрезвычайно торжественно, с соблюдением всех должных обрядов.
Святейший патриарх Московский и всея Руси Иов Царский титулярник XVII века
Царь Федор, как известно, очень любил пышные обряды. Все эти торжества вызвали оживленные толки в Москве и среди близких к царю лиц о значении патриаршества, о необходимости учредить его в России. Притом и католики корили русскую церковь, что она подчиняется рабу султана. Мысль об учреждении патриаршества пришлась, конечно, по душе набожному царю. Он созвал высшее духовенство и бояр на совет и между прочим сказал им:
— По воле Божией на Востоке патриархи по имени только называются святителями и власти почти вовсе лишены. Наша же страна, как видите, в многорасширение приходит, и потому хочу, если Богу угодно и писания божественные не противоречат этому, да устроится «превысочайший» престол патриаршеский в царствующем граде Москве. Думаю, это будет не во вред благочестию, но послужит к преуспеянию веры Христовой.
Митрополит и бояре одобрили это намерение, но советовали опросить об этом всех восточных патриархов, потому что такое великое дело должно было устроиться по решению всей восточной церкви, чтобы латиняне и еретики не могли говорить, что патриарший престол в Москве устроен лишь по царской воле. Антиохийский патриарх, осыпанный царскими милостями, уезжая из Москвы, обещал, что предложит на соборе восточных святителей учредить патриаршество в России.
Это дело было уже в полном ходу, уже царь был извещен, что восточные патриархи сочувствуют задуманному, как совершенно неожиданно пришла весть к царю, что в Москву едет византийский патриарх Иеремия.
Встретили его еще с большей честью, чем антиохийского.
Иеремия так описывал плачевное положение своей церкви:
«Я приехал в Царьград; вижу — Божия церковь (храм святой Софии) разорена и строят в ней мезгит (мечеть); все достояние разграблено, кельи обвалились. Султан стал присылать ко мне, чтобы устроить патриаршую церковь и кельи в другом месте Царьграда; а мне строить нечем, вся казна расхищена; и я челом бил султану, чтобы позволил мне идти в христианские государства для сбора милостыни на церковное строение».
Из беседы с патриархом обнаружилось, что он приехал в Москву только за милостыней, за сбором пожертвований для обновления своей патриархии, а насчет учреждения русского патриаршества он не привез никаких решений. Тогда царю или его советникам пришло в голову предложить Иеремии стать русским патриархом: византийский патриарх считался старшим, и переход его из Константинополя в Москву должен был возвысить ее в глазах всех восточных христиан. Затруднение было лишь в том, что царь очень любил митрополита Иова и не хотел с ним расстаться, и потому Иеремии было предложено, если он останется в России, жить не в Москве, где предполагалось оставить митрополита Иова, а во Владимире.
— Будет на то воля великого государя, — отвечал Иеремия, — чтобы мне быть в его государстве, я не отказываюсь, только быть мне во Владимире нельзя: патриархи живут всегда при государе.
Царь на совещании об этом ответе высказал между прочим следующее:
— Статочное ли дело нам нашего святого, преподобного отца нашего и богомольца Иова, митрополита от Пречистой Богородицы и от великих чудотворцев, удалить, а сделать греческого закона патриарха, а он здешнего обычая и русского языка не знает, и ни о каких делах духовных нам говорить с ним без толмача нельзя.
После довольно долгих переговоров Годунова с Иеремией тот согласился поставить в патриархи кого-либо из русских архипастырей. Царь пожелал, конечно, Иова.
С большой пышностью был совершен 26 января 1589 года обряд постановления его в патриархи. Вместе с тем четыре владыки: новгородский, казанский, ростовский и крутицкий (в Москве) — возведены были в сан митрополита, а шесть епископов получили звание архиепископов.
Иеремия, богато одаренный, отправился в Константинополь с царской грамотой к султану.
«Ты бы, брат наш Мурат, — говорилось в ней, — патриарха Иеремию держал в своей области и беречь велел пашам своим так же, как ваши прародители патриархов держали в береженье, по старине, во всем; ты бы это сделал для нас».
Чрез два года привезена была в Москву грамота на учреждение патриаршества, утвержденная собором восточных патриархов.
Хотя и прежде московский митрополит на деле был главой русской церкви и не зависел от византийского патриарха, но теперь самостоятельность русской церкви признавалась всенародно всеми православными святителями, а сан патриарха в глазах всех православных высоко поднимал главу русской церкви.
Учреждением патриаршества был доволен благочестивый царь; довольны были все повышенные духовные лица; доволен был и Борис Годунов: его благожелатель Иов теперь получал больше силы и значения, мог ему оказать при случае больше поддержки, а это было нужно дальновидному честолюбцу.
Убиение царевича Дмитрия
Никогда еще не бывало в Московском государстве, чтобы царский родич, хотя бы и именитый боярин, достигал такой высокой чести и такого могущества, как Годунов: он был настоящим властителем государства; Федор Иванович был царем только по имени.
Являлись ли в Москву иноземные послы, решалось ли какое-нибудь важное дело, надо ли было бить челом о великой царской милости — обращались не к царю, а к Борису. Когда он выезжал, народ падал пред ним ниц. Челобитчики, когда Борис обещал им доложить царю об их просьбах, случалось, говорили ему:
— Ты сам, наш государь-милостивец, Борис Федорович, только слово свое скажи — и будет!
Эта дерзкая лесть не только проходила даром, но даже нравилась честолюбивому Борису. Мудрено ли, что у него, стоящего на небывалой еще высоте, закружилась голова и власть очень уж полюбилась ему?.. Его жена, дочь злодея Малюты, была не менее его честолюбива.
Годунова превозносили и свои и чужие. Неутомимой деятельности его все изумлялись: он вел беспрерывные переговоры с иноземными правительствами, искал союзников, улучшал военное дело, строил крепости, основывал новые города, заселял пустыни, улучшил суд и расправу. Одни хвалили его за скорое решение судебного дела; другие — за Оправдание бедняка в тяжбе с богачом, простолюдина — с именитым боярином; третьи славили его за постройку без тяготы для жителей городских стен, гостиных дворов… Всюду разносились о нем самые благоприятные слухи. И русские послы, и иноземные, побывавшие в Москве, величали его начальным человеком в России и говорили, что никогда еще такого мудрого правления в ней не бывало. Даже коронованные особы искали дружбы Годунова.
П. Глазунов Легенда о царевиче Димитрии
Большей славы и силы правителю из простых смертных нельзя достигнуть, но мысль, что все это величие крайне непрочно, что со смертью больного и бездетного царя оно рухнет, должна была удручать Годунова. В Угличе подрастал царевич Дмитрий. Умри сегодня Федор, а завтра прощай не только власть Годунова, но и свобода, а пожалуй, и сама жизнь… Нагие, царские родичи и злейшие враги его, не преминут раздавить ненавистного им временщика…
Страшились Нагих не менее, чем Годунов, и все его сторонники; да и бояре, не любившие его, но подавшие голос в думе за удаление Дмитрия с матерью его и родичами в Углич, должны были опасаться будущего, понимали, что им всем несдобровать, когда власть попадет в руки Нагих.
Молодой царевич жил с матерью в Угличе, в небольшом мрачном дворце. Ему было уже около девяти лет. Мать и дядья его с нетерпением ожидали его совершеннолетия; носились слухи, что они призывали даже гадальщиц, чтобы узнать, долго ли жить Федору. Рассказывали также, что царевич склонен, подобно отцу, к жестокости, любит смотреть, как убивают домашних животных; говорили, будто бы, играя раз со сверстниками, он слепил из снега несколько человеческих подобий, назвал их именами главных царских бояр и стал палкой отбивать им головы, руки, говоря, что так будет рубить бояр, когда вырастет.
Конечно, все эти россказни могли быть выдуманы досужими людьми, вернее всего доброхотами Годунова и врагами Нагих.
С. Блинков Царевич Дмитрий
А. Моравов Убиение царевича Дмитрия
В Углич, для надзора за земскими делами, а более всего для наблюдения над Нагими, Годунов послал вполне преданных ему людей: дьяка Михайлу Битяговского с сыном Данилом и племянником Качаловым.
15 мая 1591 года в полдень произошло в Угличе потрясающее событие. В соборной церкви ударили в набат. Народ сбежался со всех сторон, думая, что пожар. На дворцовом дворе увидели тело царевича с перерезанным горлом; над убитым вопила в отчаянии мать и кричала, что убийцы подосланы были Борисом, называла Битяговских — отца и сына, Качалова и Волохова. Рассвирепевший народ убил их всех по указанию Нагих, умертвил и еще нескольких человек, заподозренных в согласии со злодеями.
По рассказу летописей, преступление совершилось следующим образом.
Царица вообще зорко смотрела за сыном, не отпускала его от себя, особенно стала беречь его от подозрительных для нее Битяговских с их товарищами, но 15 мая она замешкалась почему-то в хоромах, и мамка Волохова, участница заговора, повела царевича гулять на двор, за ней пошла кормилица. На крыльце убийцы уже поджидали свою жертву. Сын мамки, Осип Волохов, подошел к царевичу.
— Это у тебя, государь, новое ожерельице? — спросил он, взявши его за руку.
— Нет, старое! — отвечал ребенок и поднял голову, чтоб дать лучше рассмотреть ожерелье.
В руках убийцы сверкнул нож, но удар оказался неверен, поранена была лишь шея, а гортань осталась цела. Злодей пустился бежать. Царевич упал. Кормилица прикрыла его собою и стала кричать. Данила Битяговский и Качалов несколькими ударами ошеломили ее, оттащили от нее ребенка и дорезали его. Тут выбежала мать и начала вопить в исступлении. На дворе никого не было, но соборный пономарь видел с колокольни все это и ударил в колокол. Народ сбежался, как сказано, и произвел свою кровавую расправу. Всех убитых и растерзанных народом было 12 человек.
Тело Дмитрия было положено в гроб и вынесено в соборную церковь. К царю немедленно был послан гонец с ужасным известием. Гонца сначала привели к Годунову, тот велел взять у него грамоту, написал другую, где говорилось, что Дмитрий сам зарезался в припадке падучей болезни.
Федор Иванович долго и неутешно плакал по брату. Наряжено было следствие по этому делу. Князь Василий Иванович Шуйский, окольничий Клешнин и крутицкий митрополит Геласий должны были в Угличе на месте расследовать все, как было, и донести царю. Последние двое были сторонники Годунова, а Шуйский был его врагом. Очевидно, Годунов рассчитывал, что осторожный Шуйский не осмелится в чем-либо обвинить его, а между тем у всех недоброхотов правителя назначение Шуйского зажимало рты: никто не мог сказать, что следствие велось только друзьями Годунова.
Следствие ведено было крайне недобросовестно; оно направлено было, казалось, к тому, чтобы скрыть преступление: внимательного осмотра тела не было сделано; показаний с людей, убивших Битяговского и его соумышленников, снято не было; царицу тоже не спрашивали. Больше всего значения было придано показаниям нескольких сомнительных лиц, утверждавших, будто царевич зарезался сам в припадке падучей болезни.
Следственное дело было дано на обсуждение патриарха и духовенства. Патриарх признал следствие верным, и решено было на том, что царевичу Дмитрию смерть учинилась Божиим судом, а Михаил Нагой государевых приказных людей: Битяговских, Качалова и других — велел побить напрасно…
Годунов сослал всех Нагих в отдаленные города в заключение; царица Мария была насильно пострижена под именем Марфы и заключена в монастырь. Угличане подверглись опале. Обвиненных в убийстве Битяговского и товарищей его предали смертной казни. Некоторым за «неподобные речи» отрезали языки; множество народа было сослано в Сибирь; им населили вновь основанный город Пелым. Сложилось в народе предание, что Годунов из Углича сослал в Сибирь даже и тот колокол, в который били в набат в час смерти царевича. В Тобольске до сих пор показывают этот колокол.
Нагие пострадали, но всенародная молва произнесла свой приговор над Годуновым. Убеждение, что он сгубил царевича, окрепло в народе — и тот самый народ, который не озлобился на Грозного за его лютые бесчисленные казни, никогда уже не мог, несмотря на все благодеяния и милости, простить честолюбцу гибели последней отрасли царского дома, мученической смерти невинного ребенка.
Царевич Димитрий Иоаннович Царский титулярник XVII века
Виновен ли Годунов в убийстве Дмитрия, как гласила народная молва, или нет — это дело темное. Ходили слухи, будто убийцы, терзаемые народом, перед смертью повинились, что они подосланы Годуновым; но едва ли он, при его уме и осторожности, мог решиться на такое грубое и опасное преступление. Вернее предположить, что доброхоты Годунова, понимая, какая беда грозит и ему и им при воцарении Дмитрия, сами додумались до преступления.
Смертью царевича положение Годунова упрочивалось. Едва ли уже тогда он мечтал о царском троне: для него важно было уж и то, что он избавился от страшных для него Нагих. Теперь, со смертью бездетного царя, он мог надеяться, что власть перейдет к царице, а он при ней останется по-прежнему всемогущим правителем.
Вскоре после смерти царевича в Москве вспыхнул сильный пожар, испепеливший значительную часть города. Годунов стал немедля раздавать пособия погорельцам, целые улицы отстраивал на свой счет. Небывалая щедрость, однако, не привлекла к нему народа; ходили даже недобрые слухи, будто Годунов тайно приказал своим людям поджечь Москву, чтобы отвлечь внимание москвичей от убийства царевича и выказать себя народным благодетелем.
В 1592 году у царя Федора родилась дочь Феодосия. Велика была радость царя и царицы; радовался или, по крайней мере, показывал вид радости и Годунов. Именем царя он освобождал узников, раздавал щедрую милостыню, но народ не верил искренности его, и когда, несколько месяцев спустя, ребенок скончался, в народе пошли ходить нелепые толки, что Годунов извел маленькую царевну.
Он очевидно становился жертвой беспощадной людской молвы.
М. Нестеров Димитрий — царевич убиенный
И. Шишкин Полдень в окрестностях Москвы
Прикрепление крестьян к земле
Самым важным делом Годунова в царствование Федора было прикрепление крестьян к земле. Оно привело к очень печальным последствиям.
Огромная Русская земля с ее полями, лугами, лесами, реками и озерами была открыта в древности, при начале государства, для всех: селись где любо и промышляй чем хочешь. Селились особняком, одним двором, селились и обществом, селом или городом. Сельчане и горожане в старину не различались меж собой — одинаково занимались земледелием и другими промыслами. Земли было вдоволь. Если она оскудевала где-либо, то поселенцы приглядывали себе другое удобное место и выселялись туда. При огромных пространствах гулящей, свободной земли прочной оседлости не было. Каждый по мере сил и способностей мог занять себе участок, возделать его и обратить в свою собственность; владение землей долго называлось посильем. По старинному выражению, все то пространство земли становилось собственностью человека, «куда его топор, коса и соха ходили».
Кто мог, сам очищал землю для себя, обращал ее в пашню, обзаводился хозяйством и становился полным владельцем своего участка — имел право передать его по наследству, как вотчину, продать, подарить. Те, кому не под силу было самим справиться, обзавестись своим отдельным хозяйством, сообща с другими, то есть общиной, приспособлялись к земле. Каждый член общины пользовался отдельным участком земли, но настоящим владельцем ее считалась только вся община.
Таким образом, издавна явились на Руси земли владельческие — вотчинные и общинные, кроме диких, гулящих, то есть никем не занятых земель.
Для того чтобы обработать дикую, непочатую почву и обратить ее в собственность, нужно много и силы, и охоты, да и средства необходимы, земледельческие орудия, лошадь… Понятно, что многим не под силу было это, и они приставали или к общинам, или шли к богатым владельцам, получали от них участки земли и средства для обработки их и возделывали землю на известных условиях, например за половину сбора с полей (исполовники), а не то шли в закупы: в наймиты, в батраки, то есть становились вольнонаемными рабочими. Иные по несчастью, за неоплатные долги, попадали в кабалу, становились холопами, предпочитали спокойное и сытое житье подневольного слуги, раба, тревожной жизни свободного бедняка. Таким образом, само собой население стало распадаться на: 1) зажиточных людей, лучших мужей (вотчинников, домовладельцев), 2) меньших, или черных, людей, крестьян, мужиков (живших на вотчинной или на общинной земле), и 3) холопов, кабальных людей.
Князья, бояре, духовенство, монастыри, купцы, крестьяне могли делаться поземельными владельцами. Крестьяне хотя и назывались черными людьми, но были вполне свободны, могли жить где хотели, могли обращаться в купцов, в духовных лиц и прочих.
Все должны были так или иначе служить государству: дружинники и бояре служили лично, составляли дружину или двор князя, ходили на войну, управляли волостями и пр.; купцы платили большие пошлины; с крестьян собиралась дань, сначала небольшая, на содержание княжьей дружины. Иногда князья давали своим дружинникам вместо жалованья свои заселенные земли в поместие, то есть не в полное владение, а в пользование: помещики-дружинники собирали дань с поместья своего в свою пользу.
В удельное время, при постоянных переходах князей с их дружинами из удела в удел, раздача поместий производилась, вероятно, не в больших размерах; да и земля мало цены имела в глазах бродячей дружины; но с того времени, как северные князья прочнее водворяются в своих уделах, населенная земля и поместья получают больше цены. Князья хлопочут о том, чтобы населить свои земли, усилить крестьянство. Увеличивается население на севере, усиливаются и разные промыслы, и владеть землею близ городов, на реках, на торговых путях становится делом выгодным. Но собравшееся и окрепшее Московское государство вступает в постоянную и упорную борьбу с западными и восточными соседями. Для войны нужны деньги, нужны люди. Крестьянские подати и разные повинности, и без того тяжелые с татарских времен, становятся еще тяжелее. Мелких поместий раздается служилым людям все больше и больше. Число служилых людей быстро растет. Завоевание обширных новгородских и псковских земель дало возможность Ивану III и Василию III целыми тысячами испомещать, то есть наделять поместьями, служилых людей (боярских детей), причем они обязывались по первому же призыву являться в назначенное место «конны, людны и оружны». Но исправно нести свои обязанности служилые люди могут только в том случае, если их поместья дают им средства, если доходы с поместий достаточны, а это зависело от того, довольно ли было крестьян на их земле.
Г. Мясоедов Дорога во ржи
Трудно было крестьянину XVI века «тянуть тягло», то есть платить разные подати и отбывать повинности. Он не только уплачивал дань, но должен был еще со всякого промысла уплачивать известную долю, давать кормы наместникам и другим начальным людям. Сверх того, крестьяне должны были поставлять лошадей государевым гонцам (ям), поставлять подводы и выполнять много других мелких повинностей.
Раскладка податей и повинностей производилась следующим образом. Земля делилась на участки, или сохи. Сохи заключали в себе от 1200 четвертей до 400 (по теперешнему счету от 1800 до 600 десятин); следовательно, сохи были неодинаковы по величине: сохи дворцовые, вотчинные и монастырские были больше, чем поместные и общинные. С малых сох взималось столько же податей, сколько с больших, а на большом пространстве было обыкновенно больше и крестьян; стало быть, «тянуть тягло» крестьянину на большой сохе было легче, чем на малой. (Например, в корм наместнику полагалось с каждой сохи полоть мяса, десять хлебов, бочка овса и воз сена. С большой сохи это все должны были доставить, положим, 300 крестьян, а с малой — 150; очевидно, последним эта повинность была вдвое тяжелее; то же должно сказать и относительно прочих платежей и повинностей.)
Время от времени составлялись писцовые книги, в которые заносилось, сколько за вотчинником, помещиком или за общиной числится доходной земли, и сообразно этому определялось, сколько сборов с нее должно идти в казну и сколько вооруженных людей в случае войны должен выставить владелец.
Но черные люди, или крестьяне, свободно могли переходить с одних мест на другие. Понятно, что выгоднее всего было им селиться на больших сохах вотчинных земель или монастырских, а рабочие руки всюду были нужны, и потому крестьян везде охотно принимали. Бывали даже случаи, что землевладельцы силой захватывали крестьян у своих соседей и сажали их на своих землях. Чем тяжелее становились повинности, тем более усиливалось движение крестьян с общинных земель и с мелкопоместных. Сильные пожары, истреблявшие крестьянские хозяйства, набеги татар, моровые поветрия, убавлявшие число рабочих, тоже заставляли крестьян разбегаться. Целые области иногда пустели: нередко встречались покинутые деревни… Убыль людей на каком-либо участке при сборе податей не бралась в расчет до составления новых писцовых книг, а все подати и повинности, лежавшие на участке, невмоготу было поднять на себя крестьянам, оставшимся на нем в небольшом числе, — они тоже разбегались. Многие переходили в холопы, другие шли в батраки, третьи уходили в степи и становились казаками.
А. Кившенко Жнитво
Всю силу свою государство брало из земли: она давала главные денежные средства правительству, она кормила и сотни тысяч служилых людей, составлявших главную его силу. А нет крестьян на земле — она теряет всякую цену: убавляются доходы государства, служилые люди — помещики — не могут править службу как следует, при сборе войска являются с плохим оружием, не приводят с собой должного числа воинов, даже и вовсе не являются — приходится отмечать их в «нетях».
Правительству приходилось ради своей же пользы позаботиться о том, чтобы облегчить и улучшить участь черных людей. Царь Иван и его советники старались, видимо, поддержать общинное устройство крестьян: в общине, где друг друга поддерживают, один другого выручает, всем легче живется. Заботился царь и о том, чтобы приказные люди не обижали крестьян, позволял им самим управляться, выбирать себе общиной старост, целовальников и других излюбленных людей, которые вершили бы дела «беспосульно и безволокитно» (то есть без взяток и без замедления).
Неизвестный художник Крестьянский двор
Но подати и повинности не сбавлялись; войны, тяжелые и обременительные, продолжались, и крестьянам становилось все труднее тянуть тягло.
Переход крестьян из мелкопоместных и общинных земель в земли более льготные, боярские и монастырские, продолжался. К концу XVI века крестьян, поземельных собственников, уже не было. Не под силу было им тянуть тягло на своей земле, да и обид от приказных людей и от сборщиков податей приходилось терпеть немало, а на боярской земле жилось крестьянину за боярином как за каменной стеной. Вот почему вольные крестьяне шли в закупы к богатым владельцам, а не то просто в батраки и холопы, а те, которым воля была дорога, уходили в степные украины, в казаки. С присоединением к московским владениям Поволжья и Сибири открылись новые обширные области для выселения. Правительству пришлось позаботиться о том, чтобы не уходила рабочая сила из-под тягла. Уменьшалась эта сила в государстве — падали и доходы его, слабело и войско. Служилые люди, мелкие помещики, беспрестанно бьют челом, что богатые землевладельцы переманивают крестьян у них и этим разоряют их вконец, что службу государеву править им невмочь; жалуются, что им «тощета» и оттого, что крестьяне уходят от них на монастырские льготные земли.
Правительство, испомещая служилых людей, давая им вместо жалованья земли, должно было озаботиться, чтобы дать им и постоянного работника, иначе им невмочь было править свою службу. Вот главная причина прикрепления крестьян к земле.
В Литовской Руси гораздо раньше старались уничтожить переманку крестьян большими льготами от одного землевладельца к другому. Здесь запрещено было под страхом наказания сманивать крестьян новыми льготами. Московское правительство тоже думало сделать нечто подобное. Еще при Грозном было поставлено, чтобы монастыри не приобретали без особого разрешения земли; отменены так называемые «тарханные грамоты», которыми давались монастырским землям очень важные льготы, сильно привлекавшие крестьян. Но скоро тарханы были возобновлены. Годунов искал опоры у духовенства, и потому ему не было расчета обижать монастыри; а между тем необходимо было подумать о выгодах служилых людей.
Еще раньше постепенно ограничивалась свобода крестьянских выходов. Определено было, что крестьяне могут переходить от одного помещика к другому около осеннего Юрьева дня, когда уже все сельские работы были окончены и счеты между помещиком и крестьянином сведены. Наконец, около 1592 года был издан от имени царя указ, по которому у крестьян отнималось право выхода; они обязывались оставаться на той земле, где застал их указ. И раньше тяжело жилось крестьянину, но все же он знал, что наступит желанный Юрьев день — и можно будет поискать нового места, уйти от господина, с которым тяжело живется. Теперь же этот желанный день у крестьянина отнимался и уход его с места становился преступлением. Крестьяне не делались холопами или рабами помещика, они прикреплялись только к земле, но волю все же теряли и попадали более, чем прежде, под власть помещиков.
В. Маковский Крестьянка в поле
Кроме тяглых крестьян, были в каждом селе нетяглые люди, то есть не приписанные к тяглу по писцовым книгам. Это были взрослые сыновья при отцах, братья при братьях, племянники при дядьях и пр., называли их обыкновенно захребетниками и подсуседниками. Они были людьми вполне свободными, вольными работниками. Чрез пять лет, в 1598 году, вышел указ, по которому вольные слуги, прослужившие у господина пол года, становились его холопами. Таким путем хотело правительство и этих вольных людей прикрепить, но уже не к земле, а к господину, которому и отдавались они в полную власть.
Этими мерами Годунов рассчитывал упрочить доходы государства и военные силы его. Прикрепление крестьян к земле и закабаление вольных людей были очень выгодны для служилых мелкопоместных людей, так как от них обыкновенно и уходили рабочие силы к богатым владельцам, которые теперь лишались возможности сманивать людей. Но главная военная сила государства составлялась из сотен тысяч служилых боярских детей, а не из сотен богатых и знатных бояр, и Годунов выгоды последних смело приносил в жертву первым. Он не предвидел, конечно, к каким ужасным последствиям приведут эти меры. Ему лично они были выгодны, так как он приобретал теперь новую опору — в служилых людях, составлявших главную военную силу в государстве.
Но уже самому Годунову пришлось увидеть и вредные следствия прикрепления крестьян. Законное право уходить с места у них было отнято — они стали делать это незаконно. Побеги крестьян и розыски беглых страшно тяготили и помещиков, и правительство. Судам, тяжбам, сыскам и насилию не было счету. Число нищих и бродяг из беглых крестьян все росло и росло. Разбои и воровство усилились, чем больше крестьян было в бегах, тем труднее было тянуть тягло оставшимся.
С. Иванов Юрьев день
Тяжело жилось русскому простолюдину и раньше, а после закрепощения стало еще тяжелее. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» — до сих пор еще говорит наш теперь уже свободный простолюдин, когда над ним стрясется какая-либо нежданная беда: сильно, видно, врезалась в народную память отмена Юрьева дня.
Неприглядна была и с внешней стороны жизнь крестьянина: по большей части тесная курная избенка служила ему жилищем. Одевался простой народ в ту пору почти так же, как и теперь: те же были тулуп, зипун (сермяга) и меховая шапка в холодную пору, а летом — одна рубаха. Кожаная обувь была у более зажиточных; бедняки носили лапти. Простолюдины, жившие при городах (посадские), обыкновенно бывали зажиточнее; они и жили попросторнее, и одежду шили понаряднее, не из таких грубых тканей, как бедняки.
Избрание Бориса Годунова на престол
Великая печаль, по словам летописи, была в Москве б января 1598 года: «Последний цвет Русской земли отходил от очей всех», — умирал царь Федор.
Патриарх и бояре были при нем.
— Кому сие царство и нас сирых приказываешь и свою царицу? — спросил у царя патриарх.
— В сем моем царстве и в вас волен Бог, наш Создатель. Как Ему угодно, так и будет, а с царицею моею Бог волен, как ей жить, и о том у нас уложено, — отвечал умирающий.
7 января его не стало.
Одно лицо теперь оставалось на престоле — вдова покойного государя, Ирина. Ей спешили присягнуть думные бояре, чтобы избежать междуцарствия.
Утром, когда разнесся по городу слух о кончине царя, москвичи сильно горевали, горько оплакивали его. Добродушного и набожного царя, по словам летописи, народ высоко чтил и любил.
В 9-й день по кончине Федора Ирина изъявила желание постричься. Напрасно челом били ей и умоляли ее святители, бояре и народ не оставлять царства: она была непреклонна, не вняла народным мольбам и постриглась под именем. Александры. За сестрой удалился в Новодевичий монастырь и Борис. Теперь во главе государства остался патриарх. Ему принадлежал и первый голос при избрании государя на осиротелый престол.
Русский крестьянин
Когда узнали об отречении Ирины, духовенство и бояре не знали, что делать. Государственный дьяк Василий Щелкалов вышел к народу, наполнявшему Кремль, и требовал присяги на имя боярской думы.
— Не знаем ни князей, ни бояр, знаем только царицу! — кричал народ в ответ.
Когда же дьяк сказал народу, что уже нет царицы Ирины, а есть инокиня Александра, то в народе раздались крики:
— Да здравствует Борис Федорович!
Среди московской черни было немало доброхотов щедрого Годунова.
Всем собором пошли в Новодевичий монастырь. Патриарх от имени народа молил инокиню Александру благословить брата на царство, а Бориса — принять скипетр.
— Мне и на ум никогда не приходило, — отвечал Годунов, — о царстве, как мне и помыслить о такой высоте?!
По-видимому, сама мысль о престоле пугала Годунова, и он, казалось, решительно отказывался от него, но при этом все-таки прибавлял: «А если работа моя где пригодится, то с боярами радеть и промышлять я рад не только по-прежнему, но и свыше».
Эти слова показывали, что он не боится власти и царских трудов, к которым привык, а страшит его лишь высота царского сана…
Между тем государством управлял патриарх с боярской думой; указы писались от имени «царицы Александры». Патриарх неоднократно упрашивал Годунова вступить на престол. Уже начинались от безначалия неурядицы. В народе разносилась страшная весть о том, будто крымский хан собирается нагрянуть на Москву.
Патриарх созвал в столицу собор из выборных людей. Всего собралось 474 человека: тут были духовные лица, бояре, служилые люди, купцы и горожане.
Богоматерь Одиттрия Смоленская Икона. Начало XVI века
Большей частью выбраны были, по старанию друзей Годунова, его доброхоты. 17 февраля открылся собор. Патриарх, рассказав о пострижении царицы и об отказе Бориса, предложил собору решить вопрос: «Кому на великом преславном государстве государем быть?» Но, не дожидаясь ответа, продолжал:
— А у меня, Иова патриарха, и у митрополитов, и архиепископов, и епископов, и у архимандритов, и у игуменов, и у всего священного вселенского собора, и у бояр, и у дворян, и у приказных, и у служилых всяких людей, и у гостей (купцов), и у всех православных крестьян, которые были на Москве, — мысль и совет единодушный, что нам мимо Бориса Феодоровича иного государя никого не искати и не хотети.
После этих слов собору оставалось только беспрекословно согласиться с патриархом.
20 февраля, после молебствия о том, чтобы Господь даровал православному христианству царя Бориса Федоровича, патриарх снова с духовенством, боярами и народом отправились в монастырь и опять слезно просили Годунова принять царскую власть.
От Годунова последовал снова решительный отказ. Все были в недоумении и скорби великой.
По совету патриарха, решено было, совершив торжественные молебствия Пречистой Богородице в Успенском соборе, а также по всем церквам и монастырям, идти в Новодевичий монастырь всенародно, с иконами и крестами. А с духовенством патриарх тайно договорился: в случае нового отказа со стороны Годунова отлучить его от церкви, а самим снять с себя святительские саны, одеться в простые монашеские рясы и запретить по всем церквам службы.
21 февраля крестный ход с чудотворными образами Пречистой Богородицы Владимирской, Богородицы Донской и другими святыми иконами двинулся к Новодевичьей обители. Когда процессия подходила к монастырю, навстречу ей была вынесена чудотворная икона Смоленской Богоматери. Следом вышел и Борис Федорович. Дошедши до образа Владимирской Богородицы, он воскликнул:
— О милосердная Царице, Мати Христа Бога нашего! Почто толикий подвиг сотворила еси?.. Пречистая Богородица, помолися обо мне и помилуй мя!
При этом он пал на землю и долго орошал ее слезами. Затем, проливая слезы, обратился к патриарху и спросил, зачем он воздвиг святые иконы. Святитель благословил Бориса Федоровича крестом и сквозь слезы сказал ему:
— Богородица с Предвечным младенцем возлюбила тебя… Устыдись пришествия Ея, покорись воле Божией и ослушанием не наведи на себя праведного гнева Господня!..
Годунов молчал и плакал.
Отслужена была обедня. Прямо из церкви в полном облачении патриарх и все духовенство с крестами и образами пошли в келью к царице, били ей челом, долго молили ее со слезами. Народ толпился на дворе. Некоторые из доброхотов Годунова стояли у окон кельи и подавали народу знаки руками, когда кричать, а иные пристава слишком уж усердствовали в пользу Годунова и «пхали людей в шею», заставляя их плакать и вопить.
И. Глазунов Новодевичий монастырь
Царица долго была в недоумении, как поступить. Наконец обратилась к Борису и сама стала увещевать его.
— Это Божие дело, — говорила она, — а не человеческое: как будет воля Божия, так и сотвори!
Тогда Борис с видом глубокой скорби и со слезами воскликнул:
— Господи Боже, Царь царствующих и Господь господствующих! Если Тебе то угодно, да будет святая воля Твоя!
Иов, святители и бояре пали на землю и со слезами радости благодарили Бога, а когда было объявлено народу о согласии Бориса Федоровича, то долго не умолкали радостные крики…
«Богоизбранный царь», как величал Бориса патриарх, побывал во всех кремлевских соборах, кланялся святыням, затем провел весь пост и всю Пасху в монастыре с сестрой.
Первым делом царя было дать приказ собираться ратным силам в Серпухов, для отпора крымскому хану. (Слухи о его намерении вторгнуться в русские владения росли и волновали народ.) Сам Борис уехал к войску. Большая рать была собрана под Серпуховом. Щедрость нового царя была безгранична: воевод и знатных людей дарили дорогими парчой, бархатом и шелковыми тканями, воинов — деньгами. В течение шести недель войску давались великолепные пиры — под шатрами, на серебряной посуде; никогда еще такой благодати воинам не приходилось видеть. Убедились они тут воочию, что служить Борису выгодно. Вскоре явились от хана послы с дарами царю: хан желал быть с ним в мире и дружбе.
Так Борису Федоровичу и не довелось показать свою военную доблесть, но богатство и щедрость свою он показал и сердца служилых людей себе покорил. Радовались они, «чаяли и впредь себе от царя такого жалованья».
Когда Борис Федорович возвращался в Москву, его торжественно встречал патриарх с духовенством и народом. В своей приветственной речи Иов сказал Борису:
— Подвиг великий сотворил ты: освободил христианский род от пленения… Услышав о скором твоем ополчении, недруг крымский устрашился и прислал к тебе челом бить…
Таким образом, Борис являлся в глазах народа избавителем Русской земли от татарского погрома. Торжественное венчание на царство Борис отложил до 1 сентября — дня сладких надежд и добрых желаний (в те времена новый год начинался с 1 сентября).
Венчание на царство было совершено патриархом в Успенском соборе очень пышно. По окончании обряда царь громогласно, при всем народе, наполнявшем собор, воскликнул, обратившись к патриарху:
— Отче, великий патриарх, Бог свидетель тому, что никто в моем царстве не будет нищ и беден.
Затем, взявшись за ворот своей рубахи, прибавил:
— И сию последнюю разделю со всеми!
Велика, видно, была радость царя Бориса, если давал он такие обещания!.. Три дня продолжались народные празднества и придворные пиры. Награды без конца сыпались на царских приближенных. Щедротам царя, казалось, не было ни меры, ни конца…
Твердо, крепко сел на престол этот «богоизбранный» царь. Сослужили ему свою службу и патриарх, и духовенство, и служилые люди, облагодетельствованные им. Все дело было обделано очень ловко. Не принял Борис царского венца от патриарха и бояр, а выждал решение земского собора, на котором устами своих излюбленных людей весь русский народ избрал его, своего правителя, на царство. Но и тут он не хотел брать царского венца, долго и упорно отказывался, и если взял наконец, то лишь по Божьему изволению, по настоянию патриарха, по мольбам духовенства, выборных людей и московского народа. Словно против воли принимал на себя Борис бремя царской власти, но еще до венчания на царство сослужил великую царскую службу своему отечеству — спас его от вражьей силы. Еще до венчания показал он служилым людям, что и службы от них требовать, и жаловать по-царски за эту службу сумеет, что если не по крови, то по нраву, по широкой, размашистой щедрости ему место на русском царском престоле. Борису в эту пору было сорок семь лет, но он еще был полон жизни и сил. Высокий ростом, плотный, плечистый, круглолицый, с черными волосами и бородой, он имел внушительный вид и царскую осанку; речь его была очень мягкой, порой даже льстивой, но глаза внушали страх и повиновение.
И умом, и наружным видом, и тороватостью — всем взял Борис, и, казалось бы, лучшего царя и не надо было, но в народе упорно держалась молва, что он сгубил последнюю отрасль царского дома, добиваясь престола. Крепко сел он теперь на этот престол — окрепла и злая молва… Цареубийцу видел народ в Борисе, и никакими щедротами не мог он купить народной любви. Невыносима была и многим знатным боярам мысль, что Годунов, человек незнатный родом, да вдобавок потомок мурзы Чета, природного татарина, — царь, а им, потомкам Рюрика и Гедимина, приходится преклоняться пред ним. Князья Шуйские, Вельские, Голицыны могли считать себя по своей родовитости более достойными, чем Годунов, занять престол, но более всего на него имел прав в глазах народа Федор Никитич Романов. Народ особенно любил Романовых: они не запятнали себя никаким дурным делом, в опричнине никакого участия не принимали, а добродетельная Анастасия, которую считали ангелом-хранителем царя, направлявшим его на все доброе, была памятна народу. При вступлении Бориса на престол во главе рода Романовых стоял Федор Никитич, племянник царицы Анастасии и двоюродный брат царя Федора. Не было в Москве в то время другого такого красавца и щеголя, как Федор Никитич! Им любовались все, когда он ехал на коне… Красота его и щеголеватость вошли даже в поговорку. Когда хотели похвалить молодцеватую наружность или изящество одежды какого-нибудь щеголя, то говорили ему: «Ты совершенно Федор Никитич!»
С. Присекин Борис Годунов
Но не одной красотой привлекал к себе Федор Никитич: он был очень умен от природы, со всеми приветлив и любезен, любознателен и, что представляло тогда большую, редкость, был начитан и знал даже немного по-латыни. Народная любовь к Романову была, конечно, известна Борису, а также и неприязнь многих к себе, и ему, достигшему желанной царской высоты, все-таки было кого бояться, было кому завидовать…
Царствование царя Бориса
Русские нравы и обычаи по рассказам иностранцев. Начало смут в царствование Бориса. Лжедмитрий I
Сильно хлопотал Борис в первые два года своего царствования о том, чтобы привязать к себе народ, закрепить его любовь за собой и родом своим. При вступлении своем на престол он освободил сельский люд на один год от всяких податей; торговым людям дал право два года торговать безданно-беспошлинно; служилым людям было выдано сразу двойное жалованье за год. Разным краям даны были льготы. Громадное состояние Бориса давало ему возможность изумлять всех своею тороватостью. Знал он, как русский народ чтит нищелюбие, и щедро помогал нищим и калекам; ни один бедняк, подавший ему челобитную, не уходил от него с пустыми руками. Вдов, сирот и нищих он кормил, одевал, оделял деньгами. Крестьяне были несколько облегчены: определено, сколько они должны платить землевладельцу и сколько работать на него. Борис даже позволил крестьянам временно переходить, но только от мелких помещиков к мелким же, а не к богатым. Старался он противодействовать пьянству, которое было сильно распространено в народе, приказывал закрывать кабаки. Ни один царь еще, казалось, не заботился так о благоденствии народа, как Борис.
В первый год своего царствования он был обрадован известием из Сибири. Воевода Воейков на реке Оби разбил окончательно Кучума, который после поражения бежал и скоро погиб. Сибирский край был окончательно закреплен за Россией постройкой новых городов и открыт для мирной промышленности.
Много заботился Борис о том, чтобы охранить южные окраины государства от набегов крымцев. По приказу царя здесь построен был целый ряд новых крепостей, засек. Сами татары догадывались, что Борис хочет как бы задушить их, выдвигая свои укрепления все дальше и дальше на юг и восток. Зорко сторожили русские по границам своих степных недругов, чтобы вовремя дать весть о движении их. Об этих сторожах находим любопытные известия у одного иностранца, бывшего на русской службе (Маржерета). Стража была расставлена повсюду, где могли бы пройти орды татар. По степи росли одинокие дубы. При таких дубах на расстоянии 8, 10 и более верст становились сторожа — по два ратника у каждого дерева: один сторожил, сидя на верхушке дуба, другой подле дерева кормил оседланных коней. Лишь только сидевший на дереве замечал в степной дали облака пыли, поднимаемые обыкновенно татарской конницей, немедленно один из двух стражей скакал во весь опор на быстром коне к другому дереву, еще издали знаками и криками указывал сторожу, с какой стороны грозит опасность. Тогда от этого дерева таким же способом давалась весть к следующему и доходила до ближайших крепостей и наконец до Москвы. Вторые сторожа, оставшиеся при деревьях, выждав несколько времени и приглядевшись внимательнее к тому, что творилось в степи, садились на коней и передавали уже более определенные вести тем же способом, как их товарищи. Таким образом, при помощи этого живого телеграфа старались предупредить опасность, принять военные меры, собрать ратную силу, чтобы вовремя встретить врага. Каждую весну русские выжигали в степи траву, чтобы татары не могли найти корма для своих лошадей.
Благодаря всем этим мерам все труднее и труднее становилось крымцам делать внезапные разбойничьи набеги, и хан, бывший в то время не в ладах с турецким султаном, присмирел, даже заискивал перед Борисом. Ханские послы, ездившие к нему в Серпухов и видевшие огромные ратные силы царя во всем их блеске, своими рассказами, конечно, тоже содействовали миролюбию хана.
Но за Кавказом наши дела были плохи. Кахетинский князь Александр хотя и признавал себя слугой Бориса, но в то же время заискивал перед персидским шахом, а сын Александра принял магометанство, перешел на сторону Персии и даже убил своего отца. Рано еще было русским думать о Закавказье, с которым и сношения поддерживать было тогда еще трудно, и русский отряд (около 7000 человек) погиб без пользы для дела в борьбе с турками и туземными горными племенами.
Царь Борис Годунов Царский титулярник XVII века
На западе Борис хотел добиться того же, о чем мечтал Грозный, — стать твердой ногой на Балтийском побережье. Русская вывозная торговля сильно упала с потерей Нарвы. Балтийские берега были необходимы для России, и царь это вполне сознавал и не спускал глаз с Ливонии. В это время шли раздоры между польским королем Сигизмундом и его дядей Карлом, отнявшим у него Швецию. Будь на месте Бориса государь смелый, решительный, Ливония не миновала бы его рук, стоило лишь вступить в тесный союз с Карлом, искавшим русской помощи, и общими силами ударить на Польшу. Но Борис не любил решительных действий, не охотник был до войны, рассчитывал больше выгадать хитростью да изворотливостью — думал от Швеции добыть Нарву, а от Польши — Ливонию или часть ее, угрожая шведскому королю союзом с Польшей, а польскому — союзом со Швецией. Не надеясь завладеть сам желанным краем, он думал по примеру Ивана Грозного посадить там своего подручника. С этой целью Борис вызвал в Москву племянника шведского короля, принца Густава, думая сделать его королем Ливонии и выдать за него свою дочь Ксению, но все эти замыслы кончились ничем; удалось только с Польшей заключить перемирие на 20 лет. Ливонии Борис не добыл и с Густавом, который не захотел принять православия, разошелся, дав ему в удел разоренный Углич.
Н. Некрасов Борис Годунов рассматривает карту
Сильно хотелось Борису породниться с каким-нибудь королевским домом. Когда не уладилось дело с Густавом, царь стал приискивать другого жениха своей дочери между иностранными принцами.
Жениха нашли в Дании: брат короля, принц Иоанн, согласился ехать в Москву, породниться с царем и сделаться удельным князем.
С великим торжеством приняли юного принца в Москве.
На торжественном обеде в Грановитой палате царь сидел на раззолоченном троне, за серебряным столом, под висящей над ним короной. С одной стороны его сидел царевич Федор, с другой — принц Иоанн как член царской семьи. За богатым угощением последовали дорогие подарки: Борис и Федор сняли с себя алмазные цепи и возложили на шею принца, царедворцы поднесли ему два золотых ковша, украшенных яхонтами, несколько серебряных сосудов и драгоценные ткани и меха. Красивый и приветливый принц скоро стал общим любимцем. Он, несмотря на свою юность, вел себя очень благоразумно, выказывал желание учиться русскому языку и принять православие. Лучшего жениха трудно было бы и желать для Ксении, которая слыла тоже и красавицей, и разумницей.
Любопытно описание ее красоты. «Царевна Ксения, — говорит современник, — „зельною красотой лепа“, бела, „млечною белостию облияна“ и лицом румяна; очи у нее большие, блестящие, особенно красивые, когда сверкают в них слезы жалости; брови союзные (сросшиеся); телом она изобильна (полна), ростом не высока и не низка; черные волосы ее „аки трубы“ лежат по плечам». Но не красотой только привлекала к себе Ксения; по свидетельству того же современника, она была чудного разума, в книжном деле искусна и любила пение, особенно духовное.
Но браку Ксении с Иоанном не суждено было состояться. Принц внезапно заболел жестокой горячкой. Царские врачи употребляли все усилия спасти его. Государь обещал им неслыханные еще награды и милости… Но через несколько дней, к ужасному горю его, датский принц скончался.
Несмотря на семейные неудачи и горести, Борис деятельно занимался правительственными делами, сносился с Западом: с Англией, Германией, Италией, — сильно хлопотал о том, чтобы добыть в русскую службу разных опытных мастеров. Никогда прежде не было столько иностранцев на службе московской, как при Борисе. Никогда они и не были в такой чести и милости, как при нем. Он понимал цену знания и просвещения, задумал было даже вызвать из-за границы ученых людей, основать школы, где бы иностранцы учили русских не только разным наукам, а также и языкам иностранным; но духовные лица восстали против этого. Они говорили, что Русская земля, несмотря на свою обширность, едина по вере, нравам и языку; если же настанет разноязычие, то поселится раздор и прежнее согласие исчезнет. Как ни странно было это мнение, осторожный царь, не желая идти прямо наперекор духовенству, отказался от своего намерения, но задумал другим путем понемногу освоить русских с западным просвещением. Раньше был обычай посылать русских молодых людей в Константинополь учиться греческому языку; теперь же Борис послал по нескольку человек в Англию, Францию и Германию. Но как будто в оправдание слов духовенства, предостерегавшего русских людей от западного соблазна, посланные за границу молодые люди так обжились там, так им полюбились тамошние порядки, что только один вернулся в отечество, остальные же променяли родину на чужбину.
Как царь Борис любил и жаловал иноземцев, видно, например, из рассказа о приеме ливонцев, искавших спасения в России от преследований поляков, занявших Ливонию.
Когда ливонцы, по приказу царя, прибыли в Москву, им отвели отличное помещение в боярских домах, неподалеку от дворца, в изобилии снабдили всем нужным для хозяйства: дровами, рыбой, мясом, маслом, вином, пивом, медом, хлебом и прочим. Сверх того, при каждом доме был пристав для разных покупок.
А. Кившенко Царь Борис Годунов и дети
Назначен был день представления ливонцев царю. Многие из них стали было отказываться от этой чести, извиняясь тем, что не смеют предстать пред его величеством в бедной своей одежде; но царь велел им сказать, что он их хочет видеть, а не платье, и что их наделят всем нужным. Они явились во дворец. Царь сидел с сыном в приемной палате. Его окружали князья и бояре в роскошных парчовых одеждах, украшенные золотыми цепями и дорогими каменьями. Потолок, стены и пол были обиты дорогими турецкими коврами. Немцев подводили к государю по старшинству лет, сначала старых, а под конец молодых. Царь сказал им чрез переводчика:
— Поздравляю вас, чужеземцы, с прибытием в мое государство; радуюсь благополучию вашего путешествия. Меня трогает несчастье, которое принудило вас покинуть родину и имущество. Вы получите втрое больше того, что потеряли в своем отечестве. Вас, дворяне, делаю князьями; вас, граждане, — боярами. Одарю вас землей, слугами, работниками; одену в бархат, шелк и золото; наполню пустые кошельки ваши деньгами; буду для вас не царем и господином, а истинным отцом; вы будете не подданные, а дети мои; никто, кроме меня, не станет судить и рядить ваших споров; дарую вам свободу в обрядах богослужения; присягните только пред Богом по вере вашей не изменять ни мне, ни сыну моему, не уходить тайно к туркам, татарам, персам, шведам, полякам, не скрывать, если узнаете какой-либо против меня замысел, не посягать на мою жизнь ни ядом, ни чародейством; тогда получите такую награду, что о ней будет говорить вся Римская империя!
Один из ливонцев произнес в ответ царю от имени всех немцев краткую речь, в которой благодарил его и клялся, что все они будут до гроба верны отцу своему, государю всероссийскому.
— Молите Бога, немцы, о моем здоровье, — отвечал царь. — Пока я жив, вы не будете ни в чем нуждаться! — и, указав на жемчужное ожерелье свое, промолвил: — И этим поделюсь с вами.
Затем царь допустил их к своей руке, целовали они руку и царевичу. Царь пригласил их к обеду. Пожилые и знатнейшие из немцев заняли места так, что царь их всех мог хорошо видеть. Прислуживали всем бояре. На столе, покрытом скатертью, находились белый вкусный хлеб и соль в серебряных солонках. Пир начался тем, что сразу, в один принос, было подано столько блюд, что весь обширный стол был заставлен; носили кушанья до самого вечера. Много было всякого рода пива, меда и вин заморских. Царь, отведав с поданного ему блюда, сказал:
— Приглашаю вас, любезные немцы, на мою царскую хлеб-соль.
Так же приветствовал царь немцев, выпивая вино. Бояре старались напоить гостей допьяна, но те, видимо, воздержались, зная от приставов, что царь любит трезвость.
Заметив, что гости стесняются, царь засмеялся и спросил, почему они не веселятся и не пьют за здоровье друг друга, как это у них водится. Те ответили, что не смеют предаваться шумному веселью пред лицом царя.
— Я вас потчую как хозяин, — сказал царь. — Веселитесь как хотите, не опасайтесь нарекания, пейте за мое здоровье! Лошади готовы; когда настанет время, вас отвезут невредимо.
Сказав это, государь встал и пошел к царице, а боярам поручил так употчевать гостей, чтобы они забыли все житейские горести и печали. Царская воля была исполнена, и немцы не помнили даже, как и домой добрались. Так принимал иноземцев Борис, по достоверному рассказу одного иностранца (Буссау), который мог все это слышать от очевидцев. Осыпанные царскими милостями, щедро наделенные деньгами, землей и крестьянами, немцы становились самыми преданными слугами царя. Из них он составил довольно сильный отряд телохранителей.
Осторожный Борис все более и более недоверчиво начинал смотреть на бояр: до ведома его, конечно, стали доходить разные враждебные слухи, и он, несмотря на свой большой ум, не только боялся, чтобы его самого и близких ему лиц не извели отравой, но сильно опасался и волшебства. Сохранилась любопытная запись, по которой присягавший должен был между прочим клясться: «Мне над государем своим, царем, и над царицею и над их детьми в еде, питье и платье и ни в чем другом лиха никакого не учинить, зелья лихого и коренья не давать и не велеть никому давать; людей своих с ведовством, со всяким лихим зельем и кореньем не посылать, ведунов и ведуний не добывать на государское лихо; также государя царя, царицу и детей их на следу никаким ведовским мечтанием не испортить, ведовством по ветру лиха не посылать и следу не вынимать».
Не о себе только заботился Борис — в сыне своем Федоре он души не чаял, и самой задушевной мечтой его было закрепить за своим наследником престол; присягали все не только царю, но и царевичу. В грамотах и указах говорилось: «Великий государь царь и сын его, великий государь царевич, пожаловали» — и прочее. Ни один государь русский раньше не заботился так о воспитании и обучении детей своих, как царь Борис.
Ф. Солнцев Арчак, или седло, царя Бориса Годунова
Русские нравы и обычаи по рассказам иностранцев
С конца XVI столетия быстро растет число иностранцев в Москве. Чаще и чаще наезжают западные посольства и купцы, все больше и больше иноземных лекарей, разных мастеров и особенно военных людей поступает на царскую службу. Необыкновенная щедрость Годунова и его любовь к иностранцам, конечно, должны были их особенно сильно привлекать в Москву. По просьбе немцев он позволил им в подмосковной Немецкой слободе выстроить лютеранскую церковь, чего прежде не допускалось.
С тех пор как русские ближе стали сходиться и знакомиться с иностранцами, прежние нравы и обычаи, по крайней мере при дворе и в боярской среде, стали несколько изменяться. Начали некоторые из русских по примеру немцев брить себе бороды; русская женщина, которую держали взаперти, стала со времен Бориса дышать несколько свободнее. Когда царица прогуливалась, то за ее каретой, не боясь нарекания, следовало несколько придворных женщин верхом на конях. Чаще, чем прежде, стали являться хозяйки дома в среде гостей-мужчин. Приветливость и вежливость в обращении стали заметнее. «Русские, — говорит один иноземный писатель (Маржерет), — очень просты в обхождении и всякому говорят „ты“; а прежде были еще проще. Если им приходилось слышать что-либо сомнительное или несправедливое, то они говорили без всяких учтивых обиняков, прямо, наотрез: „Ты лжешь“. Так говорил даже слуга своему господину. Сам Иоанн Васильевич, названный мучителем, не гневался за подобные грубости. Но теперь, познакомившись с иноземцами, русские отвыкают от прежней грубости в разговоре». Странным казалось французу Маржерету, воспитанному на рыцарских понятиях, что русские в случае личных оскорблений обходились без дуэлей (поединков). «Русские, — говорит он, — вовсе не терпели поединков… Оскорбленный словами или другим образом ведается судом, который и определяет виновному наказание. Оно обыкновенно зависит от воли обиженного: иногда виновного секут батожьем (батоги — прутья толщиной в палец); иногда с обидчика берут взыскание в пользу оскорбленного».
Любопытные сведения о домашней жизни и некоторых обычаях русских находим у другого писателя (англичанина Флетчера). «Русские по большей части, — пишет он, — высокого роста, полны; дородство они считают красотой, стараются отпускать окладистые бороды. По большей части они вялы и малодеятельны. Это, надо полагать, зависит частью от сурового климата, зимнего холода, порождающего сонливость, частью же от пищи, которая состоит преимущественно из разных овощей и кореньев: лука, чеснока, капусты. Они едят их и безо всего, и с другими кушаньями.
Ф. Солнцев Место царское золотое, присланное в дар Борису Годунову от персидского шаха Аббаса
Приступая к еде, русские обыкновенно выпивают чарку водки (называемой русским вином), затем до конца обеда ничего не пьют. Если наготовлено много разного кушанья, то подают сперва печеное (жареного употребляют мало), а потом похлебки. После обеда пьют вдоволь; при каждом глотке целуются друг с другом. Затем все отправляются на скамьи спать. Главный напиток русских — мед, а люди победнее довольствуются квасом.
Тяжелая пища могла бы сильно повредить здоровью русских, но они ходят два или три раза в неделю в баню, которая служит им вместо всяких лекарств. Все русские топят печи и так нагревают дома, что непривычному иностранцу это сначала не понравится. Сильный жар внутри домов и стужа на дворе действуют вредно на кожу: она темнеет и сморщивается; особенно это заметно у женщин, которые занимаются топкой бань и печей и часто парятся.
Русский человек, привыкнув к обеим крайностям, и к жару, и к стуже, может выносить их гораздо легче, чем иностранцы. Нередко можно видеть, как русские зимой выбегают из бань, нагие, в мыле, с разгоряченным телом, от которого идет пар, и кидаются в реку или окачиваются холодной водой, даже и в сильный мороз. Делают они это для укрепления тела.
Боярские костюмы Литография К. Шульца
Одеваются русские следующим образом. Бояре на голову надевают тафью, небольшую шапочку, которая закрывает немного поболее маковки и большей частью богато вышита шелком и золотом и украшена жемчугом и драгоценными камнями. Волосы на голове стригут обыкновенно плотно, за исключением тех случаев, когда бывают в опале у царя и выражают печаль: тогда отращивают себе длинные волосы до плеч, закрывая ими лицо как можно уродливее. Сверх тафьи носят большую шапку из меха черно-бурой лисицы, с большой тульей, которая возвышается из меховой опушки.
На голую шею надевают часто ожерелье из жемчуга и драгоценных камней, шириною в три-четыре пальца.
Сверх рубахи, изукрашенной шитьем (потому что летом дома поверх нее они обыкновенно ничего не носят), надевается зипун, или легкая шелковая одежда, длиною до колен, которая застегивается спереди, потом — кафтан или узкое застегнутое платье с кушаком. Кафтаны шьются обыкновенно из золотой парчи и спускаются до колен или до лодыжек. Сверх кафтана надевают распашное платье из дорогой шелковой материи, подбитое мехом и обшитое золотым галуном; оно называется ферязью. Другая верхняя одежда из камлота или подобной материи — это охабень, род плаща, весьма длинный, с длинными рукавами и воротником, украшенным каменьями и жемчугом. (Под рукавами охабней делались прорехи для рук, а рукава откидывались назад.) Особый вид охабней — однорядка, отличающаяся от первого тем, что шьется без воротника; она обыкновенно бывает из тонкого сукна или камлота. Сапоги делаются из сафьяна и вышиваются жемчугом. Нижнее платье, вправленное в высокие голенища сапог, шьется часто из парчи. Со двора бояре и боярские дети обыкновенно выезжают верхом.
Боярские дети или дворяне одеваются точно так же, как бояре, употребляя лишь иные, более дешевые материи на одежду, но кафтан или нижнее платье и у них бывает иногда из золотой парчи, а прочее платье суконное или шелковое.
Благородные женщины (боярские жены) носят на голове тафтяную повязку (обыкновенно красную), а сверх нее шлык белого цвета. Сверх того надевают шапку (в виде головного убора из золотой парчи), называемую шапкою земскою, с богатой меховой опушкой, с жемчугом и каменьями, но с недавнего времени перестали унизывать шапки жемчугом, потому что жены дьяков и купцов стали подражать им. В ушах носят большие серьги в два дюйма и более, золотые, с драгоценными камнями. Летом часто надевают покрывало из тонкого белого полотна или батиста, завязываемое у подбородка. Покрывало унизывалось жемчугом. Когда выезжают со двора в дождливую погоду, то надевают белые шляпы с цветными завязками (шляпы земские). На шее носят ожерелье пальца в четыре шириной, украшенное жемчугом и драгоценными камнями. Верхняя одежда широкая, называемая опашнем, обыкновенно красная, с пышными и полными рукавами, висящими до земли, застегивается спереди большими золотыми пуговицами величиной с грецкий орех. Сверху к ней пришит большой широкий воротник из дорогого меха, висящий почти до половины спины. Под опашнем носят другую одежду, называемую летником, шитую спереди без разреза, с большими широкими рукавами, под нею же — ферязь земскую, которая, подобно мужской, свободна и застегивается спереди до самых ног. На руках носят запястья шириной пальца в два из жемчуга и дорогих каменьев.
Ф. Солнцев Головные уборы тихвинских и белозерских женщин
На ноги надевают сапожки из белой, желтой, голубой или другой цветной кожи, вышитые жемчугом. Такова нарядная одежда знатных русских женщин. Платье простых дворянских жен отличается только материей, но покрой один и тот же.
Женщины, по общепринятому обычаю, белятся и румянятся, притом так много, что каждый может заметить. Этим они вредят своей коже».
Как ни богаты были наряды бояр и знатных людей на Руси, но царская одежда, конечно, была несравненно богаче и пышнее; на нее шли самые дорогие златотканые материи, привозимые с Востока и из Византии. Кроме того, царские одежды обильно украшались драгоценными камнями и унизывались жемчугом. Особенно при торжественных приемах иноземных послов, когда наши цари являлись во всем своем величии, в золотых, сверкающих драгоценными камнями шапках, в бармах, со скипетром и державою в руках, великолепие царской одежды поражало иноземцев.
Необычайным, чисто восточным великолепием отличалось и убранство царских верховых коней: богато убранное седло, бархатный чепрак, вышитый золотом, сбруя, украшенная серебряными бляхами, серебряные, позолоченные цепи вместо узды, даже на ногах серебряные браслеты — все это невольно поражало и тешило глаз.
«Что касается простолюдинов, то они одеваются очень просто и бедно. Мужчины ходят в однорядке, широком и длинном платье из грубого белого или серого сукна; опоясываются кушаком. Под этой одеждой носят шубы (овчинные тулупы), шапки меховые, на ногах высокие сапоги или лапти. Так одеваются зимой. Летом обыкновенно ничего не надевают, кроме рубах нижних и сапог. Женщины, когда хотят принарядиться, надевают красное или синее платье сверху (опашень) и под ним шубу, а летом только две рубахи — одну на другую. На головах носят шапки (кокошники) из какой-нибудь цветной материи, но большей частью простые повязки. Без серег серебряных или из другого металла и без креста на шее нельзя встретить ни одной русской женщины и девушки».
Ф. Солнцев Одежда царская и боярская XVII столетия
Как ни враждебно смотрят некоторые иноземные писатели (особенно Флетчер) на русский народ, как ни корят его за грубость и невежество, но все же и они должны были признать, что он обладает хорошими умственными способностями, не имея, однако, тех средств, какие есть у других народов, для развития своих дарований воспитанием и наукой.
Иностранцев удивляют безграничная преданность русского народа церкви и царю, сильная набожность, терпение и необычайная выносливость. Эти свойства и дали русскому народу силы вынести все невзгоды и погромы, внешние и внутренние, справиться с врагами, спасти свою церковь и свое государство…
Начало смут в царствование Бориса
Казалось, золотая пора настала для Русской земли с воцарением Бориса. «Наружностью и умом он всех людей превосходил, — по словам его современника, — много устроил в Русском государстве похвальных вещей… Был он светлодушен, милостив и нищелюбив». Но скоро все изменилось… Могуч и умен был Борис, но знал он, что у него много недоброхотов, особенно между боярами. Вечная боязнь и мелкая подозрительность волновали его душу. Жить и царствовать подольше, видимо, ему очень хотелось. Несколько иноземных врачей было постоянно при нем. Верная немецкая дружина, осыпанная царскими милостями, окружала его. Мы видели, как присягой старался он оградить себя и свою семью от всякой опасности; придумал он даже особую молитву о своем здравии и приказал громогласно читать ее всюду на пирах, когда пили за здоровье его. Ни один пир не должен был проходить без заздравной чаши за царя и без этой молитвы. Охранить себя от всякой опасности, утвердить на престоле свой род и упрочить за ним любовь народа — вот что стало главной целью его жизни…
В 1600 году начали носиться темные слухи, будто царевич Дмитрий не убит, а спасен близкими людьми, будто вместо него погиб другой, схожий с ним ребенок… Дошел этот слух, конечно, и до Бориса и должен был страшно поразить его: все заветные мечты его разбивались об ужасное для него имя Дмитрия!
Боярские костюмы Литография К. Шульца
Что делать, если действительно царевич спасся от убийц? Борис не мог быть непоколебимо уверен, что этого не могло случиться: ведь сам он своими глазами не видел тела Дмитрия. Если сын Грозного жив, то ему, Борису, придется сойти с престола, на котором, казалось, так твердо и прочно уселся он, придется проститься с властью, с которой он сжился, которую мечтал передать сыну своему, без которой ему и жизнь не в жизнь! Если и нет царевича Дмитрия в живых, а нашелся дерзкий самозванец, то и он Борису — враг очень опасный. Взволновать народ было тогда нетрудно: недовольных запрещением юрьевского выхода и кабалой у помещиков было множество; врагов у Бориса и сверху, в среде бояр, и снизу, в среде простого люда, было довольно. Молва, что Борис подсылал убийц в Углич, еще не заглохла в народе, и явись смелый и ловкий обманщик да назовись царевичем Дмитрием, будто бы счастливо ускользнувшим от рук убийц, и в народе могли подняться великие смуты. Понял Борис, что ему готовится тяжкий удар. Надо было спасаться. Но кто враг, где он и существует ли на самом деле или создан лишь враждебной молвой — ничего этого Борис не знал. Положение его было крайне затруднительно: ему надо было искать неведомого врага своего, не обнаруживая, кого именно он ищет, не показывая и виду, что он разыскивает опасного для него соперника на верховную власть, настоящего или мнимого Дмитрия-царевича. Покажи он явно, что ему страшно это имя, и враги не замедлят воспользоваться этим и создадут самозванца, если его еще нет. Надо было казаться спокойным и тайно выследить опасность. Борис знал, что вражда к нему особенно сильна в среде бояр. Над ними надо было ему усилить тайный надзор. Начались подкупы слуг и доносы…
И. Репин Портрет Федора Никитича Романова
Первым пострадал Богдан Вельский: его, как человека близкого к царевичу Дмитрию, Борис всегда опасался. При начале своего царствования он удалил этого боярина из Москвы, послал его в украинские степи строить город Царев-Борисов. Вельский, устроив крепкий город, зажил в нем на широкую ногу, на свой счет снарядил войско, жаловал и ублажал всячески ратных людей.
— Царь Борис в Москве царь, а я царь в Цареве-Борисове! — пошутил Вельский как-то не в добрый час.
Об этом донесено было Борису. Он и придрался к этому случаю, когда стали ходить слухи о спасении царевича Дмитрия. Вельского привезли в Москву. Царь предал его поруганию, велел, говорят, своему иноземцу-врачу выщипать у Вельского его густую и красивую бороду, которой тот очень гордился. Он был сослан и заключен в тюрьму. Посланы были в ссылку и некоторые друзья и сослуживцы его.
Затем пострадали бояре Романовы. Эти бояре, племянники царицы Анастасии, родичи царя Федора, и притом любимцы народа, имевшие во всяком случае более прав на престол, чем Борис, всегда казались ему очень опасными. Устранить их с пути он считал необходимым, но придраться к ним было трудно. Наконец нашелся один из холопов, готовый за деньги клеветать на своего господина, одного из Романовых — Александра Никитича. Этот холоп донес, что его господин замышляет извести царя зельем. Сделан был обыск в доме Александра Никитича, и в кладовой нашли мешок с какими-то корешками, подложенный раньше самим доносчиком. Это сочли вполне достаточной уликой для осуждения Александра Никитича и его родичей. Так рассказывает об этом деле летописец. Так ли было дело или иначе, но несомненно то, что Романовых истязали при розыске, осудили как изменников и царь приказал разослать всех братьев по разным отдаленным местам. Старшего и самого даровитого, Федора Никитича, постригли в монахи под именем Филарета и сослали в Антониев-Сийский монастырь; жену его, Ксению Ивановну, урожденную Шестову, тоже постригли под именем Марфы. Только двое из Романовых, Филарет и Иван Никитич, пережили свое несчастье; остальные же трое (Александр, Михаил и Василий) умерли от лишений и жестокости приставов, наблюдавших за узниками. Пристава эти должны были зорко следить за ними и доносить, если что узнают от них; но ничего важного для Бориса пристава дознаться не могли. О Филарете доносили только то, что он жаловался на недругов своих, бояр, погубивших его, да сокрушался по своей семье.
— Милые мои дети! — говорил он. — Маленькие бедные остаются! Кто их будет кормить и поить? А жена моя бедная жива ли? Где она? Чаю, туда ее замчали, что и слух не зайдет! Мне-то уж что надобно… То мне и лихо, что жена и дети: как вспомнишь их, так словно кто рогатиной в сердце кольнет!..
Нашлись добрые люди, которые тайком приносили Филарету вести о его семье, жене и двух детях: сыне Михаиле и дочке, живших в ссылке с теткой на Белоозере. Не предчувствовали тогда сердобольные вестовщики, какая блестящая участь предстоит этой семье, разрозненные члены которой при жизни друг друга казались уже осиротелыми!..
Царь Борис Годунов
Пострадали в эту пору и другие боярские семьи: Пушкины были сосланы в Сибирь; дьяк Щелкалов, призывавший народ по смерти царя Федора к присяге боярской думе, был сослан. Подозрительность Бориса разыгрывалась все сильнее и сильнее… Дмитрий не находился. Донесли Борису только о слухах, что враги его, скрывающие Дмитрия, намереваются препроводить его в Польшу. По западной границе была, по приказу Бориса, немедленно расставлена стража; велено было всех желающих переехать через рубеж задерживать и доносить о них. Все знали, по словам одного иноземного писателя, что ищут каких-то важных государственных преступников, но никому не объявляли, кого именно… Много «тесноты и обид» тогда испытал народ, много было захвачено и перемучено людей, ни в чем не виновных, а тот, кого искал Борис, не находился. Доносчиков и разведчиков становилось все больше и больше: за доносы и даже за клевету щедро награждали, и эта язва росла не по дням, а по часам. «Настала у Бориса в царстве великая смута, — читаем в летописи, — доносилии попы, и дьяконы, и чернецы, и проскурницы, жены — на мужей, дети — на отцов, отцы — на детей». За доносами следовали пытки, лишение имущества, ссылки.
В то время как доносчики кишмя кишели в Москве, новые тяжкие бедствия постигли наше отечество: голод и моровое поветрие. В продолжение трех лет, начиная с 1601 года, были неурожаи. Всю весну и лето 1601 года шли проливные дожди, тепла было мало, хлеб не мог вызревать, а с 15 августа ударил сильный утренний мороз. Во многих местах не собрали с полей ни зерна. Хлеб страшно поднялся в цене. (Она дошла в Москве до пяти рублей за четверть.) Народ стал голодать. Многие мелкие землевладельцы, не видя возможности прокармливать многочисленную дворню, прогоняли на все четыре стороны от себя своих холопов, которые увеличивали толпы голодных нищих. В следующем году опять неурожай! Тогда настала такая беда, какой не ведали, по словам современника, ни деды, ни прадеды. Черный люд и бедняки стали умирать с голоду. Царь велел открыть свои житницы, продавать хлеб по дешевой цене, а беднякам раздавать деньги. Хлеб и другие припасы со дня на день дорожали. Милосердию царя, казалось, не было меры, а казне его — конца. Ежедневно раздавалась милостыня, по свидетельству очевидцев-иностранцев — десятки тысяч рублей. На беду, между раздающими деньги было много бессовестных людей, которые находили возможность утягивать гроши у нищих, умирающих с голоду: при раздаче милостыни являлись одетые в лохмотья родичи раздающих, приятели их и близкие люди и получали подаяние, а настоящие нищие, калеки, немощные, и дотолпиться не могли… Несчастные ели сено, солому, собак, кошек, мышей, падаль и прочее. Целыми сотнями ежедневно умирал по улицам голодный и бесприютный люд… Царь учредил стражу, которая должна была собирать по улицам и хоронить тела умерших.
А. Кившенко Царь Борис Годунов
Около месяца шла раздача милостыни. Наконец Борис увидел, что цель не достигается, что нищих скопляется в столице все больше и больше, усиливается и смертность. Надо было опасаться и заразы, и народного мятежа.
Раздача денег была прекращена как раз в ту пору, как со всех сторон, по всем дорогам, шли в Москву толпы голодающих. Несчастные тысячами умирали на пути. Все дороги близ Москвы были усеяны телами умерших. Стали ходить ужасные слухи, будто иные, обезумевшие от голода, пожирали человеческое мясо… Начался страшный мор (холера). В одной Москве, говорят, погибло несколько сот тысяч народа!..
Наконец Борис взялся за более разумные меры. Послано было разыскивать по разным областям, нет ли где хлебных запасов. В некоторых южных областях, не пострадавших от неурожаев, нашлись склады хлеба. Его привозили в Москву и продавали за половинную цену, а бедным, сиротам, вдовам и немцам раздавали даром. Отыскивали бессовестных злоумышленников, которые скрывали у себя запасы хлеба, чтобы продать его, когда цена его еще возрастет; у таких хлеб отбирали и продавали по дешевой цене. Наконец, чтобы дать бедному рабочему люду заработок и предупредить насколько можно усиление нищенства в Москве, царь задумал соорудить разные большие постройки. В Кремле, где стояли хоромы Грозного, построены были новые большие каменные палаты. В это же время сооружена была высокая колокольня Ивана Великого.
Все эти меры и заботы царя не могли остановить общего бедствия: слишком уж велико было оно!.. Всех голодающих не под силу было прокормить царю, всех обиженных не мог он защитить. Во время голода господа выгоняли от себя целыми толпами холопов, которых не могли содержать. Этот бесприютный бродячий люд вместе с беглыми крестьянами уходил в Черниговскую, Курскую и Орловскую губернии. Сюда собиралось все больше и больше недовольного, озлобленного люда, отбившегося от мирного труда. От разбойничьих шаек не было проезда не только в глухих местах, но и по большим дорогам, даже и под самой Москвой. Атаман одной многочисленной разбойничьей шайки Хлопка Косолап задумал даже сделать дерзкий набег на столицу. Пришлось выслать против разбойников целое войско, и под Москвой произошло настоящее сражение. Разбойники бились отчаянно; царский воевода пал в сражении, но все же воины осилили. Полумертвый Хлопка был схвачен; разбойников, думавших бежать снова на украину, ловили и вешали… Но их было множество, и любой дерзкий проходимец мог навербовать себе здесь целые полчища лихих людей, готовых ради корысти на всякое дело. Среди этого бесшабашного, гулящего люда уже ходила молва о том, что в Польше явился царевич Дмитрий, который намерен воевать за свое отцовское наследие с Борисом.
Лжедмитрий I
В то время, когда русский народ волновался темными слухами о том, что царевич Дмитрий жив, а Борис учреждал по западной границе заставы и принимал все меры, чтобы изловить своего страшного врага, не выпустив его из русских пределов, в Польше вдруг обнаружился тот, кого так долго и тщетно искал Борис.
Около 1601 года в Киеве явился молодой монах-странник. Он рассказывал о себе, что вышел из московской земли.
И. Глазунов Борис Годунов
Из Киева этот странник пробрался на Волынь; здесь в городе Гаще несколько времени, говорят, он учился в школе, набрался кое-каких поверхностных знаний, затем побывал на Запорожье, где среди казаков скоро освоился с военным искусством, сделался лихим наездником, так что по удали и ловкости не уступал истым запорожцам. Потом этот удалец попал на службу к князю Адаму Вишневецкому, который, подобно всем знатным магнатам литовским и польским, держал у себя многочисленный двор. Мелкие литовские и польские дворяне, или шляхтичи, охотно шли на службу к богатым вельможам, составляли при них отряды телохранителей или несли разные домашние должности. Широкая, разгульная жизнь польской богатой знати и безумная расточительность собирали вокруг нее обыкновенно множество люда, охочего до веселой, беззаботной жизни. А Вишневецкий, владелец громадных поместий в южной Руси, был еще молод; пиры, разгул, удалые потехи были по душе причудливому пану, а деньгам он и счету не знал. Понятно, что около него толпилось множество разгульных и удалых людей. В среду их попал и наш московский выходец: видно, хотелось изведать и ему все утехи богатой жизни… Был он еще очень молод, лет двадцати с небольшим. Неказист был он с виду. Худощавый, небольшого роста, со смуглым лицом, с приплюснутым носом и бородавками на лбу и носу, он не мог похвалиться наружностью, но голубые глаза его смотрели умно, часто задумчиво; голос его был приятен; говорил он складно, по временам даже и красно, с увлечением, а в удали и лихом наездничестве не многим уступал… Поступив на службу к Вишневецкому, он скоро сильно занемог или притворился больным, слег в постель и, готовясь к смерти, попросил к себе священника. Больного исповедали.
— Если я умру, — сказал он священнику, — похороните меня, как хоронят царских детей.
Изумленный священник стал спрашивать, что значат эти слова.
— Теперь я не скажу тебе, — отвечал больной, — а по смерти моей возьми у меня из-под постели бумаги и узнаешь, кто я таков, но и тогда знай только сам, другим не рассказывай.
Священник не вытерпел и рассказал о таинственном слуге Вишневецкому. У того сильно разыгралось любопытство, и он сам стал расспрашивать больного, но слуга молчал. Тогда достали бумагу из-под постели, прочли и были поражены изумлением: из бумаги узнали, что пред ними — сын Грозного, Дмитрий, которого считали все погибшим от рук убийц…
Приложены были все усилия и попечения, чтобы вылечить его, и он скоро выздоровел.
Вишневецкий считал своей обязанностью оказать ему всевозможное содействие: самолюбию тщеславного пана очень льстило, что между его слугами был русский царевич и что он, Вишневецкий, может ему помочь занять московский престол. Королю дали знать о Дмитрии. Этот Дмитрий рассказывал о себе, что от убийц, подосланных Борисом, он ускользнул благодаря своему пестуну, который подменил его другим мальчиком, схожим с ним, а его воспитывали в неизвестности и потом удалили в монастырь, чтобы вернее сберечь от Бориса.
Красноречивый юноша так живо, так задушевно рассказывал о своих бедствиях, о своем скитальчестве и приключениях, что возбуждал во всех любопытство и сочувствие к своей судьбе. Скоро он стал любопытной новинкой в Литве. Адам Вишневецкий повез его сперва к своему брату, воеводе Константину Вишневецкому. Король потребовал, чтобы царевича привезли к нему в Краков. Константин Вишневецкий отправился с ним к королю; на пути заехал к тестю своему Юрию Мнишеку, сандомирскому воеводе. Это был человек безнравственный, очень ловкий, разжившийся разными нечестными способами и в то же время крайне тщеславный — он был в восторге, узнавши, какого гостя привез к нему зять.
Л. Килиан Портрет Лжедмитрия I Самозванца
Самборский замок Юрия Мнишека наполнился гостями; со всех сторон съезжались они, званые и незваные, знатные и незнатные: многим хотелось взглянуть на царевича. Широко раскрывалась для всех дверь Самборского замка: тщеславному Мнишеку лестно было всем показать, какой гость у него. Поляки умели тогда и веселиться, и гостей принимать: пир шел по нескольку дней; изысканные кушанья услаждали прихотливый панский вкус; старое венгерское лилось рекой, туманило головы и развязывало языки. Шумная беседа, смех и веселая болтовня не прерывались. Гремела музыка. После обеда начинался пляс. Дамы и девицы, роскошно наряженные, украшали пир, но никто не поражал так гостей в Самборе красой и нарядом, как дочь старого Мнишека — Марина.
Кроме танцев, великое удовольствие гостям доставляла охота. Это была любимая потеха польской знати: тут можно было щегольнуть и богатством охотничьих нарядов, похвастать своими конями, собаками, соколами… Тут можно было показать и свою силу, и молодечество. Не только мужчины, но и молодые женщины, и девицы выказывали свою удаль и ловкость на охоте. Вихрем несясь на коне, в роскошном полумужском наряде, с развевающимися кудрями, польские панны и пани могли на охоте не менее нравиться, чем во время танцев. И тут Марина выделялась своей красотой и ловкостью. Мудрено ли, что юному царевичу сильно полюбилась и Марина, и польские шумные пиры, и безграничное веселье?..
Ф. Снедецкий Дмитрий Самозванец
Радовался старый Мнишек, что царевичу приглянулась его дочь: честолюбивая мечта породниться с ним уже волновала тщеславного пана.
Но не одни Мнишеки, отец и дочь, имели виды на царевича; старались его опутать своими сетями и иезуиты. Монашеский орден (община) иезуитов был учрежден в 1540 году, с целью всеми силами, правдами и неправдами, бороться с противниками папы, возвращать снова под его власть отбившихся от него еретиков, обращать в христианство язычников и подчинять их папе. Всех не признававших над собой власти его, в том числе и православных, католики считали еретиками.
В то время, когда явился царевич в Польше, здесь в большой силе были иезуиты; сам король следовал во всем советам их. Теперь представлялся им удобный случай утвердиться в России: стоило только прибрать к рукам русского царевича, обратить его в католичество, а там, когда он вступит на отцовский престол, думали они, можно будет с его помощью и русскую церковь мало-помалу подчинить папе. Расчеты иезуитов были, казалось, совершенно верны. Понимал вполне и Дмитрий, что без иезуитов ему не удастся ничего достигнуть и только по их совету и по благословению папы король решится помогать ему, только стороннику их отдаст свою руку прекрасная Марина, истая католичка. Для Дмитрия было даже опасно возбудить неудовольствие католического духовенства: король, бывший в руках иезуитов, легко мог не только отказать в помощи ему, но даже выдать его Борису. Все это заставило Дмитрия искать покровительства католического духовенства; даже есть известие, будто он тайком принял католичество. Во всяком случае, он должен был дать обещание подчинить восточную православную церковь папе.
После этого устроено было свидание царевича с королем Сигизмундом. Дмитрий рассказал ему свою историю, выставил на вид опасность, какая и до сих пор грозит ему от Бориса, и просил помощи.
Король, конечно, понял, что можно извлечь большие выгоды при этом случае: можно будет, оказав помощь русскому царевичу, в случае его удачи уладить раз навсегда с ним всякие споры о границах и несогласия, а в случае неудачи все же внести смуту в Русскую землю и ослабить ее. Дело было выгодно, с какой стороны ни посмотри на него, но все же король не мог решиться открыто помогать Дмитрию. Вопрос о войне мог быть разрешен лишь на сейме; король оказал только негласную помощь: дал Дмитрию порядочное ежегодное содержание (40 тысяч злотых) и позволил набирать себе воинов из вольных шляхтичей. Пришлось Дмитрию довольствоваться и этим.
Мнишек привез торжественно царевича к себе в Самбор и стал для него собирать войско из шляхты. Царевич предложил Марине руку. Предложение его было принято, но свадьба была отложена до его воцарения.
Мнишек навербовал для Дмитрия до 1600 человек всякого сброда, падкого до наживы. С этим отрядом, казалось бы, не стоило и дела начинать, но Дмитрий и его помощники понимали, что главная сила его в России. И действительно, еще до перехода его через границу к нему уже стали являться московские беглецы, искать службы и милости у «истинного царевича»; затем донские казаки откликнулись на призыв его… Из Самбора он писал грамоты к московскому народу: они шли в Россию в мешках с хлебом. Народ волновался. Слухи о царевиче и призывных грамотах быстро разлетались по Русской земле.
Когда верные слухи о появлении в Польше Дмитрия дошли до Бориса, он прямо объявил в думе, что это — дело бояр, что они выставили самозванца. Против него принимались разные меры. Отправлены были грамоты к королю, вельможам и прочим с заявлением, что называющий себя царевичем Дмитрием — самозванец, что на самом деле он беглый монах Гришка Отрепьев. В Москве патриарх и князь Василий Иванович Шуйский убеждали простой народ не верить россказням о царевиче. Гришку Отрепьева стали проклинать по церквам, но это мало действовало на народ.
Ф. Снедецкий Марина Мнишек
— Пусть проклинают Гришку, — говорили в народе, — царевичу до Гришки никакого дела нет!
Кто был отважный искатель престола, шедший во главе горсти всякого сброда отнимать корону у Бориса, — это до сих пор дело темное.
Некоторые думают, что явившийся в Польше царевич Дмитрий был дерзкий самозванец, и полагают, что на самом деле это был беглый инок Гришка Отрепьев, родом из мелких дворян. Скорее можно предположить, что бояре, враги Бориса, убедили какого-нибудь безродного, но честолюбивого и предприимчивого юношу в том, что он — царевич Дмитрий, а тот с полной верой в правоту своего дела шел на Бориса. С другой стороны, несомненно, что истинный царевич Дмитрий был убит в Угличе и соперник Бориса был Лжедмитрий, хотя сам и не сознавал этого.
16 октября 1604 года Лжедмитрий с небольшим своим отрядом перешел Днепр и вступил в русские пределы. Борису он послал письмо, которым извещал его о своем спасении, требовал, чтобы он добровольно оставил престол и удалился в монастырь, и за то обнадеживал его своим милосердием к нему и к семейству его и забвением его злого умысла.
Ф. Солнцев Чеканы
Вместе с тем тайно разосланы были грамоты воеводам, дьякам, гостям и черным людям. В грамотах говорилось о чудесном спасении царевича при Божией помощи от злодейского умысла Годунова. Затем находим здесь такое призвание:
«Вспомните наше прирожение (происхождение), православную христианскую истинную веру и крестное целование, на чем вы целовали крест отцу нашему, блаженной памяти государю, и великому царю, и великому князю всея Руси, и нам, детям его, — хотеть во всем добра; отложитесь ныне от изменника Бориса Годунова к нам и впредь служите, прямите и добра хотите нам, государю своему прироженному, как отцу нашему, а я стану вас жаловать по своему царскому милосердному обычаю и буду вас в чести держать, ибо мы хотим учинить все православное христианство в тишине и покое и благоденственном житии».
Первый город в московской земле, который пришлось взять Лжедмитрию, был Моравск. Грамоты подняли здесь мятеж: жители и ратные люди кричали, что они не хотят знать Бориса, а желают служить законному государю, Дмитрию Ивановичу. Воеводы стали было противиться народному желанию; их связали, а Дмитрию было послано заявить, что город сдается ему по доброй воле.
Затем взят был Чернигов после незначительной перестрелки с казаками. Села и деревни в Северском краю с радостью подчинились Лжедмитрию. Жители не только не разбегались, когда приближалось его войско, но выходили навстречу, с умилением глядели на своего царя, чудесно спасенного Богом, громко кричали ему «многая лета!».
11 ноября отряд Лжедмитрия подошел к Новгороду-Северскому. Здесь впервые он встретил отпор. Воеводой в городе был умный, храбрый и хорошо знавший ратное дело Петр Федорович Басманов; он сумел забрать в свои руки и знатных людей, и простых. Напрасно пытались убедить его сдаться, напрасны были и все попытки силой взять город. Поляки подъезжали к стенам, убеждали осажденных сдаться, грозили истребить и старых и малых, если они будут еще противиться.
— Убирайтесь! — кричал им со стены Басманов. — У нас государь, царь и великий князь всея Руси Борис Феодорович — в Москве, а ваш Дмитрий — вор и изменник!
Пушки у Басманова были хорошие, пушкари стреляли из них довольно метко и перебили да перекалечили немало народу.
Поляки, охочие более до грабежа и разгула, чем до упорной войны, утомились долгой осадой и уже начали роптать. Между тем как Новгород-Северский стойко держался, другие города сами добровольно переходили в подданство Лжедмитрию, которого считали своим законным государем.
19 ноября пришла к нему весть, что Путивль сдается со всем своим уездом и путивляне связали своих воевод, не хотевших изменить Борису. 24 ноября прискакал гонец из Рыльска с радостной вестью, что там признали Дмитрия царем.
Ф. Солнцев Старинные палаши
Не прошло и нескольких часов, как новая радость: целая Комарницкая волость сдалась с городом Севском, а воеводы схвачены. Через неделю Курск признал Дмитрия, на другой день сдались Кромы, затем Белгород. Войско Лжедмитрия росло с каждым днем. Оно уже доходило до 15 тысяч: русские служилые люди Северской области и казаки охотно шли на службу к щедрому царевичу… Но Новгород-Северский упорно держался благодаря Басманову. На выручку осажденным послана была рать под начальством князя Мстиславского, самого знатного из бояр, но плохого вождя. На беду для Бориса, уже и среди ратных людей замечалась «шатость», начинали и здесь поговаривать о том, что Дмитрий — настоящий царевич.
Несмотря на то, что рать, присланная царем, втрое превосходила отряд Лжедмитрия, он немедля начал бой и разбил Мстиславского: у русских, по выражению современника, «не было рук» для битвы с тем, кого они считали своим законным государем. На помощь раненому Мстиславскому был послан Василий Иванович Шуйский, который незадолго перед тем, в угоду Борису, в Москве пред всем народом свидетельствовал о смерти настоящего царевича Дмитрия… Отважный Лжедмитрий снова напал на царское войско, 21 января 1605 года, при Добрыничах, недалеко от города Севска, но, несмотря на всю свою храбрость, понес полное поражение. Его отряд сильно пострадал от пушек, которых было много у Шуйского. Положение Лжедмитрия было очень плохо. Поляки еще под Новгородом-Северским убедились, что дело не обойдется без упорной борьбы, стали роптать и требовать жалованья. Лжедмитрий не мог удовлетворить их; поднялся мятеж, и многие поляки ушли от него. Теперь же, после поражения, казалось, затея Лжедмитрия кончится печально для него. Он заперся в Путивле и подумывал было бежать в Польшу, но в это время ему явилась подмога: на службу к нему пришло четыре тысячи донских казаков. Царские воеводы действовали вяло — упустили удобный случай окончательно уничтожить противника и дали ему возможность снова окрепнуть. Царь был недоволен своими воеводами; они не могли взять даже небольшой крепости Кромы, где заперлись донские казаки со своим атаманом Корелою. Видно было, что бояре ведут дело нехотя, «норовя окаянному Гришке», как говорили современники. Но все-таки дела Лжедмитрия были плохи: в Польше начинали уже остывать к его предприятию; еще одна-две неудачи, и он бы погиб. Но теперь более хлопотали о его деле русские, враги Бориса, перешедшие на сторону Лжедмитрия. Да и как им было не хлопотать?! Кончись неудачей его затея, и они из приближенных слуг царя обращались в жалких беглецов и вместо богатых и великих милостей на долю их выпадали бездомное скитальчество, бедность и презрение. К счастью Лжедмитрия, в царском войске было немало тайных доброхотов его, а воеводы, видимо, не хотели воспользоваться всеми своими силами, щадили его, а между тем в царском войске начались болезни, наконец открылась сильная смертность.
В. П. Верещагин Царь Борис Феодорович Годунов
Борис с каждым днем все больше и больше опускался… Ему доносили тайно, что в войске «шатость». На верность своих воевод он положиться не мог… Зловещие предчувствия томили его. Он даже обращался к ворожеям и гадателям.
Те делали ему двусмысленные и мрачные предсказания, и душевная тревога его становилась еще сильнее… По целым дням сидел он запершись, а сына посылал по церквам молиться. Говорят, что раз царь призвал к себе Басманова, в порыве отчаяния целовал перед ним крест, заверяя, что называющий себя Дмитрием не истинный царевич, а обманщик, умолял Басманова добыть злодея, обещал даже, по словам одного современника, выдать свою дочь за Басманова, дать за нее в приданое Казань, Астрахань, Сибирь, лишь бы только тот избавил его от страшного соперника. Басманов, конечно, всячески старался уверить царя в своей преданности и готовности ему служить, но в то же время умного и честолюбивого воеводу брало раздумье: чем больше Борис выказывал страха перед Лжедмитрием, тем в глазах Басманова сильнее выигрывал последний. С каждым днем могущество царя падало. Уверенность в своих силах и способность к борьбе у него с каждым днем слабели.
Борис понял, что на воевод и на войско плоха надежда, и решился злодейством покончить со своим соперником — подослал к нему в Путивль трех монахов с зельем, чтобы извести его; но умысел был открыт. Это, конечно, должно было в глазах всех сильно повредить Борису…
Но 13 апреля не стало его.
В этот день он встал здоровым, казался бодрым и веселым, за столом ел охотно и много… После обеда он взошел на вышку, с которой часто любовался Москвой. Вдруг он спустился оттуда и сказал, что ему дурно и что он чувствует сильное колотье… Бросились за врачом. До прихода его царю стало хуже. Приближенные заговорили с ним о том, как быть царству…
— Как Богу угодно и земству! — проговорил царь.
И. Глазунов Борис Годунов
Тут у него вдруг хлынула кровь из носа и из ушей, и он упал без чувств. Прибежали патриарх и духовенство, едва успели приобщить умирающего; кое-как, наскоро совершили над полумертвым обряд пострижения и нарекли его Боголепом. Около трех часов пополудни царь скончался.
Скоропостижная смерть его поразила всех. Народу объявили о ней только на следующий день. По Москве стала ходить молва, будто Борис сам отравил себя ядом в припадке угрызений совести и отчаяния. Слух об отраве пошел от врачей-немцев, лечивших царя: лицо мертвого, изуродованное предсмертными судорогами и почернелое, казалось, подтверждало этот слух.
Смутное время
Царь Федор Борисович
Измена Басманова и гибель Годунова
Измена Басманова и гибель Годунова
В тяжелую пору пришлось вступить на престол юному сыну Бориса. Жители Москвы по призыву патриарха спокойно присягнули Федору Борисовичу и его матери, причем клялись: «К вору, который называется князем Дмитрием Углицким, не приставать, с ним и с его советниками не ссылаться ни на какое лихо» — и так далее.
Новому царю было всего шестнадцать лет. Здоровый, белолицый, румяный, красивый, с черными глазами, юноша царь мог нравиться всем своей наружностью. Способный от природы, умный, начитанный, он мог бы стать замечательным государем; но был он сыном того, кто, на взгляд народа, пытался сгубить царскую отрасль, кто незаконно захватил престол, кто еще почти накануне своей смерти подсылал снова убийц и кого так нежданно поразил Божий суд. А в то же время в Путивле находился тот, кого считали законным наследником престола, тот, кого чудесно хранил Божественный Промысл от злодейских покушений и всех военных сил Бориса. Так верили очень многие в народе, и вера эта все росла и росла. В войске уже зрела измена… Несчастному Федору Борисовичу несдобровать было среди таких обстоятельств. Новое правительство послало начальствовать над войском вместо прежних вождей Басманова. На него, казалось, Годуновы могли вполне положиться: он был возвышен Борисом и осыпан его милостями, а знание ратного дела, мужество и способности настоящего вождя он выказал при обороне Новгорода-Северского. Басманов прибыл в стан. Немного времени нужно было ему, чтобы заметить в войске общую шаткость умов и склонность к Дмитрию. Когда стали приводить ратных людей к присяге Федору, то нашлось много воинов, не хотевших целовать ему крест. Недолго думал Басманов, как ему быть. Честолюбие и личные выгоды заговорили в нем сильнее совести; понял он, что дни Годуновых сочтены, что служить им — значит подвергать себя напрасной опасности, что свои же воины могут его связанным выдать Лжедмитрию. Сообразил все это Басманов и решился изменить сыну своего благодетеля — отправил к Дмитрию письмо с извинением, что так долго служил Борису.
«Я, — писал Басманов, — никогда не был изменником и не хочу разорения своей земле… Теперь всемогущий Промысл открыл многое: притом сам ближний Бориса, Семен Никитич Годунов, сознался мне, что ты — истинный царевич. Теперь вижу я, что Бог покарал нас и мучительством Борисовым, и боярским нестроением, и бедствиями Борисова царствования за то, что Борис не по праву держал престол, когда был истинный наследник. Отныне я готов служить тебе, как подобает».
7 мая было объявлено всему войску, что Дмитрий — истинный царь. Полки, уже раньше подготовленные к переходу на сторону Дмитрия, без сопротивления провозгласили его государем. Не много нашлось таких, которые не согласились нарушить крестное целование Федору Борисовичу; они бежали в Москву с двумя воеводами, князем Ростовским и князем Телятевским.
14 мая явился в Путивль князь Иван Голицын с выборными лицами от всех полков молить государя о прощении за то, что они «по неведению стояли против него, своего прироженного государя».
А. Горский Москва XVII века
Дмитрий принял выборных очень приветливо, ласково ободрял их и вполне прощал за их невольную вину — службу Борису по неведению. Лаской и приветом Дмитрий обворожил своих новых слуг. Особенно радушно отнесся он к Басманову, когда тот явился к нему с повинной. Басманов, увидев, что Дмитрий высоко ценит его преданность и ум, всем сердцем привязался к новому своему государю и стал ближайшим его советником. Часть войска, перешедшего на сторону Дмитрия, была распущена по домам, а другая часть должна была оставаться под оружием, пока не покорится Москва. Теперь движение Дмитрия на Москву походило на торжественный въезд победителя: когда он подъезжал к городу Орлу, воеводы, духовенство, народ и часть войска встретили его с хлебом и солью, с образами; со всех колоколен радостно трезвонили.
В. П. Верещагин Царь Феодор Борисович Годунов
— Буди здрав, царь Димитрий Иванович! — отовсюду слышались неумолкаемые радостные клики.
Из Орла Дмитрий отправился в Тулу. На пути всюду, в деревнях и селах, встречали его радостно, с хлебом и солью. На Оке явились к нему выборные от всей рязанской земли, били ему челом и выражали полную готовность жертвовать ему, своему государю, жизнью и имуществом.
В Москве между тем скоро по смерти царя начались в народе волнения — народ требовал возвращения сосланных Борисом людей, а более всего матери Дмитрия. Объяви всенародно инокиня Марфа (Мария Нагая), что ее сына нет в живых, — Годуновы были бы спасены, но они, конечно, были вполне уверены, что Марфа, пострадав от Бориса и питая непримиримую вражду ко всем им, не скажет этого. В угоду москвичам воротили из ссылки князя Ивана Михайловича Воротынского. Василий Иванович Шуйский снова громогласно уверял народ, что Дмитрия-царевича нет на свете, а называющий себя этим именем — беглый монах, расстрига. Слова Шуйского, которого в Москве уважали, на время, казалось, уняли волнение народа, но все-таки многие требовали, чтобы привезли в Москву мать Дмитрия, чтобы она порешила это дело…
В середине мая появились в Москве ратные люди из-под Кром, не пожелавшие изменить Федору Борисовичу; прибыли, наконец, и князья Ростовский и Телятевский. Весть о переходе всего войска на сторону Дмитрия была смертным приговором несчастному Федору Борисовичу.
Годуновы были ошеломлены этой вестью, растерялись, не знали, что и делать; приказывали только ловить, пытать и казнить опасных для себя вестовщиков и распространителей Дмитриевых грамот. Народ, перед тем волновавшийся и шумевший, казалось, притих, но это было зловещее затишье пред бурей. 31 мая по распоряжению правительства стали втаскивать на стены пушки — готовились, как видно, к обороне столицы. Но ратные люди работали вяло, неохотно, а в толпе, глазевшей на них, многие посмеивались… Более дальновидные люди чуяли беду от московской черни и торопились припрятать свои драгоценности и деньги по монастырям.
1 июня явились под Москвой, в Красном Селе, послы Дмитрия — Пушкин и Плещеев — с грамотой к москвичам. Красносельцы, по большей части богатые купцы и ремесленники, не любили Годуновых и радушно приняли послов. Ударили в колокол, сбежалась толпа. Прочтена была грамота Дмитрия. Толпа громкими криками приветствовала посланцев.
— В город, в город! — раздавались голоса, и громадная толпа, окружив послов, двинулась с ними в Москву и остановилась на Красной площади. Звоном колоколов и тут созвали народ. Он бежал со всех сторон на площадь, и скоро она так наполнилась людьми, что протиснуться сквозь толпу не было никакой возможности.
Вышедшие из Кремля бояре, дьяки и стрельцы ничего поделать не могли.
— Что за сборище и мятеж? — громко говорили они народу. — Хватайте воровских посланцев и ведите их в Кремль, пусть там они покажут, с чем приехали!
В ответ на это поднялись неистовые крики народа; он требовал, чтобы посланцы прочли с Лобного места грамоту. Один из них стал читать ее. На площади водворилась тишина.
Грамота была обращена к боярам, дьякам, торговым людям и ко всему народу.
«Вы думали, — говорилось между прочим в ней, — что мы убиты изменниками, и когда разнесся слух по всему государству русскому, что по милости Бога мы идем на православный престол родителей наших, вы, бояре, воеводы и всякие служебные люди, по неведению стояли против нас, великого государя. Я, государь христианский, по своему милосердному обычаю гнева на вас за то не держу, ибо вы так учинили по неведению и от страха…»
Последние минуты Годуновых
Далее в грамоте говорилось, что Дмитрий идет с большим войском, что русские города бьют ему челом. Затем напоминалось о жестокости и несправедливости Бориса и давались обещания всяких благ и льгот. В конце грамоты была и угроза: «А недобьете челом нашему царскому величеству и не пошлете просить милости, то дадите ответ в день праведного суда и не избыть вам от Божия суда и от нашей царской руки».
Когда грамота была прочтена, поднялись в толпе шумный говор, крики и споры. Одни кричали: «Будь здрав, Димитрий Иванович!», другие стояли за Годуновых, недоумевая, настоящий ли царевич тот, кто прислал к ним грамоту, или самозванец.
Из толпы раздались крики:
— Шуйского, Шуйского! Он разыскивал, когда царевича не стало. Пусть скажет теперь по правде, точно ли царевича похоронили в Угличе!..
К. Маковский Агенты Дмитрия Самозванца убивают сына Бориса Годунова
Шуйский взошел на Лобное место. Воцарилась мертвая тишина. Народ, казалось, замер в ожидании, что скажет боярин. В его руках была теперь судьба Годуновых.
— Борис послал убить Димитрия-царевича, — раздался голос Шуйского, — но царевича спасли, а вместо него погребен попов сын!
Понял ли лукавый Шуйский, что спасти Годуновых уже нельзя, думал ли, отдавая их в жертву народной ярости, спасти себя и свои выгоды, услужить Лжедмитрию, — во всяком случае, слова его были приговором для несчастной семьи Годунова.
— Долой Годуновых! — заревела толпа. — Всех их и доброхотов их искоренить! Бейте, рубите их!.. Здрав буди, Димитрий Иванович!
Толпа хлынула в Кремль, ворвалась во дворец. Защищать Годуновых было некому. Стрельцы, стоявшие на страже у дворца, отступились при виде громадной бушующей толпы. Федор кинулся в тронную палату и сел на престол. Понадеялся, видно, он, что народ не осмелится наложить рук на своего царя, когда увидит его во всем величии на троне. Трепещущая царица и царевна Ксения стояли с иконами в руках, словно со щитами, против ярости народной.
Но Федор Борисович был уже в глазах народа не царь, а «изменник Федька», не по праву севший на престол. Несчастного Годунова стащили с престола. Царица в отчаянии, забыв о своем царском сане, рыдала и униженно молила всех не губить ее детей. Народ и не хотел их смерти. Годуновых отвезли из царского дворца в дом, где жил Борис, когда он был еще боярином. К дому приставили стражу. Расходившаяся чернь уже не знала удержу и предалась грабежу и разгулу. Царский дворец был опустошен: все в нем ломали, портили, грабили, говоря, что Борис осквернил его. Пострадали в эту пору и все люди, близкие к семье Годуновых: дома их разбивали, имущество грабили, челядь разгоняли… Бросились толпы черни и на жилища немецких лекарей, которых особенно жаловал Борис Годунов. Вмиг были расхищены пожитки и богатства, которые копили эти иноземцы в течение многих лет, пользуясь щедротами царя. Толпы кидались на дома, выламывали двери, замки, расхищали деньги, утварь, платье, уводили лошадей и скот. Особенно радовалась чернь, когда добиралась до погребов, где хранились многолетние меды и заморские вина. Выбивали в бочках дно и черпали вино или мед кто чем мог — горстями, шапками, даже сапогами. До глубокой ночи шел страшный грабеж и неистовый разгул. Хотя народ «душ не губил», то есть не убивал никого, но многих людей, считавшихся раньше богатыми, пустил по миру…
3 июня поехали в Тулу к Дмитрию выборные от Москвы — князья Воротынский и Телятевский, с повинной грамотой от всей столицы. Москвичи просили прощения у царя, приглашали его на престол, заявляли о своем верноподданстве и извещали, что Годуновых уже нет на престоле.
В Москву явились от имени царя для предварительных распоряжений князья Голицын и Мосальский. Патриарх Иов был лишен сана и сослан в Старицкий монастырь. Родичи царя Бориса и близкие люди были разосланы по разным отдаленным местам в заточение. Затем, желая угодить новому царю, совершили зверскую расправу над несчастными Годуновыми. Царицу Марию удавили веревкой. Федор Борисович, обладая большой силой, долго боролся с убийцами, но и с ним покончили так же, как с матерью его. Народу было объявлено, что Годуновы, мать и сын, со страху сами отравились. Царевна Ксения осталась в живых, чтобы испытать безотрадную участь. Ее потом постригли в монахини. Не оставили в покое даже и тела царя Бориса — вырыли из могилы в Архангельском соборе, положили в простой гроб и похоронили вместе с женой и сыном в бедном Варсонофьевском монастыре.
Царствование Лжедмитрия I
Царствование Лжедмитрия I. Смерть Лжедмитрия I
Царствование Лжедмитрия I
Еще находясь в Туле, Лжедмитрий начал управлять государством. Первой его заботой было прекратить смуту и мятежи, которые тогда повсюду кипели, особенно в народе, против помещиков и властей. В грамоте своей, разосланной по всему государству, новый царь строго наказывал, «чтобы не было в людях шатости, убийства и грабежа», а кто в чем обижен, обращались бы к нему; приказано было также позаботиться о казне — собирать подати без всякой отсрочки и поблажки. Новый царь заботился и о том, чтобы поддержать торговлю с англичанами — велел вернуть английского посла, который в это время уже уехал в Архангельск с грамотой от Бориса, и обещал ему свою дружбу с Англией и новые торговые выгоды для ее купцов в России.
20 июня новый царь торжественно вступал в Москву. Ярко сияло солнце. Улицы, заборы, крыши, колокольни, башни были полны народом. Разноцветные, пестрые праздничные одежды и уборы придавали веселый вид толпе.
Прежде всего показались конные польские отряды в блестящих латах, среди них ехали трубачи и барабанщики, затем выступали рядами стрельцы по два в ряд, далее следовали раззолоченные царские кареты, в каждую было запряжено по шесть прекрасных лошадей. За каретами ехали верхом бояре и дворяне в праздничных, богатых кафтанах; их воротники, вышитые золотом и унизанные жемчугом, сверкали на солнце. За ними шла московская военная музыка; накры и бубны оглушительно гремели. За служилыми людьми несли церковные хоругви, а потом шло духовенство с образами, крестами и Евангелием, блистая своими ризами. Наконец за духовенством показался тот, кого Москва встречала как своего законного и желанного царя. Он ехал медленно на превосходном белом коне. Царская одежда его поражала своим блеском, на шее было драгоценное ожерелье. При виде царя народ падал ниц. Со всех сторон раздавались громкие крики:
— Вот он, наш батюшка-кормилец!
— Здравствуй, отец наш, государь всероссийский! Даруй тебе Боже многие лета!
— Солнышко ты наше! Взошло ты над землей Русской!
Так кричал народ, а царь, обращаясь то в ту, то в другую сторону, говорил:
— Боже, храни мой народ! Молитесь Богу за меня, мой верный и любезный народ!
Когда царь вступил на Москворецкий мост, вдруг поднялся такой страшный вихрь, что всадники едва усидели на конях; пыль взвилась столбом, и на несколько мгновений ничего не стало видно. Суеверные люди крестились и говорили, что это дурной знак…
Медленно продвигалась процессия вперед. Наконец въехали в Китай-город, и перед глазами всех открылся Кремль. Царь заплакал, снял шапку с головы, перекрестился и громко воскликнул:
— Господи Боже, благодарю Тебя! Ты сохранил меня и сподобил узреть град отцов моих и народ мой возлюбленный.
Слезы текли по щекам царя от умиления, плакал и народ. Радостно гудели колокола кремлевских церквей.
Царь подъехал к Лобному месту. Здесь духовенство ждало его с образами. Запели певчие, но в эту минуту, как на грех, польские музыканты заиграли на трубах, застучали в литавры и заглушили церковное пение. Очень это оскорбило народ. Не понравилось также некоторым, что царь прикладывался к образам и крестам как-то иначе, чем истые москвичи. Возмущался православный люд и тем, что вслед за царем входили в Успенский и Архангельский соборы «поганые католики и люторы» и стояли там неблагочинно, не знаменовались крестом, не преклонялись пред иконами. Но все умилились, когда царь припал ко гробу Грозного и проливал обильные слезы. У всех видевших это должно было, казалось бы, исчезнуть всякое сомнение в том, сын ли Грозного новый царь: так плакать, как он, мог только сын у гроба своего отца.
После посещения церквей Дмитрий вступил во дворец, и здесь его поздравляли бояре и сановники с новосельем.
Но, видно, доброхоты его чувствовали, что в Москве не совсем-то ладно; видно, понадобилось бороться со слухами, враждебными для царя. Богдан Вельский, бывший дядька царевича Дмитрия, возвращенный из ссылки еще Федором Борисовичем, вышел к народу и с Лобного места произнес речь: славил Бога за спасение государя, убеждал народ верно служить новому царю, истинному сыну Ивана Васильевича. В удостоверение своих слов Вельский снял с груди крест и поцеловал его перед всем народом.
К. Горский Московские власти встречают Лжедмитрия
— Берегите и чтите своего государя! — воскликнул Вельский.
— Бог да сохранит царя-государя и погубит всех врагов его! — закричал народ в ответ.
В Москве тогда, говорят, ходил слух, что Богдан Вельский, удаленный от двора при Федоре Ивановиче, смекнул, что царевичу Дмитрию грозит беда от Годунова, вошел в тайные сношения с матерью царевича, и маленького Дмитрия скрыли, а вместо него поставили очень похожего на него ребенка, сына священника, — таким образом народная молва объясняла спасение Дмитрия.
В первые же дни после своего воцарения новый царь стал переделывать придворные порядки на польский лад: вместо прежних придворных сановников явились великий дворецкий, оружничий, мечник и прочие; боярскую думу царь назвал «сенатом». В сан патриарха возведен был грек Игнатий, рязанский архиепископ. Это был человек угодливый, не привязанный к русской старине и потому не противник разных перемен в церковном строе. Такой патриарх был по душе Дмитрию…
Святейший патриарх Московский и всея Руси Игнатий Царский титулярник XVII века
Поляки, приближенные царя, советовали ему поспешить с коронацией; они утверждали, что только после торжественного венчания он в глазах народа станет настоящим государем, помазанником Божиим, но он откладывал венчание до приезда матери, за которой послал бояр.
Еще до приезда ее обнаружилось, что у царя есть очень сильные враги. Василий Иванович Шуйский, погубивший Федора Борисовича, рассчитывал, что с гибелью Дмитрия откроется ему самому доступ к престолу. Знал очень хорошо Шуйский, что настоящий царевич Дмитрий убит, и ясно видел, что тот, кто его именем взошел на трон, беспрестанно оскорбляет русское народное чувство своим пристрастием ко всему польскому. Лукавый боярин и задумал прежде всего исподволь раздуть в народе вражду к Дмитрию, а затем, когда приспеет удобная пора, изобличить его… Люди, преданные Шуйскому, должны были распространять в народе молву, что вступивший на престол не сын царя Ивана, а Гришка Отрепьев, что он отступник от православной церкви, изменил православию и подослан Сигизмундом, чтобы вместо православия утвердить на Руси католичество, поработить и церковь, и народ Польше…
Но заговор Шуйского открылся. Царь назначил суд для разбора дела. Суд, в котором сам царь не принимал никакого участия, осудил Шуйского на смертную казнь.
Красная площадь наполнилась народом, когда должна была совершиться казнь именитого боярина. Многие его жалели. Вывели осужденного на площадь. Здесь была приготовлена плаха, в которую воткнут был топор. Подле стоял палач. Вокруг плотными рядами стояли стрельцы, за ними — сплошная толпа народа. Басманов велел читать приговор.
Вероломный боярин решился по крайней мере умереть мужественно, с достоинством. Он твердо подошел к плахе, перекрестился и сказал, обратившись к народу: «Умираю за веру и за правду!»
Палач снял с него кафтан и хотел было снять и рубаху, польстившись на унизанный жемчугом ворот, но Шуйский не позволил снять сорочку — сказал, что в ней хочет Богу душу отдать.
В то самое время, как палач готовился поразить свою жертву, из Кремля вдруг показался вестник, скакавший во весь опор к месту казни. Он объявил, что царь не желает проливать крови даже важных преступников: дарует осужденному жизнь, заменяет смертную казнь ссылкой в Вятку.
— Вот какого милосердного государя даровал нам Господь Бог! — воскликнул при этом Басманов, обратившись к народу. — Своего изменника, который на жизнь его посягал, и того милует!
Толпа громкими криками желала здравия и многолетия милостивому государю. «Кто же может так поступать, — говорили в народе, — кроме истинного царевича?!»
18 июля происходила встреча царя с матерью; он выехал к ней в Тайнинское; чуть не вся Москва толпами повалила за царем. Царицу везли в карете. Дмитрий подъехал к ней верхом, и она остановилась. Царь соскочил с коня и кинулся к карете; сын и мать бросились в объятия друг другу и зарыдали. С четверть часа длилось это трогательное зрелище. Многие в народе плакали от умиления.
Ф. Солнцев Образок, принадлежавший Дмитрию Самозванцу
С трезвоном во все колокола, с громкими радостными кликами встретила Москва царицу, мать своего государя. Всякие сомнения теперь должны были рассеяться: всем казалось, что так встретить могла только истинная мать свое родное детище после долгой разлуки.
30 июля было совершено, чрезвычайно торжественно, царское венчание в Успенском соборе. Весь путь от дворца к церкви был устлан красной материей, поверх нее положен был богатый персидский ковер. Царь в роскошном златотканом одеянии, унизанном жемчугом и драгоценными камнями, явился в собор в сопровождении множества бояр, блиставших тоже своими праздничными нарядами. По совершении обряда венчания и по окончании обедни царь, предшествуемый рындами и окруженный боярами, отправился по устланному пути в Архангельский собор — поклониться гробам отцов и праотцев своих. Окольничие осыпали царя золотыми монетами, которые нарочно были начеканены для этого случая.
Общее торжество было ознаменовано царскими милостями. Люди, сосланные при Борисе, один за другим возвращались из ссылки. Вернулись в Москву Нагие; возвращены были Романовы, оставшиеся в живых, даже кости трех братьев, умерших в заточении, по приказу царя были перевезены в Москву. Филарет (Федор Никитич), вернувшись из заточения в Сийском монастыре, был возведен в сан ростовского архиепископа. Бывшей супруге его, инокине Марфе, были возвращены вотчины, и она с сыном Михаилом поселилась в Ипатьевском монастыре, близ Костромы. Другому из Романовых, Ивану Никитичу, был пожалован сан думного боярина.
Неизвестный художник Портрет Лжедмитрия I
Ревностно принялся царь за свои дела. Дня не проходило, чтобы он не присутствовал в боярском совете, где бояре, или «сенаторы», как прозвал он их, докладывали ему государственные дела и подавали свои мнения о них. Случалось, что дела, которые казались боярам запутанными и решить которые они затруднялись, царь тотчас же, без особого труда, объяснял и решал. Сильно дивились бояре сметливости и быстроте ума своего юного царя. Нередко он указывал сановникам на их невежество, но делал это мягко, ласково, стараясь не обидеть их; обещал дозволить им посещать западные земли, чтобы они могли познакомиться сколько-нибудь с западным просвещением. Два раза в неделю, по средам и субботам, он принимал на дворцовом крыльце просителей: всякий бедняк и простолюдин мог прийти к нему и подать челобитную, жалобу или просьбу. Строго было предписано царем по всем приказам решать дела скоро и без всяких посулов.
При всяком случае старался царь выказать свою доброту. Он говорил:
— Есть два способа царствовать — милосердием и щедростью или суровостью и казнями. Я избрал первый способ; я дал Богу обет не проливать крови подданных моих и исполню его!
Всем служилым людям было удвоено содержание, помещикам увеличены поместья; приказным людям тоже удвоено жалованье и строго запрещено брать взятки. Чтобы при сборе податей не творилось неправды, было дано право самим общинам доставлять свои подати в казну.
Старался царь облегчить и участь крестьян. Хотя прикрепления их к земле он не решился отменить, но постановил, что помещики, которые не заботятся о своих крестьянах, не помогают им во время голода, теряют свои права над ними. Потомственные кабалы были отменены: холоп был холопом только у того помещика, к которому шел по своей воле в кабалу, но не переходил по наследству к его потомкам и со смертью его становился вольным человеком. Всем предоставлено было свободно заниматься промыслами и торговлей.
А. Боголюбов Ипатьевский монастырь
Царь, казалось, всей душой хотел блага своей земле, но все, что делалось им, было так ново, неожиданно, все творилось так поспешно, что многие бояре и сановники начинали смотреть на своего государя недоверчиво и самую быстроту его распоряжений приписывать его молодости и легкомыслию.
Но особенно не по душе русским сановитым людям были образ жизни, нрав и привычки молодого царя. Русские люди после сытного обеда обыкновенно спали, а Дмитрий, пообедавши, ходил пешком по городу, заходил в разные мастерские, запросто говорил со встречными. Да и на коне ездил он не так, как прежние цари; тем всегда подводили коней испытанных, смирных, подставляли скамьи под ноги, подсаживали под руки, а Дмитрий любил ездить на ретивых конях. Подведут дикого скакуна ему, он сам мигом вскочит на него и несется вихрем, словно лихой наездник-казак. Любил он охоту, но и тут держал себя не по-царски: прежние цари только смотрели на бой со зверями, а Дмитрий сам, лично, словно простой охотник, выходил на медведя и ловко справлялся с лютым зверем.
Простота в обращении и молодечество Дмитрия, на взгляд бояр, унижали царское достоинство; еще больше возмущало их, что он не блюдет древних обычаев и обрядов, которые чтились всем православным людом. Притом иногда царь откровенно высказывал не только мирянам, но и духовным лицам мысли, которые пугали благочестивых людей.
— У нас, — говорил он, — только одни обряды, а смысл их укрыт. Вы поститесь, поклоняетесь мощам, почитаете иконы, но никакого понятия не имеете о сущности веры, считаете себя самым праведным народом в мире, а живете совсем не по-христиански, мало любите друг друга, мало расположены творить добро. Зачем вы иноверцев презираете? Что же такое латинская, лютеранская вера? Все такие же христианские, как и греческая. И они веруют во Христа.
Неизвестный художник Портрет Марины Мнишек
Эти речи, хоть была в них и доля правды, были слишком смелы в устах юного Дмитрия, были и слишком легкомысленны: переделать понятия своих собеседников, которые выросли и состарились в известных убеждениях и привычках, он не мог, но огорчал их сильно, особенно духовных лиц. Монахов он сильно не любил и вовсе не скрывал этого, даже говорил, что думает у монастырей отобрать имения на ратное дело, на борьбу с врагами христиан — турками.
Мысль о войне с турками, об изгнании их из Византии была его заветной мечтой. Ратное дело очень его занимало; он старался улучшить русские военные силы, поставить их на европейскую ногу, беспрестанно устраивал смотры и учения, сам в них принимал деятельное участие. Но он, конечно, понимал, что одному ему не под силу вытеснить турок, и мечтал совершить это в союзе с европейскими государями. Папа и иезуиты очень могли помочь ему в этом деле — вот почему старался он ладить с ними, хотя вовсе не намерен был исполнять тех щедрых обещаний, какие надавал иезуитам и польскому королю, когда был еще далек от трона. Ласка и приязнь, какие постоянно царь выказывал к иноземцам и иноверцам, сильно смущали приближенных к нему русских бояр и особенно духовенство. Русские никогда не теснили иноверцев, и не веротерпимость царя раздражала их, а то, что он очень уж был равнодушен к православию и приравнивал его к «латинской и лютерской вере». Невольно у многих благочестивых людей закрадывалось в душу сомнение, уж не отрекся ли царь от православия, уж не еретик ли он. И раньше ходили слухи, что он обратился в латинство; теперь этим слухам стали давать больше веры.
Домашняя жизнь царя стала подвергаться сильному осуждению. Пред началом обеда он не молился иконам; во все время стола гремела веселая музыка; ел он кушанье, которое не употреблялось православными, — телятину; после обеда не умывал рук; не ходил в положенные дни в баню — все это в глазах благочестивых бояр ясно показывало, что царю не дороги русские обычаи, что он не русский человек. Пристрастие Дмитрия к иноземцам и иноземным обычаям очень уж сильно било в глаза.
Неизвестный художник Портрет Лжедмитрия Самозванца
Чинная и однообразная жизнь русских царей была вовсе не по душе живому и веселому Дмитрию — охотнику до шумных пиров на польский лад. Общество веселых собеседников, поляков и других иноземцев, ему гораздо больше нравилось, чем общество неразговорчивых, чинных бояр… Недовольство усилилось до крайней степени, когда после долгих сборов и приготовлений наконец прибыл в Москву Мнишек с дочерью своей, невестой царя. С ним приехали Вишневецкие и много других знатных польских панов со своими многочисленными дворами, шляхтой и челядью; всех гостей насчитывали до двух тысяч человек. Все это был народ разгульный и буйный. Начались роскошные пиры и празднества. 8 мая Марина была коронована, а потом совершено было бракосочетание. Пиршествам, шумному веселью и разгулу не было конца. Царь, казалось, забыл все, отдался весь удовольствиям, веселью, разным потехам и затеям. Музыка и пляс почти не прекращались во дворце; сам царь не уступал в ловкости лучшим польским танцорам…
Хвастливые и разгульные шляхтичи да буйная челядь польских магнатов вели себя крайне нагло, бесчинствовали в пьяном виде, вламывались в дома, всячески оскорбляли москвичей, творили всякие насилия.
— Вся ваша казна перейдет к нам в руки! — хвастались русским некоторые из шляхтичей, которых царь приглашал к себе на службу.
Н. Неврев Присяга Лжедмитрия I польскому королю Сигизмунду III на введение в России католицизма
— Что ваш царь! — кричали другие. — Мы дали царя Москве!
Благочестивых москвичей больше всего возмущало то, что в Кремле, среди соборов и святынь, где обыкновенно раздавались благовест и церковное пение, шел теперь разгул, пляс и гремела польская музыка. «Крик, вопль, говор неподобный, — восклицает летописец. — О, как огнь не сойдет с неба и не попалит сих окаянных!»
В то самое время, как царь веселился и пировал, против него уже зрел заговор.
Смерть Лжедмитрия I
Никак не мог примириться Василий Иванович Шуйский, мечтавший о царской власти, с мыслью, что власть эта не у него в руках. Он, именитый боярин, ведший свое начало от Рюрика, принужден был склонять свою гордую голову пред Борисом, потомком татарского мурзы, а теперь, на склоне дней, и того хуже — пришлось преклоняться пред неведомым, безродным пришельцем, попавшим на престол благодаря слепому случаю.
В ночь с 12 на 13 мая Василий Иванович Шуйский собрал к себе в дом своих приверженцев, торговых и служилых людей, раздраженных наглостью и насилиями поляков. Решено было обозначить дома, где они проживали, и затем на следующий день, в субботу, рано утром ударить в набат и крикнуть народу, что ляхи хотят погубить царя, а тем временем как чернь будет чинить расправу с поляками, пользуясь общей суматохой, убить Дмитрия и его приближенных. Простой народ в Москве любил Дмитрия, и потому заговорщикам надо было отвести глаза народа от царя.
15 мая Басманову было донесено о том, что затевается какой-то заговор. Басманов доложил царю.
Лжедмитрий I Самозванец
— Я и слышать не хочу об этом! — сказал Дмитрий. — Я не терплю доносчиков и наказывать буду их самих.
На следующий день воины-немцы известили царя, что в городе творится что-то недоброе. Царь снова с непонятным легкомыслием не придал этому большого значения, не думал о предосторожностях и продолжал беспечно веселиться.
Ранним утром 17 мая, по приказу Шуйского, были открыты тюрьмы и розданы преступникам топоры и мечи.
В три часа утра, когда царь и все польские гости покоились глубоким сном и не успели еще проспаться от вчерашнего похмелья, вдруг раздался набат во всех церквах. Тысячи людей, схватив дубины, ружья, сабли, копья — кто что мог, — устремились ко дворцу.
— Литва собирается погубить царя! — кричали народу. — Бейте Литву!
Народ кинулся отыскивать поляков по разным домам и беспощадно бить их.
Тем временем князь Шуйский с крестом в одной руке и мечом в другой въехал в Кремль. (Ворота кремлевские не были даже заперты.) За Шуйским следовала большая толпа заговорщиков, вооруженных топорами, бердышами, рогатинами и ружьями.
Набат разбудил царя. Он послал Басманова разведать, что это значит. Сначала думали, что пожар. Но скоро раздались в Кремле неистовые крики; двор наполнился вооруженными людьми.
— Выдай самозванца! — раздался грозный крик бушующей толпы, когда показался Басманов на крыльце.
Сомневаться в мятеже нельзя было. Басманов бросился назад, приказал копьеносцам никого ни под каким видом не впускать во дворец, а сам в отчаянии кинулся к царю, рвал на себе волосы.
— Беда, государь! — закричал он. — Требуют головы твоей!
Дмитрий думал было обуздать мятежников — выхватил у одного из немцев, стоявших на страже во дворце, меч, вышел в переднюю и, грозя мечом бушующей толпе, кричал: «Я вам не Борис!»
В ответ раздались ружейные выстрелы, направленные в него. Он поспешил удалиться. Басманов попробовал было усовестить бояр, руководивших мятежом, но один из них — Татищев — выругал его и ударил ножом. Басманов упал мертвый.
Ф. Солнцев Нательный крестик, принадлежавший Лжедмитрию (лицевая и оборотная стороны)
Медальон, принадлежавший Дмитрию Самозванцу
Дмитрий думал спастись во внутреннем дворе, где стояли стрельцы на страже; он хотел спуститься с высоты в несколько сажен из окна по стропилам, но сорвался, упал, сильно расшибся и вывихнул себе ногу.
Стрельцы привели в чувство царя и окружили его.
Пришедши в себя, Дмитрий умолял их отнести его на Красную площадь, к народу; за это он сулил им все имения мятежных бояр. Стрельцы обступили царя и думали было оборонять его, но мятежники пригрозили им, что перебьют в Стрелецкой слободе их жен и детей, и стрельцы, после недолгого сопротивления, уступили. Несчастного Дмитрия потащили во дворец.
— Латинских попов привел, нечестивую польку взял в жены, казну московскую полякам раздавал! — приговаривали мятежники, тащившие Дмитрия.
Дикая толпа заговорщиков забыла всякое человеческое чувство — издевалась и ругалась над несчастным. Толкали его, дергали, били… Кафтан с него сорвали, нарядили его в какое-то рубище…
— Поглядите-ка на царя! У меня такой царь на конюшне! — сказал со смехом один.
— Дал бы я ему себя знать! — говорил другой.
К. Вениг Последние минуты Самозванца
Н. Некрасов Свержение Самозванца в 1606 году
Третий ударил его по лицу и закричал:
— Говори, кто ты, кто твой отец и откуда ты родом!
Измученный Дмитрий едва мог проговорить в ответ несколько слов. Он утверждал, что он — сын Иоанна, предлагал спросить о том его мать и просил, чтобы его вынесли к народу на Лобное место.
— Царица Марфа сейчас сказала, что это не сын ее! — крикнул один из бояр.
— Винится ли злодей? — кричали в нетерпении со двора.
— Винится! — отвечали из дворца.
— Бей, руби его! — завопила толпа.
— Вот я благословлю этого польского свистуна! — крикнул один из мятежников и застрелил Дмитрия.
Нашлись и такие, что рубили и кололи бездушное тело мечами.
Толпа заговорщиков, убивши Басманова и царя, избила до сотни музыкантов и песенников, живших в Кремле, близ царского дворца. В это время толпы разъяренного народа свирепствовали в Китай-городе и других частях Москвы, истребляя без милосердия «ненавистных ляхов». Несчастные поляки вскакивали с постелей, прятались в погреба, зарывались в солому, даже в мусор… Но тщетно искали они спасения: москвитяне их находили и убивали кольями, каменьями, рубили саблями… Народная злоба не знала границ. С 3 часов утра до 11 шла дикая, бесчеловечная расправа. Ужас этого побоища, говорит очевидец, нельзя рассказать. Шесть часов сряду гремел набат без умолку, раздавались ружейные выстрелы, сабельные удары, топот коней, отчаянные вопли избиваемых и крики остервенившейся черни: «Секи, руби поляков!» Казалось, ярость и злоба заглушили всякое человеческое чувство: ни слезы, ни мольбы несчастных не спасали их. Некоторые в отчаянии решались защищаться в домах с оружием в руках.
Народ притащил даже пушки, чтобы разгромить дома, где заперлись польские послы и царицыны родичи с вооруженными людьми. Не спаслись бы, конечно, и они, но Шуйский с товарищами избавили их от народной ярости, спасли бояре и Марину — ее отвезли из дворца к отцу.
Изуродованный труп Лжедмитрия потащили веревками из Кремля. У Вознесенского монастыря остановились, вызвали инокиню Марфу и требовали, чтобы она перед всем народом объявила, ее ли сын убит. Та отреклась, сказала, что истинный сын ее, царевич Дмитрий, убит в Угличе; винилась, что она страха ради признала сыном самозванца… Тогда тело его выволокли на Красную площадь и положили на стол, а у ног его на скамье кинули труп Басманова. Один боярин бросил на тело Лжедмитрия маску, волынку, а в рот воткнул дудку.
— Долго мы тешили тебя, обманщик, — сказал он, — теперь ты нас позабавь!..
Три дня грубая толпа издевалась над трупом Лжедмитрия.
Но на третью ночь суеверных людей обуял страх. Пронесся слух, будто около трупа стал показываться какой-то таинственный свет, который исчезал, когда подходили часовые… На следующее утро бояре распорядились отвезти труп за Серпуховские ворота, в Божий дом (так называлось кладбище, где хоронили умерших, подобранных на улицах). Но и тут разные видения пугали суеверных людей. Стали говорить в народе, что Лжедмитрий был необыкновенный человек, что ему сам дьявол помогал морочить людей, что он — чернокнижник и чародей и прочее. Наконец труп его вырыли, сожгли, пепел смешали с порохом, зарядили этой смесью пушку и выстрелили в сторону, откуда въехал в Москву Лжедмитрий.
Так завершилась необыкновенная судьба этого загадочного человека…
Полу царь
Восстания против Василия. Тушинский вор. Осада Троицкой лавры. Разорение земли тушинцами. Скопин-Шуйский. Сведение с престола Василия Ивановича
Москва по смерти Лжедмитрия осталась без царя. Законного наследника престола опять не было: приходилось выбирать царя из бояр. По знатности рода и по уму виднее всех в их среде были Василий Иванович Шуйский и Василий Васильевич Голицын. У обоих было много сторонников, но последние события особенно выдвинули Шуйского: он первый из бояр изобличил Лжедмитрия, он стоял во главе заговора и с крестом и мечом в руках повел народ против «злого еретика», спасая православие и народ от ляхов. Это все вменялось ему в большую заслугу, по крайней мере его многочисленными сторонниками, смотревшими на дело его глазами. Людям, совершившим последний переворот, конечно, более всего хотелось, чтобы на престоле был их вождь.
Бояре хотели созвать выборных из всех концов Русской земли, чтобы всею землею выбрать государя, но Шуйский и сторонники его этого вовсе не желали: Шуйский не мог рассчитывать, что на земском соборе выберут царем его, а не другого боярина. Восстание против Лжедмитрия и убиение его было делом только одних московских приверженцев Шуйского. В самой Москве далеко не все одобряли последние действия его, а чернь московская, приставшая к мятежу, думала, что дело идет только об истреблении ненавистных поляков. Шуйский и его сторонники понимали, что мало вероятности, чтобы на земском соборе выбрали его, и потому решились действовать поскорее — ковать железо, пока оно горячо.
19 мая в б часов утра на Красной площади толпились купцы, разносчики, ремесленники — все были в ожидании… Из Кремля вышли бояре, придворные сановники, духовенство и предложили прежде избрать патриарха (вместо свергнутого Игнатия, сторонника Лжедмитрия), с тем чтобы он стоял во главе временного правления и созвал выборных людей для избрания царя. Сторонники Шуйского, в большом числе собравшиеся на площади, понимали, что это для их вождя опасно: могли случайно выбрать в патриархи противника Шуйского. Из толпы раздались крики, что царь нужнее патриарха, а царем должен быть Василий Иванович Шуйский. Противоречить этому никто не посмел. Таким образом, Василий Иванович был избран не всенародным собранием, даже не всей Москвой, а только своими сторонниками.
Василий Иванович немедленно пошел в Успенский собор и целовал крест на том, что ему, «не осудя истинным судом с боярами своими», никого не казнить смертью, вотчин, дворов и имения у братьев, жены и детей преступника не отбирать, если они ни в чем не виновны, ложных доносов не слушать, а разбирать всякое дело как можно обстоятельнее, лживых доносчиков казнить, смотря по их клевете. Эта присяга сильно поразила многих. По словам летописца, некоторые бояре и люди уговаривали Шуйского, чтобы на том креста не целовал, потому что «того (чтобы бояре ограничивали царскую власть) в Московском государстве не повелось», но он не послушался.
Немедленно по всем русским городам была разослана грамота с оповещением, что «по приговору всех людей» Московского государства, и духовных и светских, избран на престол князь Василий Иванович Шуйский. Грамота извещала о гибели «Гришки Отрепьева, который назвался Димитрием, овладел царством с бесовской помощью, и всех людей прельстил чернокнижием, и замышлял с папой и поляками попрать православную веру». Вместе с этой грамотой рассылалась и грамота от имени царицы Марфы. Здесь она каялась в том, что признала вора (Гришку Отрепьева) сыном страха ради, испугавшись угроз.
С недоумением слушали чтение царской грамоты русские люди, жители городов и областей. Давно ли их оповещали, что Годунов свергнут истинным царем Дмитрием; теперь же уверяют, что этот самый Дмитрий был обманщик, злодей и еретик; объявляют, что он погиб за свое злодейство, но как именно погиб — не объясняют. Говорится в грамоте, что новый царь избран «по приговору всех людей Московского государства», а между тем в каждом городе жители хорошо знали, что от них выборных людей для избрания царя в Москве не было; стало быть, в грамоте есть заведомая ложь… Все это приводило к одному заключению — что в Москве творится что-то неладное, порождало полное недоверие к московскому правительству и общую тревогу в умах. Все с жадностью прислушивались к разным вестям и слухам, которые волновали народ, и в то же время никто не знал, чему и кому верить. Наступило настоящее Смутное время.
Царь и великий князь Василий Иоаннович Царский титулярник XVII века
Не только в областях, но и в Москве было много недовольных. Народу было совсем не по душе, что власть была больше в руках бояр, чем царя; в Шуйском видели не настоящего царя, а «полуцаря», или «боярского царя», который без согласия боярской думы ничего не смеет делать. Некоторые из бояр были недовольны, потому что им самим хотелось быть на престоле, другие имели старые счеты с Шуйским. Не в добрый час взял царский скипетр честолюбивый боярин.
Его положение в начале царствования было, пожалуй, хуже, чем Бориса Годунова в конце. Борис опирался на целое сословие служилых людей, патриарх держал также всегда его сторону. Василию Ивановичу Шуйскому не было опоры ни в ком: ни в боярах, ни в народе, ни в служилых людях. Невзрачный, малорослый старик (ему было за 50 лет), с больными, подслеповатыми глазами, он даже и внешним видом своим не напоминал прежних царей. Он обладал хитрым и изворотливым умом, но способностей настоящего правителя не имел. Не понял он даже того, что в пору общей смуты и тревоги нужны сильная власть и действия быстрые и решительные, что «полуцарю», окруженному недоброжелателями, в такое время не усидеть на престоле. В довершение всего он был расчетлив до крайности, до скупости, тогда как в Москве привыкли к щедрости Годунова и расточительности Лжедмитрия. Мудрено ли после этого, что число сторонников Василия не увеличивалось и служилые люди не выказывали большой ревности к царской службе?
Еще 17 мая, в день гибели Лжедмитрия, один из приверженцев его, Молчанов, успел скрыться из дворца и бежать из Москвы в Литву, распуская по дороге слухи, что он — царь Дмитрий, спасающийся от убийц. В областях, отдаленных от Москвы, ему могли легко поверить; в самой Москве носились слухи, что погиб не Дмитрий: маска, надетая на лицо убитого, могла подать повод к этим толкам.
Святой благоверный царевич Димитрий Икона. Конец XVII-начало XVIII века
Василий Иванович думал, что самым лучшим средством против самозванцев, прикрывающихся именем Дмитрия, будет перенесение в Москву мощей царевича. С этой целью отправился в Углич митрополит Филарет с двумя архимандритами и несколькими именитыми боярами. 1 июня Василий Иванович венчался на царство, а 3 июня с большим торжеством внесены были в столицу мощи царевича святого Дмитрия. Сам царь по всей Москве нес их до Архангельского собора, причем прославляли святость невинного младенца, погибшего под ножами убийц… Но это чествование Дмитрия напоминало народу и вероломство самого Василия Ивановича: в Москве помнили очень хорошо, как он свидетельствовал, что царевич сам умертвил себя в припадке падучей болезни…
Восстания против Василия
Шуйскому не верили в Москве, не верили грамотам его и в других городах. Успокоить умы было трудно. Смута и тревога чувствовались повсюду. В такую пору нетрудно было поднять мятеж. Ходили уже слухи, что царь Дмитрий жив. Князь Григорий Шаховской, сосланный за преданность Лжедмитрию в Путивль, собрал жителей и объявил им, что царь Дмитрий спасся от смерти, грозившей ему, и скрывается от врагов. Черниговский воевода, князь Телятевский, тоже объявил себя на стороне будто бы спасшегося из Москвы Дмитрия. В Москве также начались волнения. Народ собирался толпами. То разносилась молва, будто царь отдает дома иностранцев на разграбление народу, то возникал слух, что царь хочет говорить о чем-то с народом. Все эти слухи, волновавшие московскую чернь, распускали бояре, враги Шуйского.
Раз в воскресенье, когда царь шел к обедне, он увидел у дворца густую толпу народа, поджидавшую его. Оказалось, что ее собрало сюда известие, будто бы царь хочет говорить с народом. Чуть не плача с досады, Василий Иванович обратился к окружающим его боярам и начал их корить, что это их козни, что, если он им не угоден, он немедленно оставит престол. На этот раз все бояре спешили уверить его в своей преданности и просили наказать зачинщиков. Пятерых человек схватили, били кнутом и сослали.
Возмущение росло. У Шаховского нашелся даровитый помощник; то был беглый холоп Иван Болотников, человек бывалый, решительный, знавший ратное дело. Он стал грамотами волновать простой народ, сулил ему волю, богатство и почести под знаменами Дмитрия. К Болотникову стали целыми толпами являться беглые холопы, преступники, ушедшие от наказания, и казаки — «гулящий люд», который промышлял «лихим делом» и «воровством». Таким образом, довольно скоро собралось большое полчище всякого сброда, готового воевать за кого угодно, лишь бы можно было грабить… Но к Болотникову стали являться люди и другого рода: посадские, служилые, стрельцы из разных городов — люди, верные своей присяге Дмитрию и думавшие, что они идут биться за правое дело… Поход Болотникова начался, как и следовало ожидать, грабежами и убийствами: беглые холопы вымещали на бывших своих господах свои обиды — мужчин убивали, жен и дочерей принуждали выходить за себя замуж, имения грабили.
В. П. Верещагин Царь Василий Иоаннович Шуйский
Царская рать, высланная против Болотникова, была разбита и рассеялась, служилые люди, помещики, самовольно разъезжались по своим домам; город за городом присоединялись к восстанию. Оно, словно пламя пожара при сильном ветре, быстро росло и разносилось из конца в конец. Боярский сын Пашков возмутил Тулу, Венев и Каширу; воевода Сунбулов и дворянин Прокопий Ляпунов подняли Рязанскую область. На востоке, по Волге, в Перми и Вятке, поднялись крестьяне, холопы, инородцы; восстала за Дмитрия и Астрахань.
Болотников переправился чрез Оку и шел уже на Москву. В 70 верстах от нее он разбил снова царскую рать; наконец подошел к самой столице и стал станом в селе Коломенском. С ним были Ляпунов, Сунбулов и Пашков.
Самым замечательным из этих лиц был Прокопий Ляпунов. Умный, храбрый, красивый, знающий ратное дело, он принадлежал к числу тех рьяных, полных жизни и силы людей, которые во всяком деле, где нужна решимость, рвутся вперед с неудержимой силой, становятся во главе предприятия, увлекают за собой толпы людей менее решительных. В смутные времена, в пору общего колебания, недоверия и сомнения, такие люди становятся особенно заметными. Они являются обыкновенно главными зачинщиками дела и вожаками; не всегда они бывают в состоянии довершить его как следует — для этого недостает им терпения, выдержки, способности выжидать, хитрить, пользоваться обстоятельствами, но ни одно крупное общественное дело не обходится без них. Таков был и Прокопий Ляпунов.
Когда Болотников стал под Москвой, дело Василия Ивановича казалось вконец проигранным. Сил бороться дальше у него не хватало; в Москве стал чувствоваться уже недостаток в съестных припасах: шайки Болотникова на дорогах перехватывали обозы и опустошали окрестности Москвы. Столичная чернь волновалась. Подметные письма Болотникова возбуждали ее против высших сословий.
Г. Горелов Восстание Болотникова
«Вы все, боярские холопы, — говорилось в них, — побивайте своих бояр, берите себе все достояние их, убивайте их, убивайте гостей и торговых богатых людей, делите меж собой их имения… Вы были последними — теперь станете боярами и воеводами. Целуйте все крест законному государю Димитрию Ивановичу!»
Этот дикий призыв к убийству и грабежу мог быть по душе разве только самой разнузданной черни и «лихим людям». Все лучшие люди отшатнулись от Болотникова. Прокопий Ляпунов с братом Захаром и Сунбуловым, приглядевшись к Болотникову и его полчищу, решились обратиться с повинной головой к Шуйскому: быть заодно с разбойниками, разорявшими родную страну, им было противно, а Дмитрий, которому они хотели послужить верой и правдой, не являлся. С Ляпуновым и Сунбуловым явились в Москву толпы дворян и детей боярских, а за ними стрельцы, которые в Коломне перешли было к Болотникову. Василий Иванович принял их, конечно, с радостью, простил их, даже обласкал и наградил — переход лучших сил от Болотникова спасал его. Помогло ему и то, что Тверь, где архиепископ воодушевил защитников, не поддалась Болотникову и отбила от стен своих отряды его. Пример Твери подействовал и на другие соседние города. Смоленск также держался Василия Ивановича. Многих готовых прежде постоять за Дмитрия начало брать сомнение, существует ли он. В Москву стали подходить ратные силы из Смоленской и Тверской областей. Сил у царя набралось довольно; можно было уже ударить на скопище мятежников, но царь медлил, выказывая человеколюбие и жалость к ним. Он обещал милость и прощение мятежникам, если они смирятся, но те упорствовали, — надо было решать дело боем.
Под стенами Москвы произошла битва. Царский племянник, молодой воевода, князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, разбил Болотникова, которого покинул и Пашков со своим отрядом. Болотников не в силах был уже держаться под Москвой, бежал с остатками своего полчища и засел в Калуге. В несколько дней он укрепил ее глубокими рвами и валом, собрал около десяти тысяч беглецов и приготовился к осаде, а между тем послал в северский край к своим сторонникам с известием, что ему нужна скорая помощь, нужен и царевич Дмитрий, потому что, не видя его, люди начинают сомневаться в его существовании… Но новый Лжедмитрий не являлся. Шаховской и другие мятежные бояре призвали на помощь запорожских казаков, ополчили всех, кого только могли навербовать в северской земле, и поспешно выступили в поход, на выручку Болотникова. Незадолго перед тем среди терских казаков явился бродяга, назвавшийся Петром, небывалым сыном царя Федора. Шаховской призвал этого Лжепетра с шайкой терских мятежников, встретил его с большой честью в Путивле как царского племянника и наместника.
Иван Болотников является с повинной к царю Василию Шуйскому
Между тем Болотников мужественно защищался в Калуге. Напрасно царская рать пыталась взять город. Четыре месяца уже длилась неудачная осада. Наконец Болотников сделал вылазку: он так внезапно и сильно ударил на осаждавших, что царское войско обратило тыл; пушки, обоз и припасы достались мятежникам, вдобавок около пятнадцати тысяч воинов и отряд наемных немцев передались Болотникову.
Эти вести поразили и всю Москву, и царя. Вчера еще ждали вести об окончательном уничтожении крамолы, а сегодня с ужасом приходится думать о защите столицы от торжествующих мятежников… Всевозможные меры были немедленно приняты. Приказано было, чтобы все, кто только мог держать оружие в руках, вооружились; монастыри должны были доставить в Москву свои хлебные запасы; даже иноки обязаны были на всякий случай готовиться к ратному делу. Святители всенародно по церквам предавали анафеме Болотникова и других злодеев.
К счастью, Болотников не решился напасть на Москву с теми силами, какие были у него под рукой, а поджидал Шаховского. Царь тем временем успел собрать войско, около ста тысяч. 21 мая он сел на ратного коня и повел боевые силы всего своего царства на скопище злодеев. Болотников оставил Калугу и перешел в Тулу, где соединился с Шаховским. Неподалеку от города Каширы царские отряды встретились с мятежниками. Начался кровавый бой. Царская рать стала уже подаваться под напором врагов, но воевода Голицын и Лыков воодушевили ее. Они кинулись в самый пыл битвы с криком:
— Нет для нас бегства! Смерть или победа!
Сильным ударом царские ратники смяли мятежников. Те, побросав свои пушки и обоз, поспешно отступили и заперлись в Туле.
Началась осада. Болотников делал беспрестанно, даже по нескольку раз в день, смелые вылазки и наносил большой вред осаждающим. Царь порешил взять город измором — все пути в Тулу были преграждены и гнездо мятежников было все охвачено царской ратью. Прошло два месяца. С каждым днем силы осажденных убывали; наконец они стали чувствовать уже недостаток в припасах — пришлось есть лошадей. Явились недовольные.
— Где же тот, — говорили они, — за кого мы умираем? Где Димитрий?
Шаховской клялся, что Дмитрий в Литве, Болотников уверял, что он видел его своими глазами.
И тот и другой писали в Литву, настоятельно требуя, чтобы их сторонники выставили какого-нибудь Дмитрия. Посланные с письмами очень ловко пробрались сквозь русский стан. До конца лета мятежники упорно отбивались и выносили твердо недостаток в хлебе и соли. Желанный Дмитрий не являлся, и помощи из Литвы не было. Но и царская рать уже тяготилась осадой; неоднократно пытались идти на приступ, но каждый раз возвращались с большим уроном. В царском войске начиналась уже «шатость». Неизвестно, чем кончилась бы эта осада, если бы царя Василия не выручил один из его воинов, Кравков, который был, по словам летописи, «большой хитроделец». Он явился к царю и сказал:
— Я обещаю тебе, государь, потопить Тулу водой и заставить мятежников сдаться.
Ф. Солнцев Бердыши и топоры
Царь посулил ему большие милости, если это сбудется.
«Хитроделец» сработал во всю ширину реки Упы плот, велел сыпать на него землю. Плот с землей затонул и преградил течение реки; она вышла из берегов и затопила Тулу. Людям пришлось ездить по улицам в лодках. Вода залила погреба и кладовые с припасами. Осажденным и раньше уже приходилось жить впроголодь, беречь остатки запасов, а теперь начался настоящий голод — стали есть кошек, мышей, собак… Пришлось сдаться. Мятежники послали сказать царю:
— Мы сдадим город, если ты нас помилуешь, не казнишь смертью. Если же не обещаешь помиловать нас, то будем держаться, хотя бы пришлось нам есть друг друга от голода!
Царь обещал им свое милосердие. Болотников явился к нему в полном вооружении, снял с себя саблю, «ударил челом в землю» и сказал:
— Царь-государь! Я служил верно по присяге тому, кто в Польше назывался Димитрием. Точно ли он Димитрий или нет, не знаю: я не видал его прежде. Он меня покинул. Теперь я в твоей власти. В твоей воле убить меня, вот моя сабля — убей. Если же ты помилуешь меня, как обещал, то я буду тебе служить так же верно, как служил тому, кто меня оставил!
Е. Данилевский Царь
С торжеством вернулся Василий Иванович в Москву. Взятие Тулы праздновали, как некогда взятие Казани. Лжепетра повесили, Болотникова отвезли в Каргополь и там утопили. Другим важнейшим мятежникам была оказана пощада. Шаховского сослали на Кубенское озеро; немцев, изменивших присяге, отправили в Сибирь, а менее важных пленников оставили на свободе без наказания.
Тушинский вор
Давно ожидаемый мятежниками Дмитрий наконец явился. Это было незадолго до взятия Тулы. Кто был этот второй Лжедмитрий, трудно сказать — так разноречивы известия о нем. Наиболее вероятное сказание гласит, что он родом был из Стародуба; отсюда переселился в Белую Русь, где промышлял учительством, обучал детей грамоте. Бездомный скиталец и бедняк, он ходил в изодранном тулупе, в бараньей шапке даже летом: по бедности не мог он обзавестись летней одеждой. Из Могилева он перешел в Пропойск. Здесь его почему-то сочли шпионом и посадили в тюрьму. Чтобы избавиться от беды, он назвался боярином Нагим, дядей царя Дмитрия. Ему поверили, и приказано было его отпустить. К нему пристало несколько таких же проходимцев, как и он. Мнимый Нагой и приставшие к нему явились в Стародуб, где распустили молву, что сюда скоро прибудет царь Дмитрий. Один из товарищей самозванца, подьячий Рукин, приехал в Путивль и стал рассказывать, что Дмитрий в Стародубе. Путивляне его задержали и стали добиваться верных известий.
— Мы тебя замучим, — говорили они Рукину, — если ты не укажешь нам царя.
Под стражей нескольких путивлян Рукин был отправлен в Стародуб. «Где царь?» — стали спрашивать у мнимого царского дяди. Тот ответил, что не знает. Тогда стародубцы и путивляне принялись за ложного вестовщика — стали Рукина бить беспощадно кнутом, приговаривая при этом: «Скажи, где Димитрий!» Рукин не стерпел муки и закричал:
— Смилуйтесь, ради Николы Чудотворца! Я укажу вам Димитрия.
Его отпустили.
— Вот Димитрий Иванович, — сказал он, указывая на мнимого Нагого. — Он потому не объявился сразу, что не знал, рады ли вы будете ему.
Указанному Дмитрию нетрудно было смекнуть, что ему удобнее назваться этим именем и воспользоваться почетом и выгодами царского звания, чем упорствовать в прежнем своем самозванстве — выставлять себя Нагим: от него могли потребовать во что бы то ни стало указания, где царь, а в случае упорства, пожалуй, подвергнуть и пытке. Сообразив все это, он принял повелительную осанку и грозно прикрикнул на Стародубцев, истязавших Рукина. Те, пораженные решительным видом Лжедмитрия, повалились ему в ноги и закричали:
— Виноваты, государь, не узнали тебя! Помилуй нас! Рады тебе служить против недругов твоих.
С колокольным звоном стародубцы повели «царя» в город (замок), где устроили ему жилище, принесли дорогие подарки и деньги.
Из Стародуба разосланы были грамоты по северским городам; все русские люди призывались на службу своему царю. Отправлены были грамоты и в Москву.
С Божьей помощью, говорилось в них, Дмитрий спасся от убийц, благодарит московских людей за то, что они помогли ему добыть престол, и просит их, чтобы в другой раз посадили его на царство.
В северской земле, где давно уже ходили слухи о спасении Дмитрия и ждали его с нетерпением, скоро набралось несколько тысяч охотников послужить ему.
Гулящего люда, как сказано, в северском крае, а также в Литве, на русских окраинах было вдоволь. Эти свободные силы, не привязанные ни к какому делу, искали выход. Нужен был только благовидный повод для похода, а охотников до разгульной походной жизни и добычи было много среди вольнолюбивых жителей русской и литовской украины; притом же удачный поход Лжедмитрия I, обогативший иных сподвижников его, соблазнял многих. Вот почему нетрудно было навербовать себе сильное полчище и второму Лжедмитрию. Но он вовсе не походил на первого: тот, конечно, был убежден в своем царственном происхождении и в своем праве на престол, хотя убежден ложно, обманутый другими и названный Дмитрием, а этот был сознательный обманщик, в полном смысле слова — самозванец. Человек он был ловкий, сметливый, но развращенный, нерешительный и подозрительный; он постоянно опасался, что его выдадут… Случайно назвавшись Дмитрием, он пытался при первых же действиях своего полчища, когда начались распри и несогласия, бежать, но его не пустили: он нужен был тем, которые думали действовать его именем.
Со всех сторон стекались к самозванцу военные силы: из Литвы явился знаменитый наездник Лисовский, бежавший от смертной казни; прибыли со своими отрядами несколько именитых польских панов — охотников до боевой жизни. Целыми сотнями являлись шляхтичи: тут были должники, бежавшие от заимодавцев, были преступники, спасавшиеся от наказания, промотавшиеся и проигравшиеся люди. Весь этот сброд смотрел на войну как на ремесло, как на средство нажиться.
Явились на службу к самозванцу и запорожцы. Донских казаков привел Заруцкий. Таким образом собрались очень значительные силы. Это полчище всяких проходимцев и хищников под знаменами самозванца хлынуло на Русскую землю.
М. П. Клодт Марина Мнишек с отцом под стражей
Гетманство, или главное начальство над военными силами, взял на себя поляк князь Рожинский.
Весть о том, что царь Дмитрий жив и идет с большой силой отнимать свое царство у Шуйского, быстро разнеслась по Русской земле. Самозванцу сдавались город за городом: сдались Карачев, Брянск, Орел. Отсюда разосланы были грамоты, увещавшие народ отступиться от Шуйского и не верить другим самозванцам, которые тогда появлялись один за другим в разных местах.
Весной 1608 года самозванец двинулся из Орла к Москве. Под Волховом царское войско было разбито, и Лжедмитрий быстро двинулся к столице. В это время только что кончились здесь переговоры с польскими послами и заключено было перемирие на три года: Шуйский обязывался отпустить в Польшу Мнишека с дочерью и всех поляков, задержанных в Москве после мятежа 17 мая, а король должен был отозвать всех поляков, приставших к самозванцу, и вперед не верить и не помогать никаким самозванцам. Королевские послы известили Рожинского и товарищей его об этом условии перемирия, но те и внимания не обратили — заявили, что ничьих приказов слушать не намерены.
1 июня Лжедмитрий подошел к Москве и расположился станом в селе Тушине. В первой битве под Москвой, на реке Ходынке, самозванец потерпел неудачу; но все-таки положение Шуйского было неутешительно: не только ни один поляк не покинул Тушинского стана, но чуть ли не каждый день являлись сюда новые шайки и поляков и русских. Прибыл в стан между прочими и Ян Сапега, знатный польский пан, осужденный в своем отечестве за буйство. Толпы русских тоже со всех сторон стекались в Тушино. На службу к самозванцу являлись и знатные русские бояре: князья Трубецкой, Черкасский, Сицкий, Засекины и другие.
Ян-Петр Сапега, староста усвятский, с изображенным позади нею монастырем Живоначалъной Троицы
Узнавши, что Мнишек с дочерью возвращается в Польшу, самозванец послал отряд перехватить их на дороге. Это ему удалось. Мнишеку обещано было триста тысяч рублей и несколько городов, и этот продажный человек вместе с другими уговаривал дочь свою, чтобы она признала самозванца своим мужем. Та долго противилась, наконец волей-неволей должна была согласиться. Признание Мариной Лжедмитрия II своим мужем сильно ему помогло: многих колебавшихся еще признать его царем Дмитрием это убедило. Северные города стали один за другим сдаваться ему.
Сбродное полчище Лжедмитрия, водворившееся в Тушине, представляло пеструю смесь: тут были нарядные польские гусары в шишаках и кольчугах с длинными копьями в руках; были и запорожцы, вооруженные самопалами и копьями, узнаваемые с первого взгляда по красным шароварам да бараньим шапкам. Донцы и московские люди были одеты очень разнообразно, смотря по состоянию. Отличались они своими колпаками, высокими стоячими воротниками и длинными рукавами, собранными в складки, многие из них вооружены были луками и колчанами со стрелами. Из нескольких наречий, на которых говорили в Тушинском стане, чаще всего слышалась южно-русская речь: главные силы самозванца состояли из запорожских казаков, — их было тысяч двадцать и донских казаков тысяч пятнадцать. Затем было много московских людей. Посчитать их было трудно даже для вождей самозванца, так как беспрестанно то являлись новые шайки в Тушино, то уходили.
И. Машков Схимник
Наступила осень. Надо было подумать о зимовке. Скоро Тушино стало обстраиваться: из хвороста делали загоны для лошадей, рыли для простых воинов землянки и устраивали в них печи. Люди познатнее и побогаче ставили себе избы. Для «царя» и «царицы» соорудили просторные хоромы. Тушино стало походить на оживленный город. Торговцев сюда понаехало тысяч до трех. Все, что требовалось для разгульной, веселой жизни, продавалось в изобилии; пива, меда и водки было разливное море. Пьянство, дикий разгул, игра в карты, ссоры, драки, даже убийства — вот что наполняло жизнь тушинцев. Присутствие «царя» никого не стесняло. Польские вожди на него мало обращали внимания, называли его «цариком». Шайки поляков и казаков рыскали по окрестностям Тушина и Москвы, разбойничали по всем дорогам, грабили жителей, творили всякие бесчинства и возвращались в стан обремененные добычей. Самозванец не сдерживал хищников, да если бы и хотел, то был бы не в силах обуздать их своеволие. Тушино скоро обратилось в глазах народа в гнездо разбойников, и самого Лжедмитрия прозвали Тушинским вором. Монастыри, где хищники чуяли богатую добычу, служили сильной приманкой для них. Им не раз уже удавалось грабить монастыри, а над несчастными иноками всячески издеваться. Сапега с Лисовским задумали завладеть Троице-Сергиевой лаврой, которая славилась своим богатством. Василий Иванович, проведав о том, что поляки идут к Троице, выслал войско, чтобы помешать им, но Лисовский разбил эту рать наголову и забрал множество пленных. Эта неудача сильно повредила злосчастному Шуйскому, беды да невзгоды одна за другой обрушивались на него. Служилые люди стали самовольно разъезжаться из царской рати по своим поместьям, боясь, что тушинцы выместят на женах и детях их свою злобу за их службу Шуйскому. Многие задумывались, кому лучше служить: тушинскому ли «царику» или московскому «полуцарю». Шуйский, по словам летописца, сам видел, что над ним гнев Божий, и обращался то к молитве, то к гадальщицам, то беспощадно казнил изменников, то заявлял москвичам:
— Кто хочет мне служить, пусть служит и сидит в осаде, а кто не хочет — пусть идет себе, я никого не неволю!
Никто еще не посмел сказать Шуйскому, что не хочет служить ему; все клялись ему в верности, но многие на другой же день бежали в Тушино. Побывши там, послуживши Дмитрию, изменники возвращались с повинной головой к Шуйскому, получали от него жалованье, а через некоторое время снова ехали в Тушино, чтобы получить награду от тушинского «царя». Случалось, что некоторые раз пять или шесть перебегали туда и сюда, нарушая присягу. Таких называли «перелетами». Бывали и такие случаи, что иные, оставаясь в Москве на службе у Шуйского, отпускали своих сыновей или родичей на службу к самозванцу и рассуждали при этом так:
— Если возьмут Москву, нам будет легче, когда родня наша служит в Тушине.
Иногда родные и близкие люди собирались вместе в одном доме, обедали вместе, а после обеда одни отправлялись к царю Василию во дворец, а другие — в Тушино. Торговцы московские как ни в чем не бывало возили в изобилии из Москвы в Тушино всякие припасы и товары и потом возвращались в столицу, где все день ото дня дорожало…
Осада Троицкой лавры
В то время как в Москве обнаруживалась такая «шатость», иноки Троице-Сергиевой обители показали пример высокой доблести и непоколебимого мужества.
Троицкий монастырь сильно мешал тушинцам: он стоял на пути из Москвы в Заволжский край, а по этой дороге провозились в столицу припасы. Иноки вместе с воинами часто перехватывали разъезды тушинцев, а главное, своей верностью и преданностью царю Василию давали высокий нравственный пример и удерживали многих от измены. Стало быть, не одна корысть, но и военные расчеты побуждали тушинцев овладеть богатой лаврой.
— Доколе будут, — говорили поляки самозванцу, — мешать тебе вороны эти, возгнездившиеся в каменном гробе? Доколе старцы будут вредить нам повсюду? Не только на путях вестников наших хватают, из лесов выходя, как звери, но и смертям лютым предают без пощады; притом и все грады развращают — учат служить царю Шуйскому…
Неизвестный художник Свято-Троице-Сергиева лавра
23 сентября 1608 года Сапега и Лисовский стали под монастырем. У них было тысяч тридцать войска: тут были и польские отряды, и казаки, и русские изменники.
Лавра еще при Иване IV была ограждена каменными стенами вышиной в четыре сажени, толщиной в три, с высокими башнями и глубоким рвом. Предвидя опасность для монастыря, царь заранее послал туда небольшие отряды служилых людей и стрельцов. Всех способных оборонять Троицкую крепость было около трех тысяч, считая и монахов, из которых некоторые, конечно, знали военное дело, так как были из ратных людей. Воеводами были князь Григорий Долгорукий-Роща и дворянин Алексей Голохвастов. Они сожгли монастырские слободы, чтобы ими не воспользовался неприятель. Лавра наполнилась множеством народа, лишенного крова: больные, калеки, старцы, женщины, дети искали здесь убежища. Теснота и необходимость прокормить множество людей могли сильно мешать обороне, но иноки всех принимали.
— Святой Сергий, — говорили они, — не отвергает несчастных.
Обитель поспешно готовилась к защите: расставлялись пушки на стене, указывались места и обязанности защитникам. Архимандрит Иоасаф, человек кроткий, способный водворять мир и согласие между людом, наполнившим монастырь, привел воевод и всех защитников к присяге над гробом св. Сергия. Все целовали крест на том, что будут «сидеть в осаде без измены». Друг друга ободряли, клялись умирать, но не сдаваться. Речь шла не только о том, чтобы постоять за отечество, но и о том, чтобы не дать святыню, гроб св. Сергия, на поругание «поганым ляхам», ненавистным иноверцам, которые ругались уже не раз над православной святыней.
В. П. Верещагин Осада Троице-Сергиевой лавры
Напрасно пытались враги склонить обитель к добровольной сдаче, обещая не только пощаду, но и «пожалование от царя Дмитрия Ивановича», а в случае сопротивления грозили истреблением. Они получили из лавры ответ, который оканчивался такими словами:
— Оставить повелеваете христианского царя и хотите нас прельстить ложною, тщетною лестью и суетным богатством! Богатства всего мира не возьмем за свое крестное целование!
Неприятель расположился вокруг монастыря, ставил туры, копал рвы, делал насыпи и открыл огонь из восьмидесяти орудий. К счастью для осажденных, неприятельские пушки были небольшие и значительного вреда не причиняли монастырским стенам.
13 октября неприятель попытался взять лавру приступом. С громкими криками поляки бросились к стенам обители — катили пред собой тарасы (защитные заграждения) на колесах, чтобы защищаться от выстрелов, несли лестницы для приступа. Дело было к вечеру, но все защитники вовремя явились на свои места и открыли по неприятелю такой огонь из пушек и пищалей, что у него пропала всякая отвага и он поспешно отступил, побросав даже свои лестницы и тарасы. Убитых и раненых было много. Русские сделали вылазку и захватили брошенные лестницы и тарасы — несколько дней не надо было выходить за ограду за дровами.
Эта удача придала русским духу, а у врага поубавила спеси. Осажденные не только храбро отбивались, но сами делали частые вылазки, нередко приводили пленных и от них добывали сведения о силах и намерениях врагов. Раз от одного пленного проведали, что враги ведут под стену подкопы — хотят взорвать монастырь. Эта весть поразила всех… Страшная мысль, что вот-вот грянет взрыв, томила всех, даже и самых бесстрашных. Долго, сколько ни бились, никак проведать не могли, с какой стороны ведется подкоп; рыли в разных местах под башнями и стенами слуховые колодцы, но не дознались ничего. Страх и томительное ожидание неминуемой гибели все сильнее и сильнее обуревали осажденных. Несколько раз делались вылазки, чтобы найти, откуда ведется подкоп, или чтобы добыть «языка», то есть пленного, который мог бы сказать это. Наконец удалось на одной из вылазок поймать раненого казака, от которого и допытались, что подкоп ведется под Пятницкую башню. Тогда наскоро стали против этой башни строить новое укрепление, чтобы обороняться, в случае если бы врагам и удался взрыв… Стали очищать и рыть потайные подземные ходы. Несколько раз делали вылазки, чтобы найти и уничтожить подкоп, но все напрасно. Наконец двум крестьянам удалось добраться до устья подкопа, еще не доведенного до конца. Они, недолго думая, вскочили туда и зажгли порох — раздался взрыв. Погибли и русские удальцы, но работа врагов была уничтожена, и монастырь был спасен от этого подкопа.
М. Скотти Архимандрит Свято-Троицкого монастыря Дионисий, вручающий грамоту воину
Осажденные ободрились, увидев в этом Божие милосердие и заступничество святого Сергия. Церковная служба и пение не умолкали в монастырских церквах.
После неудачного приступа и попытки взорвать монастырь Сапега и Лисовский решили взять обитель долгой осадой, «измором», как выражались русские.
Наступила зима. Неприятель расположился по избам, наскоро построенным, да по землянкам. Припасы и все нужное для себя поляки добывали грабежом по окрестностям. Из монастыря по-прежнему делались вылазки. Многие из защитников прославились и своей удалью, и силой.
С наступлением зимы все тяжелее становилось «троицким сидельцам». Трудно было добывать дрова; приходилось их брать с боем; иногда шли за ними с оружием в руках и не возвращались… Наконец, от тесноты в монастыре начались болезни. Пока было тепло, толпы народу помещались на открытом воздухе, на дворе, а теперь, как настали холода и морозы, все сбились в тесных каморках и кельях. Теснота была ужасная. В хорошей пище чувствовали уже недостаток. Воду пили испорченную. Открылась цинга: пухли десны, вываливались зубы… У других на теле появлялись раны. От тесноты сильно распространилась зараза. Присмотру не было.
Иные заживо гнили. Смертность день ото дня росла. Сначала ежедневно умирало до 20 человек, а потом стали хоронить по тридцать и более в сутки. Похоронное пение и плач раздавались с утра до вечера каждый день… Много «троицких сидельцев» было побито на вылазках, еще больше погибло от болезней. Воины гибли более, чем «едоки», то есть немощные, старцы, женщины, которых надо было кормить. Из монастыря удалось переслать в Москву челобитную. Воеводы умоляли царя прислать им свежих ратных сил и пороха. Шуйскому трудно было исполнить эту просьбу: он сам был в стесненных обстоятельствах.
В Москве в это время жил келарь Троицкой лавры Авраамий Палицын (описавший оборону ее со слов защитников). Это был человек очень деятельный и умный. Сильно хлопотал он, чтобы послана была помощь монастырю. Патриарх Гермоген тоже настаивал на этом. Царь послал отряд, но незначительный, человек в шестьдесят. Им удалось пробраться в лавру и пронести туда двадцать пудов пороху.
Горсть этих воинов не могла, конечно, восполнить убыли в людях. Болезни по-прежнему свирепствовали, и смертность росла. На беду, начались несогласия и пререкания между монахами и ратными людьми. Стрельцы жаловались, что старцы плохо их кормят… Но всевозможные невзгоды и бедствия не сломили решимости «троицких сидельцев» умереть, но не сдаться…
П. Першин Келарь Авраам Палицын
Прошла зима. Хотя болезни продолжались, но все же стало легче, можно было здоровым больше быть на воздухе и не томиться в тесноте и духоте… Враги упорно продолжали осаду, но осажденные вовсе не помышляли о сдаче, делали даже вылазки, хотя и реже, чем прежде. До обители дошли слухи, что скоро Скопин-Шуйский приведет на выручку Москвы и лавры большое войско и шведскую вспомогательную рать.
Долгая и бесплодная осада, видимо, начинала уже томить и поляков. Сапега снова попытался взять монастырь приступом: он знал, что уже немного оставалось защитников. 27 мая неприятельский стан пришел в движение… Многие всадники объезжали обитель, видимо, высматривая что-то; другие гарцевали на своих конях пред монастырем и грозили своими саблями…
Осажденные поняли, что будет приступ, и стали готовиться к отпору. Монахи взяли оружие в руки; женщины стали на стенах с камнями, огнем, смолой, серой и известью. Архимандрит со старейшими монахами молился в церкви. Наконец к ночи, в сумерках, начался приступ.
Поляки, по сказанию Авраамия Палицына, вечером, когда стемнело, стали тайком подбираться к стенам, некоторые даже ползком, «аки змии», и везли с собой лестницы, туры и всякие «стенобитные хитрости» (машины). Некоторое время была полная тишина… Вдруг грянул пушечный выстрел. Это был знак к нападению. Тогда с громким криком и трубным звуком бросились враги к монастырским стенам, думали дружным нападением завладеть ими. Но осажденные стали разить нападавших из пушек и пищалей, не допускали их ставить лестницы к стене, метали в ляхов камни, обдавали их кипящей смолой, бросали в них зажженную серу и засыпали глаза им известью. С рассветом неприятель отступил с большим уроном, ничего не добившись… Осажденные в свою очередь выскочили из ворот, ударили на отступавших и захватили несколько десятков пленных. На следующий день Сапега повторил приступ, но опять безуспешно.
С. Милорадович Оборона Троице-Сергиевой лавры
Этим и кончились попытки поляков силой овладеть Троицкой лаврой. Скоро они принуждены были и вовсе снять осаду. Доблестная оборона обители в течение 16 месяцев показала блестящий пример того, что может сделать горсть людей, одушевленных высоким чувством. Пример этот вдохнул лучшим русским людям новые силы на защиту родной земли.
Разорение земли тушинцами
В то время как Троицкий монастырь мужественно отбивался от врагов, многие северные города, захваченные врасплох, достались тушинцам без борьбы. Суздаль, Владимир, Переславль-Залесский сдались без сопротивления. Когда тушинцы подошли к Ростову, не имевшему крепких стен, то ростовцы решили бежать в Ярославль, но Филарет, ростовский митрополит, воспротивился этому. Он говорил, что не бегством, а кровью должно спасать отечество, что мученическая смерть лучше позорной жизни. Он с немногими воинами и гражданами, пожелавшими умереть с ним, заперся в соборной церкви. Все исповедовались и причащались, готовились к смерти. Не ляхи, а изменники-переславцы стали ломиться в церковь, стреляли в нее и диким криком отвечали на увещания митрополита опомниться и не быть извергами. Бывшие с Филаретом люди бились в храме до изнеможения, защищая своего пастыря. Церковь наполнилась убитыми. Злодеи принялись грабить храм, схватили митрополита, сорвали с него богатое облачение, одели в рубище и отвезли в Тушино как пленника. Лжедмитрий встретил его с большим почетом — как племянника царицы Анастасии, назвал его даже патриархом, но держал его под строгим надзором как непреклонного сторонника царя Василия. Город за городом сдавались самозванцу: Углич, Кострома, Вологда и другие. Некоторые города были взяты силой: Тверь, Шуя (наследственное владение князей Шуйских). Двадцать два города присягнули тушинскому «царю». В Пскове чернь волновалась в пользу его. Самозванец всем добровольно переходящим к нему жителям обещал «тарханные» грамоты, по которым они освобождались от всяких податей. Обещаниями этих льгот тушинский «царь» особенно сманивал на свою сторону городскую чернь и крестьян.
Но недолго продолжалось торжество самозванца на севере; скоро все убедились, что обещаниям этим верить нельзя. Тушинцы не только стали производить небывалые поборы с жителей, но даже попросту грабили их.
С. Иванов Смута
Осада Троицкой лавры надолго задержала тушинцев — понадобились им денежные средства и всякие припасы. А где их было взять? Приходилось все нужное брать у жителей подчиненных городов. Нередко случалось, что тушинский «царь» посылал своих сборщиков, а Сапега — своих; и те и другие собирали с жителей всякие поборы вдвойне. Эти сборщики часто обращались в настоящих разбойников, беспощадно грабивших ради своей личной выгоды. «Тушинские воры», как стал звать народ этих грабителей, не только грабили, но всячески мучили жителей, монахов, ругались над святыней: хватали по монастырям старцев-монахов, заставляли их плясать и петь непристойные песни, а тех, кто противился, предавали смерти.
Далеко вокруг Тушина Русская земля запустела. В безлюдных деревнях и селах, по словам современника (Авраамия Палицына), ютились дикие звери: медведи, волки и лисицы, — а люди скрывались в лесах. Хищные звери и птицы терзали трупы погибших людей повсюду, где проходили тушинцы. Полевые птицы свивали себе гнезда в людских черепах… Разграбивши православные церкви, «нечестивые ляхи» ругались над священными вещами: кололи иконы на дрова, церковные сосуды употребляли на своих попойках, церковными пеленами покрывали лошадей, как попонами.
Молва об этих зверствах и кощунстве быстро разносилась вдоль и поперек по Русской земле, заходила и туда, где еще не видали тушинцев… Злоба к ним быстро росла повсюду. Жители далеких городов, еще не занятых неприятелем, стали пересылаться между собой грамотами, убеждая друг друга повременить, пораздумать, кому служить: московскому ли царю, или тушинскому. Самозванец понимал, что его дело губят злодеи, которые, под видом сборщиков дани, грабят народ, но поделать ничего не мог. Полчище его более всего и состояло из воровских казаков да ляхов, приставших к нему ради наживы.
А. Рябушкин Дозор
Грабежи и насилия тушинцев вывели наконец народ из терпения. В разных местах вспыхнули крестьянские восстания против грабителей. Начинают и города один за другим подниматься против них: Галич, Кострома, Вологда, Городец, Кашин и другие почти в одно время отреклись от тушинского «царя».
Тяжело было положение Василия Ивановича в Москве. Большинство его не любило. Вражда к нему уже не раз явно сказывалась в столице, но все же лучшие русские люди, которым дороги были отечество и православие, стояли за Василия Ивановича: понимали, что предаться тушинскому «царю» — значит погубить родную землю. Вот почему попытки свергнуть Шуйского не удавались, но все-таки трудно было держаться на престоле ему, «полуцарю», не любимому народом, нерешительному и неудачливому, и притом в Смутное время, когда нужен был вождь смелый и решительный. Хоть в Тушинском стане и происходили беспорядки, даже мятежи, но Василий Иванович не в силах был воспользоваться ими. Под Москвой шли довольно часто битвы, но мелкие. Летом 1609 года произошла здесь последняя значительная битва; русские одержали верх и оттеснили врагов. Скоро после этого тушинскому полчищу были нанесены более сильные удары.
Скопин-Шуйский
Василий Иванович убедился, что ему не совладать своими силами с Тушинским вором. Король шведский, враг Сигизмунда, польского короля, опасался, чтобы он не воспользовался смутами в московской земле, не усилился бы на ее счет. Швеция и раньше уже предлагала свою помощь царю, но тот гордо отказался от нее — надеялся, видно, сам справиться с врагами и боялся унизить достоинство русского государства чужой помощью. Теперь он сам искал ее. Скопин-Шуйский, царский племянник, был послан для заключения условий со шведами в Новгород. Скопин, несмотря на свою юность уже доказавший свои военные способности, должен был собрать новое войско и со шведами идти на выручку Москвы.
Герб князей Шуйских
Со шведами был заключен договор: они выставляли вспомогательное войско в пять тысяч; царь обязывался за это выплатить им около сорока тысяч рублей, затем уступить Корелу и помогать Швеции в случае надобности войском.
30 марта вступала шведская рать в Новгород. Торжественно, пушечной и ружейной пальбой встречали русские своих союзников. Когда шведский вождь Яков Делагарди ехал рука об руку с русским юным полководцем, народ любовался ими. Оба были еще юноши, полные жизни и силы: Делагарди было 27 лет, а Скопину — всего 23 года. Он был, по свидетельству очевидцев, красив, статен, ласков и своей светлой душой привлекал к себе всех, с кем ему случалось сходиться. Делагарди скоро к нему привязался всем сердцем, и они стали друзьями.
Скопин думал немедленно идти прямо на Москву: он рассчитывал, что все города покорятся ей, если она освободится от Тушинского вора.
Первая же победа Скопина над польским отрядом привела к тому, что город за городом стали снова переходить в подданство царя Василия (Торопец, Холм, Великие Луки, Торжок и другие), а вслед за ними и другие соседние города прислали к Скопину повинную и выражали покорность Василию. Самозванец послал против Скопина сильное войско. Оно попыталось взять Торжок, но не могло, отступило в Тверь и здесь заперлось. Скопин и Делагарди напали на Тверь, но были сначала отбиты, наконец осилили (13 июля 1609 года) и прогнали тушинцев из города.
Тяжелое дело выпало на долю юного Скопина: приходилось ему шаг за шагом отнимать у тушинцев разоренную и опустелую землю, оберегать уцелевших жителей от насилий и поборов, а войску его нужны были припасы. Шведы волновались — настоятельно требовали уплаты жалованья, отказывались идти дальше, пока не будут вознаграждены, а платить было решительно нечем… Много нужно было ума, чтобы уладить все дела, извернуться из беды, ублажить всех; много надо было твердости и терпения, чтобы вынести все невзгоды и неприятности и не упасть духом. Юный вождь оказался достойным того важного дела, какое было ему поручено: ума и твердости ему было не занимать, а страстное желание послужить несчастному отечеству, послужить всеми силами, утраивало их. Деятельность он выказал необычайную. Гонцы его беспрестанно скакали в разные стороны по городам и монастырям, умоляя их присылать скорее денег и ратных людей. В Скопина начинали верить, и в его руках являлись средства: некоторые монастыри присылали ему свою казну, шли пожертвования из городов, жертвовали купцы: Строгановы, кроме денег, снаряжали и отправляли Скопину ратных людей, но новобранцы были непривычны к военному делу — их надо было учить… Скопин стоял под Калязином, когда тушинцы двинулись большими силами на него, но он предупредил их — встретил их на реке Жабне, впадающей в Волгу, разбил и обратил в бегство. Уплативши шведам часть жалованья, Скопин с их помощью занял Переславль, а в октябре взял. Александровскую слободу. Положение Тушинского вора становилось опасным: он мог попасть между двух огней. Главный военачальник тушинского войска, Рожинский, почти со всеми силами двинулся на Скопина. Произошла кровопролитная битва. Верх одержал опять Скопин — тушинцы с большим уроном воротились в свой стан. Дела самозванца были совсем плохи… Скопин рвался в Москву, но Делагарди сдерживал его порывы, указывал на опасность оставлять врага в тылу. Оба вождя порешили медленно и твердо продвигаться к столице, устраивая на пути засеки и переходя из одной в другую; но прежде всего надо было очистить от тушинцев соседние места. Зимовать пришлось в Александровской слободе.
Князь М. В. Скопин-Шуйский Парсуна XVII века
Слава о победах Скопина разносилась повсюду. На него начинал уже смотреть русский народ как на Божьего избранника для спасения отечества от вражьей силы, от порабощения и унижения… Великие дела может совершить тот счастливый вождь, в силы которого уверует народ, на котором сосредоточит все свои упования; на великую высоту может вознести его народная любовь. Таким излюбленным народным вождем становится теперь Скопин. С каждым шагом росло доверие народа к нему, росли и его силы. На русском Севере уже начиналось народное движение против «ляхов», грозивших гибелью и Русскому государству, и православной церкви. Уже на пути из Новгорода к войску Скопина присоединялись отдельные северо-западные отряды: у Торжка соединились с ним смоляне; у Калягина — главные силы ополчения; с востока к Александровской слободе Шереметьев вел отряды, собранные по Волге…
Все, что было лучшего в русском народе, сосредоточивалось мало-помалу около Скопина. Более горячие головы уже подумывали и о том, что юный, смелый и даровитый вождь был бы на царском престоле более на своем месте, чем злосчастный Василий Иванович. Прокопий Ляпунов, слишком рьяный и нетерпеливый, прислал даже к Скопину посольство от всей Рязанской области известить его, что вся Русская земля хочет избрать его на царство и что нет более достойного, чем он, сидеть на престоле. Скопин выказал сильное неудовольствие, разорвал грамоту и с гневом отослал от себя послов: не хотел он, конечно, запятнать себя нарушением присяги, понимал, что он и без царского сана, оставаясь верноподданным, может сослужить великую службу родной земле.
В то время как Скопин-Шуйский готовился разгромить Тушинский стан, польский король Сигизмунд задумал воспользоваться бедственным положением Русской земли. Раньше происходили смуты в самой Польше, и королю было не до Москвы; теперь дела эти уладились. Союз с Москвой шведского короля, врага Польши, подстрекал Сигизмунда к вмешательству; притом и польские послы, вернувшиеся из Москвы, соблазняли его, уверяя, что справиться с московским царем весьма легко. Король дал обещание сенату и сейму заботиться более всего о выгодах Польши и думал прежде всего завладеть Смоленском, о котором давно уже шел спор между Литвой и Москвой.
Князь М. В. Скопин-Шуйский Парсуна XVII века
21 сентября 1609 года король стоял под стенами Смоленска. Сигизмунда уверили, что смоляне и воевода Шейн сдадутся ему охотно. Он послал в город грамоту, в которой обещал защиту русских выгод и православной веры, если смоляне сдадутся ему, но их очень трудно было обмануть: знали они, как слепо предан Сигизмунд католической вере и как теснили православие в его владениях, и потому отвечали королю, что они клялись за православную веру, за святые церкви и царя все помереть, а литовскому королю и его панам отнюдь не предаваться и сдержать свою клятву. Осада Смоленска началась для короля неудачно: приступ был отбит, подкопы тоже не удались.
Когда в Тушине узнали о походе Сигизмунда, поднялось сильное волнение. Поляки кричали, что король хочет отнять у них добычу, воспользоваться тем, что добыли они своим потом и кровью. Наконец явились в Тушино послы Сигизмунда — звать поляков отсюда на службу королю. Снова начались сильные волнения, пререкания и сетования… Положение самозванца стало крайне опасным… Он, переодевшись в крестьянскую одежду, тайком, когда стемнело, выбрался из Тушина и бежал в Калугу.
Страшный переполох поднялся в стане тушинцев, лишь только разнеслась весть о побеге «царя». Его присутствие было нужно: без него все дело их лишалось всякого смысла. После побега «царика», как звали в насмешку самозванца, тушинское гнездо рассеялось. Рожинскому и другим панам не оставалось тоже ничего больше, как отправиться на службу к королю. Марина в мужской одежде бежала к мужу в Калугу.
Теперь Москва освободилась от Тушинского вора. Отовсюду везли припасы в столицу, где хлеб поднялся уже до очень высокой цены.
12 марта 1610 года Москва с небывалой радостью и торжеством встречала своего любимца, Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. Он вступал в столицу. Рядом с ним ехал Делагарди. Толпы народа приветствовали молодого вождя еще за городом. Бояре поднесли ему хлеб-соль. Народ величал Скопина «освободителем земли» и «своим избавителем», кланялся ему в землю. Сам царь Василий со слезами на глазах обнимал и целовал его пред всем народом. Начались пиры. Царь угощал шведов, оделял их подарками. Хлебосольные москвичи наперехват зазывали к себе в дома иноземных гостей и чествовали их пирами, стараясь всячески выразить им свою признательность.
Ф. Солнцев Старинные сабли
Но недолго продолжалось веселое и праздничное настроение Москвы. Скопин намеревался переждать в Москве весеннюю распутицу, отдохнуть до «просухи», а затем идти на выручку Смоленска. Но царь Василий втайне уже опасался Скопина. Знаки народной любви, радостные крики при встречах народа с ним пугали подозрительного царя. Многие в Москве даже громко говорили, что надо низложить Василия, а царем избрать князя Скопина. Царь даже объяснялся с ним по этому поводу. Князь уверял Василия, что вовсе не думает о короне, но уверить подозрительного старика было, конечно, трудно. На беду, какие-то гадатели, говорят, напророчили суеверному Василию, что престол после него достанется царю Михаилу, как раз — Михаилу Скопину, думалось Василию. Но пуще всех ненавидел Скопина Дмитрий Иванович Шуйский, брат царя. Это был человек бездарный, но очень честолюбивый, мечтавший занять престол по смерти бездетного брата.
23 апреля князь Воротынский пригласил к себе Скопина крестить ребенка. Во время крестильного пира Скопину вдруг сделалось дурно. Его отвезли домой. Кровь хлынула у него из носу. Врач ничего сделать не мог. Через несколько дней князь скончался на 24-м году от роду.
А. Рябушкин Московская улица XVII века в праздничный день
Весть об этом поразила народ как гром. Пошли ходить слухи, будто бы Скопину на пиру у Воротынского поднесла чашу с отравой его кума, жена Дмитрия Ивановича. Негодование и волнение народа дошли до того, что пришлось дом Дмитрия Ивановича охранять военной силой от ярости толпы…
Горько оплакивал раннюю кончину своего друга Делагарди.
— Московские люди! — говорил он со слезами на глазах, глядя на тело Скопина. — Не только на Руси вашей, но и в землях моего государя не видать мне такого человека!
Бесчисленная толпа народа теснилась около гроба князя Скопина, когда его погребали. Мать и жена покойного обеспамятели от горя и отчаяния. Громко рыдал и царь Василий Иванович — хоронил он своего знаменитого воеводу, надежду Русской земли, хоронил вместе с ним и свою последнюю опору…
Князя Скопина погребли в Архангельском соборе между гробницами русских царей.
Сведение с престола Василия Ивановича
Не стало Скопина как раз в ту пору, когда особенно нужен был высокодаровитый вождь, и притом любимый войском. Тушинский вор был уже не опасен Москве, но зато с запада надвигалась на нее более страшная гроза. Когда победы Скопина и его движение к Москве, с одной стороны, а с другой — вторжение Сигизмунда в русские пределы рассеяли тушинское скопище, положение русских бояр и служилых людей, перешедших на сторону самозванца, стало очень затруднительным. Что им оставалось делать? Бежать за самозванцем, потерявшим всякую надежду на успех, было бы совсем неразумно. Идти с повинной головой к Шуйскому было уже поздно. Он щадил и даже жаловал своих каявшихся изменников тогда, когда уходили они от сильного его врага, а теперь мог посмотреть на них совсем иначе. Русские тушинцы решились искать милости у польского короля.
31 января 1610 года к Сигизмунду явилось их посольство. Тут были люди разных чинов: знатные бояре, дьяки, дворяне… Главными представителями были боярин Михаил Салтыков с сыном Иваном и дьяк Грамотин, ловкий, смышленый, но безнравственный делец.
Большим праздником для тщеславного Сигизмунда было прибытие русского посольства к нему в стан. Торжественно принимал он посольство в своем шатре, окруженный сенаторами. Униженно приветствовали короля русские послы: Михаил Салтыков поцеловал руку ему и сказал приветствие, поздравил его с прибытием в Русскую землю, заявил, что московский народ расположен к нему и желает отдаться под его покровительство и вверить ему свою участь. А Иван Салтыков выразил от всего русского духовенства благодарность королю за то, что он пожаловал в московскую землю, соболезнуя о всеобщей смуте и разорении ее областей, чтобы при Божьей помощи водворить в опустошенной стране мир и спокойствие. Затем дьяк Иван Грамотин сказал самое главное — что всякого звания московские люди бьют челом королю и выражают желание возвести на московский престол королевича Владислава, с тем только, чтобы король не нарушал святой веры греческого закона, которую столько веков соблюдали московские люди.
Таким образом, эти послы, выражавшие на самом деле волю только русских изменников, говорившие с королем от имени всей Русской земли, являлись самозваными представителями ее и предавали ее Сигизмунду, злейшему врагу русской народности и православия.
Всем лживым уверениям этих послов король верил — или притворялся, что верит. Это ему было очень выгодно: являлся удобный повод водворить свою власть в Москве.
А. Архипов Зима
4 февраля заключен был между королем и посольством договор. Главные условия его заключались в том, чтобы Владислав венчался на царство в Москве по старому обычаю; чтобы святая вера греческого закона осталась неприкосновенной и «учители римские, лютерские и других вер раскола церковного не чинили; чтобы перемена законов зависела от бояр и всей земли и царь не казнил никого, не осудя прежде с боярами и думными людьми». Стало быть, Владиславу предлагалось не самодержавие, а ограниченная царская власть, какая была у Василия Ивановича Шуйского. Любопытно следующее условие: «Для науки вольно каждому из народа московского ездить в другие государства христианские, кроме басурманских, поганских, и государь отчин, имений и дворов ни у кого за то отнимать не будет». Видно, что со времен Бориса и Лжедмитрия I мысль о необходимости сближения с Западом и просвещения уже укоренилась и окрепла. Но в то же время тушинские послы требовали, чтобы крестьяне оставались прикрепленными к земле и чтобы холопам вольности не было дано.
И вот как раз в то время, когда русские изменники готовились предать Москву и русский престол в руки полякам, не стало того вождя, в котором лучшие русские люди видели надежду на спасение от внутренних и внешних губителей Русской земли.
Польский коронный гетман Станислав Жолкевский
Василия Ивановича не любили и не уважали… Нелюбовь к нему сказывалась уже и раньше, и притом очень сильно. Так, 17 февраля 1609 года, когда тушинцы заградили пути в Москву и там настала сильная нужда и дороговизна, поднялся мятеж, и шумная толпа служилого и черного люда стала дерзко кричать: «Надо переменить царя! Василий сел самовольством, не всею землею выбран!»
Толпа мятежников, по звону набатного колокола, наполнила Красную площадь. Из толпы раздались крики: «Князь Василий Шуйский не люб нам на царстве! Его одна Москва выбрала!»
Несдобровать бы тогда Василию Ивановичу: у него было много и явных врагов, и тайных недоброхотов меж боярами, но на этот раз его выручил патриарх Гермоген.
— До сих пор Москва, — сказал он народу, — всем городам указывала, а не другие города указывали ей… А что кровь льется, то это творится по воле Божией, а не по хотению царя!
Своими увещаниями патриарх на время образумил мятежников. Но скоро открыт был тайный заговор погубить Василия. Главного виновника казнили. Положение Василия Ивановича становилось все хуже и хуже. Общее недовольство, крамолы и неудача за неудачей преследовали его.
Блестящие успехи Скопина, царского родича, на время примирили было народ с несчастным царствованием Василия, но когда неожиданно скончался Скопин и народная молва, хотя и ложная, обвинила в его смерти царского брата и самого царя, то положение его сделалось крайне шатким. В рязанской земле Прокопий Ляпунов начинает волновать народ, требует свержения Василия Ивановича, заводит даже сношения с самозванцем, засевшим в Калуге. Заговорили громче прежнего недоброхоты Василия и в Москве… На свою беду, царь назначил главным предводителем войска, которое готовился вести на Сигизмунда покойный Скопин, своего бездарного брата Дмитрия, не любимого ни войском, ни народом.
Ополчение это, состоявшее по большей части из новобранцев, предводимое неискусным и нелюбимым вождем, двинулось к Можайску. Сигизмунд отправил навстречу русским отряд своего войска под начальством гетмана Жолкевского. Встреча произошла 24 июня 1610 года между Москвой и Можайском, у деревни Клушино. Первым же напором поляки обратили в бегство русскую конницу, смяли пехоту; наемные иноземцы из русского войска стали переходить на сторону поляков. Московская рать была разбита наголову. Дмитрий Шуйский и другие воеводы позорно бежали.
После этой победы Жолкевский двинулся к Москве, провозглашая повсюду царем королевича Владислава. Город за городом сдавались ему, и он уже приближался к столице. С другой стороны спешил к ней самозванец из Калуги и 1 июля стал в селе Коломенском; он рассчитывал, что Москва в крайности скорее признает его власть, чем Владислава. Москва волновалась. Грамоты Жолкевского, в которых он сулил Русской земле мир, спокойствие и всякую благодать, если она признает своим царем Владислава, раскидывались по улицам, ходили по рукам, читались громогласно на сходках. Люди, преданные самозванцу, со своей стороны, мутили народ… Многие, не желая повиноваться Шуйскому, вовсе не хотели попасть и в руки самозванцу и тайно согласились с тушинцами, что те покинут его, а москвичи сведут Василия с престола и выберут всей землей нового царя.
Положение Шуйского в Москве становилось со дня на день труднее.
17 июля Захар Ляпунов с толпой соумышленников явился во дворец и стал дерзко говорить царю:
— Долго ли за тебя будет литься кровь христианская? Земля запустела, ничего доброго в твое правление не делается! Сжалься над нашей гибелью, положи царский посох, а мы уже сами о себе подумаем!..
Дерзость Ляпунова возмутила Шуйского; он стал бранить мятежника, даже схватился за нож… Но на эту угрозу дюжий Ляпунов ответил:
— Не тронь меня, а не то сомну тебя всего!
В тот же день за Москвой-рекой, у Серпуховских ворот, собралась большая сходка. Тут были бояре, дворяне, торговые люди и прочие. Бояре и всякие люди приговорили: бить челом Василию Ивановичу, чтобы он царство оставил, потому что крови много льется, а в народе говорят, что он государь несчастливый, и многие города его не хотят. Против этого приговора говорили только некоторые бояре да патриарх, но их не послушали.
С тяжелым поручением сообщить этот приговор Василию Ивановичу и предложить ему в удел Нижний Новгород отправился во дворец царский свояк, князь Воротынский. Шуйскому ничего более не оставалось делать, как отказаться от власти; он из дворца переехал в свой боярский дом.
После этого главные виновники совершившегося переворота послали сказать тушинцам, что Василий сведен с престола и теперь очередь за ними — исполнить свое обещание отстать от самозванца. На это тушинцы насмешливо ответили: «Вы не помните своего крестного целования и потому своего царя с царства свели, а мы за своего помереть рады!»
А. Васнецов Всехсвятский каменный мост
Некоторые уже стали жалеть, что поступили так сурово со злосчастным Василием Ивановичем, а патриарх стал требовать, чтобы снова признали Шуйского царем. Многие соглашались с ним. Тогда Захар Ляпунов и его сообщники, опасаясь, чтобы этого не случилось, поспешили в дом к Шуйскому, взявши с собой монахов из Чудова монастыря, и заявили Василию Ивановичу, что для успокоения народа он должен постричься в монахи. Тот вовсе этого не желал, всячески противился, кричал, что он решительно не хочет постригаться. Все было напрасно. Обряд пострижения над ним совершен был насильно: Ляпунов держал его за руки, а князь Тюфякин произносил за него монашеские обеты.
Патриарх негодовал. Он заявил, что это пострижение не имеет никакой силы, что монахом стал не Шуйский, а тот, кто произносил обеты. Но Шуйского свезли в Чудов монастырь. Жена его тоже была пострижена, а братья — заключены.
Междуцарствие
Поляки в Москве. Московские послы под Смоленском. Патриарх Гермоген. Народное движение против поляков. Страстная неделя 1611 года в Москве. Русское ополчение под Москвой. Взятие Смоленска поляками. Лихолетье. Минин и Пожарский. Освобождение Москвы и избрание царя
Поляки в Москве
Наступило «безгосударное» время. Во главе правления стала боярская дума. Ей должны были все присягать. Состояла она из семи знатнейших бояр, главным из них был князь Мстиславский. По всем городам была разослана грамота, что Василий Иванович Шуйский, «вняв челобитью земли Русской, оставил государство и мир для спасения отечества». В грамоте было прибавлено, что Москва целовала крест не поддаваться ни Сигизмунду, ни Тушинскому вору, что все русские должны восстать, уничтожить врагов и всей землей избрать себе властителя.
Но полного единодушия не было в Москве. Среди черни было много доброхотов самозванца; между тем знатные и зажиточные люди, понятно, и слышать не хотели о Тушинском воре, который возбуждал против них чернь. Между боярами были сторонники королевича Владислава, но все те, кому дороги были православие и русская народность, вовсе не думали о польском королевиче, а хотели иметь своего, чисто русского и православного царя. Более всего ратовал за это патриарх Гермоген: он предлагал избрать или князя Василия Васильевича Голицына, или четырнадцатилетнего Михаила Федоровича Романова, сына митрополита Филарета.
Но в это время Тушинский вор стоял уже в селе Коломенском, под Москвой, а в Можайске — гетман Жолкевский, уже известивший бояр о том, что идет защищать их от бедствий.
Сначала бояре ему ответили: «Не требуем твоей защиты, не приближайся, или встретим тебя как неприятеля».
Но Жолкевский все-таки шел к столице. Бороться с двумя врагами Москве тогда было не под силу. Земский собор собирать для избрания нового царя было не время. Приходилось избирать государя из двух искателей престола: Тушинского самозванца или Владислава. Проведав, что доброхоты Лжедмитрия замышляют тайком впустить его войско в Москву, старший из бояр, князь Мстиславский, после совещания с другими сановниками, решился войти в соглашение с гетманом Жолкевским. Послано было спросить его, идет ли он к Москве как друг или как недруг.
— Желаю блага Русской земле, — отвечал Жолкевский. — Предлагаю вам Владислава и помощь против самозванца.
Назначен был день для переговоров. Против Девичьего монастыря был устроен шатер. Сюда съехались в равном числе русские с князем Мстиславским и поляки с гетманом, поменявшись предварительно заложниками. Жолкевский заявил, что он согласен только на те условия, которые были приняты русскими послами под Смоленском, но бояре настоятельно требовали, чтобы королевич принял православие еще до приезда своего в Москву. Решено было это условие предоставить на усмотрение короля. Самозванец в это время сильно озабочивал бояр, и они спешили скрепить договор с гетманом присягой. 27 августа съехался гетман в поле с теми же боярами, с которыми сносился раньше; на этот раз с ними было до 10 тысяч служилых людей, и все присягали на подданство королевичу Владиславу Через два дня после этого гетман получил письмо от короля, который требовал, чтобы в Московском государстве утверждена была власть его самого, а не сына. Гетман понимал, что это дело невозможное, и, опасаясь, чтобы москвитяне, которым само имя короля было ненавистно, не восстали и не склонились в пользу самозванца или кого другого, благоразумно скрыл от московских бояр королевское требование.
Жолкевский хотел было напасть врасплох на самозванца и захватить его, но это не удалось: когда русские соединились с гетманом, самозванец поспешно отступил из-под Москвы и засел в Калуге.
Жолкевский хлопотал, чтобы снаряжено было посольство к королю для окончательного решения вопроса о Владиславе. На самом деле у хитрого гетмана был другой умысел: он хотел удалить из Москвы лиц, особенно опасных для короля. Князя Василия Васильевича Голицына он убедил стать во главе посольства, выставляя на вид, что «великие дела должны совершаться великими мужами». Михаила Федоровича, слишком еще юного, никак нельзя было включить в посольство, но Жолкевский постарался удалить из Москвы отца его, митрополита Филарета, который должен был ехать с Голицыным как представитель духовенства.
Посольство отправилось к Сигизмунду. Жолкевский с небольшим своим войском остался под Москвой. Чернь в Москве все еще думала о самозванце, и бояре опасались мятежа. Ловкий гетман еще более убедил их в этой опасности, и они сами предложили ему занять своим войском столицу. Сначала патриарх сильно этому противился. Наконец польское войско вошло. Предусмотрительный гетман разместил поляков отрядами, поблизости один от другого, так что в случае неожиданной опасности они могли оказывать взаимную помощь. Жолкевский хорошо понимал, что легко может вспыхнуть народный мятеж в Москве, и потому принимал всевозможные меры, чтобы предупредить беду: приказал строго наблюдать за тем, чтобы его воины не заводили никаких ссор с жителями, не творили никаких насилий; назначил судей из русских и поляков, по равному числу, для решения всяких споров и пререканий между москвичами и поляками. И надо отдать справедливость гетману: он добился того, что воины его жили в Москве так смирно и благочинно, что москвичи, у которых еще свежа была память о насилиях и своевольстве поляков при Лжедмитрии I, просто диву дались!.. Даже патриарх, суровый старец, не терпевший иноверцев, и тот стал дружелюбнее и доверчивее относиться к Жолкевскому, который выказывал уважение к православной вере и ни в чем не оскорблял русского чувства. Стрельцов московских гетман привлек к себе щедрыми подарками и угощением. Часть стрелецкого войска была отослана в Новгород, а начальство над оставшимися стрельцами было дано поляку Гонсевскому.
Русский боярин
Ловко обделал Жолкевский польские дела в Москве. Казалось, лучшего полякам и желать было трудно: русская столица была в их власти; князь Голицын, которого некоторые прочили в цари, и митрополит Филарет, на юного сына которого начинали смотреть с надеждой лучшие русские люди, были в королевском стане, то есть в руках короля. В церквах уже молились за Владислава как за русского законного царя. Все указы писались, все суды производились его именем. Ему был уже готов трон — оставалось только сесть на него, но для этого надо было королевичу принять православие и немедленно ехать в Москву. К счастью для России, Сигизмунд не был способен воспользоваться делом своего ловкого гетмана.
Ф. Солнцев Старинные наручи
Сделал Жолкевский все, что только мог, в пользу своего королевича, но ясно понимал, что упорное желание короля самому властвовать в Москве погубит все дело. От русских послов, поехавших в королевский стан под Смоленск, утешительных известий не было. Неизвестность стала уже томить даже и ревностных сторонников Владислава. Наконец Жолкевский, считая свое дело поконченным, сдал начальство над поляками Гонсевскому, а сам отправился в королевский стан. Бояре старались удержать гетмана в Москве, опасаясь, что без него начнутся смуты, но он уверил бояр, что сам лично хочет просить короля ускорить приезд Владислава в Москву.
Московские послы под Смоленском
Московское посольство прибыло под Смоленск 27 сентября. Послы были приняты королем и пред ним изложили причину своего прибытия. Речь канцлера Льва Сапеги, который восхвалял короля за то, что он хочет прекратить кровопролитие в Московском государстве и успокоить его, не понравилась послам, тем более что канцлер ни слова не сказал о королевиче и его избрании, как будто не в этом было главное дело.
Затем начались настоящие переговоры с королевскими сановниками. Паны уклончиво отвечали на требования русских послов, чтобы Владислав скорее ехал в Москву, и в свою очередь настаивали, чтобы московские послы приказали прежде всего защитникам Смоленска сдаться королю.
Русские послы резонно замечали, что, лишь только Владислав сядет на русский престол, Смоленск будет его. Польские сановники настаивали, чтобы город был сдан немедленно, что это нужно для чести короля и что он отдаст потом Смоленскую область своему сыну. Русские послы сослались тогда на то, что им не заказано говорить о Смоленске. Три раза уже съезжались для переговоров московские послы с польскими панами и убедились, что те только время тянут и от решения главных вопросов насчет Владислава всячески уклоняются. Особенно тревожил русских вопрос о крещении Владислава в православную веру. Сильно добивался митрополит Филарет ответа по этому вопросу, но на его требования отвечали уклончиво:
— В этом деле волен Бог да сам королевич!
А затем, когда Филарет очень уж настойчиво стал требовать ответа, Сапега в сердцах сказал, что королевич и так уже крещен и другого крещения нигде не написано.
Дело принимало худой оборот. Поняли русские послы, что польские сановники смотрят на дело совсем другими глазами, чем Жолкевский, и с большим нетерпением ждали его приезда.
Наконец Жолкевский приехал и привез с собой несчастного царя-монаха Василия Ивановича с братьями. Несмотря на все свои несчастья, Шуйский не потерял твердости духа, и, когда стали было его побуждать преклонить колена пред Сигизмундом, он твердо сказал:
— Недостоит московскому царю, как рабу, кланяться королю. Божьими судьбами так совершилось, что я взят в плен, но не вашими руками; мои рабы-изменники отдали меня вам!
Хотя Жолкевского приняли в королевском стане с большим почетом, как победителя, но король все-таки высказал ему при первом же удобном случае, что он вел дела в Москве не так, как ему было предписано. Жолкевский очень убедительно доказывал, что все сделано, что можно было сделать, и всячески старался убедить короля немедленно посадить королевича Владислава на Московское царство. Но все доводы и убеждения гетмана пропали даром. Упрямый король стоял на своем.
Напрасно русские послы надеялись, что их дело пойдет лучше с приездом Жолкевского; он, видимо, старался свалить с себя всякую ответственность, даже лукавил, когда русские послы в своих требованиях ссылались на него. Время проходило в бесполезных спорах. Наконец решено было послать в Москву за новым наказом относительно Смоленска.
А. Орловский Всадник
Непоколебимая твердость Филарета и Голицына выводила польских сановников из терпения: стали они всячески, лаской, обещанием королевской милости, склонять второстепенных посольских людей отступиться от главных послов и радеть в пользу короля. Нашлось несколько человек, которые соблазнились, но оказались люди и другого рода.
Стали паны убеждать думного дьяка Томилу Луговского, чтобы он ехал уговаривать смолян сдаться.
— Как мне это учинить и вечную клятву на себя навести?! — твердо отвечал между прочим Луговской. — Не только Господь Бог и люди Московского государства мне не простят этого, но и земля меня не понесет. Прислан я от Московского государства в челобитчиках, и мне первому соблазн учинить?! Лучше, по слову Христову, навязать на себя камень и ринуться в море!
Некоторые из посольских людей, соблазненные обещаниями разных милостей королевских, отстали от послов и уехали в Москву. Уехал и Авраамий Палицын, келарь Троицкой лавры, бывший при митрополите. Понял он, что из посольского дела не будет никакого проку, и, конечно, думал, что больше пользы русскому делу принесет у себя в лавре, чем в польском стане.
Патриарх Московский и всея Руси Гермоген Царский титулярник XVII века
Патриарх Гермоген
Не все так честно и твердо служили родной земле, как митрополит Филарет, князь Голицын и дьяк Луговской. Нашлось немало людей в Москве, готовых поступиться пользой отечества ради личных выгод. Первый боярин, князь Мстиславский, принял от короля сан конюшего; некоторые из бояр писали униженные просьбы к польскому канцлеру, выпрашивая разные королевские милости… Король не скупился, жаловал щедро своим русским угодникам видные должности, звания и земли. Боярская дума в Москве уже не противилась тому, чтобы признать Сигизмунда правителем Московского государства до приезда Владислава, но более рьяные доброхоты короля — Михаил Глебович Салтыков и другие — добивались того, чтобы царем провозглашен был Сигизмунд, а не юный сын его. Горой стоял за короля и другой видный в то время человек в Москве, государственный казначей Федор Андронов, попавший на такую высокую должность из торговых мужиков за свою верность королю. Этот Андронов исполнял все требования Гонсевского беспрекословно: драгоценные и лучшие вещи из царской казны были им отосланы королю; поживился около казны и Гонсевский. Андронов всячески старался провести на видные места своих товарищей — сторонников короля.
Самолюбие именитых бояр сильно оскорблялось тем, что бывший торговый мужик заседает с ними в думе, орудует делами и пользуется полным доверием короля. Андронова не выносил и Салтыков. Эти предатели соперничали между собой, писали доносы один на другого и старались своим усердием королю превзойти друг друга. Салтыков даже писал Сапеге:
«Пусть король не мешкая идет в Москву и объявит, что идет на вора в Калуге. Как придет король в Можайск, то уведомь меня, а я бояр и прочих людей приведу к тому, что будут бить челом королю, чтобы он пожаловал в Москву и государство сына своего очищал».
Но происки и замыслы изменников встречали несокрушимое препятствие в патриархе Гермогене. Этот старец, стоявший «на страже православия», выказал необычайную твердость и мужество.
В «безгосударное» время патриарх был в государстве первым лицом, и слово его получало огромный вес в глазах народа.
Когда из-под Смоленска прибыл гонец с вопросом от послов, как отвечать на королевские требования насчет сдачи города, то Салтыков и Андронов явились к Гермогену и стали говорить, что надо послать королю грамоту, просить у него сына и вместе с тем объявить, что предаются вполне на волю короля, а также написать и Филарету, чтобы и послы положились во всем на королевскую волю.
Гермоген понял, что дело ведется в угоду Сигизмунду и в ущерб отечеству, и стал спорить с Салтыковым и Андроновым… На другой день (5 декабря) они явились с князем Мстиславским и с грамотой, которая была уже подписана боярами. Оставалось подписать ее патриарху.
— Пусть король даст своего сына на Московское государство и выведет своих людей из Москвы, — сказал Гермоген, — пусть королевич примет греческую веру. Если вы напишете так в грамоте, то я приложу к ней руку и вас благословлю на то же. А чтобы положиться на королевскую волю — я сам так не поступлю и другим повелеваю так не делать. А если вы меня не послушаете, то наложу на вас клятву. Ясно, что после такой грамоты нам придется целовать крест королю… Если королевич и воцарится у нас, да веры единой с нами не примет и людей королевских от нас не выведет, то я всех тех, которые уже крест ему целовали, благословлю идти на Москву и страдать до смерти!
Бояре заспорили с патриархом. Сильнее всех горячился Салтыков. Говорят, что он вышел из себя, стал браниться, даже сгоряча выхватил из-за пояса нож и замахнулся на патриарха.
— Не боюсь я твоего ножа, — сказал патриарх. — Я против твоего ножа вооружусь силой святого креста — ты же будь проклят от нашего смирения в сем веке и будущем!
Бояре так и ушли с неподписанной грамотой.
На другой день патриарх говорил в соборной церкви проповедь. Поляки окружили церковь, чтобы не допустить народного сборища, однако некоторые успели войти. Гермоген увещевал всех твердо стоять за православную веру, оборонять ее всеми силами, сноситься с другими городами, изобличал изменников и предателей…
После этого поляки стали сильно опасаться патриарха — окружили его стражей, затруднили доступ к нему. Но дело было сделано. Живое слово святителя разносилось слышавшими не только по Москве, но и по другим городам. Высокий пример его самоотверженности и непоколебимости воодушевлял лучших русских людей, а притеснения старца-патриарха поляками обращались во вред им же, возбуждали против них негодование народа.
Прокопий Ляпунов, который уже и раньше волновал рязанскую землю против поляков, проведав об оскорблении патриарха, писал в Москву:
«Вы, бояре, прельстились на славу века сего, отступили от Бога… король ни в чем не поступает по крестному целованию и договору с гетманом Жолкевским… Знайте же, что я сослался с калужанами и тулянами и северскими и украинскими городами: целуем крест на том, чтобы нам всей землей стоять, биться насмерть с поляками и литовцами».
В это время совершилось событие, которое дало новый поворот всему делу. 11 декабря Лжедмитрий был убит одним крещеным татарином, мстившим за смерть татарского касимовского царя, который был умерщвлен по приказу Лжедмитрия. Многие и в Москве, и по областям только потому и соглашались признать царем Владислава, что очень боялись власти самозванца. Теперь с этой стороны страха не было, и они примкнули к тем, которые хотели всей землей встать против Литвы и ляхов и выбрать себе природного русского царя.
Гонсевского пугало, что в Москву все больше и больше собиралось народу. Это было обычным делом, что в столицу сходились люди к рождественскому и крещенскому праздникам: Москва с ее соборами, чудотворными образами и мощами, с ее пышным патриаршим богослужением и обрядами всегда привлекала набожных русских людей. Поляков сильно беспокоило это многолюдство: они боялись народного мятежа. К патриарху, которого поляки, чтобы не возбуждать народной вражды, освободили из-под стражи, приходили с разных сторон люди. Он всех благословлял стоять твердо за Русскую землю, за веру и всем говорил:
— Если королевич не крестится и литовские люди не выйдут из нашей земли, то королевич не государь нам!
То же самое писал он в своих грамотах и рассылал их в разные стороны. Одна его грамота попала в руки полякам, и они снова стали наблюдать за ним и стеснять его, отняли от него бумагу; но все же усмотреть не могли. Писать он не мог, но говорить с приходившими к нему людьми ему позволялось, а он их благословлял на подвиг за родную землю, увещевал их другим передавать его речи, и слово его разносилось по Русской земле.
Тогда как в Москве непоколебимо радел за православную веру патриарх, несмотря на то что был в руках у поляков, под Смоленском так же твердо стоял за родную землю другой польский пленник — митрополит Филарет. Когда пришла боярская грамота из Москвы с приказом поступать во всем по воле короля, Филарет, прочитавши грамоту, сказал:
— Таким грамотам по совести повиноваться нельзя: писаны они без воли патриарха и всего освященного собора и всей земли.
Пытались всячески паны уговорить послов, но они стояли на своем.
— Ныне по грехам нашим, — сказал между прочим Голицын, — мы стали без государя, а патриарх у нас человек начальный, и без патриарха ныне о таком деле советовать непригоже!
Не удалось полякам склонить в пользу грамоты и других посольских людей. Пример Филарета и Голицына воодушевлял их, и они все стояли заодно, что боярская грамота не имеет силы, потому что писана без патриарха и без «совета всей земли».
Народное движение против поляков
В Москве была получена от посольских дворян из-под Смоленска грамота, где говорилось между прочим:
«Не надейтесь, чтобы королевич воцарился в Москве. Литовские и польские люди не допустят этого. У них в Литве на сейме положено, чтобы вывести лучших людей, и опустошить всю землю, и завладеть всей землей московской. Ради Бога, положите крепкий совет между собой. Разошлите списки с нашей грамоты и в Новгород, и в Вологду, и в Нижний и свой совет напишите, чтобы всем было ведомо про то, чтобы всей землей сообща стать за православную веру, покамест мы еще свободны, а не в рабстве и не разведены в плен».
Святой патриарх всея Руси Гермоген Икона
П. Чистяков Патриарх Гермоген в темнице отказывает полякам подписать грамоту
Грамота эта во многих списках была разослана из Москвы по городам. К ней была приложена московская грамота, писанная с благословения Гермогена. Она призывала всех к единодушному восстанию на врагов православия, призывала другие города выручить Москву из беды, причем напоминала о святынях, хранящихся в столице.
«Здесь (в Москве), — говорится в грамоте, — образ Божией Матери, Богородицы, заступницы христианской, которую евангелист Лука написал. Здесь великие светильники и хранители: Петр, Алексей и Иона чудотворцы».
Когда эти грамоты дошли до Рязани, Прокопий Ляпунов велел сделать с них списки, приложил к ним свое воззвание и разослал по соседним городам, а сам немедля стал собирать ратные силы.
В Нижнем Новгороде уже раньше началось движение. Когда здесь были получены грамоты смоленская и московская с воззванием Ляпунова, то и отсюда стали рассылать по окрестным городам списки этих посланий, приложивши свои. Гонцы за гонцами с грамотами неслись в Кострому, в Ярославль, в Муром, во Владимир и другие города, поднимая всюду народ на борьбу с «нечестивыми ляхами», на защиту православной веры и родной земли. Из городов гонцы ездили по селам и деревням, сзывали помещиков и всяких ратных людей, звоном в колокола собирали сходки. Тут решались вопросы, как казну собрать, как снаряжать войско. Вооружались кто чем мог; все, кто пеший, кто конный, спешили в назначенное сборное место; везли сюда сухари, толокно, порох и другие припасы. Духовенство воодушевляло ратных людей, приводило их к присяге, и русский люд торжественно целовал крест «стоять за православную церковь, за Московское государство, не служить польскому королю и единодушно, без всяких споров и смут, очищать московскую землю от польских и литовских людей».
Сильно ошиблись поляки: они думали, что лишь стоит склонить бояр на свою сторону — и дело будет сделано. О народе они словно совсем забыли и вовсе не ожидали отпора со стороны его: на него смотрели они, как на стадо, которое можно погнать в ту или другую сторону. Не подумали поляки и о том, что была на Руси могучая сила, способная поднять народ на смертную борьбу.
А. Васнецов Москва XVII века
Этой силой была православная вера. Во имя ее и взывали к народу призывные грамоты. На защиту своей веры, своей святыни — церквей, икон, мощей — поднимался русский народ. Поляки становились в глазах всех православных «погаными нечестивцами и заклятыми врагами». Очистить родную землю от этих оскорбителей святыни и найти себе настоящего русского царя, надежного хранителя ее, стало теперь задачей лучших русских людей.
В начале 1611 года стала ополчаться вся Русская земля. Прокопий Ляпунов из Рязанской области уже шел к Москве; на пути к нему подходили отряд за отрядом ратные силы из разных городов и областей.
Поняли поляки, что на них собирается страшная гроза… Прежде всего принялись они за того, кого считали главным виновником народного движения. Михаил Салтыков и другие бояре, доброхоты польского короля, по приказу Гонсевского приступили к Гермогену.
— Ты по городам посылал грамоты, — говорил ему Салтыков, — ты приказывал им собираться да идти под Москву; отпиши им теперь, чтоб не ходили!
— Если ты и все изменники, — отвечал патриарх, — и королевские люди выйдете из Москвы вон, я отпишу к своим, чтобы вернулись назад.
Бояре настаивали, бранились, но патриарх непоколебимо стоял на своем. Тогда его стали держать в самом строгом заключении. Говорят, сам Гонсевский обращался к патриарху с грозной речью:
— Ты, Гермоген, главный зачинщик всего возмущения! Тебе не пройдет это даром. Не думай, что тебя охранит твой сан!
Но что значили все эти угрозы для доблестного старца, всегда готового пострадать за то великое дело, которому он служил?!
Страстная неделя в 1611 году в Москве
Недолго польские воины, занявшие Москву, ладили с москвичами. Военный люд в те времена считал все позволительным для себя, особенно в завоеванной стране, а на Москву поляки смотрели как на покоренный город. Сначала, при Жолкевском, они еще кое-как ладили с жителями, по крайней мере было мирно и тихо, хотя и тогда уже не было взаимного доверия. «Несколько недель провели мы, — говорит поляк Маскевич, очевидец событий, — с дружбой на словах и с камнем за пазухой». Поляки соблюдали величайшую осторожность. Стража стояла день и ночь у ворот и на перекрестках.
Гетман заблаговременно под благовидным предлогом разослал по разным городам московских стрельцов. Москвичи начали на поляков поглядывать очень недружелюбно.
Сойтись русскому человеку с поляком было очень трудно. Этому мешало не только различие религий, но и понятий. «В беседах с москвитянами, — говорит тот же очевидец, — наши, выхваляя свою вольность, советовали им соединиться с польским народом и также приобресть свободу; но русские отвечали: „Вам дорога ваша воля, нам — неволя. У вас не воля, а своеволие: сильный грабит слабого, может отнять у него имение и самую жизнь. Искать же правосудия по вашим законам долго: дело затянется на несколько лет. А с иного и ничего не возьмешь. У нас, напротив того, самый знатный боярин не властен обидеть последнего простолюдина: по первой жалобе царь творит суд и расправу. Если же сам государь поступит неправосудно — его власть: как Бог, он карает и милует. Нам легче перенесть обиду от царя, чем от своего брата, ибо царь — владыка всего света“».
При таком различии во взглядах трудно было московскому человеку поладить с поляками. Притом польские воины нередко на деле показывали, что не различают свободы от своеволия, а когда их корили за какую-нибудь некрасивую проделку и говорили, что так поступать грешно, то разгульные жолнеры, случалось, развязно отвечали:
— Нагрешим да исповедуемся; а у наших духовных отцов есть из Рима такое отпущение, что хоть черта съешь — и тот грех простится!
Скоро своеволие поляков стало уже очень заметным. «Наши, — говорит Маскевич, — ни в чем не знали меры; что кому нравилось, то и брали». Всякие насилия и оскорбления творились польскими отрядами, особенно в то время, когда их посылали по городам и селам собирать продовольствие.
Стало обнаруживаться и в самой Москве возмутительное кощунство над святыней. Один пьяный поляк, стоявший на страже у Никольских ворот, выстрелил в надвратную икону. Возмутителен был проступок, но ужасно было и наказание: преступнику, по приказу Гонсевского, всенародно отрубили обе руки, а самого сожгли на костре пред Никольскими воротами. Гонсевский, очевидно, думал жестокой казнью удовлетворить глубоко возмущенное чувство москвичей и дать острастку своим. Но скоро сам польский вождь проявил своеволие — стал судить, рядить, расходовать казну, вовсе не спрашивая совета бояр, даже не обращая на них никакого внимания. Салтыков, Андронов и другие русские изменники позволяли себе творить всякие неправды и насилия. Озлобление в народе росло. Призывные грамоты еще пуще разжигали вражду. Владислав не ехал в Москву; все уже начинали понимать, что мирным путем с поляками дело не кончится. Москвичи стали даже громко говорить полякам, чтобы они позаботились о скорейшем приезде Владислава или убрались бы из Москвы подобру-поздорову.
— Для такой невесты, какова Русская земля, — говорили москвичи, — мы скоро найдем и другого жениха!
Гонсевскому приносились часто жалобы на насилия поляков. Он всячески старался казаться справедливым. Когда началось народное движение и прошли слухи, что Ляпунов ведет уже ополчение к Москве, столичная чернь стала еще смелее: москвичи сами уже задирали и дразнили поляков.
Между жителями и жолнерами случались не только ссоры, но и драки, грозившие перейти в общую свалку. Торговцы стали брать с поляков за свои товары втридорога. Раз был такой случай. Пришел на рынок поляк покупать овес, взял бочку овса и дал продавцу плату, какую все платили. Тот потребовал вдвое больше. Поляк стал горячиться и ругаться.
— Как смеешь ты грабить нас? — кричал он. — Разве мы не одному царю служим?
А. Васнецов Мясницкие ворота. Уличное движение в XVII веке
— Возьми свои деньги и отдай мне овес, — отвечал продавец. — Полякам не покупать его дешевле. Убирайся к черту!
Поляк в гневе выхватил саблю… Но мигом набежало несколько десятков человек с дубьем в руках. Польская стража, стоявшая у ворот, увидев это, бросилась выручать своих. Началась драка. Вооруженные поляки разогнали толпу, причем было убито человек пятнадцать.
Слух об этом быстро разнесся по всему городу и предместьям. Со всех сторон набежало на рыночную площадь множество москвитян. Дело принимало очень опасный оборот для поляков — легко мог вспыхнуть мятеж. Гонсевский на этот раз предупредил беду. Он сам явился среди народа и держал речь. Он старался подействовать на религиозное чувство, напоминал о присяге Владиславу.
— Не повинуясь царю, вы гневите Бога, — сказал он в заключение. — Не хвалитесь силой и числом. Конечно, шести тысячам трудно устоять против семисот тысяч, но победа зависит не от числа, а от Бога: и горстью людей Он может истребить несчетные полчища. Кто побуждает вас к бунту? Разве мы служим не тому же государю, которому и вы присягнули? Если же вы хотите кровопролития, то будьте уверены, что Бог нас не оставит: мы постоим за правое дело!
Плохо верили москвичи в это «правое дело» поляков. Из толпы послышались грозные крики:
— Полно врать! Без ружей и дубин мы вас шапками побьем! Убирайтесь отсюда!..
На этот раз дело кончилось все-таки мирно: озлобленная толпа разошлась; но ясно было, что малейший повод, малейшая искра — и вспыхнет мятеж, и народная злоба превратится в ярость дикую, беспощадную!..
Меры предосторожности, какие должны были принимать поляки, конечно, еще сильнее раздражали москвичей. Заключение патриарха, молва об оскорблениях, наносимых ему, еще более злобили народ. Лазутчики Гонсевского сообщали ему очень неутешительные вести — доносили, что русские ополчения уже недалеко от столицы. Надо было ждать, что вся Москва поднимется на поляков, лишь только под стенами ее явятся русские ратные силы. Взаимное раздражение поляков и москвичей дошло до крайней степени. Опасаясь больших скопищ народа, Гонсевский запретил было торжественно праздновать Вербное воскресенье. На этот праздник обыкновенно собиралось бесчисленное множество народа посмотреть на пышные процессии. Чернь, узнав о запрещении, начала волноваться. Гонсевский отменил свой приказ, и празднество совершилось, хотя, конечно, далеко не так пышно, как это бывало при царях.
А. Горский Дмитрий Пожарский
Между тем гетману доносили, что народный мятеж готовится на Страстной неделе. Поляки поспешно стали укрепляться в Кремле. Во вторник на Страстной неделе подозрительность их остановилась особенно на извозчиках и санях с дровами, которых наехало на площадь что-то уж слишком много. До наместника дошли слухи, будто коноводы мятежников намерены во время возмущения этими санями загородить улицы, чтобы помешать движению польских отрядов. Поляки стали принуждать извозчиков втаскивать на стены Кремля и Китай-города пушки, готовясь громить из них мятежников. Извозчики, несмотря на то что поляки предлагали деньги, ни за что не хотели помогать им. Жолнеры начали бить извозчиков, а те стали давать им сдачи. Тогда поляки пустили в дело сабли. В это время некоторые из извозчиков, будто согласившиеся помогать полякам, вместо того чтобы ставить на стены пушки, стаскивали их оттуда. К Сретенским воротам тем временем уже подходил передовой отряд русского ополчения под начальством князя Димитрия Пожарского.
Гонсевский сначала хотел было разнять драку, но потом, подумав, что москвичи действуют заодно с подходившим отрядом и хотят завладеть Китай-городом, сам велел оттеснить их отсюда. Тогда польские жолнеры и немцы, служившие в польском войске, кинулись на безоружную толпу народа и начали беспощадно рубить, убивать кого попало — и старых, и малых, и женщин, и детей. Началась дикая, зверская бойня. Более часа раздавались крики и вопли москвитян, набатный звон бесчисленных колоколов, залпы мушкетов. Толпу вытеснили из Китай-города.
Святой Гермоген, патриарх Московский Икона
Без ужаса, говорит очевидец, нельзя было взглянуть на жолнеров и немцев. Они были все в крови, подобно мясникам. Говорят, в короткое время было избито народу более шести тысяч. Уцелевшие пустились бежать в Белый город. Здесь загораживали улицы извозчичьими санями, заваливали дровами, столами, скамьями и отбивались от поляков за этими загородями. Когда поляки отступали, москвичи кидались вслед за ними, били их бревнами, скамейками, швыряли в них поленья. В Москве было множество переулков и закоулков; здесь-то, на перекрестках, особенно сильно доставалось полякам… Их били со всех сторон — из окон, со стен, с кровель. Куда ни кидались польские отряды, на всех улицах они встречали преграды, всюду метали в них чем попало. Особенно плохо пришлось полякам на Сретенке: здесь уже укрепился Пожарский и стрелял по ним из пушек… Увидали поляки, что им не справиться. Русское ополчение уже ворвалось в Белый город. С других сторон подходили новые отряды. Полякам оставалось спасаться в Кремле и Китай-городе и за стенами отбиваться от русских. Но оставлять в целости Белый город — это значило дать возможность подходившему ополчению удобно разместиться и пользоваться всеми выгодами городской жизни. Кто-то в толпе поляков крикнул: «Огня! Огня! Жечь дома!» Военачальники ухватились за это предложение. Говорят, Салтыков, усердствуя полякам, подал им эту мысль и сам первый поджег свой дом. Жолнеры бегали с лучиной и засмоленной паклей и в разных местах стали поджигать дома. Сначала огонь туго принимался — вероятно, от сырой погоды (поляки говорили, что дома заколдованы). Наконец вспыхнул пожар в нескольких местах. К несчастью, ветер нес пламя и дым на москвичей — они вынуждены были отступить; поляки стреляли по ним. Скоро пожар охватил весь город; огонь при ветре свирепствовал с ужасной силой. Наступила ночь, но от пожара было светло, как днем. Москвичи напрягали все свои силы — старались погасить пожар. Поляки со стен видели в Белом городе страшную суматоху; раздавались там громкие крики и набатный звон.
Поляки решили на своем совете выжечь весь город и Замоскворечье. На другой день, до рассвета, польские отряды вышли, чтобы исполнить это решение. Русские старались всеми силами помешать им, но не удалось. Замоскворечье запылало с разных концов. Пожарский мужественно бился с поляками на улицах, стараясь спасти остатки Москвы, но огонь принудил русских отступить. Раненый Пожарский упал на землю и, обливаясь кровью, плакал.
— О, хоть бы мне умереть, — говорил он, — только бы не видать того, что вижу!
В это время польскому отряду под предводительством Струся, пришедшему на помощь своим, удалось прорваться в Кремль.
Русским пришлось оставить горевший город. Три дня горела Москва. Нестерпимый чад душил поляков в Китай-городе. Огонь пожрал все, что мог, — от Москвы через три дня остались груды тлеющего пепла, почернелые стены каменных церквей да торчали там и сям печи, каменные подклети и погреба среди угольев и пепла. Множество непогребенных тел тлело под ними. По ночам раздавался вой голодных собак, терзавших трупы…
А. Васнецов Семиверхая угловая башня Белого города в XVII веке
Такова была Страстная неделя в Москве в 1611 году.
Русское ополчение под Москвой
Во вторник на святой неделе подошел к Москве Ляпунов со своим ополчением, занял Симонов монастырь и укрепился там. На другой день Заруцкий привел своих казаков. Затем привел калужан князь Трубецкой. С каждым днем подходили новые отряды. Русские воеводы решили занять пепелище Белого города, чтобы обложить со всех сторон поляков.
С. Шухвостов Внутренний вид Алексеевской церкви Чудова монастыря
Дионисий, архимандрит Троицкого монастыря, и келарь Авраамий Палицын прислали к воеводам грамоты, убеждали их именем веры и сострадания к несчастной Русской земле потрудиться и освободить ее от чужеземных врагов и от русских предателей. Страшное пепелище столицы и груды тлеющих трупов еще красноречивее побуждали к тому же русских ратников.
Поляки успели захватить из погребов, подклетей и церквей погоревшей столицы множество добычи: золотых вещей, утвари, богатой одежды. Иные выходили на поиски из Кремля в рваных кунтушах (кафтанах), а возвращались в блестящих кафтанах, вышитых золотом и унизанных жемчугом. Жемчугу досталось полякам столько, что им вовсе не дорожили. Случалось даже, что потехи ради поляки стреляли жемчугом из ружей по москвичам. Вина тоже было в изобилии, но хлебом поляки не догадались запастись. Им скоро пришлось каждый день делать вылазки, чтобы раздобыться кормом для лошадей и топливом, а в апреле уже и сами они стали нуждаться в съестных припасах.
Изменники бояре и Гонсевский принялись снова за Гермогена.
— Напиши Ляпунову и его товарищам, — настаивал Салтыков, — чтобы они отошли прочь; иначе сам умрешь злой смертью!
— Вы мне сулите лютую смерть, — отвечал патриарх, — а я надеюсь через нее получить венец и давно желаю пострадать за правду.
Патриарха стали держать в самом строгом заключении в Чудовом монастыре: не позволяли ему переступить через порог своей кельи, обходились с ним грубо, скудно кормили, не стали считать его патриархом, а вместо него стали величать архипастырем Игнатия, заточенного Василием Ивановичем в Чудовом монастыре.
Со дня на день полякам становилось хуже. К русским подходили все новые и новые отряды. Осажденным трудно было делать вылазки и добывать себе корм. Вся стена и башни Белого города были уже в руках русских. Сапега, подошедший в это время к Москве, не в состоянии был помочь осажденным: они были заперты в Кремле и Китай-городе. Нескольким полякам, впрочем, удалось пробраться и дать знать королю о положении осажденных. Они уже начинали опасаться голодной смерти: запасов оставалось мало.
А в это время призывные грамоты делали свое дело. Ратные силы подымались и в самых отдаленных городах и двигались к Москве.
Не слышно стало голоса старца Гермогена, этого страдальца за православную веру, о железный нрав которого разбивались все вражьи угрозы, — заговорил другой великий подвижник — Дионисий, архимандрит Троицкой лавры. Это был человек высокой и светлой души, способный воодушевлять других, способный словом своим поднимать народ, изнемогавший под гнетом горя, нищеты и всяких бедствий.
Раньше, при архимандрите Иоасафе, Троицкий монастырь выказал замечательное мужество и воинскую доблесть. Теперь, при Дионисии, обитель показала еще более высокий пример истинно христианской доблести: человеколюбия и милосердия. Троицкий монастырь обратился в больницу и богадельню. Воодушевленные горячим словом и примером своего настоятеля, троицкие иноки усердно занялись «великим промыслом» — ездили и ходили по окрестностям, отыскивали бесприютных, раненых, больных, умирающих с голоду и привозили их в монастырь; подбирали также трупы убитых для христианского погребения. Нельзя было без содрогания смотреть на страдальцев, наполнивших Троицкую обитель: одни обгорели, у других содрана кожа на спине, у третьих выжжены глаза… Не только в самом монастыре, но и в слободах монастырских монахи и служки день и ночь работали: одни присматривали за больными, другие шили им одежды, третьи готовили есть. Монастырских средств не жалели. Накопились они из благочестивых пожертвований и вкладов и шли на благочестивое же дело — помощь страждущим и несчастным. Великую службу Русской земле сослужила в ту ужасную пору Сергиевская обитель: многим спасла жизнь, многих напутствовала по-христиански в другой мир, облегчив, по мере возможности, их предсмертные муки. Но главное — здесь ярко светилась и блистала истинно христианскими делами та православная вера, на защиту которой подымалась теперь Русская земля. Дух святого Сергия, благословлявшего некогда Димитрия Донского на борьбу с татарами, сказался и в Дионисии: подобно святому основателю обители, и он, отказавшись от всех благ и радостей мирских, страстно любил родную землю, страдал ее страданиями, радовался ее радостями. Мог ли он молчать в ту пору, когда решался вопрос о жизни или смерти Русского государства?! Вместе с келарем Авраамием Палицыным он составлял призывные грамоты. Несколько «борзописцев» переписывали их во множестве списков. Гонцы от Святой Троицы повсюду развозили эти грамоты.
Ф. Солнцев Дионисий, архимандрит Троице-Сергиевой лавры
«Православные христиане, — взывал Дионисий в своем послании в Казань. — Вспомните истинную православную христианскую веру, вспомните, что все мы родились от христианских родителей, знаменались печатью, святым крещением, обещались веровать в Святую Троицу. Возложите упование на силу Креста Господня и покажите подвиг свой, молите служилых людей, чтобы быть всем православным в соединении и стать сообща против предателей христианских, Михайлы Салтыкова и Федьки Андронова, и против вечных врагов христианства, польских и литовских людей. Сами видите конечную от них погибель всем христианам, видите, какое разоренье причинили они в Московском государстве. Где св. Божии церкви и Божии образы? Где иноки, сединами цветущие, иноки, добродетелями украшенные? Не все ли до конца разорено и обругано злым поруганием? Не пощажены ни старики, ни младенцы грудные. Помяните и смилуйтесь над видимою общею смертною погибелью, чтобы не постигла вас самих также лютая смерть. Пусть служилые люди без всякого мешканья спешат к Москве, в сход к боярам, воеводам и ко всем православным христианам. Сами знаете, что всякому делу одно время надлежит; безвременное же начинание всякому делу суетно и бездельно бывает. Хотя бы и были в ваших пределах какие неудовольствия, Бога ради, отложите все это на время, чтобы всем вам сообща потрудиться для избавления православной христианской веры, пока к врагам не пришла помощь. Смилуйтесь, сделайте это дело поскорее, ратными людьми и казною помогите, чтобы собранное теперь здесь войско от скудости не разошлось».
Воззвания Дионисия и Авраамия поддерживали и усиливали то народное движение, которое началось раньше. Русские силы со всех сторон стекались к пепелищу Москвы, собирались «около начального русского человека», Прокопия Ляпунова. На беду для русских, между тремя воеводами не было ладу. Старшим считался именитый боярин, князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой — это был человек небольшого ума; он не особенно мешал Ляпунову, но Заруцкий, начальник казацких полчищ, часто сталкивался с ним. Не дорого было казакам то дело, за которое готов был душу свою положить Ляпунов: не столько о спасении Русской земли думали они, сколько о наживе. Заруцкий нередко самовольно распоряжался земскими деньгами, раздавал их своим казакам, даже землями наделял их. Случалось, что одни и те же поместья Заруцкий давал своим, а Ляпунов — своим. Понятно, что скоро начались между этими вождями несогласия и раздоры…
Прокопий Ляпунов был нравом крут, неуступчив; лукавить и лицемерить было не в его природе. Прямота и суровость мешали ему сходиться и ладить с людьми; он не разбирал знатных и незнатных, богатых и бедных — со всеми обходился одинаково властно и решительно. Все приходившие к нему по делам должны были ждать своей очереди, причем и для самых знатных людей исключения не делалось: им приходилось подчас подолгу стаивать у избы «начального русского человека». Многим было это совсем не по душе, и на него сильно роптали.
Герб дворян Ляпуновых
— Не по своей мере он поднялся и загордился! — говаривали недовольные.
Раздоры главных воевод и неправильная раздача поместий возбуждали общее недовольство. Тогда дворяне и дети боярские, приведшие земские ополчения, сообща написали челобитную к трем предводителям, чтобы они собрали думу и установили жить меж собой в любви и совете, всякое дело делать сообща, жаловали бы ратных людей по числу и достоинству, а не так, чтобы одни получали через меру, а другим не доставалось ничего…
Дума собралась 30 июня. Решено было восстановить приказы — большой, или разрядный, поместный, разбойный и земский. Первый должен был ведать все ратные дела и смотреть за тем, чтобы не были забыты заслуги убитых и изувеченных. Поместный приказ должен был утвердить порядок в раздаче поместий, «испоместить» служилых людей (дворян и детей боярских), разоренных и обедневших. Разбойный и земский приказы должны были ловить и судить воров и разбойников, оберегать земские выгоды. Это больше всего касалось казаков, которые своевольничали и грабили при сборе продовольствия по городам и волостям. Решено было не пускать одних казаков за кормами, а посылать с ними дворян и детей боярских, то есть земских людей. Это, конечно, очень не понравилось казакам.
Верховная власть вручалась трем воеводам: князю Димитрию Тимофеевичу Трубецкому, Ивану Мартыновичу Заруцкому и думному дворянину Прокопию Петровичу Ляпунову. Им вверялась печать; подпись их трех давала грамотам силу закона, но править самовольно, без земской думы, казнить смертью, ссылать в ссылку они не могли. Дума оставляла за собой право сменить их, если они не будут «радеть о земских делах и чинить правды». Этот приговор был подписан дворянами и детьми боярскими от двадцати пяти городов.
Герб княжества Смоленского
Таким образом, установлено было временное правительство. Хотя Ляпунов занимал в нем третье место, но в действительности он был душой всего дела: в нем Русская земля видела своего настоящего вождя. Но не ему суждено было спасти родную землю от вражьей силы.
Приговор думы, конечно, не унял розни и вражды между Заруцким и Ляпуновым: слишком уж разные люди были они, чтобы поладить меж собой. Казаки злобились сильно на сурового Ляпунова, не дававшего им воли. Были у него и свои московские недруги.
Случилось, что один из отрядных земских начальников, Плещеев, поймал 28 своевольных казаков, занимавшихся грабежом. Он велел потопить их. Сам ли он надумался казнить этих «воровских» казаков или сделал это по приказу Ляпунова — неизвестно; но во всяком случае эта казнь без приговора думы была незаконна. Стан Заруцкого заволновался; казаки зашумели; винили во всем ненавистного им Ляпунова. Озлобление казаков оказалось так сильно, что он даже думал было уехать к себе в Рязань, но был удержан своими приверженцами… Заруцкий между тем разжигал злобу казаков против Ляпунова, то же делали и другие враги его. Ненависть к нему в казацком стане дошла до крайнего предела. Этим воспользовался Гонсевский: он понимал, что полякам опаснее всех воевод Ляпунов — и своими способностями, и преданностью делу, и доверием к нему русских. Гибель его была нужна врагам. По приказу Гонсевского написана была грамота от имени Ляпунова, в которой тот приказывал будто бы по всем городам, где поймают казаков, бить их и топить. Подпись под грамотой была искусно подделана под руку Ляпунова. Грамота была доставлена в казацкий стан. Она показалась казакам правдоподобной и подписью, и содержанием. 25 июля собрался казацкий круг и послали звать Ляпунова к ответу. Он сначала не пошел, но когда пришли казацкие старшины за ним и заверили его, что ему не будет никакого зла, он явился в казацкий стан.
— Ты писал? — спросили Ляпунова, показывая ему грамоту.
— Нет, не я, — отвечал он, взглянув на нее. — Рука похожа на мою, но это враги сделали; я не писывал.
Но ярость казаков так была сильна, что они даже и слушать не хотели объяснений Ляпунова: выхватили сабли и кинулись на него… Тут дворянин Иван Ржевский, враг Ляпунова, и тот возмутился казацким насилием и стал кричать: «Прокопий не виноват!»
Казаки изрубили и Ляпунова, и Ржевского.
Великим горем для русских и великой радостью для поляков была гибель русского «начального человека».
Взятие Смоленска Поляками
Двадцать месяцев уже длилась доблестная оборона Смоленска. Все усилия поляков взять город разбивались о твердость и мужество его защитников. Долгая осада томила поляков. Самолюбие короля сильно страдало: для него уйти от Смоленска, не взяв его, значило покрыть позором свою воинскую честь.
Всеми силами добивался король и его сановники от русских послов, чтобы те побудили город сдаться; но послы, подобно смолянам, твердо и стойко охраняли выгоды Русской земли, не сдавались ни на просьбы, ни на угрозы.
— Хотя бы мне и смерть принять, — говорил твердо митрополит Филарет, — я без патриаршей грамоты о крестном целовании на королевское имя никакими мерами ничего не буду делать! Святейший патриарх духовному чину отец, и мы под его благословением; ему по благодати Святого Духа дано вязать и прощать, и кого он свяжет словом, того не токмо царь, но и Бог не разрешит!
Как ни гневались, как ни злобились польские сановники, но поделать ничего не могли: послы упорствовали. А между тем Русская земля ополчалась. Грозные вести о народной войне пугали и короля, и сановников его. Наконец пришло известие о сожжении Москвы. Польские сановники говорили, что в беде этой больше всего виновны сами московские люди, а русские послы утверждали, что виной всему король: зачем не утвердил договора и не отошел от Смоленска! Упорных послов как пленников, под стражей, отправили 13 апреля в Польшу.
Прошел апрель — Смоленск держался; май приближался к концу, а Смоленск все не сдавался… Король приходил в отчаяние. В сентябре назначен был сейм. Какими глазами он, король, суливший большие выгоды Польше от войны с Москвой, должен был посмотреть на представителей своей страны, не взявши Смоленска, уронивши честь польского войска? Надо было во что бы то ни стало взять город.
Приказано было готовиться к решительному приступу. Поляки надеялись на успех; они приметили, что на смоленских стенах почти не осталось защитников — немало уже погибло их в бою, но еще больше сгубила их болезнь, которая свирепствовала в городе. На беду, один перебежчик надоумил поляков взорвать часть городской стены, подсыпав пороху в ров, служивший для стока нечистот из города.
В ночь со 2 на 3 июня, когда только что занималась заря, поляки кинулись на приступ. Нападение было так внезапно и стремительно, что сначала ошеломило осажденных. Поднялись в городе тревога, суматоха, крики, набатный звон. На стенах закипел рукопашный бой. Русские бились отчаянно, ободряя себя криком. Во многих местах поляки были уже смяты и вынуждены отступить. Приступ, казалось, был уже отбит… Вдруг раздался страшный треск и грохот — то была взорвана часть стены по указанию изменника. Взрыв этот так озадачил защитников, что они в ужасе заметались во все стороны. Поляки скоро очутились в городе. Вспыхнул пожар в разных местах города. Загорелись городские башни, запылали и дома. Смоляне сами жгли свои жилища, чтобы ничего не досталось врагам. В погребе при архиерейских палатах было полтораста пудов пороху. Русские, видя, что спасения уже нет, кинули туда огонь. Палаты с оглушительным громом взлетели на воздух. Немало тут было перебито и перекалечено и поляков и русских. От сотрясения одна стена в соборной церкви треснула и отвалилась. Жолнеры ворвались в собор… Их поразило зрелище, какое они увидели. Церковь была полна народу, женщин, детей. Все стояли на коленях, склонившись ниц. В царских вратах стоял владыка в полном облачении. Прекрасный, смиренный и вместе с тем величественный вид пастыря и толпы народа, готового покорно, с молитвой встретить смерть, умилил даже и рассвирепевших врагов; они не стали никого убивать. Но многие русские сами, с монахами и священниками во главе, кидались в пламя, не желая попасть в руки врагов. Шейн с товарищем своим, князем Горчаковым, и несколькими служилыми людьми заперся в одной башне и решился погибнуть, но не сдаться. С ним были жена его и ребенок, сын. Один приступ к башне был отбит. Сам Потоцкий, главный начальник польского войска, стал уговаривать Шейна, чтобы он не губил себя напрасно. Русский воевода сам не согласился бы сдаться, но другим его товарищам жизнь была слишком мила, и Шейн уступил.
В. Черный В раздумье
На доблестного воеводу король посмотрел как на мятежника, не пожелавшего покориться законной власти. Его стали допрашивать о соумышленниках, но он никого не выдал. Спросили между прочим, что он стал бы делать, если бы отсиделся в Смоленске.
— Я всем сердцем служил бы королевичу, — отвечал Шейн, — а если бы король не дал своего сына на царство, то я подчинился бы тому, кто стал бы царем в Москве, так как земля без государя быть не может!
Шейна даже подвергли пыткам — хотели дознаться у него, не скрыты ли где в Смоленске сокровища…
Вся Польша ликовала, когда разнеслась весть о падении Смоленска. По всем костелам совершались благодарственные молебствия; повсюду шли празднества и народные увеселения. Короля везде встречали с великим торжеством, словно знаменитого победителя. В Варшаве ему был устроен 29 октября торжественный въезд. В церемонии участвовал и гетман Жолкевский. Он ехал в богато убранной открытой коляске; следом за ним везли в королевской карете важнейшего пленника — Василия Ивановича Шуйского с двумя братьями. Все были в своих торжественных одеждах. За ними везли Шейна с главными его сподвижниками, наконец митрополита Филарета, князя Голицына и других посольских людей. Пленных провезли через краковское предместье в королевский замок. Здесь король, сидя на троне с королевой, принимал их. Впереди стоял Василий Иванович с братьями. Жолкевский сказал высокопарную речь. Распространившись сначала о прежнем могуществе и величии Василия Ивановича, о важном значении его братьев, он сказал в заключение:
— …Ныне стоят они здесь жалкими пленниками, всего лишенные, обнищалые, поверженные к стопам вашего величества, и, падая на землю, молят о пощаде и милосердии.
При этом Василий Иванович низко склонился перед королем, коснувшись рукой земли, а братья его поклонились до земли.
Все сановники, наполнявшие палату, глядели с любопытством на тщедушного старичка с сухощавым лицом, с небольшой бородой и больными красноватыми глазами, глядевшего с равнодушной покорностью своей участи. Каких только превратностей судьбы не испытал он! Голова его лежала на плахе, носила потом царский венец, а теперь покорно склонялась перед злейшим врагом русского народа. Взоры всех смотревших на Василия были полны участия и сострадания; только глаза одного лица горели непримиримой ненавистью к нему — глаза Юрия Мнишека.
Ф. Солнцев Джерид
На сейме король заявил, что московскую землю он присоединяет к Польше. Это очень порадовало всех поляков. О воцарении Владислава в Москве уже не было и речи. Войну считали почти поконченной и думали, что остается только смирить горсть ничтожных мятежников, и вековой спор с Москвой будет покончен.
Лихолетье
До крайности плачевно было состояние Русской земли по смерти Ляпунова. Не стало опять «начального человека», около которого с доверием и надеждой на успех стали было собираться земские силы. Заруцкий, казацкий воевода, был для московских людей чужим человеком: ему, смотревшему на все глазами казацкой вольницы, чужды были порядки и Московского государства, и панской Польши. Другой вождь — Трубецкой — вполне подчинялся Заруцкому. Казакам теперь, когда не стало сурового Ляпунова, было раздолье: они хозяйничали на Руси как хотели — грабили, творили всякие насилия. Заруцкий им все позволял, всему потворствовал. Даже в самом воинском стане московским служилым людям и земским ополчениям не стало житья. Заруцкий раздавал своим казакам и земские деньги, и поместья. От казацких обид и притеснений дворяне и боярские дети разбегались из стана и разносили по земле вражду и ненависть к Заруцкому и казакам. Никакого законного правительства теперь не было. Хотя осада поляков в Кремле продолжалась, но дело велось кое-как, и Сапеге, который рыскал по Русской земле с конным отрядом своим, удалось доставить осажденным вдоволь съестных припасов.
Беда за бедой обрушивалась на Русскую землю. Шведы в это время завладели Новгородом. Делагарди после Клушинской битвы отступил на северо-запад. Когда Москва целовала крест королевичу Владиславу, шведы начали враждебные действия против русских — стали забирать русские города на севере. Но когда началось на Руси народное движение против поляков, то вожди ополчения завели переговоры со шведами, даже стали сулить им, что выберут одного из сыновей шведского короля Карла IX в цари. Переговоры эти надолго затянулись. Шведы настойчиво требовали денег и уступки городов — Ладоги, Яма, Копорья, Иван-города, Гдова и Орешка. Требования эти были слишком тяжелы. Между тем в Новгороде шли смуты: одни стояли за союз со шведами, другие — против. Делагарди решился силой завладеть городом, чтобы положить конец продолжительным и бесплодным переговорам и колебаниям.
С. Иванов В Смутное время
8 июля он повел шведов на приступ, но новгородцы отбили нападение после жестокого боя. На беду, нашелся изменник: ночью с 16 на 17 июля он провел шведов в город. Пораженный внезапностью, народ заметался в ужасе, с плачем и криком… Переполох был такой, что многие бежали сами не зная куда; иные от тесноты на мосту падали в реку. Нашлись, впрочем, и такие, которые не потерялись и решились постоять за себя. Небольшая толпа молодцов, во главе которых были стрелецкий начальник Василий Голютин, дьяк Голенищев, Василий Орлов да казачий атаман Тимофей Шаров с сорока казаками, решилась дать отпор.
— Сдавайтесь, — кричали им шведы, — ничего вам не будет!
— Не сдадимся, — отвечали те, — помрем за веру православную.
Все они и погибли в бою.
Софийский протопоп Аммос заперся в своем дворе с людьми своими и решился тоже лучше умереть, чем сдаться врагам-еретикам. Шведы подложили к ограде огонь, и Аммос с людьми своими погиб в пламени.
Эти отдельные попытки сопротивляться, конечно, делу помочь не могли. Новгород был уже в руках шведов: воевода новгородский Бутурлин еще раньше, ограбив лавки и богатые дворы, убежал из города. Сдался и Новгородский детинец: без ратной силы и без запасов обороняться нельзя было.
Написан был договор, по которому новгородцы отдавались под покровительство шведского короля Карла IX, обязывались без ведома его никаких союзов не заключать и признать царем одного из сыновей короля, по желанию его — либо Густава Адольфа, либо Карла Филиппа.
В то время как Новгород отдался в руки шведского короля, в Псковской области явился новый самозванец. (Был это, по словам летописи, какой-то «вор Сидорка», а по другому известию — московский дьякон Матвей.) Попытался было он начать свое «обманное дело» в Новгороде, но здесь узнали его. Тогда он бежал в Иван-город и здесь объявил, что он — спасенный Дмитрий, и рассказывал вымышленную историю своего спасения. Тут он имел большой успех. Три дня звонили в колокола, палили из пушек на радостях, что нашелся «настоящий» царь. Казачество стало собираться около него… Псков признал его 4 декабря царем.
В. Сибирский Гражданин Минин и князь Пожарский
Более плачевного состояния не бывало в Русской земле. Казалось, ее разорвут на части… Шведы — в Новгороде, самозванец — в Пскове, поляки — в Смоленске и в самом сердце Русской земли, в Москве, за твердыми стенами Кремля! Шайки их рыщут по городам и селам, грабят все, чего не дограбили раньше, разоряют то, чего прежде не докончили. Казацкие полчища под Москвой, под видом защиты русского дела, ищут только наживы: ватаги их, посылаемые за кормом по волостям, обирают и теснят несчастный люд не меньше поляков… Земля опустошена, святыни поруганы, правительства никакого нет, враги-хищники и внутри земли, и по окраинам ее. В довершение всех бедствий настал голод… «И было тогда, — по словам очевидца, — такое лютое время Божия гнева, что люди и не чаяли впереди спасения себе. Чуть не вся земля Русская запустела… И прозвали старики наши это лютое время лихолетьем, потому что тогда была на Русской земле такая беда, какой не бывало с начала мира: великий гнев Божий на людях, глады, моры, зябели на всякий плод земной. Звери пожирали живых людей, и люди людей ели. Пленение было великое людям! Жигимонт, польский король, все Московское государство велел предать огню и мечу, ниспровергнуть всю красоту благолепия земли Русской…»
Минин и Пожарский
Казалось, конец пришел Русскому государству. Ни верховной власти, ни сильной рати, ни общей казны — ничего не было! Правительства в настоящем его смысле уже не существовало. Но был еще народ. Этот народ, знатные и черные люди, богатые и бедные, разумники и простецы, — все понимали, что творится на Руси страшное, лихое дело; что вера православная и те святыни, которым поклонялись отцы, деды и прадеды, унижены и поруганы и всему тому, что созидалось веками и трудом многих поколений, грозит конечная гибель.
Возбуждение народное было сильное… По всем важнейшим городам зашумели оживленные сходки, словно воскресли старые веча. Сходились и горожане, и соседние крестьяне для земского совета, чтобы всем миром надуматься, как беде пособить. Сказывались при этом порой и старая областная рознь, и неприязнь простого люда к высшим и богатым лицам, к московским боярам, но все это было мелко и ничтожно сравнительно с враждой, какую питали все к ненавистному врагу, и с желанием очистить от него Русскую землю и положить предел гибельной неурядице. Это общее чувство должно было в конце концов взять верх над всеми мелкими страстями и желаниями и объединить русские силы.
Города стали пересылаться между собой грамотами, побуждая друг друга стать заодно против общих врагов.
«Под Москвою, — писали казанцы в Пермь, — промышленника и поборника по Христовой вере, который стоял за православную христианскую веру, за храм Пресвятой Богородицы и за Московское государство против польских и литовских людей и русских воров, Прокопия Петровича Ляпунова, казаки убили, преступая крестное целование. Но мы все с Нижним Новгородом и со всеми городами поволжскими… согласились быть в совете и соединении, дурного друг над другом ничего не делать, стоять на том крепко, пока Бог даст на Московское государство государя; а выбрать бы нам государя всею землей Российской державы; если же казаки станут выбирать государя по своему изволью одни, не согласившись со всею землею, то такого государя нам не хотеть».
Подобные же воззвания рассылались с гонцами и по другим городам. Во всех грамотах сказывалось сильное общее желание «очистить Русскую землю от врага, поругателя святыни, и выбрать себе всею землею своего царя».
Разносились по Русской земле и те грамоты, что составлялись в Троицком монастыре Дионисием и Авраамием и переписывались во множестве списков «борзыми писцами».
Воодушевление народа росло. Нравственное и религиозное возбуждение становилось все сильнее и сильнее.
К. Маковский Воззвание Минина
Повсюду стала носиться молва о чудесных видениях и знамениях. Говорили, что в Нижнем Новгороде один благочестивый человек, Григорий, сподобился в полуночи страшного видения: видел он, будто крыша с его дома снялась, великий свет осиял его покой и явились два мужа с воззванием о покаянии и очищении всего государства… Во Владимире тоже, говорили, было видение…
Набожный народ только от Божьей помощи ждал спасения, считал необходимым особенным способом очиститься от грехов и умилостивить Бога покаянием и постом. По всем городам приговорили поститься три дня в неделю: в понедельник, вторник и в среду ничего не есть, не пить, а в четверг и пятницу — сухо есть. Так готовился народ к великому делу.
Настроение народа было таково, что он готов был всеми силами подняться на борьбу. Нужно было только начало да нужен был настоящий русский вождь.
В октябре 1611 года в Нижнем Новгороде получена была грамота из Троицкого монастыря. Ее решено было прочесть в соборе. Зазвонили в большой соборный колокол, а день был непраздничный. Народ понял, что неспроста звонят большим звоном, и скоро церковь Святого Спаса наполнилась народом. После обедни протопоп Савва обратился к народу с речью:
— Православные христиане, господа братия, горе нам! Пришли дни конечной гибели нашей. Гибнет наше Московское государство, гибнет и православная вера. Горе нам, великое горе, лютое обстояние! Литовские и польские люди в нечестивом совете своем умыслили Московское государство разорить и обратить истинную веру Христову в латинскую многопрелестную ересь. Кто не восплачется, кто не испустит источники слез?! Ради грехов наших Господь попустил врагам нашим возноситься. Горе нашим женам и детям! Еретики разорили до основания богохранимый град Москву и предали всеядному мечу детей ее. Что нам творить? Не утвердиться ли нам на единение и не постоять ли за чистую и непорочную Христову веру, и за святую соборную церковь Богородицы, и за многоцелебные мощи московских чудотворцев? А вот грамота властей Живоначальныя Троицы монастыря Сергиева.
Была прочтена грамота, призывающая весь народ на спасение православной веры. Народ умилился. Многие плакали.
— Горе нам, — говорили в толпе, — гибнет Московское государство!
Когда народ еще толпился у церкви, к нему держал речь один из земских старост — Козьма Минин-Сухорукий.
А. Кившенко Воззвание Кузьмы Минина к нижегородцам
(Раньше уж он говорил, что ему являлся во сне св. Сергий и приказал «возбудить уснувших».)
— Православные люди! — заговорил он теперь к народу громким голосом. — Коли хотим помочь Московскому государству, не пожалеем достояния нашего… дворы свои продадим, жен и детей заложим и станем челом бить, искать, кто бы вступился за истинную православную веру и стал бы у нас начальником!.. Дело великое совершим, если Бог поможет. Какая будет хвала нам от всей земли… Я знаю: только мы поднимемся на это дело, другие города пристанут к нам, и мы избавимся от врагов.
М. Песков Воззвание Минина к нижегородцам в 1611 году
Горячая речь Минина пришлась по сердцу всем. Сказалось в ней то, что давно было на душе у всех. У многих слезы полились из глаз.
Начались частые сходки. Козьма Минин, которого в городе все знали и уважали, всем орудовал, убеждал всех, что надо ополчаться, клич кликать по служилым людям, а в казну на содержание ратных людей собирать со всех по третьей деньге (то есть третью часть имущества). Желание послужить великому делу было так сильно, что тут же многие стали жертвовать гораздо больше. Сносили со всех сторон и деньги, и драгоценные вещи. Одна вдова, говорится в летописи, принесла к сборщикам десять тысяч и сказала:
— Я осталась после мужа своего бесчадна. Было у меня двенадцать тысяч; отдаю десять, а себе оставляю две.
Но прежде чем скликать ратных людей, надо было найти военачальника. Такое святое дело, какое затевалось, надо было отдать в чистые руки. Стали думать, кого бы из бояр выбрать вождем. Остановились на князе Дмитрии Михайловиче Пожарском. Он в ту пору жил в своем имении, в Суздальском уезде, где долечивался от ран, полученных при московском погроме. Это был человек чистый, не запятнанный никаким дурным делом: в смутные годы он в воровских таборах не бывал и у польского короля милостей не прашивал. Ратное дело он хорошо знал, большое мужество выказал при защите Зарайска от самозванца и потом в московском побоище.
К. Маковский Кузьма Минин в Нижнем Новгороде
Послали бить челом Пожарскому. Он отвечал:
— Рад я за православную веру страдать до смерти, а вы изберите из посадских людей такого человека, который был бы со мной у великого дела, ведал бы казну на жалованье ратным людям.
Стали было нижегородские послы раздумывать, кого бы выбрать, но Пожарский не дал им долго думать.
— Есть у вас в городе, — сказал он, — Козьма Минин. Он человек бывалый: ему такое дело за обычай!
Когда посланцы вернулись в Нижний и сказали о желании Пожарского, нижегородцы стали челом бить Минину, чтобы он потрудился на общее дело, стоял бы у мирской казны. Минин отказывался до тех пор, пока нижегородцы не написали приговора, что ничего не пожалеют для великого дела.
Весть о том, что нижегородцы поднялись, быстро разносилась, и ратные силы стали собираться к ним отовсюду. Пожарский с нижегородцами разослал по городам грамоты, в которых говорилось между прочим следующее:
«Теперь мы, Нижнего Новгорода всякие люди, идем на помощь Московскому государству. К нам из многих городов прибыли дворяне, и мы приговорили имение свое и домы с ними разделить и жалованье им дать. И вам бы также поскорее идти на литовских людей. Казаков не бойтесь: коли будем все в сборе, то всею землею совет учиним и ворам не позволим ничего дурного делать… Непременно надо быть вам с нами в одном совете и на поляков вместе идти, чтоб по-прежнему казаки не разогнали бы нашей рати».
Грамота эта повсюду читалась на мирских сходках, постановлялись приговоры, собирались деньги. Город сносился с городом. Опять, как по призыву Ляпунова, поднималась Русская земля; но на этот раз вожди вели дело осторожнее — понимали, что не только поляки, но и казаки — враги Москвы; что сближаться с «перелетами» и «шатунами» не следует.
Наступил 1612 год. Весть о новом русском ополчении всполошила не только осажденных поляков, но и осаждавших казаков. Поляки и русские изменники потребовали снова от патриарха Гермогена, чтобы он написал нижегородцам увещание оставаться верными Владиславу.
«Да будет над ними милость Божия и от нашего смирения благословение, — отвечал с прежней твердостью старец, — а на изменников да излиется от Бога гнев, а от нашего смирения да будут прокляты они в сем веке и в будущем!»
Скоро после этого несокрушимый старец и «поборатель за веру православную» скончался (17 февраля); умер он, говорят, голодной смертью. Погребли его в Чудовом монастыре.
Заруцкий понял, что ему и его своевольному полчищу грозит опасность от новой земской ратной силы. Подмосковные казаки с начальником своим в это время признали третьего (псковского) самозванца. Попытался было Заруцкий захватить Ярославль, чтобы помешать движению северного ополчения, но Пожарский предупредил и в начале апреля привел сюда свою рать.
Нелегко было в ту пору снарядить как следует войско. Кроме прежнего оружия: копий, секир разного рода, палиц (булав, шестоперов), — входили все больше и больше в употребление турецкие сабли и огнестрельное оружие — ружья и пушки.
При огнестрельном оружии значение охранительного вооружения должно было падать, но все-таки всякие шлемы и латы были еще в ходу — особенно у конных воинов и воевод.
Еще на пути из Нижнего в Ярославль к рати Пожарского присоединялись ополчения из разных приволжских городов. Ярославль был главным сборным местом. Здесь Пожарский остановился надолго: он, видимо, хотел действовать осмотрительно, собрать как можно больше ратной силы и казны, чтобы решить дело наверняка. Задача была теперь ясная: выгнать врагов из Русской земли и выбрать себе всей землей настоящего русского царя. Для того чтобы выполнить эту задачу, мало было победы над врагом — надо было еще задушить всякую смуту, криводушие и шатость среди русского люда; по всей земле необходимо было установить единодушие. С этой целью рассылались грамоты по разным городам, созывались выборные на общий совет.
В. Савинский Нижегородские послы у князя Пожарского в 1611 году
«Вам бы, — говорилось в этих грамотах, — пожаловать, помня Бога и свою православную христианскую веру, советовать со всякими людьми общим советом, как бы нам в нынешнее конечное разоренье быть не безгосударным, чтобы нам, по совету всей земли, выбрать сообща государя, кого Бог милосердный даст, чтобы Московское государство вконец не разорилось бы. Сами, господа, ведаете, как нам стоять без государя против общих врагов, польских и литовских и немецких людей и русских воров… Как нам без государя о великих государственных и земских делах с окрестными государствами ссылаться?! И по всемирному совету пожаловать бы вам — прислать к нам в Ярославль из всяких чинов людей человека по два и с ними совет свой отписать».
Из этой грамоты видно, что вожди намерены были не только очистить Москву от врагов, но и внести в нее верховную власть и правительство, основанное на воле всей земли.
В то время как русская ратная сила с каждым днем все росла и росла в Ярославле и готовилась положить конец смуте, народ уже вел ожесточенную борьбу с врагами. После смерти Ляпунова земские ратники, недовольные казацким управлением, толпами уходили от Заруцкого. Они составляли отдельные шайки, скрывались в лесах, оврагах, нападали на поляков, рыскавших по окрестностям столицы, искавших припасы. Таких народных борцов называли в насмешку шишами; но прозвище это скоро стало даже почетным в глазах народа, потому что шиши действовали честно, своих не трогали, не грабили, нападали только на поляков, причем выказывали много молодецкой удали и ловкости. В эти шайки шли люди всех званий: дворяне, дети боярские, посадские и крестьяне. Скоро житья не стало полякам от шишей; особенно сильно вредили они врагу тем, что отбивали у него обозы и мешали собирать продовольствие по деревням. «Бумаги не стало бы, — жалуется один поляк в своем дневнике, — если бы начать описывать бедствия, какие мы тогда претерпели. Нельзя было разводить огня, нельзя было ни на минуту остановиться — тотчас, откуда ни возьмутся, — шиши. Как только роща, так они и осыпят нас… Шиши отнимали запасы наши и быстро исчезали». И выходило, что, награбивши много, поляки привозили в столицу очень мало.
Освобождение Москвы и избрание царя
Три с половиной месяца пробыл Пожарский в Ярославле. Из Троице-Сергиевского монастыря уже торопили его, даже укоряли за медлительность, но Пожарский выжидал, чтобы собралось побольше рати и утихли распри и споры между начальными людьми о старшинстве. Для успокоения их пришлось Пожарскому прибегнуть даже к помощи духовного лица, бывшего ржевского митрополита Кирилла…
Ф. Солнцев Седло князя Дмитрия Пожарского
С тяжелым, конечно, чувством приближалось к Москве русское ополчение; здесь приходилось встретиться с казаками, которые погубили Ляпунова. Было произведено в Ярославле покушение и на жизнь Пожарского, тоже казаком. К счастью, число казаков под Москвой было уже невелико: Заруцкий часть полчища увел с собой. Он вместе с Мариной и сыном ее Иваном пошел на юго-восток, к степям, думал там навербовать себе новые силы и попробовать посадить на царство этого Ивана.
Число поляков в Кремле тоже сильно убавилось. Многие из них уехали самовольно. Гонсевский сдал начальство полковнику Струсю и тоже уехал. В то самое время, как Пожарский подходил к Москве, туда же спешил гетман Ходкевич, чтобы подкрепить осажденных и доставить им припасы. Пожарский успел предупредить его и 18 августа подошел к Москве. Трубецкой и казаки желали, чтобы ополчение это стало вместе с ними, но русские ратные люди, вспоминая участь Ляпунова, заявили:
— Отнюдь нам вместе с казаками не стаивать!
Дионисий, троицкий архимандрит, благословляет князя Пожарского и гражданина Минина на освобождение Москвы
К вечеру 21 августа явился под Москвой и Ходкевич. С ним был огромный обоз припасов; он намеревался провезти их в Кремль. Ходкевич перешел Москву-реку и двинулся к Кремлю с той стороны, где стояла рать Пожарского (у Арбатских ворот), так что ему первому пришлось выдержать напор врагов. Трубецкой со своими полками стоял в стороне; он выказывал намерение ударить на поляков сбоку; для этого послал даже просить у Пожарского в подмогу себе конницы. Тот отправил ему пятьсот отборных воинов. 22 августа поляки напали на русское ополчение. У Ходкевича были лихие наездники — венгры и украинские казаки. Их натиск трудно было выдерживать русскому ополчению, в котором было много новобранцев. Битва началась с первого часа и кипела до восьмого. «Был бой зело крепок, — говорит очевидец. — Хватались за руки с врагами и без пощады секли мечами друг друга». Казаки Трубецкого не двигались, словно им все равно было, кто одержит верх. Некоторые из них, говорят, даже издевались над нижегородцами, приговаривая:
— Богаты пришли из Ярославля и одни могут отбиться от гетмана!
Казалось, будто бы Трубецкому хотелось, чтобы поляки смяли русское ополчение. Он даже не пускал в дело и тех конных сотен, которые прислал ему Пожарский, но они рвались в бой: невтерпеж им было видеть, как поляки теснят русских, и они без приказа Трубецкого кинулись на врагов и своим примером увлекли и некоторых казаков. Гетман был отбит и отступил.
А. Тыранов Минин и Пожарский
Через день, 24 августа, на рассвете, Ходкевич снова напал на русских, теперь уже с той стороны, где стоял Трубецкой. Польский вождь решился во что бы то ни стало прорваться и провезти припасы в Кремль. Нападение было так стремительно, что казаки Трубецкого были смяты и принуждены отступить. Поляки уже стояли неподалеку от Кремля и заняли один острожек (небольшое укрепление).
М. Скотти Минин и Пожарский
Нижегородцы приуныли. Надо было немедленно выбить поляков с занятого ими места, иначе они легко могли бы прорваться с помощью осажденных в Кремль. Воеводы земского ополчения послали в казацкие таборы к Трубецкому просить помощи, чтобы общими силами ударить на поляков, но казаки не хотели помогать. Тогда Пожарский послал Авраамия Палицына в стан Трубецкого. Авраамий всячески убеждал казаков, умолял их, даже посулил им раздать всю монастырскую казну, если они пособят Пожарскому. Наконец ему удалось убедить казаков — они помогли нижегородцам. Тогда русские с двух сторон ударили на поляков, отбили у них острожек и оттеснили их. Пешие воины засели по ямам, рвам; всюду, где только можно было, попрятались, чтобы не пропустить в город возов с припасами. Бой был во всем разгаре… Минин попросил у Пожарского несколько сот ратников, перешел реку и стремительно ударил на стоявшие за рекой отряды поляков; те не выдержали, дрогнули и побежали. Ратники, засевшие по рвам и ямам, увидевши, что русские гонят поляков, повыскакивали из засады и ринулись на врагов. Загорелась лютая сеча. Ободренные удачей, бросились в дело и другие русские конные полки. Польское войско было вконец разбито. Ходкевичу оставалось только с остатками своих полков спасаться. Несколько сот возов с разными запасами достались победителям. Казаки первые кинулись на добычу и разграбили все дочиста.
Ф. Солнцев Знамя князя Дмитрия Пожарского (лицевая сторона)
Ф. Солнцев Знамя князя Дмитрия Пожарского (оборотная сторона)
Победа над поляками сблизила Пожарского с Трубецким. Раньше они никак не хотели соединиться, а теперь сошлись. Установили одно общее управление, стали делать все сообща. Пожарский был нравом гораздо уступчивее и покладистее, чем Ляпунов, и потому мог поладить с Трубецким. Все радовались сближению вождей. Оповещено было повсюду, что только те грамоты и приказы имеют законную силу, которые писаны от имени обоих вождей. Но казаки с земскими людьми все-таки ужиться никак не могли.
Положение осажденных в Кремле было ужасно. Во время боя удалось прорваться туда одному отряду в триста человек, но не на радость осажденным: новые люди только увеличили нужду и голод.
Пожарский предлагал полякам сдаться, но те с гордостью отказались: они все еще питали надежду, что сам король явится к ним на выручку или гетман Ходкевич, набравшись новых сил, снова придет к Москве и не даст им погибнуть голодной смертью. Со дня на день ужаснее становилось положение их; через неделю голод достиг страшных размеров. «В истории нет подобного примера, — читаем мы в дневнике очевидца. — Писать трудно, что делалось: осажденные переели лошадей, собак, кошек, мышей, грызли разваренную кожу с обуви… Наконец и этого не хватило — тогда ели землю, обгрызали в бешенстве себе руки, выкапывали трупы из земли… Смертность от такой пищи страшно увеличилась».
Э. Лисснер Изгнание польских интервентов из Московского Кремля в 1612 году
Из Китай-города поляки были скоро вытеснены, но в Кремле держались еще с месяц — все ждали, не придет ли помощь. Наконец держаться долее не было уже никаких сил; стали сначала выпускать из Кремля боярынь и бояр. Казаки хотели было грабить их, но Пожарский не допустил: он обошелся с ними человечно — устроил их в безопасных местах. Скоро сдались и поляки. Они просили во время переговоров только о том, чтоб их не губили и не отдавали в казацкие руки. Трудно было Пожарскому сдержать казаков, которые грабеж считали своим правом. Пленных поляков разослали по разным городам — ни одного из них не убили и не ограбили.
25 октября отворились все кремлевские ворота, и русские торжественно вступили в Кремль. Впереди с крестами и иконами в руках шло духовенство, во главе которого был доблестный Дионисий. В Успенском соборе отслужен был торжественно благодарственный молебен.
Ф. Солнцев Сабля князя Пожарского и сабля гражданина Минина
В то время, когда полумертвые от голоду кремлевские сидельцы сдавались, Сигизмунд наконец выступил в поход на Москву с Владиславом. Сначала весть об этом сильно всполошила русских, но тревога оказалась напрасной: король не мог собрать большого войска и двинулся с ничтожными силами, думая, что ему легко будут покоряться русские города, — и ошибся в расчете. Послал он посольство в Москву — уговаривать московское войско признать Владислава, но это посольство даже и в Москву не было впущено. На поклон к Сигизмунду или Владиславу никто не являлся. Поход по безлюдной и разоренной стране не представлял ничего привлекательного: по всем путям бродили ненавистные полякам шиши, хватали и убивали польских воинов, когда те ходили на поиски продовольствия. Попытался было король взять Волок-Ламский, да не смог. Кончался уже ноябрь, и наступала лютая зимняя стужа. Пришлось Сигизмунду вернуться в Польшу. Москва была очищена от врагов и стала довольно быстро обстраиваться. Теперь надо было выполнить вторую половину задачи, ради которой поднялась русская сила с Мининым и Пожарским, — выбрать своего, русского царя и положить конец всяким проискам поляков и шведов. Когда Делагарди прислал сказать, что королевич Филипп едет уже в Новгород, то в ответ на это в Москве сказали послу:
— У нас и на уме того нет, чтоб нам взять иноземца на Московское государство!
По всем городам разосланы были грамоты, чтобы в Москву немедленно присылали выборных людей, крепких и разумных, духовных лиц, дворян, боярских детей, торговых, посадских и уездных людей.
Когда выборные съехались, назначен был трехдневный строжайший пост. Служили по церквам молебны, чтобы Бог вразумил выборных.
Авраамий Палицын читает в Патриарших палатах Московского Кремля освященному собору, боярам и воеводам челобитие о призвании на царский престол Михаила Федоровича Из альбома «Об избрании на царство великого государя, царя и великого князя Михаила Федоровича, самодержца всероссийского»
Н. Константинов Терем бояр Романовых в Москве
Постановили прежде всего, чтобы отнюдь не выбирать ни иноземца, ни сына Марины. Когда начались выборы, то происходило немало смуты и волнения. Хотя чаще всего слышалось имя юного Михаила Федоровича Романова, но нашлись между боярами честолюбцы, которые сильно домогались получить царский венец, засылали своих людей к выборным, пытались подкупить голоса. Были сторонники у князя Василия Голицына, который в то время с митрополитом Филаретом был в руках у поляков. Нашлись лица, говорившие, что следует возвратить венец Василию Ивановичу Шуйскому. Говорили и в пользу избрания на престол старика князя Воротынского. Казалось, снова настанут неурядицы в Москве на радость врагам, но, к счастью для Русской земли, пререкания и волнения были только в среде именитых людей, бояр и сановников. Дворяне, служилые люди, народ и казаки стояли за Михаила Федоровича. Толпа дворян, боярских детей и казацких старшин обратилась к Авраамию Палицыну, который жил тогда в Москве, на Троицком подворье, представили ему челобитную с множеством подписей и просили его, чтоб он предъявил ее всему собору, боярам и всем земским людям. В челобитной говорилось, что все просят избрать Михаила Федоровича. Авраамий передал собору эту грамоту. В это же время прибыл посол из Калуги с челобитной от всех калужан и жителей северских городов — все они желали на царство Михаила.
20 февраля 1613 года. На паперти Благовещенского собора Московского Кремля келарь Троице-Сергиевой лавры Авраамий Палицын зачитывает решение Земского собора «Об избрании на царский престол боярина Михаила Федоровича Романова» Из альбома «Об избрании на царство великого государя, царя и великого князя Михаила Федоровича, самодержца всероссийского»
Романовых особенно любил народ. Анастасия и Никита Романович жили в народной памяти, вошли даже в песни народные; притом род Романовых не был запятнан в глазах народа никаким дурным делом, вынес много горя и напрасных гонений при Борисе Годунове, а главный представитель этого рода в Смутное время, в пору общей шатости и малодушия, выказал необычайную твердость духа, отстаивал непоколебимо выгоды своего отечества, подобно Гермогену. Немудрено, что лишь только речь зашла о выборе царя, то большая часть выборных остановилась на юном сыне Филарета. Не миновать бы, конечно, ему самому престола, если бы он не был духовным лицом.
21 февраля все выборные собраны были на Красную площадь. Сплошная пестрая толпа наполняла ее. Именитые люди взошли на Лобное место. Но им не довелось и говорить к народу. Не успели они еще произнести вопроса, как раздался громкий крик всего собравшегося на площади люда:
— Михаил Федорович Романов будет царь-государь Московскому государству и всей Русской державе!
21 февраля 1613 года. На Лобном месте Красной площади стоят архиепископ Рязанский Феодорит со свитком, боярин В. П. Морозов, келарь Авраамий Палицын и другие. Собравшийся народ присягает новоизбранному царю Михаилу Федоровичу Из альбома «Об избрании на царство великого государя, царя и великого князя Михаила Федоровича, самодержца всероссийского»
Царствование Михаила Федоровича
Воцарение его и венчание на царство. Очищение Русской земли от внутренних врагов. Столбовский мир. Война с Польшей и Деулинское перемирие. Патриарх Филарет и его деятельность. Вторая война с Польшей. Азовское дело. Иноземцы в России. Последние годы царствования Михаила Федоровича
Воцарение его и венчание на царство
Великим и радостным днем для русского народа было 21 февраля 1613 года: в этот день кончилось на Руси «безгосударное» время. Три года длилось оно; три года лучшие русские люди изо всех сил выбивались, чтобы избавиться от врагов, спасти церковь, народ, родную землю от поругания, от окончательного распадения и разорения. Все шло врозь; всюду была шатость; одной сильной власти, которая все скрепляла бы, давала бы всему силу и определенный ход, не было. Казалось, все изверились в спасении родной земли. Уж лучшие русские люди готовились скрепя сердце на осиротелый московский престол посадить польского королевича; требовали только, чтоб он принял православие и чтоб исконной православной вере никакой порухи не было. За этим дело и стало. Не о православии, конечно, думал польский король — он хотел сам вместо сына прибрать к рукам Москву; но в это время нижегородское ополчение с Мининым и Пожарским во главе совершило свое великое дело — выбило поляков из Москвы. И здесь, в этом сердце Русской земли, 21 февраля 1613 года, когда бояре вышли на Красную площадь, чтобы с Лобного места спросить всех выборных и народ, наполнявший площадь, кого хотят они на царство, раздался единогласный крик:
— Михаил Федорович Романов будет царь-государь Московскому государству и всей Русской державе!
Итак, Русская земля нашла себе царя — царя своего, русского, православного, из боярского рода, не запятнанного никаким темным делом, блиставшего такими именами, как Анастасия, первая супруга Грозного, как митрополит Филарет, твердо, с полным самоотвержением стоявший в то время в польском стане за православие и выгоды родной земли. Найден был наконец такой царь, около которого могли теперь собраться разрозненные русские силы и спасти свою землю. Вот почему день избрания Михаила Федоровича на престол нужно считать великим событием в жизни русского народа.
М. Фаюстов Иван Сусанин
Москва присягнула новому царю. Во все города были посланы известительные грамоты, и снаряжено было от Земского собора большое посольство — торжественно, от всей Русской земли, пригласить избранника на царство.
Быстро разносилась из Москвы по всей Русской земле радостная весть о том, что кончилось «безгосударное» время. Надежды всех лучших русских людей теперь сосредоточились на юном народном избраннике, но в это время новое страшное горе чуть было не поразило их. Михаил Федорович, еще шестнадцатилетний юноша, жил тогда с матерью, инокиней Марфой, в родовом имении своем Домнине близ Костромы. Шайка поляков, которые в то время повсюду рыскали по Русской земле, пробралась в Костромской уезд, разыскивая Михаила Федоровича. Погубить его значило оказать величайшую услугу польскому королю, который считал московский престол уже своим. Поляки хватали встречных крестьян, разведывали у них дорогу, подвергали их пыткам, наконец дознались, что Михаил проживает в селе Домнине. Шайка уже подходила к селу. Тут попался полякам в руки домнинский крестьянин Иван Сусанин; они потребовали от него, чтобы он провел их в усадьбу Михаила Федоровича. Сусанин, конечно, сразу смекнул, зачем мог понадобиться врагам молодой его боярин, избранный на царский престол, и, недолго думая, взялся показать им дорогу. Тайком от них он послал своего зятя Богдана Сабинина в усадьбу известить о беде, грозящей Михаилу, а сам повел врагов совсем в противную сторону от Домнина. Долго вел он их разными лесными трущобами и глухими тропинками и вывел наконец в село Исупово. Здесь все дело объяснилось. Рассвирепевшие поляки в ярости сначала мучили Сусанина разными пытками, а затем изрубили его в мелкие куски. Михаил Федорович тем временем успел с матерью уехать в Кострому, где поселился в Ипатьевском монастыре; за крепкими стенами его они были безопасны от воровских шаек, ляхов и казаков.
Предание о доблестном подвиге Сусанина, который не задумался отдать свою жизнь за царя, свято хранится в народной памяти. (Достоверность этого подвига вполне подтверждается царской грамотой, где царь Михаил освобождает потомство Сусанина в награду за его самоотвержение от всяких повинностей и щедро наделяет землей.)
Б. Зворыкин Смерть Ивана Сусанина
Великое посольство от Земского собора 13 марта прибыло в Кострому. На другой день утром открылось величественное зрелище. Костромское духовенство с местной чудотворной иконой Богоматери двинулось при звоне всех колоколов, в сопровождении множества народа, из собора к Ипатьевской обители. С другой стороны сюда приближалось московское посольство с чудотворной иконой Владимирской Богоматери, с крестами и хоругвями. Во главе посольства были Феодорит, архиепископ Рязанский, Авраамий Палицын, келарь Троицкого монастыря, бояре Шереметев и князь Бахтеяров-Ростовский. Толпы народу теснились за ними. Раздалось священное пение. Михаил с матерью вышли из монастыря навстречу крестному ходу и смиренно пали на колени пред образами и крестами. Их просили идти в обитель, в главную Троицкую церковь, и выслушать прошение Земского собора. Тогда Михаил «с великим гневом и плачем» сказал, что он вовсе и не помышляет быть государем, а инокиня Марфа прибавила, что она «не благословит сына на царство». Оба, и сын и мать, долго не хотели войти за крестами в соборную церковь, насилу послам удалось умолить их; они пошли заливаясь слезами. Отслужили молебен. Тогда архиепископ Феодорит преклонился пред Михаилом и сказал ему приветствие от духовенства:
— Московского государства митрополит Кирилл Ростовский и Ярославский, архиепископы, епископы, архимандриты, игумены и весь освященный собор благословляют тебя, великого государя, царя и великого князя Михаила Федоровича, Бога о тебе молят и челом тебе бьют.
14 марта 1613 года. Михаил Федорович и его мать инокиня Марфа Ивановна встречают шествие церковною хода с московским посольством и костромским духовенством в селе Новоселки возле Ипатьевскою монастыря под Костромой Из альбома «Об избрании на царство великого государя, царя и великого князя Михаила Федоровича, самодержца всероссийского»
Затем боярин Шереметев произнес привет от всех мирян:
— Великий государь, царь и великий князь Михаил Феодорович всея России!
Твои, государь, бояре, окольничие, чашники, стольники, стряпчие, дворяне московские и приказные люди, дворяне из городов, жильцы, головы стрелецкие, сотники, атаманы, казаки и всякие служилые люди, гости, торговые люди Московского государства и всех городов всяких чинов люди велели тебе, государь, челом ударить и о твоем государевом здравии спросить.
После этого Феодорит стал читать соборное послание. Тут упоминалось о пресечении на престоле московском царского корня, о злодействах изменников и поляков, желавших «попрать веру греческого закона и учинить в России проклятую латинскую веру». «Наконец, — говорилось далее, — Москва очищена, церкви Божии облеклись в прежнюю лепоту, по-прежнему славится в них имя Божие; но о Московском государстве пещись и Божиими людьми промышлять некому: государя у нас нет». Затем Земский собор извещал Михаила о единодушном избрании его на царство, о клятве всех верой и правдой служить царю, биться за него до смерти, молил Михаила, да идет он на царство свое, и выражал пожелания, «да возвысит Бог десницу его; православная вера да будет нерушима в великом Русском царстве и сияет во всю вселенную, как под небом пресветлое солнце; а христиане да получат тишину, покой и благоденствие».
Боярин Шереметев и архиепископ Феодорит затем обратились к матери Михаила, сказали все, что было им приказано от собора, и умоляли «моленья и челобитья не презреть и идти с сыном на царский престол».
Но мать и сын и слышать не хотели об этом.
— Сыну моему не быть царем! — воскликнула Марфа. — Не благословлю его; в мысли у меня того не было и в разум мой прийти не могло!
— Не хочу царствовать, и могу ли быть наследником великих царей русских! — говорил Михаил.
14 марта 1613 года. Михаил Федорович и его мать, инокиня Марфа Ивановна, принимают от московскою посольства челобитные грамоты Земского собора об избрании его на царство у стен Костромского Ипатьевского монастыря Из альбома «Об избрании на царство великого государя, царя и великого князя Михаила Федоровича, самодержца всероссийского»
Долго и напрасно умоляли их послы. Марфа приводила и причины отказа; она говорила:
— Еще Михаил не в совершенных летах, а Московского государства всяких чинов люди по грехам измалодушествовались, дав свои души (то есть присягнув) прежним государям, не прямо служили.
Далее она упомянула об измене Годунову, об убиении Лжедмитрия, сведении с престола Василия Шуйского и выдаче его полякам; затем прибавила:
— Видя такие прежним государям крестопреступления, позор, убийства и поругания, как быть на Московском государстве даже и прирожденному государю государем? Да и потому еще нельзя: Московское государство от польских и литовских людей и непостоянством русских людей вконец разорено; прежние сокровища царские, из давних лет собранные, литовские люди вывезли; дворцовые села, черные волости, пригороды и посады розданы в поместья дворянам и детям боярским и запустошены, а служилые люди бедны; и кому Бог повелит быть царем, то чем ему служилых людей жаловать, свои государевы обиходы полнить и против недругов стоять?
Ксения Ивановна Романова (в монашестве инокиня Марфа)
Федор Никитич Романов (в монашестве Филарет)
Марфа, как видно, противилась избранию сына не для вида только и неспроста: она ясно понимала бедственное положение Русской земли и сознавала, как тяжко и опасно быть царем в такую пору; она боялась благословить сына на царство и вместе с тем на гибель. Кроме того, была и еще важная причина для отказа.
— Отец Михаила, Филарет, — прибавила Марфа, — теперь у короля в Литве в большом утеснении, и как сведает король, что на Московском государстве царем учинился сын его, то сейчас велит сделать над ним какое-нибудь зло, а Михаилу без благословения отца своего на Московском государстве никак быть нельзя!
Послы всячески уговаривали и мать, и сына, со слезами умоляли, челом били, чтобы соборного моленья и челобитья они не презрели, говорили, что его, Михаила, выбрали по изволению Божию, а прежние государи — царь Борис сел на государство своим хотением, изведши царский корень; вор Гришка-расстрига по своим делам от Бога месть принял; а царя Василия избрали на царство немногие люди…
— Все это делалось, — прибавили послы, — волею Божиею да всех православных христиан грехом. Во всех людях Московского государства была рознь и междоусобие, а теперь Московского государства люди наказались и пришли в соединение во всех городах… Всею землею избрали мы сына твоего, хотим за него головы класть и кровь лить. Не испытывай судеб Божиих, хоть и погибли Годуновы и Шуйский. Судьбами царей воля Божия действует; ей ли противиться? Не страшись и за государя нашего митрополита Филарета: мы послали уже в Польшу и отдаем за выкуп его всех пленных поляков.
Г. Угрюмов Призвание на царство Михаила Федоровича Романова 14 марта 1613 года
Около шести часов умоляли послы непреклонную инокиню благословить сына. Духовенство с образами приблизилось к ней; послы, воины, народ поверглись пред ней на колени. Все напрасно… Она стояла, обнимая своего сына, обливая его слезами…
— Сие ли угодно вам, — заговорил наконец в горести Феодорит, — нас, бедных, не пощадить и сирых оставить? И окрестные государи, и недруги, и изменники порадуются, что мы сиры и безгосударны, и святая наша вера в попрании и разорении от них будет, а мы все, православные христиане, в расхищении и пленении будем, и святым Божиим церквам будет осквернение, а многочеловечный, многособранный народ в безгосударное время погибнет, и междоусобная брань снова воздвигнется, и неповинная христианская кровь прольется… Все сие, все взыщет Бог в день Страшного и праведного суда на вас — на тебе, великой старице инокине Марфе Ивановне, и на тебе, великом государе нашем Михаиле Феодоровиче. А у нас о том, у всех всего великого Российского царствия городов, от мала и до велика, крепкий и единомысленный совет положен и крестным целованием утвержден, что мимо государя нашего Михаила Феодоровича на Московское государство иного никого не хотеть и не мыслить о том!..
А. Кившенко Призвание на царство Романовых
2 мая 1613 года. Освященный собор, московские горожане и прибывший народ всех сословий торжественно встречают новоизбранною царя Михаила Федоровича и государыню, великую старицу Марфу Ивановну у Сретенских ворот Из альбома «Об избрании на царство великого государя, царя и великого князя Михаила Федоровича, самодержца всероссийского»
3 мая 1613 года. Шествие высшею духовенства, царя Михаила Федоровича, бояр, дворян и горожан по территории Московского Кремля в Успенский собор для совершения в нем торжественного молебна Из альбома «Об избрании на царство великого государя, царя и великого князя Михаила Федоровича, самодержца всероссийского»
Торжественный голос архипастыря и указание на тяжкую ответственность за отказ пред Богом и родной землей устрашили Марфу, сломили ее непреклонность; она, обливаясь слезами, упала пред святыми иконами и согласилась…
— А ще на то будет воля Божия, — сказала она, — буди тако!
Феодорит благословил Михаила; на него возложили наперсный крест, вручили ему царский посох. Отслужили литургию; запели благодарственный молебен и провозгласили многолетие царю Михаилу. Затем он, сидя на троне, стал принимать поздравления. Звон колоколов, радостные крики народа оглашали воздух…
Накануне Благовещения (24 марта) в Москве была получена от посольства радостная весть. На другой день с раннего утра Кремль наполнился народом. В Успенском соборе прочтено было извещение из Костромы, отслужен благодарственный молебен и провозглашено многолетие царю. Этот день был великим праздником для всей Москвы.
11 июля 1613 года. Золотая теремная палата Московского Кремля. Бояре, окольничьи и думные люди ожидают выхода царя Из альбома «Об избрании на царство великого государя, царя и великого князя Михаила Федоровича, самодержца всероссийского»
11 июля 1613 года. Торжественная процессия с царскими регалиями и шествие царя Михаила Федоровича в сопровождении бояр и дворян из Золотой палаты в Успенский собор на венчание Из альбома «Об избрании на царство великого государя, царя и великого князя Михаила Федоровича, самодержца всероссийского»
19 марта царь, в сопровождении духовенства, всего посольства, разного звания людей, съехавшихся в Кострому, предшествуемый святыми иконами, двинулся в Москву. Мать следовала за ним. Народ повсюду выбегал навстречу царю с хлебом и солью; духовенство встречало его с иконами и крестами. Когда он подъезжал к Ярославлю, весь город вышел ему навстречу. Путь от Ярославля до Москвы длился более двух недель. Царь, по русскому благочестивому обычаю, останавливался в городах, лежавших на дороге — Ростове и Переяславле, — для поклонения святым мощам, посещал монастыри. Торжественное шествие Михаила в Москву было радостным и скорбным в то же время: радовался народ, выходивший толпами навстречу своему государю, радовался и юный царь радости своего народа. Но повсюду на пути кидались в глаза нищета и разорение; беспрестанно приходили к царю с жалобами люди изувеченные, измученные, ограбленные воровскими шайками. Самому царю приходилось на каждом шагу терпеть лишения. В ответ на просьбу бояр скорее ехать в Москву он писал:
«Идем медленно затем, что подвод мало и служилые люди худы: стрельцы, казаки и дворовые люди многие идут пеши».
На требование царя приготовить ему и матери к их приезду хоромы в Кремле бояре отвечали, что приготовили для государя комнаты царя Ивана да Грановитую палату, а для матери его — хоромы в Вознесенском монастыре. «Тех же хором, что государь приказал приготовить, скоро отстроить нельзя, да и нечем: денег в казне нет, и плотников мало; палаты и хоромы все без кровли; лавок, дверей и окошек нет; надо делать все новое, а лесу пригодного скоро не добыть».
11 июля 1613 года. Торжественное шествие царя из Золотой палаты Московского Кремля к южным дверям Успенскою собора. Протопоп Кирилл окропляет царский путь святой водой Из альбома «Об избрании на царство великого государя, царя и великого князя Михаила Федоровича, самодержца всероссийского»
11 июля 1613 года. Венчание на царство. Митрополит Ефрем в царских вратах Успенскою собора миропомазует нововенчанного царя Михаила Федоровича Из альбома «Об избрании на царство великого государя, царя и великого князя Михаила Федоровича, самодержца всероссийского»
Путь царя от Троицкой обители в Москву представлял трогательное зрелище: москвичи ехали, шли, бежали толпами навстречу государю, приветствовали его восторженными криками, а близ Москвы духовенство с хоругвями, с иконами и крестами и все бояре вышли навстречу. Улицы были запружены народом; многие от умиления плакали, другие громко благословляли царя. Помолившись в Успенском соборе, Михаил пошел в свои палаты. Марфа благословила его и удалилась к себе в Вознесенский монастырь.
11 июля происходило царское венчание. Михаилу в этот день исполнилось семнадцать лет. Перед тем как идти в Успенский собор, государь сидел в Золотой палате. Тут он наградил боярским саном доблестного князя Дмитрия Михайловича Пожарского и своего родича князя Черкасского. (А на следующий день, в царские именины, Козьма Минин пожалован был в думные дворяне.) Начались было споры между боярами о том, кому какое место занимать при царском венчании, но царь объявил, чтобы на это время всем быть во всяких чинах без мест.
Обряд царского венчания совершало старейшее из духовных лиц — митрополит Казанский Ефрем, так как после кончины патриарха Гермогена не был избран еще преемник ему.
К царю в палату принесли «царский сан, или чин» (то есть принадлежности царского облачения: крест, корону, скипетр, державу и прочее). Государь приложился к кресту Затем при звоне всех колоколов «царский сан» на золотых блюдах понесли в собор. Царский духовник благоговейно нес на голове блюдо с животворящим крестом, боярин князь Дмитрий Михайлович Пожарский нес скипетр, царский казначей — державу, а корону, шапку Мономаха, — царский дядя Иван Никитич Романов. В соборе все было благоговейно положено на богато убранный стол (налой) пред царскими вратами.
Когда было все готово, царь в сопровождении многих бояр и стольников отправился в храм. Стрельцы, поставленные в два ряда, ограждали царский путь. Впереди всех шел священник и кропил путь святой водой. Царь вступил в собор, пол которого был устлан бархатом и парчами. Посреди церкви был устроен помост (чертожное место) о двенадцати ступеньках, обитых красным сукном; на нем были поставлены престол для царя и стул для митрополита. В собор был допущен народ. Окольничие и стольники устанавливали пришедших и увещевали их «стоять с молчанием, кротостью и вниманием».
11, 12,13 июля 1613 года. Пир в Грановитой палате Московского Кремля по случаю венчания на царство Михаила Федоровича Из альбома «Об избрании на царство великого государя, царя и великого князя Михаила Федоровича, самодержца всероссийского»
По приходе царя в собор ему пропели многолетие. Царь молился пред образами и прикладывался к ним. Начался молебен. Затем митрополит Ефрем возвел царя на «великое место», то есть на помост к трону. Водворилась полнейшая тишина, и Михаил, стоя у трона, держал речь к митрополиту. Упомянув о том, что царь Федор «бесчаден» оставил царство, что избранные после того цари скончались, а Василий от царства отказался, о том, что его, Михаила, избрали в цари всем собором Русской земли, царь закончил свою речь следующими словами:
— По Божией милости и по данной вам благодати Святого Духа и по вашему и всяких чинов Московского государства избранию, богомольцы наши, благословите и венчайте нас на наши великие государства царским венцом по прежнему царскому чину и достоянию.
С. Ягужинский Царь и великий князь Михаил Федорович Романов
В ответ на эти слова митрополит напомнил о бедствиях Русской земли в «безгосударное» время, об избавлении ее от врагов, об избрании Михаила Федоровича и молил Бога, да умножит Он лета царя, покорит ему всех врагов, вселит в сердце царя страх Свой и милость к послушным, чтобы судил он людей своих праведно и прочее; в заключение митрополит сказал:
— Прими же, государь, превысочайшую честь и вышехвальную славу, венец царствия на главу свою, венец, который взыскал от древних лет прародитель твой, Владимир Мономах. Да процветет нам от вашего царского, прекрасно цветущего корня прекрасная ветвь в надежду и в наследие всем великим государствам Российского царства!
Сказав это, митрополит возложил крест на царя и, держа руки на его голове, прочел молитву; затем надел на него бармы (оплечья) и царский венец. Царь сел после этого на трон, и митрополит подал ему в правую руку скипетр, а в левую — державу. Провозглашено было многолетие «боговенчанному поставленному государю». Духовные сановники и бояре кланялись царю «ниже пояса» и поздравляли его. Митрополит сказал царю поучение.
— Не приемли, государь, — говорил между прочим архипастырь, — языка льстива и слуха суетна, не верь злому, не слушай оболгателя… Подобает тебе мудрым быть или мудрым последовать, на них же, яко на престоле, Бог почивает. Не блага мира сего, но добродетель украшает царей. Не презирай низших тебя: над самим тобою есть Царь, и если Он о всех печется, ты ли о ком не радеть будешь?! Возмогай же, государь, возмогай, да когда придет час суда твоего, ты возможешь стать безбоязненно пред Господом и сказать: «Се я, Господи, и люди Твои, которые Ты дал мне», — сказать и услышать глас Царя и Бога твоего: «Благий рабе, царю российский Михаиле, вмале ты был мне верен, над многим поставлю тебя!»
Затем митрополит благословил царя животворящим крестом и громко молился: «Да умножит Господь лета царствия царя Михаила; да узрит он сыны сынов своих; да возвысится десница его над врагами и устроится царство его и потомство его мирно и вечно!»
В полном царском облачении Михаил слушал затем литургию, во время которой митрополит совершил над ним миропомазание; затем причастил его и поднес просфору. После обедни царь пригласил митрополита и всех духовных, бывших в церкви, к себе, «хлеба ести».
Затем «боговенчанный царь» во всем своем блистающем облачении заходил в Архангельский собор поклониться гробницам прежних царей. При выходе царя из соборов и на площадке дворцовой лестницы, по принятому обычаю, его осыпали золотыми и серебряными деньгами.
В этот день в государевых палатах был богатый пир. Колокольный звон гудел во всех церквах, веселье и народная гульба длились три дня.
Особенных милостей и льгот народу при вступлении на престол Михаил Федорович не мог дать: казна была пуста.
Очищение русской земли от внутренних врагов ее
Такого плачевного положения, в каком застал Русскую землю юный Михаил, вступая на престол, не терпела она со времен первых татарских погромов. Враги беспощадно терзали ее и по окраинам, и внутри.
На западе шла война с поляками и шведами; в руках их было уже немало русских земель. Польша все еще надеялась посадить своего королевича на русский престол; шведский король прочил на него своего брата; на юго-востоке казацкая вольница, волнуемая Заруцким, провозглашала царем маленького сына Марины. (Даже одно время германский император пытался, нельзя ли своего брата как-нибудь пристроить на московский престол.) Врагов у Михаила и соперников было вдоволь, а средств для борьбы с ними и союзников — никаких.
Внутри государства повсюду рыскали шайки лихих людей, разбойников, казаков, которые грабили все, что попадалось им под руку, выжигали деревни, беспощадно мучили, увечили и убивали жителей, вымогая у них последние крохи уцелевшего достояния. На местах прежних поселков встречались только пепелища; множество городов было выжжено дотла; Москва лежала в развалинах. Бесчисленные шайки разбойников были настоящей язвой Русской земли: не только сельчан, но и горожан держали они в постоянной тревоге, в томительном страхе. Промыслы и торговля совсем упали. Крестьяне во многих местах не могли даже собрать хлеба с полей и умирали от голода. Крайняя, безысходная нищета давила народ. Одни теряли всякую бодрость, опускались, обращались в бродяг, нищих, ходили побираться по миру; другие начинали промышлять воровством, лихим делом, приставали к разбойничьим шайкам. Служилые люди и бояре тоже совсем обнищали. Обеднели они и духом. В Смутное время, при вечной тревоге, шатости, насилиях, беззаконии и смене правительств, люди все больше и больше теряли чувства справедливости и чести, привыкали заботиться только о самих себе, мельчали духом, «измалодушествовались», как метко выразилась инокиня Марфа. Трудно было правительству найти хороших, честных помощников: должностные лица бессовестно пользовались своей властью, теснили подчиненных, вымогали подачки, высасывали последние соки из народа.
Палата бояр Романовых
Юного царя, который нуждался в опытных и честных советниках и руководителях, к сожалению, окружили люди лживые и корыстолюбивые; особенной силой из них пользовались Салтыковы, родичи матери царя. Царь был добр и разумен, но особенной склонности к управлению не выказывал, да и был еще в ту пору слишком молод. Приближенные его могли довольно свободно действовать его именем. Любопытно замечание одного иностранца о положении России того времени:
«Царь (русский) подобен солнцу, часть которого покрыта облаками, так что земля московская не может получить ни теплоты, ни света… Все приближенные царя — несведущие юноши; ловкие дельцы приказные — алчные волки, все без различия грабят и разоряют народ. Никто не доводит правды до царя; к нему нет доступа без больших издержек; прошения нельзя подать в приказ без огромных денег; и тогда еще неизвестно, чем кончится дело: будет ли оно задержано или пущено в ход».
Конечно, иностранец представляет дело слишком мрачно, преувеличивает зло, но все же оно было велико, если так бросалось в глаза даже и постороннему наблюдателю.
Несмотря на молодость и неопытность царя, несмотря на недостатки лиц, управлявших его именем, Михаил Федорович был как царь силен — силен любовью народной. Народ видел в царе оплот против страшного безначалия и смуты, а царь видел в народе, возведшем его на престол, твердую опору для себя. Связь между царем и народом была крепка; в этом заключались и сила, и спасение Русской земли. Михаил и его советники это вполне понимали и в самых важных делах призывали на совет в земскую думу выборных всей земли.
Денег, денег и денег — вот чего требовали прежде всего от московского правительства со всех сторон. Война поглощала страшно много средств. Только что вступил на престол царь, как к нему посыпались отовсюду просьбы, жалобы, мольбы, особенно от служилых людей. Одни просили помощи, выставляя на вид, что они проливали кровь за Московское государство, а поместья и вотчины их вконец разорены, запустели, никаких доходов не дают; что у них ни платья, ни оружия нет и службу государеву не на что править. Другие требовали денег, хлеба, сукна и прямо заявляли, что нищета вынудит их грабить по большим дорогам. Некоторые служилые казаки, не получая жалованья, действительно отбивались от царской службы и шли воровать и разбойничать.
От царя и от собора повсюду рассылались указы — собирать как можно скорее и вернее всякие подати, пошлины и недоимки. Правительство умоляло всех зажиточных людей в городах и монастырях дать взаймы казне все, что могут: денег, хлеба, сукна и всяких других запасов. Сам царь писал богатым купцам Строгановым, упрашивал их кроме податей и пошлин дать взаймы, «для христианского покою и тишины, денег, хлеба, рыбы, соли, сукон и всяких товаров, что можно дать ратным людям». Духовенство от имени всего собора тоже умоляло Строгановых помочь казне.
Ф. Солнцев Чарка царя Василия Ивановича Шуйскою (вверху). Чарка царя Михаила Федоровича (внизу)
«Ратные люди, — говорится в грамоте от духовенства, — великому государю бьют челом беспрестанно, а к нам, царским богомольцам и к боярам, приходят с великим шумом и плачем каждый день, что они от многих служб и от разоренья польских и литовских людей бедны и служить не могут; на службе им есть нечего, и потому многие из них по дорогам ездят, от бедности грабят, побивают, а унять их никакими мерами, не пожаловав, нельзя; если только им не будет царского денежного и хлебного жалованья, то все они от бедности поневоле станут воровать и грабить, разбивать и побивать…»
Надо было во что бы то ни стало собрать казну, но как собрать? Не только народ был в нищете, но и торговые люди, и монастыри жаловались на разоренье от литовских людей, просили всяких милостей и льгот. Даже иностранные купцы, и те плакались на разоренье и тоже просили льгот, и правительство, чтобы усилить торговлю, исполняло их просьбы. Сборщики податей под видом казенных поборов нередко брали лихву, притесняли темный народ, грабили еще пуще воровских шаек, злобили его. В иных отдаленных от Москвы городах выказывалось даже явное сопротивление сборщикам. На Белоозере, например, посадские люди не хотели платить податей, и когда воеводы велели поставить их на правеж, они начали звонить в набат и хотели воевод побить. После таких случаев сборщикам пришлось ходить по селениям с вооруженными отрядами.
А. Рябушкин Сидение царя Михаила Федоровича с боярами в его государевой комнате
В довершение всего ногаи в это время переправились через Оку и опустошили многие земли. Из Рязани архиепископ, духовенство, дворяне и дети боярские били челом царю: «Начали приходить татары часто и досталь домишки наши выжгли, людишек и крестьянишек наших остальных перехватали и самих многих нашу братию… взяли и побили…»
В это же время пришла весть из Казани, что там замышлял поднять служилых людей против Михаила воевода Шульгин. Его успели вовремя схватить и сослали в Сибирь.
Вот в каком печальном положении было московское правительство, когда со всех сторон, извне и изнутри, грозила беда государству.
Первые шесть лет царствования Михаила пришлось напрягать все силы на борьбу с внешними и внутренними врагами. К счастью, поляки вели войну довольно вяло, нерешительно. Благодаря этому русским удалось управиться с внутренними врагами.
Заруцкий всеми способами старался поднять на Москву казацкую вольницу на Дону, Волге и Яике (Урале); он хотел посадить на престол малолетнего Ивана, сына Марины, и его именем управлять государством. Против Заруцкого выслана была царская рать под начальством князя Одоевского. Из Москвы отправлены были казакам на Дон и Волгу увещательные грамоты от царя, от духовенства и бояр, посылалось и жалованье деньгами, сукном, вином, чтобы казаки, «видя к себе царскую милость, великому государю служили и на изменников стояли». Отправлены были две грамоты, от царя и духовенства, даже самому Заруцкому: царь обещал ему помилование в случае покорности; духовенство грозило проклятием за ослушание царской грамоте. Эти меры не действовали. Заруцкий засел в Астрахани, завел сношение с Персией, прося помощи, но своими жестокостями и неправдами он возбудил против себя астраханцев. Между казаками тоже было много недоброхотов «вору с ворухою и воренком», как называли Заруцкого с Мариной и ее сыном их недруги. Когда стрелецкий голова Хохлов с небольшим отрядом подступил к Астрахани, Заруцкий бежал вверх по Волге. Хохлов нагнал его и разбил; не удалось ему спастись даже и бегством: через несколько дней он попался в руки отряда, посланного вдогонку (25 июня 1614 года). Пленников с большим конвоем отправили в Москву. Заруцкого и сына Марины казнили смертью, а Марина была посажена в тюрьму, где и умерла. Кое-как удалось успокоить Астрахань и юго-восточный край.
Больших усилий стоила борьба с воровскими шайками, терзавшими повсюду Русскую землю; почти ни одной области не было, которая не страдала бы от них. Таких мук, какие терпела тогда Русская земля, по словам летописца, не бывало и в древние времена. Беспрерывно шли от воевод ужасные вести в Москву. «Крестьян жженых видели мы, — доносили из одного места, — больше семидесяти человек да мертвых больше сорока мужиков и женок, которые померли от мученья и пыток, кроме замерзших…» «Пришли к нам в уезд воры-казаки, — писал из другого места воевода к царю, — православных христиан побивают и жгут, разными муками мучают, денежных доходов и хлебных запасов собирать не дают…»
Ф. Солнцев Скипетр царя Михаила Федоровича
Сам царь, со слов воевод, жалуется, что «собранную денежную казну в Москву от воровства их (разбойников) провезти нельзя».
Действия этих воровских шаек доходили часто до возмутительного зверства. Одичалые и освирепевшие среди постоянных разбоев и душегубства злодеи нередко тешились мучением своих жертв: у иных из разбойников было обычной забавой набивать людям рот, уши, нос порохом и зажигать…
Разбойничьи шайки были часто очень многочисленны; так, например, ватага, что разбойничала на севере, около Архангельска и Холмогор, была до 7000 человек. Воеводы из этих мест доносили царю, что во всем краю, по реке Онеге и Ваге, церкви Божии поруганы, скот выбит, деревни выжжены. На Онеге насчитали 2325 трупов замученных людей, и некому было похоронить их; множество было изуродованных; многие жители разбежались по лесам и перемерзли. С такими громадными разбойничьими шайками правительству приходилось вести настоящую войну, и притом очень трудную: разбойники, конечно, избегали настоящего боя и встречи с воинскими отрядами, нападали невзначай. Пограбят, пожгут, перебьют народ в одном селе и исчезнут; явятся ратные люди на место погрома — а злодеи свирепствуют уже за десятки верст от них. Ратные люди спешат туда — а там только избы догорают да валяются трупы перебитых людей, а те, которые спаслись, со страху разбежались, по лесам прячутся, и спросить не у кого, в какую сторону пошли злодеи, сиди да жди новых вестей. Нелегко было осилить бесчисленные бродячие воровские шайки, но еще труднее было изловить их на широком просторе Русской земли, в ее дремучих лесах.
В это же время в Вологде свирепствовал сибирский царевич Араслан — грабил жителей, мучил их и беспощадно вешал.
В Казанском крае поднялись черемисы и татары, переняли дорогу меж Нижним и Казанью, захватывали людей в плен.
В сентябре 1614 года на Земском соборе обсуждали, как прекратить все эти беды. Попробовали действовать уговором — обещали прощение и даже царское жалованье тем, которые отстанут от воров и пойдут на царскую службу против шведов, а крепостным людям, если они раскаются, обещали свободу. Немногие поддавались обещаниям и шли на службу, да и то иные только по виду каялись, а потом при случае снова начинали воровать. Тогда царь приказал боярину Лыкову «промышлять над казаками» ратной силой. Лыкову удалось во многих местах разбить их шайки.
Огромное скопище воровских казаков двинулось под предводительством атамана Баловня к Москве. Они выставляли на вид, что идут бить челом царю и хотят служить ему, но умысел был у них другой: они задумали, как видно, произвести большой грабеж под самой столицей, где было тогда мало ратной силы. Когда начали им делать перепись, а к Москве подошла рать и стала близ воровского скопища, оно обратилось в бегство. Воеводы Лыков и Измайлов преследовали воров, несколько раз побивали, наконец в Малоярославском уезде на реке Луже настигли главную толпу и окончательно разбили ее. Многих убили, а 3256 человек, которые умоляли о помиловании, привели в Москву. Всех их простили и послали на службу, только Баловня повесили. Таким образом, кое-как управились с большими скопищами разбойников, но все-таки государство долго не могло успокоиться и беспрестанно слышались с разных концов его жалобы на грабежи и воровство.
Ф. Солнцев Шапка царя Михаила Федоровича
Кроме татар, черемисов и разбойничьих казацких шаек, приходилось в это время справляться с летучими отрядами Лисовского. Этот смелый наездник начал свои набеги на русские области, как известно, при втором самозванце. Он набрал себе ватагу лихих головорезов, более всего из польских и литовских шляхтичей, и скоро прославился своими смелыми наездами. Его конные отряды, быстро переносясь с места на место, наводили ужас на всю область, где появлялись. Угнаться за «лисовчиками», как звали их, не было возможности: они делали в день переходы во сто и более верст, коней не жалели — усталых и заморенных кидали на пути, хватали по встречным деревням и усадьбам свежих и неслись дальше, оставляя на пути лишь пепелища ограбленных и выжженных деревень и городов. Бесчеловечной жестокости творили они не меньше, чем воровские шайки. Знаменитый Пожарский, которого отрядили против Лисовского, гонялся за ним сначала в северской земле, долго и безуспешно, наконец встретился с ним под Орлом; но решительной битвы тут не произошло. Лисовский отступил под Кромы; Пожарский — за ним; Лисовский — к Волхову, потом — к Белеву, к Лихвину, с необычайной быстротой переносился от города к городу, нападая невзначай, истребляя все на пути. Пожарский, утомившись беспрерывной погоней и тревогой, заболел в Калуге. Пользуясь этим, Лисовский пронесся по русским областям на север, прорвался между Ярославлем и Костромой, стал громить окрестности Суздаля, натворил бед в Рязанской области, прошел между Тулой и Серпуховом. Тщетно гонялись за ним царские воеводы; только под Алексином встретило его царское войско, но большого вреда ему не причинило.
Много бед натворил бы еще Лисовский на Русской земле, но в следующем году он нечаянно упал с коня и лишился жизни. Хотя «лисовчики» продолжали свои набеги, но таких смелых и губительных налетов, как при Лисовском, уже не было. Не меньше беды Русской земле причиняли днепровские казаки, черкасы, как их называли в Москве: они тоже отдельными ватагами заезжали даже на дальний север и разбойничали не хуже «лисовчиков» и других воровских шаек.
Правительство крайне затруднялось, где взять денег на продолжение борьбы с врагами, на очищение земли от воров. К воеводам посылался из Москвы приказ за приказом собирать во что бы то ни стало положенные сборы с каждого двора по городам, с каждой сохи по волостям… Но что было взять с обнищалого народа?.. Воеводы и приказные люди прибегали к правежу, мучили народ; в иных местах сборщикам приходилось водить за собой ратных людей, чтобы подавлять сопротивление. Но, несмотря на все меры, чаще всего приходилось воеводам доносить в Москву, что с их городов и волостей нечего взять.
В 1616 году был созван Земский собор. Велено было выбрать лучших уездных посадских и волостных людей для «великого государева земского дела на совет». Здесь было постановлено взять со всех торговых людей пятую деньгу с имущества (то есть пятую часть его), а с волостей — по 120 рублей с сохи; со Строгановых, сверх положенного, взять еще 40 тысяч рублей.
«Не пожалейте, — писал сам царь Строгановым, — хоть и себя приведете в скудость. Рассудите сами: если от польских и литовских людей будет конечное разорение Российскому государству и нашей истинной вере, то в те поры и у вас, и у всех православных христиан животов и домов совсем не будет».
Правительство думало было усилить доходы государства казенной продажей спиртных напитков, приказывало повсюду строить кабаки, курить вино, запрещая продавать его посадским и служилым людям, но при крайней бедности народа это не только не увеличило доходов, а вредило им: народ пропивал последние гроши и еще менее мог платить прямые налоги. Стесненное до крайности в денежных средствах, московское правительство обращалось даже к иностранным государствам — Англии и Голландии — с просьбой ссудить его деньгами.
Столбовский мир
При таких обстоятельствах невозможно было дольше тянуть войну с двумя государствами; приходилось во что бы то ни стало позаботиться о мире.
В это время Новгород, Иван-город, Копорье, Ям, Ладога, Порхов, Старая Руса были уже в руках шведов. Еще до избрания Михаила на царство новгородцы присягнули королевичу Филиппу, которого шведский король замышлял посадить на московский престол. Новгородцы теперь не знали, что и делать. Шведы думали вместе с другими русскими городами, попавшими в их руки, присоединить к своим владениям и Новгород; новгородцы противились этому. На беду, русское оружие терпело постоянные неудачи. Делагарди под Бронницами разбил князя Трубецкого, шедшего со значительным войском к Новгороду. Сам шведский король Густав Адольф взял приступом Гдов.
И. Ведекинд Портрет царя Михаила Федоровича
Несмотря на свои успехи, король понимал, что дело его брата Филиппа проиграно, и рассчитывал только, пользуясь затруднительным положением России, отобрать у нее приморские области и отрезать ее от Балтийского моря. Дальновидный Густав предвидел, что русские, владея Балтийским побережьем, станут со временем очень опасными для Швеции. Теперь в его руках было уже столько Русской земли, что он мог вполне надеяться на выгодный для Швеции мир с Россией, и обратился с просьбой посодействовать заключению мира к английскому королю Иакову I. К нему же еще раньше (в 1613 году) посылал Михаил Федорович послов с просьбой помочь России против шведов — снабдить оружием, запасами и деньгами. Английское правительство очень желало услужить русскому царю, рассчитывая добиться от него важных льгот для своей торговли. Московского посланника с его товарищами приняли в Англии очень радушно. Король, как доносили потом русские послы, при торжественном их приеме заверил, что он будет с царем Михаилом вести дружбу «свыше прежних королей», требовал, чтобы они в его присутствии надели шапки, что считалось великой честью, причем сам король и королевич шляп на себя не надевали.
Русские послы, видя такую великую честь, отвечали:
— Видим к великому государю нашему твою братскую любовь и крепкую дружбу, слышим речи ваши государские — великого государя нашего царское имя славится, а ваши королевские очи близко видим, и нам, холопам, в такое время как на себя шапки надеть?
Ф. Солнцев Блюдо царя Михаила Федоровича
В августе 1614 года в Москву приехал уже известный здесь Джон Мерик. Он обнадежил русское правительство, что Иаков поможет ему заключить мир со Швецией, и затем от имени своего короля просил открыть англичанам свободный путь Волгою в Персию для торговли и позволить ездить рекою Обью в Индию.
— Мы думаем, — говорил он, — что дорога в Индию Обью-рекою отыщется и станут английские и русские люди в Индию ходить, и такие прибыли царской казне будут, каких прежде не бывало!
Затем Мерик просил о дозволении англичанам завести разные промыслы в русских владениях.
Бояре отвечали ему, что прежде всего надо покончить «свейское (шведское) дело», а потом уже разберут эти просьбы. Мерик поехал в Новгород для переговоров.
Война со Швецией тогда была во всем разгаре. Густав Адольф задумал новым ударом побудить Россию к возможно большим уступкам и осадил Псков (30 июля 1615 года). Не раз этот город доблестно отражал от своих стен врагов; постоял он и теперь за свою славу. Защиту вели бояре Морозов и Бутурлин. Первая сшибка под стенами Пскова была совсем неудачна для шведов: на вылазке русские много их побили, в том числе убили и одного из главных их начальников. Шведы принялись копать рвы, ставить туры, соорудили вокруг Пскова более десяти земляных городков (батарей), поставили пушки и три дня громили город простыми и калеными ядрами, но Псков и не думал сдаваться. Тогда шведы решились взять город приступом. Приступ не удался. Уже третий месяц стояли враги под городом, а конца осады и не предвиделось. Очень это сердило Густава Адольфа, который в то время считался лучшим полководцем в Европе, но делать было нечего: пришлось подумать о мире, чтобы не затягивать снова войны на долгое время.
Переговоры начались в сельце Дедерино при посредстве Джона Мерика.
Приехали сюда и голландские послы помочь заключению мира. Любопытен рассказ одного из них об ужасном состоянии края, по которому пришлось им ехать. На всем пути от Новгорода до Старой Русы и дальше до Дедерина представлялась огромная снежная пустыня, только изредка попадались опустошенные деревни.
В избах валялись непогребенные тела… Когда голландцы думали расположиться на ночлег в избе и обогреться от холода, то должны были сначала вытаскивать трупы, но невыносимый смрад выгонял путешественников из жилья, и они принуждены были ночевать на морозе и зажигать избы, чтобы хоть сколько-нибудь обогреться и обсохнуть. Волки бродили стаями. В лесах ютились воровские шайки. Старая Руса, прежде довольно многолюдный город, представляла груду развалин…
Совещания в Дедерине происходили в шатре, среди поля, на снегу, потому что в селе не нашлось достаточно просторной избы. Уже раньше начались письменные пререкания между русскими и шведами о титулах и укоры за то, что шведы не воздавали должной чести Михаилу Федоровичу. В Дедерине (с 4 января 1616 года) продолжались эти споры. Уполномоченный со стороны Швеции, известный Яков Делагарди, указывал на свои заслуги перед Россией в Смутную пору и жаловался, что Василий Иванович Шуйский не выплатил шведам положенной платы. Русский посол князь Мезецкий в свою очередь умалял заслуги шведов, корил даже Якова Делагарди в измене, а тот напомнил, что русские всяких чинов люди крест королевичу (Карлу Филиппу) целовали, и прибавил:
— Вам бы королевича на Московское государство принять!
Ф. Солнцев Тесак царя Михаила Федоровича
На это Мезецкий с негодованием отвечал:
— Что ты за бездельное дело затеваешь? Мы королевича не хотим… Если вперед станете об этом говорить, то мы и слушать не хотим.
Русские послы даже встали в сердцах и хотели уходить, когда Делагарди снова заговорил было о Филиппе. Насилу посредникам удалось успокоить их.
На следующий день съехались у Мерика и приступили к делу — к вопросу, какие города шведы должны вернуть России. Опять начались споры, «бездельные речи» и «негожие слова», как выражались русские о неумеренных требованиях шведов. Русские послы в свою очередь выводили из терпения своих противников, требуя от короля не только Новгород, но и Лифляндию, «отчины великих государей российских». Шведы хотели было в свою очередь прервать переговоры и уйти. Посредники уговорили их остаться.
— Ливонских городов вам за государем своим не видать, как ушей своих! — в досаде воскликнули шведы.
— Вы так говорите, — отвечали русские, — не думая о Боге, а мы, прося у Бога милости, будем доискиваться своего. Не отдадите без крови — отдадите с кровью!
Много раз съезжались, спорили, торговались, перебранивались русские послы со шведскими… Дело затянулось до половины февраля; начиналась весенняя распутица. Наконец порешили заключить перемирие с 22 февраля по 31 мая, а там снова съехаться и договориться обо всем окончательно.
А. Васнецов Москва в середине XVII века
По истечении срока, после долгой переписки, съехались шведские и русские послы в селе Столбове, меж Ладогой и Тихвином, и начались снова переговоры при посредстве Мерика. Много стоило хлопот «князю Ивану Ульяновичу», как величали его русские, улаживать дело. Переговоры в те времена были настоящей словесной войной: противники старались прежде всего ошеломить друг друга непомерным запросом, затем с большим трудом делали сбавки, стараясь всеми силами перелукавить противную сторону, причем всячески корились и ссорились. Проспорили в Столбове почти два месяца; наконец 27 февраля 1617 года подписан был договор вечного мира. Шведы обязались возвратить русским Новгород, Старую Русу, Порхов, Ладогу с их уездами и Сумерскую волость, а русские уступали шведам побережье Финского залива (Ингрию) с городами: Иван-город, Ям, Копорье; кроме того, город Орешек при истоках Невы и область Корелу, да сверх того обязались уплатить 20 тысяч рублей деньгами.
14 марта русские послы торжественно вступили в Новгород с чудотворной иконой Богоматери из Хутынского монастыря. Митрополит Новгородский со всеми жителями встречал послов как избавителей от иноземной власти; народ громко плакал от радости. Город представлял печальное зрелище: на каждом шагу видны были остатки погоревших домов; жителей оставалось немного; голод и болезни свирепствовали и в городе, и во всей области…
В Москве очень радовались заключению Столбовского мира: большая часть русских земель, завоеванных шведами, была все-таки возвращена и развязывались руки для борьбы с Польшей. Но зато уступленные шведам земли были очень тяжелой утратой: Россия опять лишилась берегов Балтийского моря, которых так настойчиво добивался Иван Грозный и которые так необходимы ей были для сношения с Западом.
Шведам, конечно, было больше чему радоваться: Густав Адольф вполне понимал, как важно для Швеции отнять у своего ослабленного соседа балтийские берега. На сейме 1617 года он говорил о Столбовском мире:
— Великое благодеяние оказал Бог Швеции тем, что русские, с которыми мы исстари жили в сомнительных отношениях, теперь навеки должны покинуть гнездо, из которого прежде так часто нас тревожили. Русские — опасные соседи: границы земли их простираются до Северного, Каспийского и Черного морей; у них могущественное дворянство, многочисленное крестьянство, многолюдные города; они могут ставить в поле большое войско. Теперь же этот враг без нашего позволения не может ни одного судна спустить на Балтийское море: большие озера — Ладожское и Пейпус, Нарвская область, тридцать миль обширных болот и сильные крепости отделяют нас от него. У России отнято море, и, Бог даст, теперь русским трудно будет перепрыгнуть через этот ручеек!
Уладив мир в Столбове, Дж. Мерик вернулся в Москву за ответом на просьбу своего короля о торговых льготах. Дело это было отдано на решение думы, составленной из торговых людей. По приговору их Мерику было отказано в главных требованиях; при этом ссылались на тяжелое время для России.
— Наши торговые люди сейчас оскудели, — передавали бояре Мерику решение думы. — Теперь они у Архангельска покупают товары у англичан, возят в Астрахань и там продают кизильбашам (персиянам), меняют на их товары, отчего им прибыль и казне. А станут англичане прямо ездить в Персию, то они у Архангельска русским людям продавать своих товаров не будут, повезут прямо в Персию, и кизильбаши своих товаров возить в Астрахань не станут, будут торговать с англичанами у себя… Притом в тех местах, через которые путь в Персию, идет война: воюет персидский царь с турским (турецким); да и по Волге проезд страшен: кочуют ногаи… Это дело надо отложить до другого времени, когда государь управится с польским королем и Московское государство от многих убытков поисправится…
Насчет просьбы поискать пути в Китай и Индию через Сибирь, по реке Оби, бояре сказали Мерику:
— Сибирь далеко, до первых городов с полгода езды, и то зимою. Сами туземцы не знают, откуда Обь-река и куда пошла. Сторона та самая студеная — больше двух месяцев тепло не держится, а на Оби всегда лед ходит, и никакими судами пройти нельзя, а вверх по Оби, где потеплее, там кочуют многие орды. Про Китайское государство сказывают, что невеликое и небогатое — добиваться к нему нечего. Государь из дружбы к Якубу (Иакову) королю велит проведать, откуда Обь-река вышла, куда пошла… где Китайское государство и как богато, есть ли чего добиваться; а теперь, не зная про то подлинно, как о том говорить?
Из этого любопытного ответа ясно видно, как мало русские люди того времени знали о своих собственных землях, о восточных соседях и как в то же время чутко понимали выгоды для России восточной торговли, как боялись соперничества предприимчивых англичан.
Хотя в главных просьбах англичан было отказано, но Мерик, осыпанный царскими подарками и ласками, уезжал из Москвы с надеждой, что если не теперь, то позже, при более удобных обстоятельствах, Англии удастся добыть себе важные торговые льготы у русского царя. Притом не во всем было отказано Мерику: англичанам позволялось в русских землях свободно заниматься разными промыслами (искать железную руду, добывать алебастр, завести канатное производство и прочее). Голландцы тоже хлопотали о торговых льготах для себя и тоже добились кое-каких выгод, хотя и меньших, чем англичане.
Ф. Солнцев Кружка царя Михаила Федоровича
Война с Польшей и Деулинское перемирие
Больше всего заботила Михаила Федоровича война с Польшей. Сильно жалел Сигизмунд, что вовремя не устроил на московском престоле сына своего Владислава, и всеми силами старался поправить дело войной. Но сделать это было нелегко: в Польше шли постоянные неурядицы; сейм не ладил с королем, упрекал его в больших и бесполезных расходах на войну, которой и конца не видно было. Польское войско волновалось, требовало недоплаченного жалованья, отказывалось идти в поход… Казна самого короля была пуста. Вот почему около четырех лет Сигизмунд не мог начать решительных действий. За это время Михаил Федорович успел справиться с Заруцким, поочистить несколько землю от воровских шаек и помириться со Швецией.
Пользуясь бездействием поляков, русские воеводы, даже с небольшими ратными силами, стали снова занимать захваченные поляками города — взяли Вязьму, Дорогобуж, крепость Белую и подступили к Смоленску.
Михаилу Федоровичу сильно хотелось поскорее заключить мир с Польшей, чтобы освободить отца из плена. Переговоры о мире в это время уже шли, но успеха никакого не было. Поляки в своих грамотах оскорбляли русских, называли их изменниками законному государю Владиславу и не думали признавать Михаила царем; русские в свою очередь только и делали, что корили поляков их неправдами и насилиями. Несмотря на взаимные обиды и грубости, решено было съехаться для переговоров между Смоленском и Острожками. Посредником сюда явился посол императора Ганделиус. Несколько раз съезжались русские и польские послы; с той и с другой стороны сыпались укоры да обиды. Русские послы, конечно, вынести не могли непочтения поляков к царю и укоров в измене Владиславу. Из Москвы прислали послам наказ, где говорилось:
— Вы бы теперь с литовскими послами на съездах говорили гладко и пословно (согласно), а не все сердито, чтоб вам с ними никак не разорвать.
Но трудно было русским говорить «гладко и пословно», когда литовские послы говорили «непригожие слова» про русского царя. Ганделиус мало сдерживал спорящих и даже явно мирволил полякам. Не могло быть и речи о мире, когда польские послы считали необходимым возвести Владислава на московский престол, а русские требовали возврата Смоленска, вывода польских отрядов из Русской земли, признания Михаила царем и уплаты миллиона рублей за убытки. Дело, конечно, не уладилось, и войны миновать нельзя было.
Чего только не делал царь, чтобы добыть средства к борьбе, обеспечить себе успех. Денег в казне не было; рать была малочисленная, неумелая. Царь засылал послов и к турецкому султану, и к хану в Крым, чтобы побудить их ударить общими силами на Польшу. Русские послы несколько лет подряд жили в Константинополе, задаривали собольими мехами визирей и других сильных людей. Турки злобились за нападения запорожцев, которых считали подвластными Польше, и не прочь были начать войну. Но сближению турок с Москвой мешали донские казаки: они своими разбоями на Черном море и по берегам его досаждали туркам не меньше запорожцев. Турки постоянно корили русских за это, а русские послы отговаривались тем, что «на Дону живут воры, беглые боярские люди, утекая из Московского государства от смертной казни, переходя с места на место разбойническим обычаем». Но отговорки эти мало помогали: турки ставили на вид царское жалованье донцам, которое посылалось из Москвы и деньгами, и разными запасами.
Ф. Солнцев Старинные палаши
Плохо ладилось дело и в Крыму. Крымцы, как известно, постоянно вымогали от московского правительства большие поминки (подарки), пугая своими разбойничьими набегами. Так было и теперь.
— Если не станет государь ваш, — грозил ханский сановник, — присылать ежегодно по 10 тысяч рублей, кроме рухляди, то мне нельзя доброго дела совершить. Со мною два дела — доброе и лихое, выбирайте! Ногайские малые люди безвыходно вас воюют, а если мы со своими силами на вас же придем, то что будет? Вы ставите шесть тысяч рублей в дорого, говорите, что взять негде, а я хотя возьму тысячу пленных у вас и за каждого пленного возьму по 50 рублей, то у меня будет 50 тысяч рублей.
Хоть столько и не дали, сколько запрашивали крымцы, но все-таки пришлось ублажать хана ежегодными поминками, чтобы он оставил только в покое московские украины и воевал с Литвой. Последнего трудно было добиться: хан был занят персидской войной, усобицами у себя в Крыму, да и боялся запорожцев, которые беспощадно опустошали его улусы.
Только денежную помощь нашел Михаил Федорович. Английский король прислал ему взаймы 20 тысяч рублей да персидский шах — 7 тысяч. Хоть эти деньги в те времена стоили, пожалуй, раз в двадцать дороже, чем теперь, но все-таки помощь эта была ничтожна.
По окончании неудачных переговоров под Смоленском царь приказал своим воеводам идти воевать Литовскую землю, но силы было мало, и русским скоро пришлось снять осаду Смоленска, который рассчитывали взять измором. Полякам удалось подкрепить осажденных и снабдить их припасами, а вскоре затем на выручку Смоленска прибыл Гонсевский с сильным отрядом, принудил русских отступить и разбил их.
Неизвестный художник Король польский Владислав
Между тем Сигизмунду удалось наконец добиться от сейма разрешения снарядить новые военные силы для борьбы с Россией, чтобы добыть во что бы то ни стало престол для королевича Владислава. Во главе войска должен был стать двадцатидвухлетний королевич, но главное начальство за его молодостью вручено было гетману Ходкевичу. Польское войско было очень невелико, не более одиннадцати тысяч, да и от этого числа пришлось отделить часть на южную границу Польши: там ждали нападения турок. Хотя и ничтожная, но все-таки хорошо устроенная военная сила давала полякам надежду на успех; они рассчитывали на шайки «лисовчиков» и особенно на казаков, думали, что и среди русских служилых людей найдутся сторонники Владислава. Почуяв войну и добычу, казаки встрепенулись. Донцы прислали своих старшин объявить Владиславу, что они хотят ему служить. Владислав издал грамоту ко всем жителям московской земли, напоминал о том, как несколько лет тому назад русские целовали крест ему.
«В то время, — говорилось в грамоте, — мы не могли сами приехать в Москву, потому что были в несовершенных летах, а теперь мы, великий государь, пришли в совершенный возраст к скипетродержанию и хотим, с помощью Божией, свое государство Московское, от Бога данное нам и от всех вас крестным целованием утвержденное, отыскать и уже в совершенном таком возрасте можем быть самодержцем всея Руси и неспокойное государство, по милости Божией, покойным учинить».
Казалось, истерзанной Русской земле снова грозит смутная пора: подымались казаки, смелее стали наезды «лисовчиков» и других воровских шаек, снова взывали к русским людям, надеясь найти среди них изменников избранному царю, как находили их при Василии Шуйском. Но времена были уже не те. Русские люди горьким опытом «наказались», что значит верить врагам, познакомились в Смутную пору и с польской, и с казацкой правдой. Грамота Владислава мало действовала на московских людей.
Поляки осадили Дорогобуж. Русский воевода, узнав, что сам королевич при войске, сдал свой город ему «как царю московскому». Вслед за этой изменой вяземские воеводы смалодушествовали, покинули свой город и поспешно отступили. Владислав торжественно вступил в беззащитную Вязьму, но на этом и кончились успехи поляков. Попытались они взять крепость Белую, но та не сдавалась; задумал Владислав внезапно овладеть Можайском, но, узнав, что город сильно укреплен и тамошние воеводы готовы к упорному бою, что из Москвы идет на помощь городу отряд войска, оставил свое намерение до более удобной поры. Была уже зима, и вести осаду при морозе и ненастьях было бы очень тяжело; пришлось переждать зимнюю пору. В это время только летучие отряды «лисовчиков» да казаков делали свои наезды и грабили всюду, где не встречали отпора.
А. Васнецов Старая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века
Так прошел 1617 год — без решительных действий, а тянуть долго войну Владислав не мог: сейм требовал скорого окончания ее; денег не было; поднялся ропот в войске; солдатам не платили жалованья; в съестных припасах чувствовался недостаток. Владислав начал было переговоры о мире, но безуспешно: русские требовали прежде всего, чтобы поляки вышли из пределов Московского государства.
Пришлось полякам начать решительные действия. На военном совете постановлено было идти прямо к Москве — рассчитывали, что это смелое движение заставит жителей ее передаться королевичу, как это было при Шуйском. Лежавший на пути в Москву Можайск поляки взять не могли, у них не было осадных орудий; попытались взять неподалеку от него Борисово городище. Два раза они кидались на приступ — и оба раза были отбиты. Заняли его уже позже, когда сами русские очистили городище. Здесь в польском войске началась снова смута: уже несколько дней приходилось солдатам голодать, а из Варшавы вместо жалованья пришло только обещание скоро уплатить его. Солдаты стали толпами уходить из стана; силы у Владислава остались ничтожные. Край, где приходилось действовать войску, был так разорен, что трудно было чем-либо поживиться. Владислав не знал, что и делать, — уже думал отступать, как вдруг пришла радостная для него весть, что малороссийский гетман Петр Сагайдачный ведет ему на помощь 20 тысяч казаков. (Сигизмунд щедрыми подарками и обещаниями склонил гетмана и казаков помочь королевичу.) Положение Москвы теперь становилось опасным. На пути к ней Владислав снова пытался возмутить русских против Михаила и разными обещаниями склонить на свою сторону — обещал, что русские земли никогда не будут раздаваться полякам, никаких насилий и неправд не будет, свято и нерушимо будут храниться русские нравы и обычаи.
«Видите ли, — писал в своих грамотах Владислав, — какое разорение и стеснение творится Московскому государству не от нас, а от Михайловых советников, от их упрямства и жадности, о чем мы сердечно жалеем; от нас, государя вашего, ничего вам не будет, кроме милости, жалованья и призрения».
Но русские люди теперь уже не поддавались на эти обещания, красными словами обойти их не удалось полякам, дела которых были на глазах у всех.
И. Репин Инок Филарет в заточении в Антониево-Сийском монастыре
Михаил Федорович в свою очередь обратился к народу, избравшему его на царство. 9 сентября 1618 года созван был собор, на котором царь, указав на опасность, грозящую Москве, заявил, что он, «прося у Бога милости, за православную веру против недруга своего Владислава будет стоять, на Москве в осаде сидеть и с королевичем, с польскими и литовскими людьми биться, сколько милосердый Бог помочи подаст». Затем царь просил бояр и всяких чинов людей «постоять за православную веру, за него, государя, и за себя и не поддаваться ни на какую королевичеву прелесть». Всяких чинов люди отвечали, что они все «единодушно дали обет Богу за православную веру и за него, государя, стоять, с ним в осаде сидеть и с врагом биться до смерти, не щадя голов своих».
20 сентября Владислав стал в Тушине; Сагайдачный появился у Донского монастыря. Москва была в большом страхе. В то время москвичей сильно пугала комета, сиявшая по ночам над самым городом: суеверный люд видел в ней дурной знак. Сам царь и окружающие его думали, что быть Москве в руках поляков. Впрочем, по словам летописца, нашлись «мудрые» люди, которые успокаивали боявшихся: утверждали, что беда грозит тем странам, куда направлен хвост кометы, то есть Западу, а над Москвой была ее голова…
Н. Тютрюмов Портрет патриарха Филарета (Федора Никитича Романова)
Под Москвой тем временем шли переговоры: Владислав требовал подданства, величая себя царем московским. Бояре в грамотах королевича вымарывали этот титул дегтем и старались всеми силами затянуть подольше переговоры. Близка была уже студеная зима — ее-то, свою верную союзницу против непрошеных гостей, и поджидали русские бояре, всячески затягивая дело. Поляки поняли это, как видно, и решились взять Москву приступом. Самое горячее дело загорелось у Арбатских ворот; но поляки, несмотря на все их усилия, были отбиты. Не удался и приступ к Тверским воротам. Изменников в Москве не было; все показали, что «готовы были биться с врагами до смерти, не щадя голов своих». Надежда легко овладеть Москвой изменила искателю чужого престола. Отступив от Москвы, королевич пошел было к Троицкой лавре и потребовал сдачи ее; ему отвечали выстрелами из пушек… Войска его волновались; своевольные паны, представители сейма, требовали мира. Наступала зима. Владиславу нечего было и думать о новых усилиях овладеть Москвой.
С 23 ноября начались переговоры близ Троицкого монастыря, в селе Деулине. После долгих взаимных укоров в разных неправдах, споров, как писать в грамоте о царе Михаиле, и угроз новой войны и кровопролития было заключено наконец перемирие на 14 лет и 6 месяцев (1 декабря 1618 года). Россия уступила Польше области Смоленскую, Черниговскую и Северскую. Эти земли, а также и Ливония не должны были упоминаться с этой поры в царском титуле. Постановлено также было произвести обмен пленников.
Для обмена съехались на реке Поляновке, в семнадцати верстах от города Вязьмы. Тут опять начались споры между польскими и русскими сановниками; поляки даже грозили, что они уедут обратно и увезут Филарета. Недоверие с той и с другой стороны было большое. Возник вопрос о том, как менять — отдать ли всех пленных поляков за всех пленных русских сразу, или поменять сначала Струся на Филарета, а потом уже менять остальных. Русские бояре послали спросить его, как он укажет поступить. Филарет, утомленный дальним путем, сгоравший желанием поскорее быть на родине, даже заплакал с досады, выслушав гонца.
10 июня 1619 года. Почетная первая встреча под Можайском митрополита Ростовского и Ярославского Филарета, отца царя Михаила Федоровича, освобожденного из восьмилетнею польского плена, с архиепископом Рязанским и Муромским Иосифом, духовными лицами, князем Д. М. Пожарским и окольничим князем Г. К. Волконским во время ею следования в Москву
— Дал бы мне только Бог, — сказал он, — видеть сына моего, великого государя царя, и всех православных христиан в Московском государстве!
Наконец кое-как дело было улажено. Филарет щедро одарил соболями некоторых из поляков, заботившихся о нем. На реке Поляновке были сделаны два моста: по одному русские пленные должны были переходить на русскую сторону, по другому одновременно поляки — на свою. 1 июня произошел обмен. Митрополит Филарет приехал к речке в возке; за ним следовали пешие боярин Шейн, Томила Луговской и прочие пленники. Переехавши мост, митрополит вышел из возка, и боярин Шереметев сказал ему:
— Государь Михаил Феодорович велел тебе челом ударить, приказал о здоровье спросить, а про свое велел сказать, что вашими и материнскими молитвами здравствует, только оскорблялся тем, что ваших отеческих святительских очей многое время не сподобился видеть!
Потом Шереметев сказал челобитье от матери царской Марфы Ивановны. Филарет спросил о здоровье их и благословил боярина. Затем князь Мезецкий правил челобитье от бояр и всего государства…
На следующий день Филарет отправился в путь. На дороге повсюду — в городах и селах — духовенство, воеводы и народ радостно встречали государева отца.
Патриарх Филарет и его деятельность
Торжественная и трогательная встреча ожидала Филарета под Москвой. 13 июня прибыл он в село Хорошево, в десяти верстах от столицы. Тут его встретил с духовенством и боярами митрополит Крутицкий, заменявший тогда патриарха.
На следующий день на всем пути до Москвы не прерывались почетные встречи. Царь, окруженный боярами и толпами народа, выехал за Тверские ворота, верст за пять от Москвы, и ждал отца на речке Пресне. Девять лет он был в разлуке с отцом, и понятно, с каким нетерпением хотел его увидеть… Наконец они встретились. Оба поклонились друг другу в ноги: Филарет преклонился пред царем, а царь — пред отцом. Несколько времени они пробыли так и не могли слова вымолвить; радостные слезы лились из глаз их. Народ, по свидетельству очевидца, с необычайным восторгом встречал знаменитого страдальца и старого своего любимца «Никитича». Все от мала до велика, забыв усталость и дневной жар, спешили поглядеть на него и, казалось, не могли наглядеться.
12 июня 1619 года. Вторая, звенигородская встреча митрополита Филарета с архиепископом Вологодским и Великопермским Макарием, архимандритом Чудова монастыря Иосифом, боярином В. П. Морозовым и думным дворянином Г. Г. Пушкиным. Члены почетной встречи выходят из соборных дверей Звенигородскою Саввино-Сторожевскою монастыря и спускаются к митрополиту Филарету
При звоне всех московских колоколов вступил в Москву Филарет. Царь пеший шел перед колымагой, в которой везли его отца; за ней следовали бояре и бесчисленное множество народу.
Филарета давно уже ожидал патриарший престол в Москве. В это время здесь гостил иерусалимский патриарх Феофан. Он вместе со всем «освященным собором» русского духовенства упросил Филарета принять «вдовствующий» святительский престол, и 24 июня он был возведен на степень патриарха всероссийского.
С этой поры, по словам летописца, «держава отечественная, паки при летней теплоте и светлости усмехнувшися, процвете».
С приездом Филарета дела изменились: всюду заметна стала властная рука твердого и опытного правителя. Юный царь отличался многими прекрасными свойствами. «Был он добр, — говорит одно сказание, — тих, кроток, смирен и благоуветлив, всех миловал и щедрил, во всем был подобен прежнему благоверному царю и дяде своему Феодору Ивановичу», да, на беду, далеко не таковы были люди, окружавшие его в первые годы правления. Думали они больше о своих выгодах, а не о пользе разоренной и обнищалой страны. Филарет, как отец царя, еще юного и неопытного, стал его главным руководителем; без него Михаил ни одного важного дела не решал. Филарет титуловался, как и царь, «государем». Во всех грамотах и указах того времени значилось: «Государь царь и великий князь Михаил Феодорович всея России и великий государь святейший патриарх Филарет Никитич Московский и всея России указали…» Таким образом, в России является как бы двоевластие, но на деле его не было, потому что царь во всем следовал указанию своего отца, пред всяким делом испрашивал у родителя совета и благословения. Нередко Михаил Федорович, отправляясь со своей матерью в благочестивые путешествия по монастырям, все государственные дела отдавал вполне в руки своего отца. В церковных делах Филарет был всегда полновластным властителем — в эти дела царь вовсе не вступался. Иноземные послы должны были представляться и патриарху как государю. Властолюбивый и умный Филарет во все вникал, всюду распоряжался — недаром летописец назвал его «государственнейшим патриархом».
24 июня 1619 года. Интронизация митрополита Филарета в патриархи всея Руси рукою патриарха Иерусалимского Феофана IV в Успенском соборе Московского Кремля
Дела всякого было много. Филарет начал с того, что лишил Салтыковых их значения. Почти повсюду на важные места были назначены новые должностные лица. Правительство под руководством патриарха принимает целый ряд мер, чтобы пресечь всякие злоупотребления и неправды, установить порядок в управлении, успокоить государство и мало-помалу облегчить народ от тягостей.
Прежде всего надо было позаботиться о расстроенном государственном хозяйстве, установить правильный сбор податей и разных пошлин. Собирать их было крайне трудно: многие города и села, как сказано уже, представляли груды развалин; уцелевшие жители разбежались; посадские люди, чтобы избавиться от платежа податей, кидали свои дворы и жили у своих родичей или друзей. Тяглые люди, крестьяне, закладывались за бояр, то есть шли к ним в холопы, записывались за монастырями и таким образом уходили от тяжелых налогов и повинностей. Со всех сторон по-прежнему шли в Москву жалобы на разорение, нищету, просьбы о помощи, о всяких льготах. То и дело приходили неутешительные вести, что с той и другой волости взять нечего, земля пуста стоит, крестьяне «разбрелись розно», то есть разошлись в разные стороны. Надо было их сыскивать и водворять на прежних местах. Шли также отовсюду жалобы на обиды и насилия воевод и приказных людей.
Светлейший патриарх Филарет Царский титулярник XVII века
Первой заботой государя-патриарха было достоверно узнать настоящее положение Русской земли. Для этого решили сделать общую перепись государству, чтобы по имуществу и заработку распределить и платежи даней и пошлин. Уже раньше пробовали сделать перепись, но, на беду, по словам грамоты, «дозорщики дозирали и писали за иными по дружбе легко, а за другими по недружбе тяжело, и оттого Московского государства всяким людям была скорбь конечная». Решено было послать новых «дозорщиков» и «писцов» со строгим наказом, чтоб они «описали и дозрили все вправду, без посулов», «остановили переходы крестьян от одного владельца к другому, сыскивали бы про всякие обиды и разорения; чтобы всякие нужды, притеснения и всякие недостатки были ведомы и государь бы с патриархом начали промышлять, чтобы во всем поправить, как лучше». Эта мера, конечно, была очень разумна, но, на беду, трудно было найти таких «дозорщиков» и «писцов», которые делали бы дело по совести. Несмотря на то что они крест целовали поступать по правде, делать опись государства так, чтобы сильные и богатые не сбавляли с себя государственных тягостей, а на мелких и убогих людей не накладывали лишних, к несчастью, нашлось между «писцами» и «дозорщиками» много таких, которые с богатых брали взятки и писали не по правде. Хотя правительство приняло меры, чтобы исправить это зло, но все-таки жалобы на неправильность раскладки податей и повинностей долго и после того не прекращались.
Обратило внимание правительство также на притеснения и неправды воевод и приказных людей. Царская грамота строго запрещает им брать посулы и поминки с посадских и крестьян, не дозволяет им гонять людей на свои работы. За нарушение этого наказа назначена двойная пеня против несправедливо взятого. Иным городам и уездам дано старое право самим выбирать себе старост, которые заменяли воевод; но и свои выборные власти действовали иногда так сурово и несправедливо, как и наезжие из Москвы приказные люди. Нравственный упадок сказывался сильно во всех делах; трудно было найти честных и бескорыстных людей.
Велено было также во всех городах выбирать губных старост (судей), которые должны были ведать «губные дела» (воровство, разбои и убийства). Избирать их указано из дворян добрых, по спискам лучших людей, которые были бы «душою прямы, имением пожиточны и грамоте умели бы». Раньше в случае важных уголовных (губных) дел посылались из Москвы сыщики, но они часто творили много насилий народу.
Пополнение казны особенно заботило патриарха и царя: постановили, чтобы служилые люди и все жившие в посадах несли тягло (то есть подвергались бы всем повинностям) наравне с посадскими людьми. Установлены были таможенные и кабацкие головы для сбора доходов с таможенных и питейных заведений; на помощь им выбирались из местных жителей целовальники (то есть присягавшие, целовавшие крест в том, что будут действовать честно, соблюдать выгоды казны). Разные налоги и пошлины были увеличены; купцы и промышленники должны были сверх таможенных пошлин платить казне в городах полавочное (за лавку и склад товаров), на дорогах и перевозах — мыто (пошлины). Даже многие самые обычные занятия обложены были пошлинами, например водопой скотины, мытье белья на реке и прочее. Из местных жителей выбирались целовальники; им давался ящик за казенной печатью, куда и собирались деньги.
Печать патриарха Филарета
Все эти поборы, конечно, тяготили бедный люд, но иначе государству трудно было оправиться и приготовиться к встрече новых бед и опасностей. Богатая Сибирь в эту тяжелую пору часто выручала правительство из затруднений: оттуда шел богатейший пушной товар, который главным образом проходил через руки правительства, торговавшего мехами. Драгоценные собольи меха давали царю возможность, несмотря на все безденежье, делать щедрые подарки иноземным послам и государям: подарки в десять, двадцать сороков соболей стоили не одну тысячу рублей.
Сибирь понемногу заселялась вольными, гулящими людьми — им отводили земли, давали деньги на подмогу и льготы на несколько лет.
Приволжский край был тоже важен для казны: по Волге шла торговля с Востоком, особенно с Персией. Этот путь сулил в будущем большие выгоды — вот почему московское правительство так ревниво оберегало его от западных торговцев. Шелк, дорогие ткани, ковры и другие ценные товары шли из Персии в Москву по этому пути; город Астрахань благодаря этой торговле год от году рос и богател. Кроме персов, здесь торговали бухарцы, но турок сюда не пускали. Торговля велась тут большей частью меновая. На беду, Поволжье при Михаиле Федоровиче было еще мало заселено, и путь по реке был опасен: в ущельях гор, в лесах по правому берегу гнездились воровские ватаги казаков, нападавшие на плывущие суда при всяком удобном случае. Купцам приходилось возить свои товары большими караванами, целыми вереницами судов, под прикрытием вооруженных отрядов. На всем нижнем течении Волги до Астрахани было только три города: Самара, Саратов и Царицын, да и те были скорее сторожевыми острожками (небольшими крепостями), чем городами; населяли их по большей части стрельцы. Оседлых земледельцев в этом краю не было; по временам только кое-где по берегам селились рыбаки, которых привлекало сюда изобилие рыбы.
Царь Михаил Федорович Романов
Чтобы собраться с силами, московское правительство старалось ладить со всеми соседями. Прежде всего Филарет, чтобы избавить южную украину от нового разорения, задабривает «поминками» крымского хана, который снова грозил набегом. Русским послам велено было говорить с крымцами «гладко и пословно, а не торопко, и где надобно жестко молвить, то покрыть глад остью, чтобы в раздор не войти». С ногаями тоже удалось уладить дело, даже прибрать их к рукам: русских пленников от ногайцев вывели тысяч с пятнадцать. Со Швецией сначала шли долгие споры о новых границах, но дело кончилось благополучно. Густав Адольф, занятый делами на Западе, искренне желал мира с Москвой и союза против Польши. Это было очень по сердцу царю и патриарху, и они выказывали полную дружбу Швеции, даже позволили шведам закупать в России беспошлинно хлеб, крупу, селитру и другие запасы для войны, которую вел король в Германии. Со всеми соседями Москва старалась ладить, дружелюбно сносилась также с Турцией и Персией.
К одному только соседу не угасала непримиримая вражда — это к Польше.
Сношения с Западом в это время еще более усилились. Снова явился в Москву Дж. Мерик — с той же просьбой: о свободном пути по Волге для беспошлинной торговли с Персией. Принят он был очень радушно, но просьбу его вторично передали на усмотрение русских торговых людей, и дело опять не сладилось.
Долг Англии в 20 тысяч отдали; дружеские отношения с ней остались прежние. Отделались от англичан — явились французы, затем голландцы, датчане, все с той же просьбой. Туги, неподатливы были русские в эту пору, но все же иноземцам удавалось добиваться кое-каких торговых выгод; свободного же пути в Персию никому не было дано.
Обмен посольствами и довольно частые сношения с Западом все более и более давали русским почувствовать свою отсталость, особенно в разных фабричных производствах и мастерстве. Сближение русских с Западом усиливалось.
Филарет думал было породниться с кем-либо из западных государей, хотел женить сына на польской королевне, но дело не сладилось; не удалось также сватовство и к датской принцессе.
Царица Евдокия Лукьяновна Стрешнева, супруга царя Михаила Федоровича Романова
Еще раньше, в 1616 году, когда царю наступил двадцатый год, решено было женить его. По обычаю, собрано было в Москву множество девиц — дочерей дворян и детей боярских. Выбор царя пал на Марию Хлопову, дочь дворянина. Она была уже взята «наверх» (то есть во дворец, в царский терем), уже ей стали оказывать царские почести, поминать имя ее в церквах; отец и дядя ее были призваны во дворец, но дело кончилось для них всех печально. Они не сумели угодить сильным Салтыковым, а те воспользовались незначительной болезнью царской невесты, пустили молву, что она больна неизлечимо, и успели сильно вооружить против нее мать царя. Собран был боярский собор, чтобы обсудить дело. Напрасно Хлопов здесь бил челом, просил «не отсылать царской невесты сверху», заверял, что болезнь ее пустая, произошла от «сладких ядей» (лакомств) и уже проходит. Бояре в угоду Марфе и Салтыковым приговорили, что Хлопова «к царской радости не прочна» и потому свадьбы не должно быть.
С царской невестой поступили крайне сурово: ее с несколькими родичами сослали в Тобольск. Царь сильно грустил по своей невесте, которая очень приглянулась ему, но покорился своей участи, не желая ослушаться матери.
Филарет велел исследовать дело Хлоповой. Клевета Салтыковых была обнаружена, и они были сосланы; но Марфа, предубежденная против Хлоповой, и слышать не хотела о браке Михаила с ней, даже поклялась, что не останется в царстве своего сына, если Хлопова будет царицей. Михаил снова покорился воле своей матери, даже, по желанию ее, женился в 1624 году на княжне Марии Долгоруковой, но она через три месяца скончалась. Молва пошла, что ее извели лихие люди.
Ф. Солнцев Клобук патриарха Филарета
В 1626 году царь, по желанию отца и матери, вступил во второй брак. Приказано было собрать в Москву на смотрины девиц, «ростом, красотою и разумом исполненных». Взоры царя остановились на Евдокии Стрешневой, «отроковице доброзрачной», дочери незнатного дворянина. Ей царь подал платок и кольцо — знак избрания в супруги.
С большим торжеством, со всеми свадебными обрядами было отпраздновано бракосочетание. С первых же дней замужества молодая царица повела теремную, замкнутую жизнь в кругу приближенных боярынь.
В Смутную пору совсем упало церковное просвещение, хотя и раньше оно было до крайности скудно. О русских священниках и монахах начала XVII столетия очевидцы-иностранцы говорили, что они ничего не могут ответить, если их спросят что-нибудь из Библии, или сочинений отцов церкви, или о вере. Живое слово было забыто. Проповеди устной в церкви не было. Суеверие в духовенстве было так же сильно, как и в простом народе. Пьянство и грубые пороки унижали и белое, и черное духовенство. Всякие знахари, гадатели и гадалки морочили темный люд, имели зачастую больше силы над ним, чем священники. Филарету пришлось много потрудиться, чтобы хоть сколько-нибудь поднять церковное дело. На месте разрушенных церквей воздвигались новые; разоренным и обнищалым монастырям жаловались земли, леса и различные угодья, давались всякие льготы.
Особенно ревностно заботился патриарх о печатании и исправлении богослужебных книг. В Смутное время печатное дело прекратилось в Москве. С воцарением Михаила оно возобновилось, но попало в руки неумелых людей и шло плохо. Филарет, одержимый, по словам современника, «зельною ревностью к божественным книгам», оживил печатное дело и, видя разногласие в книгах, приказал править их по древним русским рукописям. Греческим печатным книгам не особенно доверяли — думали, что они искажены латинством, — и редко справлялись с ними. Несмотря на все заботы патриарха, и в напечатанных при нем книгах оказалось довольно недосмотров и недостатков.
Патриарх, конечно, понимал вполне необходимость просвещения и для духовенства, и для мирян. Он требовал, чтобы архиереи устраивали при своих дворах училища; в последние годы жизни Филарета упоминается о греко-латинской школе в Москве. Но дело обучения не могло идти успешно: где было взять знающих людей, способных учить? Такие люди если и встречались на Руси, то крайне редко. Царь и патриарх старались всячески улучшить нравы и духовенства, и народа, восставали против пьянства и всякого бесчинства, которые проявлялись даже и в монастырях, запрещали грубые потехи, кулачные бои и прочее.
Филарет был строг и сурово карал как безнравственность, так и вольнодумство: одного боярского сына за порочную жизнь он велел заключить в дальнем монастыре; другого, князя Хворостинина, наказал за вольнодумство.
Сближение русских с поляками и другими иноземцами в Смутную пору отозвалось дурно на иных легкомысленных людях: они, слегка познакомившись с просвещением и набравшись чужих мыслей и взглядов, слишком увлекались всем иноземным и начинали свысока, презрительно смотреть на все свое, глумиться над всем русским без разбору. Таков был и князь Хворостинин, один из приближенных Лжедмитрия. Следуя ему, Хворостинин подсмеивался над многими церковными обрядами и благочестивыми обычаями, не соблюдал постов, читал еретические книги. Василий Иванович Шуйский сослал его в монастырь; Михаил вернул его; но вольнодумец не унимался, глумился по-прежнему над православными обрядами, не соблюдал постов: даже на Страстной неделе, к соблазну всех приближенных, ел мясо и пил вино. Дело дошло до того, что он преследовал своих слуг за то, что те ходят в церковь. Наконец, задумал уехать из отечества и стал уже продавать свои имения.
— Для меня, — говорил он, — нет в Москве людей; не с кем и жить: все глупый народ!..
При Михаиле Хворостинину многое сходило с рук, но Филарет по возвращении из Польши взялся и за него. У него было найдено стихотворение, где осмеивалось благочестие москвичей, говорилось, будто они «кланяются иконам только по подписи, а неподписанный образ у них не образ». Между прочим сказано было: «Московские люди сеют всю землю рожью, а живут все ложью». Филарет сослал вольнодумца в Кириллов монастырь, велел держать его безвыходно в келье, давать ему читать только церковные книги и заставлять молиться. Через девять лет его выпустили — когда он дал клятву блюсти уставы греческой церкви и не читать никаких еретических книг.
Хотя такие люди, как Хворостинин, были весьма редки в то время, но вреда они приносили много: глумясь над обычаями и верованиями своего народа, они бесплодно оскорбляли его чувства, не уча его ничему лучшему; они отталкивали народ от сближения с иноземцами. Тупые невежды, смотревшие злобно на все иноверное и иноземное, чуждавшиеся всего нового, могли ссылаться на таких верхоглядов, как Хворостинин, чтобы показать, до чего может довести русского человека «иноземная прелесть».
Потрудился много Филарет, чтобы помочь Русской земле хотя сколько-нибудь оправиться и прийти в прежнюю силу. Не думал он ни о каких новшествах, да и трудно было думать о них в ту пору. Восстановить все порушенное, укрепить все расшатанное, привести все к старому порядку — вот что составляло главную задачу «государственнейшего патриарха» до самой его смерти (в октябре 1633 года).
Вторая война с Польшей
Новая война с Польшей была неизбежна. На Деулинское перемирие в Москве согласились только из крайности: средств вести войну не было; разоренной земле нужно было отдохнуть и собраться с силами; надо было освободить из плена государева отца. Вражда к Польше не только не уменьшалась, но с каждым годом сильнее разгоралась. Владислав и не думал отказываться от своих притязаний на московский престол; польское правительство не признавало Михаила царем — при беспрерывных сношениях в польских грамотах не упоминалось о нем как о государе, словно его и не было. Мало того, некоторые русские изменники, назначенные воеводами в уступленных Польше русских городах, доходили до крайней дерзости: они при сношениях с русскими в своих листах писали о Михаиле Федоровиче «непригоже», не только не признавали его царем, но даже называли уменьшительным именем. Русские воеводы не могли сносить, конечно, такой наглости и в свою очередь посылали бранные послания этим воеводам: называли их мужиками, ворами, бешеными псами и прочим. Жалобы русских на дерзость польских чиновников польское правительство оставляло без внимания. Польские посланники даже в Москве говорили боярам:
— Владислав прав своих на Московское государство не оставил и вас всех и с вами Михаила Феодоровича, которого вы теперь государем у себя называете, от крестного целованья не освободил.
При таких условиях война, конечно, должна была вспыхнуть при первом удобном случае.
В 1621 году прибыл в Москву турецкий посол — предлагать союз против Польши. Он говорил Филарету:
— Осман-султан с великим государем, сыном вашим, хочет быть в крепкой братской дружбе и любви и на польского короля стоять с ним заодно.
— Перемирие с поляками, — отвечал ему Филарет, — сын мой велел заключить только для меня; между сыном моим и польским королем и сыном его дружбы и любви теперь нет — неправды их и московского разоренья забыть нам нельзя. Мы того только и ждем, чтобы польский король хотя бы в малом в чем мир нарушил. Сын мой для султановой любви тут же пошлет на него рать.
Уже созван был собор, и на нем били челом государям, «чтобы они за святые Божии церкви, за свою государскую честь и за свое государство против недруга своего стояли крепко». Уже государь указал послать в города свои грамоты, где говорилось о неправдах польских и велено было боярам, воеводам, дворянам и детям боярским всех городов и всяким служилым людям быть готовыми на службу тотчас и ждать царских грамот; но до войны дело на этот раз не дошло. Предприятие султана против Польши кончилось неудачно; ей удалось также заключить перемирие и со шведами, а без союзников воевать для России было еще не под силу. Вместо войска на литовский рубеж был отправлен посол, чтобы переговорить с польскими сановниками о больших делах — о титуле и о ворах, которые присылали листы с укоризнами на государя, называя его полуименем, но переговоры эти ни к чему не привели.
После того долго, целых девять лет, готовилась Москва к войне. Русских ратных людей учили иноземному строю — превосходство его уже понимало тогда московское правительство. Закупали за границей ружья, порох, ядра, сабли. Несмотря на бедность казны, не жалели денег на ратное дело.
В апреле 1632 года умер польский король Сигизмунд. В Польше начались обычные беспорядки, которые всегда обуревали ее во время междуцарствия, при выборе нового короля. На шумных сеймах шли бесконечные споры и ссоры; являлось обыкновенно несколько охотников до королевского венца. У каждого были свои сторонники; пускались в дело подкупы и всякие неправды, лишь бы навербовать побольше голосов. В пору междуцарствия все дела в Польше были обыкновенно в застое. Для врагов ее, желавших свести с ней счеты, такая пора была самая удобная.
Царь и патриарх решили начать войну. Созван был Земский собор. На нем было положено отмстить полякам за прежние их неправды и отобрать у них русские города, захваченные ими. Решено было собрать по-прежнему с торговых людей пятую деньгу (то есть пятую часть имущества), а бояре, дворяне, монастыри и прочие обязались по мере сил давать вспоможение. Назначены были и лица ведать сбор этих «запросных денег», как их называли.
Портрет короля Польши Владислава на коне
Начальником над ратью назначили сначала князя Черкасского, а товарищем ему — князя Лыкова. Но последний не хотел принять своей должности: ссылался на то, что он служит государю сорок лет, лет с тридцать ходит в походы начальником, а не подчиненным и не в товарищах. Этот местнический спор по жалобе Черкасского был разобран, и князь Лыков «за свою бездельную гордость и упрямство» должен был уплатить за бесчестье Черкасскому 1200 рублей, двойной оклад его жалованья. После этого главное начальство над войском вручено было боярину Михаилу Борисовичу Шейну, известному своей обороной Смоленска, а в товарищи ему назначили Артемья Измайлова. Войска с ним пошло в поход 32 тысячи с 158 орудиями. Другие воеводы тоже должны были двинуться к литовской границе.
Война началась очень удачно. Заняты были города Серпейск, Дорогобуж, и затем стали сдаваться один город за другим. Шейну велено было из Дорогобужа идти немедля под Смоленск, и, чтобы не было никакой помехи делу, государь приказал всем воеводам, головам и дворянам быть «без мест» на все время войны, то есть не вести никаких местнических споров между собой.
Н. Богданов Русское оружие XVII века
Шейн подступил к Смоленску и осадил его, но осажденные держались крепко. Восемь месяцев уже длилась осада. Русская рать окружила со всех сторон город, сделаны были кругом земляные окопы, откуда беспрерывно били по городу из пушек. Полякам трудно было держаться в городе — у них уже чувствовался недостаток в съестных припасах. Со дня на день ждали сдачи города, как вдруг нежданно-негаданно явилась к нему помощь: междуцарствие в Польше кончилось, избран был Владислав, и первым делом его было идти на выручку осажденных. В августе 1633 года с 23 тысячами войска подошел он к городу. В то же время дано было позволение днепровским казакам вторгнуться в московские пределы и пустошить землю; подбили к тому же поляки и крымских татар. Прослышав, что татары воюют южную украину, многие ратные люди стали самовольно уходить из стана Шейна, опасаясь за участь своих семейств. Сразу несколько бед обрушилось на русских. Шейн не догадался отойти от Смоленска — думал в своих окопах отсидеться от поляков до новой помощи ратными силами из Москвы. Владиславу удалось ввести свежие силы в Смоленск, стеснить русских и даже окружить их. Русская рать попала, как говорится, между двух огней: с одной стороны Смоленск, с другой — войска Владислава. Шейн стянул все свои силы в одно место. На беду для русских, поляки взяли и сожгли Дорогобуж, где был склад всяких запасов для войска, затем перекрыли все дороги к Смоленску. Попробовал Шейн выбиться из осады, но было уже поздно: неприятель успел сильно укрепиться на занятых местах. С конца октября русским пришлось сносить и голод, и холод; в русском стане поднялись раздоры. Более всех не ладили между собой иноземцы-военачальники. Дело дошло до того, что один из них, поссорившись с другим, схватил пистолет и положил своего противника на месте на глазах самого Шейна. От голоду и холоду начались в стане болезни; смерть ежедневно уносила многих. Продержался Шейн до февраля 1634 года. Ни ратной помощи, ни съестных припасов из Москвы не приходило. Хотя царь знал о бедственном положении русской рати под Смоленском, но помочь беде не мог: в скором времени нельзя было снарядить новое войско, да и средств для войны уже не было. Иноземцы, служившие в русском стане, стали сноситься с поляками, которые не раз уже предлагали сдаться на милость короля. Сначала Шейн колебался, наконец, видя невозможность дольше обороняться, согласился. Условия были и тяжелы, и унизительны: он должен был выдать всех польских перебежчиков, освободить всех пленных, дать иноземцам полную свободу вернуться в отечество или вступить в польскую службу. Все русские, составлявшие рать Шейна, должны были присягнуть, что в течение четырех месяцев не будут воевать против короля; притом они обязывались выдать весь наряд (пушки), все знамена и все оружие, оставшееся после убитых ратных людей. Вот главнейшие из условий. Шейн согласился.
19 февраля остатки русской рати выступили из острога (укрепления), где они оборонялись от поляков. Вышли со свернутыми знаменами, с погашенными фитилями, тихо, без музыки. Поравнявшись с тем местом, где был король верхом на коне, окруженный своими сановниками, русские воины положили все знамена на землю и ждали, что прикажет король. Гетман от имени его велел поднять их. Этим выражалась королевская милость к русским. Русское войско после этого, подняв знамена, зажегши фитили, с барабанным боем двинулось по московской дороге. Шейн и другие начальные люди, поравнявшись с королем, сошли с коней и низко поклонились ему, затем по приказанию гетмана сели опять на лошадей и отправились в путь. Всего войска из-под Смоленска было выведено восемь тысяч с небольшим; многие больные на дороге умерли; иноземцы большей частью изменили, перешли на службу к королю. Так печально кончился этот поход, к которому долго и старательно готовились и на успех которого сначала так надеялись. Шейн, доблестно оборонявший раньше Смоленск, оказался неискусным вождем в открытом поле.
Н. Богданов Польское оружие XVII века
Плачевная участь ждала воеводу в Москве. Патриарх Филарет умер, и бояре, окружавшие царя, опять вошли в большую силу, а среди них было много врагов Шейна. Его обвинили в измене и осудили на смерть. Когда его подвели к плахе, дьяк прочел обвинение: «Ты, Михайла Шейн, из Москвы еще на государеву службу не пошед, как был у государя на отпуске у руки, высчитывал ему прежние свои службы с большою гордостию, говорил, будто твои братья бояре в то время, как ты служил, многие за печью сидели и сыскать их было нельзя, и поносил всю свою братью пред государем с большою укоризною, по службе и по отечеству никого себе сверстником (равным) не поставил. Государь, жалуя и щадя тебя для своего государства и земского дела, не хотя тебя на путь оскорбить, во всем тебе смолчал; бояре, которые были в то время пред государем, слыша от тебя такие многие грубые и поносные слова и не хотя государя раскручинивать, также тебе смолчали». Затем Шейн обвинялся в медленности — в том, что он с товарищем своим упустили удобную пору для похода и, дождавшись ненастных дней, повели войско в путь. Поставлена была в вину воеводе и его суровая строгость к ратным людям, обижавшим во время похода мирных жителей; особенно же обвинялся он за то, что выдал королю польских и литовских людей, передавшихся от короля на службу царю, выдал королю все пушки, положил пред ним свернутые знамена и кланялся ему в землю, «чем сделал большое бесчестье государскому имени». Припоминалось Шейну и то, что он, пятнадцать лет тому назад, вернувшись из польского плена, не сказал государю, что целовал крест польскому королю и сыну его. «Будучи под Смоленском, — говорилось в обвинении, — изменою своею государю и всему Московскому государству, литовскому королю присягу исполняя, во всем ему радел и добра хотел, а государю изменял».
Царь и великий князь всея Руси Михаил Федорович Романов
Во многом был виноват Шейн, но измены за ним, конечно, не было, иначе он не вернулся бы в Москву. Но бояре, которых оскорбили его спесь и тщеславие, хотели доконать его и потому особенно напирали на измену.
Шейну отрубили голову. Той же казни подвергся товарищ его, Измайлов, с сыном, обвиненный в измене, сношениях с врагами и в том, будто он говорил «много воровских, непригожих слов» о царе и патриархе. Нескольких сослали в Сибирь.
Несчастье под Смоленском было тяжким ударом для Москвы. Теперь оправиться, снарядить сколько-нибудь сильную рать было для нее невозможно: денег в казне совсем не было. Приходилось искать мира, но Польша предупредила. Из-под Смоленска король двинулся к крепости Белой, рассчитывая взять ее без труда, но воевода и не думал сдаваться. Полумертвые от голода и холода поляки вынуждены были вести осаду, делать окопы, рыть мины. Русские сделали удачную вылазку: захватили восемь знамен, воспользовавшись оплошностью поляков. Подкопы им не удались, даже вредили им самим больше, чем русским. В это время к Владиславу пришли дурные вести с турецкой границы. Все это побуждало его заключить с Москвой мир — мир вечный. Паны первые прислали к боярам предложение о мире. В Москве оно, конечно, было принято охотно, и в марте 1634 года боярин Федор Иванович Шереметев и князь Алексей Михайлович Львов отправились великими послами на съезд с польскими сановниками на речке Поляновке.
Дело, как всегда, началось взаимными укорами и обвинениями. Поляки стали было говорить о правах Владислава на московский престол и корить русских за нарушение перемирия; тогда московские послы, крепко стоявшие за государеву честь, заявили, что они ни о чем и говорить не станут, если Владислав не откажется от своих притязаний на Москву.
— У нас, — сказали они, — у всех людей Русского государства, начальное и главное дело — государскую честь оберегать, и за государя все мы до одного человека умереть готовы.
После долгих споров и требований за издержки последней войны польские послы сказали:
— Королю будем бить челом, чтоб он крестное целование с вас снял и титул свой государю вашему уступил, а вы объявите, чем вы за то государя нашего станете дарить.
— Нам этого в уступку и дар не ставьте, — отвечали московские послы, — что король хочет с себя титул московский сложить; дарить нам государя вашего за это не за что, потому что великий государь наш на Московском государстве царствует по дару и воле Всемогущего Бога, по древней своей царской чести от предков своих, великих государей. А наше, московских людей, крестное целование от государя вашего короля и от ваших неправд в московское разорение омылось кровью, и мы от него чисты!
Ф. Солнцев Самострелы и железная стрела
Наконец польские послы заговорили об уступках — потребовали все города, которые были отданы Польше по Деулинскому перемирию, и 100 тысяч рублей денег. Русские упорно отстаивали выгоды своего отечества, уступая только в крайнем случае, когда поляки явно хотели уже прервать переговоры. После многих съездов, споров, увещаний наконец решено было уступить королю требуемые города и 20 тысяч денег за отказ от московского титула. Поспорили еще о титуле русского царя; поляки настаивали, чтобы он писался государем своея Руси, а не всея Руси, так как часть ее подвластна королю, но московские послы отстояли прежний титул своего государя. Затем послы ударили по рукам на вечном окончании. Так был заключен Поляновский мир 17 мая 1634 года.
Поляки добивались вечного союза с Москвой, предлагали даже, чтобы в знак полного единения московский посол при коронации польского короля возлагал на него корону, а польский посол возлагал бы корону на царя в Москве при венчании его на царство; предлагали, чтобы по смерти короля все московские чины принимали участие в избрании нового короля, чтобы русский царь, если его изберут в короли, жил два года в Польше и Литве и год в Москве, чтобы, если у царя не будет сына, польский король считался его наследником. Просили поляки также, чтобы им позволили строить в Московском государстве костелы, приобретать вотчины, вступать в браки с русскими, взамен чего русским в Польше давались те же права.
Очевидно, полякам хотелось мало-помалу прибрать к рукам Московскую Русь, как прибрали они уже русский юго-запад. Московские послы на эти требования отвечали отказом или уклонялись от ответа, говоря: «Пусть об этом государи перешлются между собою».
П. Першин Прием посольства Михаилом Федоровичем
Поляновский договор о «вечном» мире скрепили крестным целованием сами государи. В начале февраля 1635 года явились польские послы в Москву. Им был устроен торжественный прием. В Грановитой палате они представлялись царю. Он сидел во всем царском великолепии на троне; по бокам трона стояли рынды в высоких рысьих шапках, с топорами на плечах; по стенам палаты сидели именитые бояре. Послов допустили к целованию царской руки, затем стольничий предъявил царю их подарки. На другой день позвали послов в Ответную палату. Здесь они говорили с боярами и читали договор. Затем их повели к царю, в Золотую палату. Государь был в полном облачении. Царский духовник принес животворящий крест на золотом блюде. Боярам и послам приказано было подойти поближе. Царь встал, и с него сняли венец, взяли из рук скипетр. Утвержденную грамоту положили под крест, и царь благоговейно приложился к кресту. Таким образом совершился обряд царской присяги. Затем царь велел своему печатнику отдать грамоту послам и отпустить их. Через несколько дней их в знак особенной чести пригласили к царскому столу в Грановитой палате. За столом царь милостиво посылал в золотых братинах напитки послам. Когда подали мед, государь встал и сказал:
— Пью за здоровье брата моего, государя вашего, Владислава-короля!
Через несколько дней после царского стола послов отпустили домой.
Король в свою очередь должен был так же торжественно скрепить договор с Москвой своей присягой. Любопытно, что русским послам, которые обязаны были присутствовать при королевской присяге, дан был наказ: «Непременно за то стоять накрепко, чтобы король поцеловал в крест, а не в блюдо (на котором лежал крест), и смотреть, когда король велит положить на запись крест, чтобы этот крест был с распятием. А если король закона люторского, то ему целовать Евангелие». (Наказ требовал от послов, чтобы они разведали подлинно, какой веры король.)
Н. Маковский Грановитая палата
23 апреля совершился, весьма торжественно, обряд королевской присяги. Костел был великолепно убран. Король шел в костел с двумя архиепископами и шестнадцатью сановниками. Помолившись пред большим алтарем, он сел в кресла. Архиепископ стал говорить подходящую к случаю проповедь, причем довольно часто в свою речь вставлял латинские слова и изречения. Один из русских послов простодушно обратился к польскому канцлеру с просьбой запретить проповеднику говорить латинские слова, непонятные русским. После проповеди архиепископ подал крест и присягу королю, и он громко прочел ее и поцеловал крест; за королем присягнули шесть сенаторов. Затем король подал грамоту русскому послу и сказал:
— Надеюсь, что с Божьей помощью будет у нас крепкая и вечная приязнь с государем вашим, братом моим. Отдайте в его руки этот задаток нашего братства и кланяйтесь ему от моего имени по-приятельски.
Послы низко поклонились. Архиепископ запел: «Те Deum laudamus» («Тебя, Бога, хвалим»). Раздалась пушечная пальба…
Король угощал русских послов обедом, а потом позабавил их потехой, неизвестной еще на Руси, — театральным представлением. «А потеха была, — по словам послов, — как приходил к Иерусалиму ассирийского царя воевода Олоферн и как Юдифь спасла Иерусалим».
Русским послам предстояло еще исполнить печальное поручение царя — выпросить у короля прах Шуйских: царя Василия, брата его Дмитрия и жены последнего. Послы пообещали некоторым сановникам щедрые подарки соболями. Дело уладилось довольно легко. Король согласился, велел даже роскошно изукрасить гробы.
Ф. Солнцев Кресло царя Михаила Федоровича
10 июня утром в Московском Кремле загудел колокол, и народ толпами повалил навстречу праху царя Василия. Гроб несли на головах боярские дети; его сопровождали духовенство и послы. Везде по пути в Москве у церквей погребальную процессию встречало духовенство в смирных (траурных) облачениях и присоединялось к ней. Близ Кремля встретил ее патриарх Иоасаф, преемник Филарета, а в Кремле у Успенского собора — сам государь. Он и бывшие при нем бояре и думные люди — все были в смирных одеждах. В Архангельском соборе пели панихиду, а на следующий день было погребение. Таким образом, праху злополучного царя Василия Ивановича довелось вернуться из плена и почивать в родной земле, под сенью православного храма, наряду с другими русскими государями.
Азовское дело
Царь всеми силами старался ладить с крымским ханом: посылал ему ежегодно щедрые поминки, дружил с турецким султаном, от которого зависел Крым. Ничто не помогало. Нередко, чуть ли не вслед за царскими гонцами, привезшими хану подарки, ватаги его хищных наездников кидались на русскую украину, грабили, опустошали селения и города и угоняли толпами пленных. Для обороны от таких набегов царь, по примеру Бориса Годунова, приказывал строить по южной границе новые города, остроги, земляные городки. Иные из них охранялись постоянно военными отрядами, которые и составляли главное население их, а другие временно занимались отрядами, в случае опасности. Таким образом, возник целый ряд укреплений; некоторые из них потом разрослись в довольно населенные города (Тамбов, Козлов, Оскол и другие).
Между ними рыли канавы, сооружали валы, а на них в разных местах — острожки.
На реках, где были броды, по которым переходили татары, вбивали сваи и дубовые колья для порчи лошадиных ног, устраивали засеки и прочее.
Донские казаки, получившие начало от тех сторожевых отрядов, которые московское правительство водворяло издавна по южной границе для защиты от татарских набегов, постоянно выбивались из-под власти. Они нередко задирали и крымцев, и турок, нападали своевольно на их владения, грабили и разбойничали по берегам Черного моря. Московское правительство не знало, как и быть с ними: то совершенно отказывалось от них как от воров и разбойников, не признающих над собой никакой власти, то посылало им щедрые подарки и жалованье, так как они могли наносить большой вред крымцам и мешать их набегам.
Порой доходило до того, что и царским посланцам небезопасно было проезжать Доном; так, раз донской атаман говорил грозно русским послам, ехавшим к султану:
— Призывали меня в Москве к боярам, и бояре приходили на меня с шумом, меня и войско все лаяли и позорили; а наше войско — люди вольные, в неволю не служат, и вы, посланники, на Дон идете… Как войско изволит, так над вами и сделают!
Ф. Солнцев Боярская одежда XVII века
Иногда русским послам плохо приходилось и в турецких городах, если донские казаки не впору делали лихой набег на турецкие владения. Так, однажды русские посланники, ехавшие к султану, приехали в Азов и только что успели разместиться на посольском дворе после тяжелых приключений, испытанных на пути, как ворвались к ним азовские люди с криком и угрозами: одни кричали, что посланников надо убить, другие находили лучшим обрезать им носы и уши и в таком виде отпустить их на Дон. Вся беда обрушилась на них за то, что казаки в это время промышляли разбоем над азовцами и стояли на многих стругах в донском устье, поджидая богатый купеческий караван, шедший из Кафы в Азов. С большим трудом послам удалось отклонить казаков от задуманного разбоя и только таким образом избавиться от насилий свирепой толпы. Бывали подобные случаи с русскими посланниками и в Константинополе. Напрасно они отговаривались тем, что казаки — разбойники, над которыми царь не властен и которых он считает своими врагами; этим отговоркам ни турки, ни татары не верили, так как знали о жалованье царском, которое по временам посылалось на Дон, знали и о том, что казацкие ватаги пополняются более всего русским людом.
— Донских казаков, — говорил один турецкий паша русскому послу, — каждый год наши люди побивают многих, а все их не убывает: сколько бы их в один год ни погибло, на другой год еще больше того из Руси прибудет. Если бы прибылых людей на Дон не было, то мы давно бы уже управились с казаками и с Дона их сбили!
И это было верно. Ежегодно из Московской Руси бежали на Дон разные лихие люди, беглые крестьяне, охотники до вольного казацкого житья, и с лихвой пополняли убыль в рядах донцов, которые гибли сотнями во время своих дерзких наездов.
Донцы одним своим лихим делом чуть было не втянули Москву в войну с султаном. Затеяли они идти всем войском под Азов и «промысел над ним учинить». Это было в 1637 году. В то же время на Дон пришли степью на конях запорожские черкасы (казаки), человек с тысячу; всего казаков набралось тысяч пять без малого. 21 апреля, на второй неделе после Светлого воскресения, союзники выступили в поход к Азову.
Незадолго перед тем проезжал Доном турецкий посланник, ездивший не раз уже в Москву. Казаки его задержали. Через некоторое время они призвали его в свой круг. Тут он был обвинен в том, что хвалился донских казаков разорить и с Дону свесть, что писал в Москву, чтоб государь велел повесить их атамана, и так далее.
— И за такое воровство, — заявлено было послу в заключение, — донские атаманы и казаки и все войско приговорили тебя казнить смертью!
Этот приговор своевольной толпы был тут же исполнен. Казаки изрубили несчастного посла саблями.
Две недели спустя после этого убийства казаки стояли под Азовом. 18 июня город был взят. Победители без жалости истребили всех жителей, кроме греков, освободили пленных христиан и засели в городе, готовясь к обороне.
30 июля приехали в Москву посланцы от казаков с вестью, что они турецкого посланника изрубили, Азов взяли и ни одного азовского человека не упустили ни в степи, ни на море — всех изрубили.
В ответ на это царь послал им строгий выговор:
— Вы это, атаманы и казаки, учинили не делом, что турецкого посла со всеми людьми побили самовольством. Нигде не ведется, чтоб послов побивать; хотя где и война между государями бывает, то и тут послы свое дело делают и никто их не побивает. Азов взяли вы без нашего царского повеленья и атаманов и казаков добрых к нам не прислали, кого подлинно спросить, как тому делу вперед быть.
Хотя для Москвы было выгодно завладеть Азовом (оттуда можно было держать в страхе крымских татар), но войны с султаном царь не хотел и поспешил отправить ему грамоту. В ней между прочим говорилось:
«Вам бы, брату нашему, на нас досады и нелюбья не держать за то, что казаки посланника вашего убили и Азов взяли: это они сделали без нашего повеления, самовольством, и мы за таких воров никак не стоим и ссоры за них никакой не хотим, хотя из воров всех в один час велите побить; мы с вашим султанским величеством в крепкой братской дружбе и любви быть хотим».
Н. Кочергин Взятие турецкой крепости Азов донскими казаками 18 июля 1637 года
Но избежать «нелюбья» и «досады» со стороны турок и татар было мудрено. В сентябре крымцы сделали набег на московскую украину и опустошили ее. Хан писал в Москву, что нашествие совершено по приказу султана за то, что казаки взяли Азов. Турция, занятая войной с Персией, только в мае 1641 года двинула к Азову войско, чтобы выбить отсюда казаков. Силы турок были громадны — более двухсот тысяч человек с сотней осадных орудий. С турками был и крымский хан со своим полчищем. Казаков в Азове было всего лишь тысяч пятнадцать, да женщин-казачек было сот восемь: их надо считать, потому что они усердно помогали своим мужьям в обороне. Казаки с отчаянным мужеством отражали турок; 24 приступа сделали турки, и всякий раз были отбиты с большим уроном. Они громили город и с моря, и с суши из больших стенобитных пушек, рыли подкопы; наконец пускали в город записки, в которых сулили большие деньги за измену. Ничто не помогало. Ни один перебежчик не являлся к туркам, ни один пленник под самыми страшными пытками не сказал даже о числе защитников Азова. Пробившись попусту чуть не полгода, потерявши около 20 тысяч людей, турки наконец в конце сентября сняли осаду.
Казаки известили царя о своем торжестве и просили помощи, просили, чтобы царь принял от них Азов под свою руку.
«Мы наги, босы и голодны, — писали они, — запасов, пороху и свинцу нет, от этого многие казаки хотят идти врознь, а многие переранены».
Молодецкая оборона казаков, хоть и «вольных», и «лихих воровских людей», но все же по крови русских, в Москве очень порадовала всех. Царь послал им щедрое жалованье и в грамоте своей хвалил их.
«Мы вас, — говорил он, — за эту вашу службу, раденье, промысел и крепкостоятельство милостиво похваляем».
Теперь возник трудный вопрос: брать ли Азов от казаков или нет? Дело было, с одной стороны, очень заманчиво, а с другой — весьма опасно: владея Азовом, можно было не только грозить татарам, удерживать их от набегов на русские украины, а при случае даже и попытаться завладеть Крымом; но принять Азов от казаков значило навлечь на Россию войну с турками. (Нужны большие ратные силы, большие средства, а где их взять?)
Неизвестный художник Портрет царя Михаила Федоровича
Решено было отдать азовское дело на рассмотрение Земского собора. Царь указал: «Выбрать изо всяких чинов, из лучших, средних и меньших, добрых и умных людей, с кем об этом деле говорить» (1642 год).
Собор собрался в столовой избе. Думный дьяк Лихачев изложил дело об Азове, заявил, что в Москву уже едет султанский посол и ему придется давать ответ, наконец поставил собору такие вопросы:
— Государю-царю за Азов с турским и крымским царем разрывать ли и Азов у казаков принимать ли? Если принять, то войны не миновать и ратные люди надобны будут многие. На жалованье им и на всякие запасы деньги надобны многие, и не на один год, и такие великие деньги и многие запасы где брать?
Эти вопросы были записаны и розданы выборным людям, а они должны были «помыслить о том накрепко и государю мысль свою объявить на письме, чтоб ему, государю, про все то было известно».
Духовенство на вопросы отвечало, что о ратном деле рассуждать следует царю да боярам, а им, духовным лицам, все это не за обычай; их же дело Бога молить, а помогать ратным людям они готовы по мере сил.
Служилые люди (стольники, дворяне, боярские дети) высказались вообще за то, чтобы взять Азов; только охоты не выказывали служить с казаками, «людьми самовольными», советовали государю на помощь донцам, засевшим в Азове, послать из ратных охочих и вольных людей.
— Людей в Азов, — говорили некоторые выборные из служилых людей, — велел бы государь прибрать охочих в украинских городах из денежного жалованья, потому что из этих городов многие люди прежде на Дону бывали и им та служба за обычай.
Двое из дворян изложили обстоятельнее свое мнение. Они тоже стояли за то, чтобы послать на подмогу казакам охочих, вольных людей; чтобы Азов взять, потому что тогда не только крымцы будут в страхе, но подчинятся царю и ногаи, и другие татарские орды, и кавказские горцы. Говорили, что лучше израсходовать деньги на войну, чем понапрасну тратиться на поминки крымцам, которые своей присяги никогда не соблюдают.
Стрелецкие головы и сотники отвечали, что «во всем государева воля, а они, холопи его, служить рады и готовы, где государь ни укажет».
Дворяне и дети боярские из разных городов по большей части выражали такую же готовность.
Но были мнения и другого рода. Владимирские дворяне и дети боярские говорили, что государю и боярам ведома бедность их города.
Дворяне и боярские дети некоторых северных уездов советовали брать людей и деньги преимущественно с разбогатевших людей, причем говорили:
«Твои государевы дьяки и подьячие пожалованы твоим денежным жалованьем, поместьями и вотчинами и, будучи беспрестанно у твоих дел и обогатев многим богатством неправедным от своего мздоимства, покупали многие вотчины и домы свои построили многие, палаты каменные такие, что неудобь сказаемые. Блаженной памяти при прежних государях и у великородных людей таких домов не бывало».
Ф. Солнцев Зерцало Михаила Федоровича
А. Васнецов Старая Москва XVII века
Не пощадили обличители и своих братий.
«Некоторые наши братия, — говорили они, — будучи в городах у твоих государевых дел, ожирели и обогатели и на свое богатство накупили себе вотчин». Вот с таких-то «обогатевших» и «ожиревших» людей, по мнению выборных, и надо брать средства для войны.
«А бедных нас, холопей своих, — писали они, — разоренных и беспомощных, беспоместных, и пустопоместных, и малопоместных вели, государь, взыскать своею милостью поместным и денежным жалованьем, чтоб было чем твою государеву службу служить».
Дворяне из южных городов советовали брать деньги и всякие запасы ратным людям, сколько за кем крестьянских дворов, а не по писцовым книгам (неправильно составленным).
«А мы, холопи твои, — прибавляли они, — с людьми своими и со всею своею службишкою против недругов твоих готовы, где ты укажешь; а разорены мы пуще турских и крымских басурманов московскою волокитою (проволочками в делах) от неправд и от неправедных судов».
Но, несмотря на эти жалобы и обличения, все служилые люди были за войну.
Торговые люди заявили:
«Мы, холопи твои, торговые людишки, питаемся от своих промыслишков, а поместий и вотчин за нами нет никаких, службы твои государевы служим в Москве и в иных городах ежегодно и беспрестанно… сбираем твою государеву казну за крестным целованьем с великою прибылью: где сбиралось при прежних государях и при тебе в прежние годы сот по пяти и по шести, теперь там сбирается с нас и со всей земли нами же тысяч по пяти, по шести и более. А торжишки стали гораздо худы, потому что всякие наши торжишки на Москве и в других городах отняли многие иноземцы, немцы и кизильбашцы (персияне)… а в городах всякие люди обнищали и оскудели до конца от воевод».
Затем торговые люди сборы на войну с них полагали на государеву волю и прибавляли в заключение, что «рады служить своими головами за царское здоровье и за православную веру помереть».
Люди низшего чина, сотские и старосты черных сотен и слобод, от имени всех тяглых людей объявили:
«Мы, сироты твои, тяглые людишки, по грехам своим оскудели и обнищали от великих пожаров, от пятинных денег, от поставки людей, от подвод, от великих податей и от разных служб в целовальниках… Всякий год с нас, сирот твоих, берут в государевы приказы по ста сорока пяти человек в целовальники, да с нас же берут извозчиков с лошадьми стоять беспрестанно при земском дворе для пожарного случая, а мы платим тем целовальникам да извозчикам каждый месяц подможные кормовые деньги. И от великой бедности многие тяглые людишки из сотен и из слобод разбрелись розно и дворишки свои покидали».
Таким образом, царь из уст выборных людей узнал о полной готовности жертвовать своим достоянием и даже жизнью на пользу родной земли, но услышал также и о бедственном положении ее, особенно черных людей, — и убедился, что надо думать еще не о войне, а о строении своей земли.
На верность вероломных казаков трудно было полагаться, а без них Москве трудно было бы оборонять от турок отдаленный Азов. Город оказался по досмотру так разбит и разорен, что нельзя было его скоро поправить. Наконец, к царю пришли из Молдавии вести, что султан поклялся в случае войны с Москвой истребить всех православных в своих владениях.
Царь послал 30 апреля казакам приказ покинуть Азов. Они разрушили его до основания, не оставили камня на камне, и вышли из него. Когда громадное турецкое войско пришло отнимать Азов от казаков, то увидело лишь груды развалин.
Русским послам, отправленным в Константинополь, наказано было сказать султану:
— Вам самим подлинно известно, что донские казаки издавна воры, беглые холопи, живут на Дону, убежав от смертной казни, царского повеленья ни в чем не слушаются и Азов взяли без царского повеленья. Помощи им царское величество не посылал, вперед за них стоять и помогать им государь не будет, ссоры из-за них никакой не хочет.
Дворец Михаила Федоровича
Иноземцы в России
На соборе по азовскому делу ясно сказалось плачевное состояние Русской земли; от страшного разгрома и смуты она в течение почти 30 лет не могла еще очнуться и оправиться. Жаловались не только на нищету и разорение, но и на воевод, и на приказных людей. В высших правительственных местах, в московских приказах, где под начальством бояр дьяки и подьячие вершили всякие дела, добиться правды было тоже нелегко: приказные люди были очень падки к посулам и тянули (волочили) дела обыкновенно очень долго. «Московская волокита» с разными взятками и подачками была так убыточна для просителей, что порой побуждала их вовсе отказываться от своих исков.
При всем добром желании царя и благомыслящих бояр искоренить это зло было весьма трудно: людей сведущих было крайне мало, а людей честных, способных служить «беспосульно» и «безволокитно», — еще меньше.
Недостаток образования, которое поднимает человека умственно и нравственно, сказывался уже весьма ощутительно, но немногие русские того времени понимали это. Иностранцы утверждали, что русские не любят никаких высших знаний и нельзя встретить во всей земле человека, который бы разумел по-латыни. (В те времена латинский язык был ключом ко всякому знанию: научные рассуждения тогда писались по-латыни.)
Если не понимали тогда на Руси цены образования в широком смысле, то нельзя того же сказать о знаниях прикладных, то есть применимых к житейскому обиходу, — их давно уже ценили русские и готовы были платить хорошие деньги разным иноземным «хитрым» рудознатцам, лекарям, пушкарям, оружейникам, золотых, серебряных и разных других дел мастерам.
Долгие войны со шведами и поляками особенно давали чувствовать русским цену европейского военного искусства, превосходство европейского вооружения и ратного строя над русским. При всей готовности умереть, сложить свои головы за царя и отечество, при всем мужестве, которому удивлялись иностранцы, русские войска нередко в открытом поле терпели поражения от неприятелей, слабейших числом, но лучше вооруженных и более искусных в ратном деле. Царь понимал вполне необходимость преобразования войска, приказывал, как мы знаем, обучать ратных людей иноземному строю, вербовать целыми тысячами иноземных солдат, на которых не жалели издержек.
При царском дворе служило много иноземцев: были тут лекари, аптекари, часовых и органных дел мастера и прочие. Один из них соорудил на диво русским такой искусный орган, что, в то время как он играл, пели птицы (соловей и кукушка), искусно сделанные на нем. Царю очень полюбилась эта диковинка, и он подарил мастеру за нее более двух с половиной тысяч рублей.
Ф. Солнцев Одежда бояр XVI–XVII веков
Начинали, очевидно, сознавать уже важность вообще науки: в грамоте ученому голштинцу Олеарию от имени царя Михаила Федоровича говорится:
«Ведомо нам учинилось, что ты гораздо научен и навычен астрономии, и географус, и небесного бегу, и землемерии, и иным многим надобным мастерствам и мудростям, а нам, великому государю, таков мастер годен».
География, видимо, занимала царя: он велел сделать дополнения и объяснения к карте «Большой чертеж Русской земли», составленной еще по приказу Бориса Годунова.
Хотя русские смотрели на иноземцев как на еретиков, боялись «иноземной прелести», как выражались тогда, но все-таки надобность в «иноземных мастерствах и хитростях» пересиливала эти опасения, и московское правительство беспрестанно призывало к себе иностранных мастеров и промышленников, давало им охотно всякие права и льготы, обыкновенно с условием, чтобы они «обучали русских своему делу и никакого ремесла от них не таили». Голландцу Виниусу позволено было в окрестностях Тулы устроить завод для выделки разных чугунных и железных вещей, литья пушек, ядер и прочего; другому иностранцу, Марселису, давалось право заводить железные заводы на Ваге, на Шексне и в Костроме «безоброчно» и «беспошлинно» на двадцать лет; третьему — шведу Коэту дано такое право на пятнадцать лет на заведение стеклянного завода; четвертому разрешено добывать золу и поташ и так далее. Очевидно, правительство старалось водворить в Русской земле новые полезные промыслы и производства и поднять промышленность.
А. Васнецов Красная площадь во второй половине XVII века
В это время в Москве жило уже много иностранцев — одних протестантских семейств насчитывали до тысячи. Сначала они селились в городе где хотели, устраивали в своих дворах себе молитвенные дома (кирки), но скоро русские священники, опасаясь соблазна для православных, стали сетовать на это. Тогда было отведено для кирк особое место и велено сломать те, которые немцы устроили близ русских церквей.
Частые посольства русских за границу и от разных иностранных дворов в Россию должны были также все более и более знакомить русских с Западом. Много любопытного видели русские за границей, много было там и привлекательного для них — недаром русское духовенство так опасалось «иноземной прелести».
Иностранных послов принимали обыкновенно очень торжественно, с истинно русским широким гостеприимством и хлебосольством, но в то же время не всегда относились к ним доверчиво. Еще на границе встречали их царские пристава и сопровождали до Москвы, где уже происходил пышный, торжественный прием, причем считались с важностью и значением посольства.
Вот как описывает один из таких приемов Олеарий, бывший при голштинском посольстве (1634):
«13 августа мы приехали в последнее село пред Москвой. На другой день рано утром пристав с толмачом своим и писцом пришли к посланникам, благодарили их и всех нас за оказанные им во время пути благодеяния и просили у нас извинения, если они служили нам не так, как бы следовало. Послы подарили приставу большой бокал, а толмачу и писцу дали денег. Затем мы стали готовиться к въезду в Москву».
В стройном порядке, с конными стрельцами впереди, двинулось посольство к столице.
С. Иванов Царь. XVI век
«Когда мы приблизились, — продолжает Олеарий, — к Москве, навстречу нам прискакали один за другим десять гонцов. Они беспрестанно уведомляли, где еще находились русские, которые должны были принимать нас, и привозили приказание продолжать наше шествие то скорее, то медленнее, для того чтобы одна часть не пришла в назначенное место раньше другой и чтобы, таким образом, не пришлось дожидаться которой-нибудь из них. Кроме того, мы встречали целые толпы всадников русских, прекрасно одетых; они быстро проносились на своих конях мимо нас и так же быстро возвращались. Между ними было и несколько наших знакомых из шведского посольства, которым, по-видимому, не дозволялось подъехать к нам и пожать нам руку; они только издали приветствовали нас. За четверть мили от Москвы встретило нас более четырех тысяч человек русских в богатых одеждах и на прекрасных лошадях; они поставлены были в строй, сквозь который мы должны были проходить.
Далее навстречу нам выехали верхами два пристава в золотых одеждах (кафтанах) и высоких собольих шапках, на прекрасных белых конях, у которых вместо уздечек висели огромные серебряные цепи; кольца их состояли из серебряных пластинок и при движении издавали громкий звук. За приставами следовал великокняжеский конюший с двадцатью белыми верховыми лошадьми и множеством конных и пеших людей. Когда съехались пристава с послами, те и другие сошли с коней, а старший пристав сказал:
— Великий государь, царь и великий князь Михаил Феодорович, самодержец всероссийский, владимирский, московский (следовал весь титул), приказал нам встретить и принять вас, великих послов герцога голштинского (следовал подробный титул), соблаговолил выслать вам своих лошадей для въезда и назначил обоих нас приставами служить вам на все время пребывания вашего в Москве и заботиться о доставлении вам всего необходимого.
Когда посланник ответил на это приличным образом, послам подвели двух рослых белых лошадей, оседланных шитыми серебром и золотом немецкими седлами и убранных разного рода дорогими украшениями.
Как только послы сели на лошадей, пристав и казаки, провожавшие нас от границы до Москвы, удалились. Послы ехали между двумя приставами, хотя у русских обыкновенно в случае, когда три и более человека идут или едут вместе, считается почетнейшим то место, где человек с правой стороны у себя не имеет никого другого. За лошадьми шли русские конюхи и несли седельные покрывала из леопардовой кожи, парчи и алого сукна. Подле посланников ехало на лошадях множество других москвитян, которые толпились и составляли густую массу, провожавшую послов до самого их помещения… Когда мы проезжали по Москве, все улицы и дома были усеяны бесчисленным множеством народа, собравшегося поглядеть на наш поезд. Улицы, впрочем, незадолго до нашего приезда были сильно опустошены пожаром, истребившим более пяти тысяч домов, так что многие жители вынуждены были разместиться в палатках.
Ю. Кугач Московская улица в XVII веке
Через полчаса по прибытии нашем в Москву из кухни и погреба великого князя присланы были нам в знак приветствия разные припасы, а именно: 8 овец, 30 кур, много белого и ржаного хлеба и, сверх того, 22 сорта дорогих напитков — вина, пива, меду и водки. Все это принесли нам 32 человека, которые шли в известном порядке, образуя длинный ряд. Такие же припасы и таким же образом получали мы после каждый день, только наполовину меньше: таков обычай у русских, что чужестранные послы получают двойное количество продовольствия в первый день их прибытия и в день, когда бывают у руки его царского величества.
После доставки продовольствия заперли передний двор нашего помещения и приставили 12 стрельцов-часовых с тем, чтобы до первого представления царю никто из нас не выходил из дому и никто из посторонних не входил к нам. Пристава ежедневно посещали послов и справлялись, не нуждаются ли они в чем. Кроме того, в нашем дворе постоянно находился при нас русский переводчик, который распоряжался стрельцами для наших услуг и рассылал их за покупками разных вещей, нужных нам…
М. Опенкова Прием послов. XVII век
19 августа назначен был прием послов у царя…
В этот день рано утром пришли пристава осведомиться, собираемся ли мы к выходу, и, увидавши, что мы были совершенно готовы, поспешно поскакали назад во дворец. Вскоре за тем были приведены нам для поезда белые лошади. В 9 часов пристава пришли снова в своих обыкновенных платьях; новые же кафтаны и высокие шапки, взятые ими из великокняжеской кладовой, несли за ними их слуги. Пристава переоделись в эти платья в передней комнате у послов и таким образом тут же, при нас, нарядились как нельзя лучше. После того мы сели на лошадей, в плащах, без шпаг (при шпаге никто не смеет являться к царю), и поехали во дворец в стройном порядке…
От самого посольского помещения до дворца на протяжении восьмой части мили расставлены были по обеим сторонам дороги тесными рядами стрельцы, между которыми мы должны были ехать. За ними все улицы, дома и крыши усеяны были множеством народа, собравшегося поглазеть на наш поезд. На дороге несколько раз гонцы из дворца скакали к нам навстречу во всю лошадиную прыть и, как при въезде в Москву, отдавали приказы, чтобы мы то скорее, то медленнее ехали, то совсем на время приостанавливались, — это для того, чтобы его царское величество мог сесть на престол в приемном покое не прежде и не позже того, как прибудут послы.
На главной дворцовой площади мы сошли с лошадей, и все наши построились в известном порядке… К приемной нас повели с левой стороны, через крытый ход со сводами, где мы прошли мимо весьма красивой церкви. Этим ходом мимо церкви провели нас потому, что мы христиане; турок же, татар и персов водят другим ходом.
Перед приемной мы должны были пройти через одну палату со сводами, в которой кругом сидели и стояли старые почтенные мужи с длинными седыми бородами, в парчовых одеждах и высоких собольих шапках. То были гости его царского величества, то есть важнейшие купцы; одежды же на них взяты были из царских кладовых, из которых они выдаются только при подобных торжественных случаях и потом снова отбираются.
Когда послы были у дверей упомянутой передней палаты, из приемной вышли от его царского величества два боярина в парчовых одеждах, вышитых жемчугом. Они встретили послов и сказали:
— Его царское величество соблаговоляет господам послам явиться к нему.
Подарки, которые послы приносили царю от своего государя, были оставлены в передней палате. Они состояли из дорогих вещей, между которыми были боевые часы с подвижными фигурами, изображающими историю блудного сына, большое зеркало в рамке из черного дерева, украшенной литыми из серебра листьями и фигурами, хрустальная кружка, обделанная золотом и яхонтами, и многие другие».
Ф. Солнцев Одежда царская XVII века
«Только что мы, — продолжает Олеарий, — вступили в приемный покой, главный переводчик царский выступил вперед, пожелал государю счастья и долголетней жизни и возвестил о прибытии голштинских послов.
Приемная была четырехугольная комната со сводами, на полу и по стенам обитая прекрасными коврами; потолок ее украшен был золотом и разными изображениями из Священной истории, писанными различными красками. Царский престол стоял в глубине, у стены, против входа, на возвышении из трех ступеней от полу; вокруг него по углам стояли четыре серебряных столба, на которых находились серебряные орлы с распростертыми крыльями; от этих орлов шла крыша, опиравшаяся на те же столбы и увенчанная башенкой, также с орлом наверху; по четырем углам крыши были также серебряные башенки с орлами.
На престоле, в одежде, унизанной разными драгоценными камнями и крупным жемчугом, сидел царь. Корона его усеяна была крупными брильянтами, так же как и золотой скипетр, который, вероятно по его тяжести, царь держал то в правой, то в левой руке. По обеим сторонам престола стояли четыре молодых рослых князя, по двое с каждой стороны, в белых камчатных одеждах, в высоких рысьих шапках и в белых сапогах. На груди у них крестообразно висели золотые цепи, и каждый из них вооружен был серебряным бердышом; держали они бердыши на плечах, как бы готовясь нанести удар. Вдоль стен кругом сидели важнейшие бояре, князья и государственные чины, более 50 человек, все — в богатейших одеждах, в высоких шапках из черной лисицы. В нескольких шагах от престола с правой стороны стоял государственный канцлер (начальник иноземного приказа). Подле самого престола справа стояла золотая держава, величиной с ядро (48-фунтового веса), на резной серебряной пирамиде. Далее стояли золотая лохань и рукомойник с полотенцем для омовения руки его царского величества после допущения к ней послов и сопровождающих их. К царской руке допускаются только христианские послы.
Когда послы, вошедши в приемную, почтительно поклонились, их немедленно подвели к царю и поставили пред ним в 10 шагах; за послами стали сопровождавшие их, а с правой стороны — наши два дворянина с грамотами. Переводчик стал подле послов с левой стороны.
Затем его царское величество дал знак государственному канцлеру и велел сказать послам, что он допускает их к своей руке, и те начали подходить поодиночке, друг за другом. Царь взял скипетр в левую руку, правую же подавал послам с благосклонным движением каждому, но при этом во время целования царской руки не дозволялось ее касаться руками. По окончании этого обряда канцлер сказал послам, чтобы они исполнили то, за чем были присланы. Тогда главный посол начал говорить, что он привез поклон его царскому величеству от его светлости своего милостивого князя и государя вместе с изъявлением глубокого сочувствия в скорби по причине смерти патриарха; что его светлость государь голштинский полагал, что Бог продлит жизнь патриарха до настоящего времени, и потому послал было к нему грамоту, которую они вместе с грамотой к его царскому величеству имеют честь вручить ему, государю московскому. После того послы поднесли грамоты царю, а он дал знак канцлеру взять их.
Канцлер по приказу государя от его имени отвечал послам, что грамоты будут переведены на русский язык и решение царя по ним будет объявлено через бояр. Канцлер, произнося титулы своего государя, а также и великого князя голштинского, снимал шапку и потом снова надевал ее. Позади послов в это время была поставлена лавка, покрытая ковром, на которую они и сели по приглашению царя.
Затем канцлер объявил, что царское величество допускает к своей руке важнейших слуг посольства.
По окончании этого обряда царь, приподнявшись несколько с престола, спросил у послов о здоровье их князя. Вслед за тем прочтена была роспись княжеским подаркам; они были внесены в приемную и немного спустя вынесены обратно. Затем предоставлено было послам высказаться о цели, с какой они посланы, и те просили, чтобы в силу договора, заключенного шведским королем и князем голштинским по персидскому делу, дозволено было бы их выслушать тайно вместе со шведскими послами.
Затем царь велел спросить послов, здоровы ли они и не имеют ли в чем недостатка, и сказать им, что он соблаговоляет, чтобы они в тот день кушали от его стола. После этого два боярина, которые ввели послов в приемную комнату, вывели их из нее, и они поехали с приставами и стрельцами домой в прежнем порядке».
Голштинское посольство, о приеме которого рассказано Олеарием, приезжало в Москву, чтобы уладить дело насчет торговли с Персией. Царь дозволил голштинским купцам на десять лет свободный проезд по русским владениям в Персию, за что они и должны были платить в казну 600 тысяч ефимков серебра (считая их 14 в фунте).
Национальные костюмы московитов Из книги А. Олеария «Новое дополненное описание путешествия в Московию и Персию». 1656
Последние годы царствования Михаила Федоровича
Михаил Федорович в конце своего царствования был сильно озабочен своими семейными делами. Задумал он выдать свою дочь за какого-либо иностранного принца. Попытки породниться таким способом с иноземными дворами, как известно, делались уже при Грозном, а затем при Борисе. Михаил Федорович проведал, что у датского короля есть сын, принц Вольдемар, по возрасту как раз подходивший царевне Ирине Михайловне. Царь засылал послов в Данию, чтобы получше разузнать о принце и добыть его «парсуну» (портрет). В Дании мысль о браке принца с царской дочерью понравилась, а Марселис, которому царь поручил вести переговоры по этому делу, действовал ловко.
Московская земля западным европейцам представлялась грубой и дикой; датские сановники говорили Марселису:
— Если наш королевич туда поедет, то сделается холопом навеки, и, что обещают, того не исполнят. Как нашему королевичу ехать к диким людям?!
В ответ на это Марселис уверял, что опасаться нечего, расхваливал московские порядки и ссылался на самого себя, что в Москве жить можно. От имени царя он заявлял, что Вольдемару не придется менять веру и никакого понуждения к тому не будет, что зависеть он будет только от царя и в удел получит на вечные времена Суздаль и Ярославль, да вдобавок дочери царь даст приданого триста тысяч рублей.
Королевич отправился в Москву. Всюду в Московском государстве встречали его хлебом-солью и разными дарами. 21 января 1644 года он прибыл в Москву и был принят с необычайным почетом: служилые и приказные люди в праздничных блестящих одеждах провожали его до Кремля; по улицам рядами были расставлены стрельцы безоружные. Это показывало, что царь считает принца не гостем, а членом своей царской семьи, которому никакой опасности не предстоит. Когда принц прибыл в отведенное ему помещение, от всех городов стали ему подносить хлеб-соль и разные дары: золотые и серебряные вещи, соболей и дорогие тонкие ткани.
О. Авакимян Башня у Никольских ворот
Когда королевич явился во дворец, чтобы представиться царю, то был принят очень торжественно и радушно. Королевские послы, прибывшие с Вольдемаром, говорили царю речь от имени своего государя.
— Король просит царя, — сказали они между прочим, — принять и почитать королевского сына как своего сына и зятя, а сыну своему наказал царское величество как отца почитать, достойную честь и службу воздавать.
На эту речь от имени царя отвечал думный дьяк:
— Желаем, чтобы всесильный Бог великое и доброначатое дело к доброму совершению привел: хотим с братом нашим его королевским величеством быть в крепкой дружбе и любви, а королевича Вольдемара Христианусовича хотим иметь в ближнем присвоении, добром приятельстве и почитать, достойную честь ему воздавать как своему государскому сыну и зятю.
Царь посадил Вольдемара рядом с собой по правую руку, по левую сидел царевич Алексей. Потом за обедом принц опять был посажен рядом с царем, который всячески выказывал своему нареченному зятю привет и ласку.
Жених, как видно, очень полюбился царю; принц и его приближенные были вполне довольны приемом, и дело, казалось, шло как нельзя лучше, но через несколько дней нежданно-негаданно было объявлено принцу, что до женитьбы он должен принять православие.
Принц был озадачен этим требованием, сослался на договор, по которому ему обещали, что вероисповедания не будут касаться, и заявил, что и не приехал бы, если бы знал, что придется менять веру.
Михаил Федорович, очевидно, никак не хотел допустить и мысли о том, чтобы породниться с иноверцем, и Марселис, вероятно, при переговорах в Дании пообещал больше, чем следовало.
При свидании с принцем сам царь принялся уговаривать его принять православие.
— Послы королевские, — сказал царь, — у нас на посольстве говорили, что король велел тебе быть в моей государской воле и послушанье и делать то, что мне угодно, а мне угодно, чтоб ты принял православную веру.
— Я рад быть в твоей государской воле и послушанье, кровь свою пролить за тебя готов, но веры своей переменить не могу! — отвечал Вольдемар и просил отпустить его назад к отцу.
Царь настаивал, чтобы принц подчинился его воле, указывал на преимущество православной веры и на то, что на Руси «муж с женой в разной вере быть не может», что этого не только в высших государских чинах, но и в простых людях «не повелось». На просьбу же принца отпустить его царь заметил:
— Отпустить тебя назад непригоже и нечестно: во всех окрестных государствах будет стыдно, что ты от нас уехал, не совершивши доброго дела.
Положение становилось крайне натянутым и неловким с той и с другой стороны.
Р. Френц Охота царя Михаила Федоровича
Несколько раз после того Вольдемар писал к царю, указывал на обещание в первой грамоте, что ему, принцу, не будет никакой неволи в вере. На это царь отвечал, что королевичу и теперь нет неволи, а в грамоте не было написано, чтобы его не призывать к соединению в вере. Королевича всячески уговаривали и бояре принять православие, расхваливали красоту и ум невесты. Патриарх прислал ему длинное увещание. Королевич и датские послы стали просить как милости, чтобы их отпустили из Москвы. Царь не отпускал: видимо, он все еще не терял надежды, что Вольдемар уступит, но, чтобы принц не убежал, стал больше наблюдать за ним: увеличили стражу, приготовленную как бы для почета. Опасения были не напрасны: королевич действительно попытался бежать, но его остановили стрельцы у Тверских ворот.
После еще нескольких попыток склонить Вольдемара к православию увещания прекратились; но, несмотря на его просьбы и требование короля, принца из Москвы не отпускали. Обращались с ним в то же время очень почтительно, старались всячески тешить его: устраивали для него охоты, царь приглашал его к своему столу. Неизвестно, чем кончилось бы все это; смерть царя дала делу иной оборот.
Н. Матвеев Стрелец на башне Кремля в лунную ночь
Дело с Вольдемаром очень любопытно: оно ясно показывает, как недоверие к иноземцам и иноверцам и нетерпимость к западным религиям мешали сближению русских с Западом.
В последние же годы жизни царя его тревожило и другое дело. С Польшей шли постоянные пререкания и после Поляновского мира. Михаил посылал постоянно жалобы Владиславу на польских чиновников, писавших неправильно царский титул. Поляки считали это неважным, но русские послы утверждали, что «оберегать честь государеву» для них — главное дело, и требовали, чтобы виновные были казнены смертью. Подобные требования, конечно, не исполнялись, и неудовольствие русских год от году росло. Поляки в свою очередь жаловались, что в московской земле находят себе убежище восставшие против них малороссийские казаки.
В 1643 году явился в Польше русский посол с важной жалобой, что поляки укрывают у себя самозванца, и с требованием выдать его. Русские проведали, что в Польше находится молодой человек, зовущий себя царевичем Иваном Дмитриевичем, сыном Марины и Тушинского «царя». Оказалось, что шляхтич польский Дмитрий Луба взял с собой в поход на Москву в Смутную пору маленького сына и был убит. Сироту принял на свое попечение другой шляхтич и привез в Польшу, выдавая его за сына Марины, которого ему удалось будто бы избавить от казни, подменив другим ребенком. Сначала на маленького Лубу обратил внимание король. Война с Москвой тогда еще не была окончена, и Сигизмунд нашел, что «московский царевич» может быть ему при случае полезен, назначил ему значительное содержание, и он был отдан на воспитание в монастырь. Когда же был заключен вечный мир с Московским государством, то про Лубу и забыли. Несчастный молодой человек, долго веривший в свое царственное происхождение, просил настоятельно, чтобы его избавитель сказал ему, кто он. Тот объяснил все дело.
Выдачи этого Лубы и требовал московский посол.
Напрасно паны убеждали русских послов, что Луба безвреден для Москвы и выдавать ни в чем не повинного человека не следует. Послы стояли на своем.
— Нам в великое подивление, — говорили они, — что такое непригожее и злое дело со стороны вашего государя начинается, и если король и вы, паны, этого вора нам не отдадите, то нам с вами никаких дел кончать нельзя.
Сам Луба откровенно пред русскими послами рассказал всю историю свою; паны заявили, что он пойдет в ксендзы. Русские послы настойчиво добивались выдачи его и добились своего. Поляки в угоду московскому царю отправили Лубу в Москву, но польский король просил у царя отпустить этого ни в чем не виновного человека. По приезде его с польским послом в Москву начались переговоры об этом.
Ирина Михайловна, дочь царя Михаила Федоровича Романова
В то время Михаил Федорович был уже близок к смерти. Еще с конца 1644 года он не выходил из покоев по болезни, а в следующем году ему стало хуже. Иноземные врачи находили, что недуг приключился от многого сидения, холодного питья и меланхолии, «сиречь кручины». Судя по всему, царь страдал водянкой. 12 июня 1645 года, в день своих именин, государь был у заутрени, но в церкви ему сделалось дурно, и его принесли в царские хоромы. К вечеру ему стало хуже: он стонал, жаловался на сильные боли и велел позвать царицу и сына — шестнадцатилетнего Алексея; простился с женой, благословил сына на царство и, обратясь к дядьке царевича Борису Ивановичу Морозову, сказал:
— Тебе, боярину нашему, приказываю сына и со слезами говорю, как ты служил нам… оставя дом свой, имение и покой, пекся о его здоровье и внушении ему страха Божия, жил при нем безотступно в терпении и беспокойстве тринадцать лет и соблюдал его как зеницу ока, так и теперь служи.
Во втором часу ночи Михаил Федорович почувствовал близость смерти, исповедался, приобщился Святых Тайн. В начале третьего часа ночи его не стало.
Западная Русь в конце XVI и в начале XVII века
Люблинская уния. Иезуиты в Литве и западной Руси. Состояние западнорусской церкви в конце XVI столетия. Церковная уния. Борьба православия с унией. Петр Могила. Казаки и борьба их с турками и татарами. Казацкие думы о турецкой неволе. Казацкие восстания против Польши. Угнетение крестьян. Новые восстания казаков. Запорожская Сечь
Люблинская уния
Страшные испытания пришлось пережить русскому народу в конце XVI и в начале XVII века. Московская Русь, хотя истерзанная и обнищалая, все же довольно скоро выбилась из Смутной поры, вынесла из нее свою веру и народность во всей их целости. Не то было с западной — Литовской Русью: униженная, под гнетом чуждой и враждебной власти, она вынуждена была долго изо всех сил биться, чтобы спасти от унижения и поругания свою церковь и народность.
Западные русские области, оторванные от остальной Русской земли, томившейся под игом татар, попали в XIV веке под власть Литвы, а в 1386 году, с избранием литовского князя Ягайло на польский престол, с ней вместе соединились с Польшей. С тех пор у поляков зародилось сильное желание слить с собой литовцев и западных русских в один народ и для этого их ополячить и окатоличить. Хотя Литва и западная Русь уже при Ягайло отпали от Польши и его родич Витовт стал независимым литовским государем, поляки не оставили своих замыслов.
В 1431 году на общем сейме поляков и литовцев в Городле был составлен акт (договор), по которому:
1. Литва и Польша соединялись в одно государство, в один народ.
2. По смерти Витовта верховная власть над Литвой снова переходит к Ягайло, а потом к детям его; если же он умрет прежде Витовта, то поляки избирают последнего своим королем.
3. Литва получает сеймы и должности, подобные польским.
4. Литовскому дворянству по назначению великого князя жалуются польские гербы, но пользоваться ими и другими преимуществами, а также занимать высшие должности могут только лица латинского вероисповедания.
Хотя Городельский акт впоследствии и не выполнялся строго, а Литва постоянно выбивалась из-под польской власти, но все-таки благодаря ему в Литву стали входить польские учреждения (сеймы, новые должности, гербы); утверждалось преимущество католической церкви над православной — являлась приманка для честолюбивых православных изменять своей вере, принимать ту, которая, кроме небесных благ, сулила еще и земные.
Ягайло и его преемники часто поддавались желаниям поляков. В русских и литовских областях раздавались щедро земли католикам, заводились новые села и города, которые населялись преимущественно поляками. Поселенцы-католики освобождались от разных платежей и повинностей, которыми были обложены православные. Новым городам, населенным католиками — поляками и немцами, давалось самоуправление, так называемое «Магдебургское право», по которому горожане освобождались от суда королевских чиновников, а назначался судья (войт) из местных дворян. Он с выборными из жителей советниками (бурмистрами и райцами) и производил суд. Купцы и ремесленники получали разные льготы, делились по занятиям на цехи (общины), которым давали особенные права. Город получал герб, печать и знамя. Всякие льготы и преимущества католикам — все это было искусно расставленной сетью, чтобы уловить православное население, привлечь его к Польше и католичеству.
Польские учреждения мало-помалу вводились в литовские и русские области. Вместо прежних мелких удельных князей, подручных великому князю, для управления страной и городами стали назначать, по польскому обычаю, воевод, кастелянов, старост, избирая их из богатейших помещиков. Новые порядки приходились по душе иным литовцам и русским — конечно, лицам высшего сословия — дворянам. Их права и сила росли: богатейшие из них уподоблялись всесильным польским магнатам, становились полными властелинами в своих владениях, а мелкие дворяне приравнивались к вольной, необузданной польской шляхте. Зато, чем больше росли права и могущество дворян-помещиков, тем тяжелее приходилось простому люду, особенно крестьянам: они все больше и больше приближались к рабскому состоянию польских «холопов».
Польский князь Ягайло
Польша, близкая к Западной Европе, по образованию стояла гораздо выше не только Литвы, но и Руси. У поляков в конце XV столетия были и хорошие училища, даже высшая академия в Кракове, и замечательные ученые, и писатели. Это должно было, конечно, тоже сильно помочь польскому делу и в Литве, и в западной Руси: русские и литовцы высшего сословия с польской образованностью усваивали и польский язык и мало-помалу полячились; в русскую речь все больше и больше входило польских слов и оборотов. В XVI столетии письменный язык в западной Руси представлял уже пеструю смесь церковно-славянских слов, местных народных и польских. Даже в простонародную речь (наречия малорусское и белорусское) стали все сильнее и сильнее входить польские слова и обороты.
Так, исподволь, шло объединение Литвы и западной Руси с Польшей. Поляков, однако, смущало то, что они чуть не два века трудились над этим делом, а Литва все еще крепко держалась за свою государственную самобытность и в русских областях в народе по-прежнему сильно было православие. Со страхом смотрели поляки и на русский восток, который, стряхнув с плеч своих татарство, по соседству у них высился грозным великаном. Иван III уже зовет себя в грамотах «государем всея Руси», вступается за православие, теснимое в Литве, выказывает большую охоту добывать от нее свою «извечную отчину», то есть русские земли, и отнимает у нее 19 русских городов с их областями; сын его захватывает и Смоленск, а западнорусские люди сознают свое родство и по крови, и по вере с Московской Русью, иные даже уходят к московским, своим «природным» государям на службу. Упустить из рук богатые западнорусские области для Польши было бы большим несчастьем. С половины XVI столетия новая беда стала грозить Польше: в Литве стало широко распространяться протестантство. Особенно оно усилилось при Сигузмунде Августе (1548–1572). Это был способный, добродушный, но слабый король; он давал полную свободу всем вероисповеданиям и сам даже одно время склонялся к протестантству. Литовцы встрепенулись, заговорили о полной независимости от Польши. Протестантство быстро разливалось по Литве, дробилось на множество сект (толков), которые боролись между собой, порождали всюду рознь и вражду. Этой внутренней смутой легко могли воспользоваться соседи-враги. Забило тревогу прежде всего польское духовенство. Папа прислал в Польшу своего нунция (посла) с освященным мечом Сигизмунду для казни еретиков. Король в это время попал под влияние польско-латинской партии, и началась борьба с протестантством в Литве…
Поляки окрестностей Кракова
Была у Сигизмунда в это время еще забота: он был бездетен, с ним прекращался Ягайлов дом, и его пугала мысль, что умри он — и Литва, связанная до сих пор с Польшей одним королевским домом, отпадет от нее, изберет себе своего отдельного государя. Сигизмунд ясно понимал, что ни Польше, ни Литве в отдельности несдобровать в борьбе с могучими соседями. Таким образом, было несколько причин, побуждавших короля поспешить во что бы то ни стало связать оба свои государства неразрывно в одно целое.
В Польше Сигизмунд, как король, избранный и сильно ограниченный магнатами и сеймом, не имел большой власти, но в Литве, как великий князь литовский, он был наследственным и самовластным государем и мог распоряжаться свободно. Он принялся за дело. Напомнил прежде всего литовцам, что все государственное имущество, то есть большая часть литовской земли, принадлежит ему и часть доходов должна идти в его казну, а затем подарил эту свою наследственную собственность польским королям. Это значило, что всякий король, избранный поляками, становился владельцем всех государственных земель в Литве, то есть литовским государем. Теперь литовцы, только слившись с поляками в одно государство, могли вместе с ними избирать себе государя, иначе должны были подчиняться тому, кого изберет Польша. Это было постановлено на Варшавском сейме в 1564 году, где не было литовцев.
Постановление это (так называемый Варшавский рецесс) поразило как громом Литву и вызвало здесь сильное негодование. Великий князь литовский, любимый своими верноподданными литовцами, родом литвин, воспользовавшись своими литовскими правами, сам, своими руками, приносил свое отечество в жертву Польше. Теперь она, получив от короля право на вечное владение Литвой, могла смотреть на всякое движение последней к независимости как на мятеж. Такие мысли должны были волновать истых литовских патриотов. Сигизмунд должен был казаться им изменником, предателем своего отечества. Дело могло кончиться войной. Не будь в то время лютых казней Грозного в Москве, раздраженные литовцы, пожалуй, искали бы ее покровительства. Сигизмунду хотелось еще добиться того, чтобы Литва сама, добровольно слилась с Польшей. Задобрив литовских бояр (так назывался в Литве средний класс между магнатами и крестьянами), уравняв их вполне в правах с магнатами.
Сигизмунд поспешил покончить дело объединения Литвы с Польшей.
Литовские и польские послы должны были для этого собраться в 1569 году в Люблин на сейм.
Е. Путинцев Краков
Люблинский сейм открылся 10 января. С самого начала видно было, что добра тут не будет. Поляки требовали прежде всего решения вопроса об унии (единении) и предлагали литовцам заседать вместе с ними, но литовцы не хотели нарушить старого обычая, по которому они с русскими имели свой, отдельный от поляков сейм, — заявили, что прежде вопроса об унии они хотят решить с королем свои частные, литовские дела. Литовцы думали добиться у короля утверждения особых своих прав и собрания своих законов (статута) и таким образом сделать невозможной полную унию Литвы с Польшей, но эта уловка не удалась им. Король не утвердил их особенных прав и велел рассуждать об унии. Заседать вместе с поляками литовцы отказались наотрез и составили с русскими свой, отдельный сейм, который сносился с польским. Литовцы вовсе не желали полной унии, а предлагали братский союз своего государства с польским, а поляки, ссылаясь на старые акты, на Варшавский рецесс, требовали полнейшего слития Литовского княжества с Польшей в одно государство, в один народ, причем Литва должна была отказаться от своих отдельных сеймов, от особых законов, монет и прочего.
Сигизмунд Август
Литовцы пришли в негодование от подобного требования.
— Напрасно мы потратились на поездку сюда, — говорили они, — нам предлагают порабощение!..
Поляки, опираясь на сочувствие короля, порешили ни в чем не уступать литовцам. Король не раз уже приглашал их к себе и убеждал согласиться с поляками, но литовцы не сдавались. Король задумал наконец заставить их собраться вместе с поляками и сообща порешить дело. Члены польского сейма должны были по его приказу тайком собраться в замке, а затем он думал призвать своей властью литовцев и ввести их в польский сейм. Эта затея не удалась. Поляки собрались, король послал за литовцами, но те, проведав, в чем дело, не захотели попасть в ловушку и отказались ехать.
Положение литовцев в Люблине было крайне тяжелое и щекотливое: они, конечно, ясно видели, что король и поляки замышляют совершить над Литвой насилие, убить ее государственную самобытность, а их, литовских послов, принудить своим согласием и подписями узаконить это убийство. Они не выдержали тяжести своего положения и разъехались по домам. Сейм, таким образом, терял свое значение; польские сеймовые послы пришли в ярость, считая себя страшно оскорбленными этим поступком. Сгоряча некоторые даже кричали:
— Не смогли мы добром привести литовцев к унии — приведем оружием!
После споров и предположений, как быть, как довершить начатое дело, поляки наконец надумали, пользуясь отсутствием литовских послов, отрезать от Литвы русские области, то есть обессилить ее так, что она принуждена будет слиться с Польшей. Король издал универсал (указ) о присоединении к Польше Полесья (южное Полесье Беловежской пущи), затем и Волыни. Эти русские области покорились своей участи довольно легко: им не приходилось отстаивать свою государственную самобытность, а предстоял лишь выбор, от какого правительства быть в прямой зависимости — от литовского, как прежде, или от польского. За одно только опасались русские — за свое православие; но поляки их успокоили, обещали полную свободу веры. Сильнейшие из русских магнатов — князья Острожский, Черторижский и другие — согласились подчиниться Польше. Волынские чиновники, которых призвали на сейм вместо выборных лиц, под страхом лишиться своих мест не оказали сопротивления полякам. Если русские и высказывали некоторые возражения, например, говорили, что русский народ их растерзает за слияние их области с Польшей, то заканчивали обыкновенно свою речь словами: «Однако волю государя мы готовы исполнить».
Именем короля им и приказано было присягать.
Но Волынью поляки не удовольствовались, потребовали и Киев… Литовцы испугались: Литва без русских областей становилась совершенно ничтожным, бессильным государством. Литовское посольство поспешило в Люблин с просьбой отменить универсал о присоединении русских областей к Польше и назначить новый сейм для решения вопроса об унии. Просьба эта была отвергнута; решено было прежний сейм продолжать и предложено литовцам, уехавшим из Люблина, вернуться сюда через шесть недель.
Пришлось покориться этому, и прежние литовские послы прибыли на сейм.
Долго изо всех сил добивались они хоть каких-нибудь уступок для Литвы — все напрасно. Постановлено было сначала обсудить предложения литовцев в польском и литовском сенатах. Оба сената съезжались во дворец, помещались в двух смежных залах, и король поочередно заседал то там, то здесь. Два дня подряд тянулись совещания. Больной и усталый король, едва волоча ноги, переходил из одной комнаты в другую, вымаливая уступки то у поляков, то у литовцев. Польские сеймовые послы с нетерпением ждали решения сенатов; всех уже томили бесконечные переговоры. Наконец литовцы порешили, ни в чем не уступая полякам, во всем положиться на волю своего государя, предоставить ему самому по совести решить вопрос об унии — видно, еще надеялись, что король, литвин родом, их наследственный государь, не даст их в обиду. Решение свое литовцы согласились высказать в общем собрании.
Литовцы Виленской губернии
Торжественное и вместе с тем печальное зрелище представляло это собрание 28 июня 1569 года, когда старейший из литовцев, староста жмудьский, от имени всех своих товарищей обратился к королю с речью. Глубокой скорбью звучала она, когда говоривший указывал на верную службу литовцев своим государям и отечеству и вместе с тем жаловался на неправды, насилия и обиды, какие причинялись Литве, на порабощение ее Польшей (Варшавский рецесс). Закончена была речь такими прочувствованными словами:
— Не допустите, ваше величество, посрамить нас! Пусть это дело так завершится, чтобы на нас не было ни одного пятна. Будьте же, ваше величество, стражем и умирителем нашего дела; пусть это будет величайшею вашей милостью… Пусть все совершится по любви… Очень больно было бы нам, если бы внуки наши посмотрели на эти сегодняшние дела вместо радости с большим горем и обвинили нас в том, что мы не видели своей неволи… Мы доведены уже до того, что должны броситься к ногам вашей королевской милости с униженной нашей просьбой. (При этих словах все литовцы с плачем упали на колени.) Благоволи так нас устроить, чтобы это было для всех с честью, а не с унижением, с сохранением доброго имени нашего и твоей царской совести. Благоволи ради самого Бога помнить то, в чем ты нам присягал.
Эта мольба литовцев, с которой они вручали королю судьбу своего отечества, тронула и поляков — многие из них прослезились…
— Милостивые паны коронные, — обратился жмудьский староста к польским сенаторам, — просим, ради самого Бога, ваших милостей кончить это дело по доброй совести, с честью и радостью и для вас, и для нас, ваших братьев!
Король и польские сенаторы утешали литовцев, говорили, что их грусть напрасная, что братский союз Польши и Литвы угоден Богу. Надежды литовцев на милости государя не сбылись. Он, конечно, был вполне убежден, что слияние Польши и Литвы в одно государство и один народ послужит на благо их. После еще нескольких напрасных попыток склонить короля к милости литовцы 1 июля скрепили свое согласие на унию присягой.
По Люблинскому акту королевство Польское и великое княжество Литовское составляют одно «нераздельное тело», одну Речь Посполитую (res publica). У этого одного государства всегда должен быть один государь, избранный в Польше общими голосами поляков и литовцев; оставляется только титул Литовского княжества и литовские должности; король оглашается литовским князем при избрании и коронации польским королем; сеймы всегда должны быть общие; должности литовские могут быть раздаваемы только тем, которые присягнут на верность польскому королю и Польскому королевству; монета должна быть общая и прочее.
Таким образом, Литва и западная Русь были прикованы к Польше. Теперь только литовская государственная печать, которую короли оставили литовцам, хотя имели право ее уничтожить, литовские государственные чины да литовский статут (собрание законов) напоминали литовцам о прежней их самостоятельности.
Костюмы польских крестьян
Иезуиты в Литве и западной Руси
На Люблинском сейме поляки добились своего: Литва признала себя с Польшей «одним нераздельным телом». Теперь надо было позаботиться, чтобы оживляла его и одна нераздельная душа; только при этом оно могло быть крепким и здоровым. Этому более всего мешало различие вероисповеданий. Религиозная вражда тогда была во всем разгаре: всякий ревностный католик смотрел на протестанта как на злого еретика, изменника старой истинной вере, видел и в православном отступника от нее. Различие вероисповеданий в те времена не только разнило людей, но порождало даже взаимную вражду и ненависть. Протестантство бурным потоком влилось в Литву, быстро разливалось по ней, грозило затопить здесь католичество. К счастью для него, протестанты не отличались единодушием, дробились на множество сект (толков), враждебных между собой. Это облегчало борьбу с ними.
Постоянная смута умов в Литве, вражда и беспорядки становились опасными для государства.
Польза Речи Посполитой требовала единства церкви. Надо было немедля вступить в борьбу с протестантскими учениями, которые в это время и в Западной Европе наносили удар за ударом католичеству и от которых сильно колебался папский престол. Среди польского духовенства, слишком падкого до мирских благ, мало было людей, способных к борьбе с еретиками.
Но борцы нашлись. Это были иезуиты.
Римскую церковь можно назвать «воинствующею церковью». Папы, не в меру соблазняясь мирской властью, увлекали и свою церковь за собой: она не довольствовалась мирной проповедью и силой убеждения для распространения христианства, как восточная, греческая церковь, а прибегала часто к силе оружия. Нередко вслед за ее проповедниками (миссионерами) в страну язычников шли воины под знаменем креста и мечом побуждали непокорных признать истину учения Христова и, главное, власть папы.
Беспощадно, огнем и мечом, карались иногда и христиане, если они дерзали усомниться в истине римского вероучения и в непогрешимости пап. «Наместники Христа на земле», как величали себя папы, не гнушались ничем: пылали костры, на которых во имя Христа сжигались еретики; во имя Христа совершалось избиение безоружных протестантов; во имя Христа вооружалась одна часть Европы против другой. Уже издавна римская церковь выставила монахов-воинов (духовнорыцарские ордена); они под смиренной рясой монаха носили меч, который всегда готовы были обагрить в крови не только неверных, но и христиан, осмелившихся не повиноваться папе. На войне не всегда бывает удобно выбирать средства, порой приходится пользоваться и хитростью и обманом. В XVI веке римская церковь, крайне ослабленная, особенно нуждалась в таких способах, и вот в эту пору и является иезуитство; оно было вполне порождением этой церкви.
Костюмы польских крестьян
В 1540 году папа своей властью учредил орден иезуитов (община Иисуса). К обычным монашеским обетам иезуиты, по мысли основателя ордена Игнатия Лойолы, должны были прибавить еще обет — беспрекословно повиноваться папам. Понятно, как было важно для папы учреждение такого духовного воинства, которое было вполне в его руках.
Скоро иезуиты, пользуясь особенным покровительством пап, очень усилились. Сначала они водворились в Италии, Испании и колониях ее, а затем и по другим странам. Ордену дано было правильное и строгое устройство, которое связывало членов его в одно крепкое целое. Во главе иезуитов стоял главный начальник — «генерал» ордена, живший в Риме, ему подчинялись «провинциалы», начальники иезуитов, находившихся в разных местностях. Главнейшими способами для борьбы с врагами римской церкви иезуиты считали воспитание юношества и проповедь; всюду они старались устраивать коллегии (небольшие общины), состоявшие из нескольких иезуитов, и заводили при них бесплатные школы, а наиболее красноречивые брались за проповедь.
Основание ордена иезуитов
Самую низкую ступень в среде иезуитов занимали «новиции». Это были новички-ученики, заявившие желание поступить в орден. Принимались из них только те, которые после длительного экзамена оказывались пригодными для ордена. Всем иезуитам давались поручения и обязанности по их склонностям и дарованиям. Одни становились «схоластиками», изучали богословские науки или делались учителями в школах; «коадъюторам» поручались более важные обязанности — проповедничество или преподавание высших наук. На эту ступень возводились иногда хотя необразованные, но весьма усердные и преданные задачам ордена иезуиты. Высшую ступень в ордене занимали «профессы». Они исправляли главные должности, им поручались важнейшие тайные дела. Все иезуиты обязаны были вполне и беспрекословно повиноваться старшим; каждый должен был не рассуждая, слепо подчиняться воле старшего, быть таким орудием для него, «как посох в его руках». Для каждого не должно быть на земле ничего дороже и выше выгод ордена, и потому иезуит обязывался зорко наблюдать за своими товарищами и доносить начальству об их проступках и уклонении от обязанностей ордена. Римская церковь, как сказано уже, не гнушалась дурными средствами для достижения своих целей — иезуиты пошли дальше. Неразборчивость в средствах они признали для себя чуть ли не главным правилом. «Цель оправдывает средства» — вот то страшное правило, которым они стали руководствоваться. Мало-помалу дело дошло до того, что иезуиты начали считать позволительными не только ложь, обман и вероломство, но и более тяжкие преступления, если при этом имелось в виду «благое дело», то есть привлечение людей в лоно католической церкви. Понятно, какую страшную силу давала ордену эта неразборчивость в средствах и притом слепое повиновение младших старшим; понятно, как гибельно должны были действовать на нравственность иезуитов и всех, кто попадал им в руки, их правила. Надо прибавить, что в цветущую пору ордена главные деятели его были по большей части люди замечательные по уму и образованию. Были между ними, конечно, и лица, вполне убежденные, что они творят благое дело, несмотря на дурные средства. Целый ряд блестящих проповедников, замечательных ученых, ревностных наставников много содействовал успеху иезуитов. Они ловко вкрадывались в доверие высокопоставленных лиц, становились их духовниками, путем исповеди выведывали у них или у жен их важные государственные тайны и ловко направляли своих духовных чад в ту сторону, в какую хотели. Всюду они старались заводить свои коллегии, занимать места проповедников, устраивать школы. Блестящими проповедями они покоряли себе сердца своих слушателей, но не нравственность христианскую возбуждали в них, а слепое доверие к римской церкви и вражду ко всем иноверцам. Привлекая в свои школы молодежь, иезуиты давали ей, казалось бы, блестящее образование, но на самом деле мало заботились о том, чтобы дать своим питомцам истинное знание, развить их ум и способности. Забрав их в свои руки, они старались всеми силами сделать из них ревностных католиков, верных слуг папы, готовых всем жертвовать для него. Своими безнравственными правилами иезуиты, конечно, должны были губительно действовать на молодежь, вконец развращать ее. Они вели свои дела сначала чрезвычайно осторожно, скрывали свои настоящие цели и правила, так что порой люди очень умные становились их сторонниками, даже поклонниками. Только впоследствии, когда иезуиты уже успевали много натворить зла и сильно укорениться в стране, более чуткие и проницательные люди догадывались, какой нравственной язвой было иезуитство. Вкрадчивый, пронырливый, лживый иезуит-лицемер, под покровом христианского смирения, благочестия и набожности умевший ловко обделывать свои дела, конечно, становился ненавистен всем честным, истинно нравственным людям, и самое имя «иезуит» становилось в их устах бранным. Начались даже гонения на иезуитов. Но это было впоследствии, а в XVI веке орден иезуитов был в своей цветущей поре и выставлял целые ряды замечательных по уму, дарованиям и образованию бойцов, страшных для протестантства.
Ф. Бронников Католическая месса
В 1564 году иезуиты приглашены были в Польшу, где без труда справились с протестантством, которое здесь не было особенно сильно. В 1569 году, вскоре после Люблинского сейма, виленский епископ Валериан Протасевич призвал иезуитов в Вильно для борьбы с разными протестантскими сектами. Сначала прибыло сюда всего пять иезуитов. Отряд вооруженных слуг епископа охранял их при въезде в литовскую столицу — боялись нападения «еретиков» на них. Епископ дал им удобное помещение и средства, с тем чтобы они устроили здесь свою коллегию и школу. Скоро число братьев-иезуитов в коллегии дошло до 26. Во главе их был поставлен Станислав Варшевицкий, очень способный и образованный человек.
Поляки у костела
Иезуиты принялись за работу. Епископ разослал по всей пастве послание, где всячески восхвалял их ученость и советовал отдавать детей в их школу. Сначала было в ней мало учеников, но потом, когда в Вильно стали привыкать к иезуитам, когда увидели блестящие успехи учеников их, особенно в латинском языке, и узнали, что они детей бедных родителей учат бесплатно, школа стала быстро наполняться; сюда стали посылать своих детей даже некоторые православные. Пустили иезуиты и другое средство в ход: они стали устраивать диспуты, то есть ученые состязания, с протестантами. Производились прения публично, на площади пред костелом; множество народа стекалось послушать. Протестантов, готовых спорить сучеными иезуитами, обыкновенно не находилось, но это их не смущало. Они из своей среды выбирали наиболее речистых и бойких говорунов, которые обязаны были защищать учение Лютера, Кальвина и других отступников от римской церкви. С этими подставными противниками, которые, казалось, вполне искренне источали всю силу своего красноречия и учености, чтоб доказать правоту протестантских учений, состязались защитники латинской церкви и, понятно, в конце концов своими доводами разбивали в пух и прах противников. Подобными диспутами, которые часто повторялись, иезуиты в глазах толпы до крайности унижали иноверные исповедания и проповедников их.
Кроме того, иезуиты пустили в дело для своих целей богослужение, проповедь и исповедь. Костел, который был дан в их распоряжение, они обновили, украсили превосходными иконами и распятиями, завели богатейшую церковную утварь, отличный орган и небывалый хор певчих. Богослужение стали они совершать с таким благоговением и великолепием, каких никто в Вильно до тех пор и не видывал. Все это неотразимо действовало на народ. Толпы стремились в иезуитский костел; не только в праздники, но и в будни он был битком набит богомольцами. Сходились сюда не только католики, но и разные иноверцы — всех влекли красота и великолепие богослужения. В костеле каждый день, по распоряжению Варшевицкого, говорились проповеди то на польском, то на латинском, то на немецком языках. Сам он обладал необычайным красноречием; часто, когда раздавался в церкви его обличительный голос, народ, слушая его, рыдал. В 1573 году прибыл в Вильно еще один талантливый и ученый иезуит — Петр Скарга. Он своим красноречием превосходил самого Варшевицкого. Блестящие проповеди Скарги с первого же дня начали привлекать громадную толпу слушателей всех исповеданий и имели огромный успех. Горячая проповедь, пышное богослужение, благолепие церкви, торжественные процессии — все это сильнее и сильнее привлекало народ к иезуитам. Умели они также и на исповеди действовать сильно на воображение и чувство людей. Число жаждавших исповедоваться у отцов-иезуитов все росло и росло — они из сил выбивались и должны были приглашать себе на помощь других монахов и ксендзов. Исповедовались у них не только католики, но и иноверцы. Всякий, кто исповедовался у иезуитов и принимал от них причащение, вносился в списки «правоверующих» и считался добрым католиком.
Одно обстоятельство особенно помогло делу иезуитов в Вильно. В 1571 году здесь свирепствовало страшное моровое поветрие. Все, кто могли, бежали из города; уехал и епископ, разъехались и все почти ксендзы. Но Варшевицкий с несколькими товарищами остался, и они по-прежнему совершали обычные богослужения, говорили проповеди, посещали и утешали больных, помогали бедным, ухаживали за умирающими, напутствовали их своей молитвой, исповедовали и приобщали. Некоторые из братии обходили окрестные села и деревни и всюду, где можно, приносили помощь и утешение. Несколько иезуитов заразились от больных и умерли, но ревность остальных не уменьшилась. Эти истинно христианские подвиги, конечно, возбуждали в местном населении горячую признательность и расположение к иезуитам. Старались они блеснуть, где надо было, и своим христианским смирением. Рассказывают, например, такой любопытный случай. Один ярый кальвинист из придворных виленского воеводы Николая Радзивилла встретил Скаргу на улице, накинулся на него с ругательствами, прижал его своим конем к стене и даже ударил по голове саблей. Иезуит вовсе и не оборонялся, а только смиренно поклонился и пошел своей дорогой. Несколько лиц, видевших это происшествие, тотчас же разнесли молву о нем по всему городу. Епископ хотел предать виновного суду, но Скарга упросил оставить это дело. На другой день воевода прислал к нему обидчика просить прощения; Скарга принял оскорбителя приветливо, кротко побеседовал с ним и совершенно простил его. Такое смирение, конечно, произвело на всех глубокое впечатление, и тогда же несколько десятков иноверцев и между ними один пастор обратились снова в римскую веру. Один Варшевицкий в разное время своими убеждениями обратил к ней более ста человек.
Польский король Стефан Баторий
Протестанты с первого же появления иезуитов в Вильно почувствовали в них страшных врагов для себя, пробовали сплотиться в одно целое, добились даже того, что на Варшавском сейме в 1573 году была признана полная веротерпимость; но, несмотря на то, иезуиты одерживали над разными протестантскими исповеданиями победу за победой. Польский король Стефан Баторий хотя и держался веротерпимости, но явно покровительствовал иезуитам: при нем они утвердились в Полоцке, а потом проникли и в южную Русь. Они твердили, что их единственная цель — распространение просвещения, всюду заводили свои школы, учили даром. Впрочем, в убытке не оставались — принимали от родителей своих учеников разные приношения: хлеб, рыбу, овощи, мед, полотно и прочее. Сначала в своих училищах иезуиты как будто только и заботились о просвещении вообще: дети протестантов и кончали иезуитские школы протестантами; но когда иезуиты вошли в силу, то стали действовать смелее: они так ловко направляли своих питомцев, что те как бы сами, по доброй воле, изъявляли желание по окончании курса принять католичество. Тогда благочестивые наставники смиренно заявляли, что просвещенный ум их питомцев, могущих отличить истину от заблуждения, направлял их к истине. В сношениях с православными иезуиты сначала держали себя осторожно: они выказывали уважение к обрядам греческой церкви — говорили, что они установлены боговдохновенными мужами, святы и достойны почитания. Скорбели только «святые отцы» о том, что в православной церкви много всякого нестроения, что духовенство грубо и невежественно, и смиренно полагали, что этих бед не было бы, если бы православная церковь подчинилась папе.
Через несколько лет после водворения иезуитов в Вильно протестантство здесь стало быстро падать. Такие лица, как Варшевицкий и Скарга, находили доступ в дома магнатов; здесь их блестящее красноречие и ученость все больше и больше покоряли им поклонников. Самыми важными победами иезуитов было обращение в латинство таких людей, как Радзивиллы, отец которых был весьма ревностный протестант-кальвинист, Лев Сапега, Иван Ходкевич и другие. Все это были могущественные и богатейшие магнаты, во власти которых находились целые области со многими городами и селами. Понятно, какую силу приобретали иезуиты в своих новых духовных сынах. Стефан Баторий особенно содействовал распространению иезуитских школ, а виленское училище их возвел даже в степень академии.
Упрочившись вполне в Литве и обеспечив себе здесь торжество над протестантами, иезуиты принялись за православных.
В 1577 году Скарга издал на польском языке сочинение «О единстве церкви Божией…». Посвящено было это сочинение Константину Константиновичу Острожскому, знаменитейшему и сильнейшему из православных русских магнатов. В своем сочинении Скарга старался доказать, что единая церковь Христова, вне которой нельзя спастись, есть церковь римская; затем во второй части рассматривал подробно ряд мнимых отступлений греческой церкви от римской и наконец в третьей части указывал меры к соединению русских с римской церковью. Указав на беспорядки в церкви, Скарга считает главными причинами их: 1) брачную жизнь русского белого духовенства, что будто бы побуждает священников заботиться только о семье и мирском благополучии ее, а не думать о церкви, 2) славянский язык в богослужении, который греки будто бы нарочно оставили славянам при обращении их в христианство, чтобы держать их в невежестве и в руках своих, потому что, только владея греческим или латинским языком, можно освоиться с науками и богословием, и 3) вмешательство мирян в духовные дела и унижение духовенства. Церковная уния (соединение с римской церковью), по мнению Скарги, уничтожит все зло; для этого православным следует только принять учение римской церкви и подчиниться папе — обряды же все можно оставить по-старому.
Уже издавна делались попытки к церковной унии, и мысль о ней была не нова, но Скарга своим сочинением снова выдвинул ее на вид. Другой иезуит, Антоний Поссевин, который добивался, как известно, у Грозного согласия на унию, теперь принялся хлопотать о ней у короля и панов. Баторий хотя и покровительствовал иезуитам, однако вовсе не был склонен к насильственным мерам, и при нем предпринять что-либо решительное для поборников унии было трудно.
Ян Замойский, заправлявший тогда всеми делами в государстве, говорил диссидентам (так называли в Польше и Литве всех некатоликов):
— Я католик и отдал бы половину жизни за то, чтобы и вы были католиками, возможно, отдам всю свою жизнь за ваши права и свободу, если б вас стали теснить и принуждать быть католиками!
Состояние западнорусской церкви в конце XVI столетия
В то время как иезуиты принялись хлопотать о церковной унии, православная церковь в западной Руси была в крайне печальном состоянии.
На высшие духовные места король, не стесняясь ничем, назначал людей, вовсе не способных и не подготовленных к духовной службе. Это были нередко миряне знатного рода, которых в награду за верную службу или какие-либо услуги король назначал епископами, чтобы они могли пользоваться огромными доходами с епископских имений и монастырей. Иные из получавших высшие церковные должности подолгу не принимали даже духовного сана и, оставаясь мирянами, распоряжались церковными делами, словно настоящие епископы. Нередко, вопреки церковным правилам, назначались на высшие духовные места лица, которые были два раза женаты. Бывали случаи, что епископы, не стесняясь своим саном, вели семейную жизнь. Жили они в своих замках, как истые магнаты, в роскоши и полном довольстве, не отказываясь ни от каких мирских радостей и наслаждений, держали вооруженных слуг, делали иногда буйные наезды на чужие земли, враждовали и вели войну между собой. На свои епархии смотрели многие из них только как на свои поместья, с которых старались собрать как можно больше доходов. Могли ли подобные архипастыри быть верными блюстителями и защитниками православия? Они своей распутной жизнью и пороками только вводили в соблазн мирян.
Польский король Стефан Баторий
Плоха была надежда и на низшее духовенство: оно находилось в крайнем унижении. Монастырями владыки часто распоряжались как своими хуторами, даже заводили себе псарни. Приходские священники, загнанные, беззащитные, терпели всякие насилия и обиды и от владык, и от мирян. Помещики могли сами назначать в своих селах священников и часто смотрели на них как на своих холопов, держали их, как говорится, в черном теле: случалось даже, что гоняли на свои работы и секли их розгами наряду с мужиками. Все это, конечно, крайне принизило само звание священника. Дошло до того, что честные и благомыслящие люди даже стыдились вступать в это звание и пришлось назначать священниками кого попало — порой людей не только невежественных и грубых, но даже нетрезвых и порочных. Это еще более роняло и русское духовенство, и православную церковь в глазах всех истинно благочестивых людей. Мог ли в глазах даже православного пана русский священник, не отличающийся с виду от мужика, с грубыми ухватками, простонародной речью, в толстой одежде, смазанных дегтем чеботах, стать наряду с ловким, изящным ксендзом или иезуитом, высокообразованным краснобаем, приятным и остроумным собеседником?
Многие православные паны начинали уже стыдиться своего православия, которое окатоличенные русские помещики со слов иезуитов стали называть «хлопской (мужичьей) верой». Могли ли невежественные, полуграмотные священники поддержать православие во всей его чистоте и в простом народе? В народной жизни суеверия, древние языческие понятия и верования беспрепятственно сплетались с христианским учением и все более и более глушили его. Католическое правительство относилось к русской церкви с пренебрежением. Иезуиты злорадно указывали на ее захудалость. Многие русские паны легко убеждались их доводами, что «захудалую» церковь только и может спасти подчинение могущественному римскому папе; что только он может очистить и поднять ее на должную высоту; что это дело не под силу византийскому патриарху, жалкому рабу турецкого султана.
В воздухе уже носилась мысль о церковной унии…
Иезуиты всеми силами трудились над своей задачей: заводили в разных местах свои коллегии и школы, проповедовали не только в церквах, но и на площадях, на рынках — всюду, где было сборище народа, искали везде случая состязаться с православным духовенством, показать свое преимущество над ним, издавали сочинения и распространяли среди православных, чтобы привлечь их к латинству. В западной Руси в те времена отцу семейства трудно было не только дать образование своим детям, но даже и найти православного учителя, могущего обучить грамоте да основам Закона Божия. Поневоле им приходилось или оставлять детей в полном невежестве, или отдавать их в католические школы, то есть в руки иезуитам.
В 1586 году вступил на польский престол Сигизмунд III, воспитанник иезуитов, готовый на все для католичества, убежденный, что привлечь всякими способами «еретиков» и «схизматиков» в лоно католической церкви — значит совершить святое и душеспасительное дело. Теперь иезуиты могли развернуть все свои силы.
Казалось, победа над православием в западной Руси легка. На деле вышло не то. Духовенство высшее и низшее здесь было не способно к борьбе, зато миряне выставили сильных борцов за православие. Нашлись они и среди могущественных магнатов, и в городском населении.
Как ни сильно было к концу XVI столетия ополячено и окатоличено высшее сословие в западной Руси, но все же явилось еще и в его среде несколько ревнителей древнего благочестия, «столпов православия», как называли их. Самым выдающимся и могущественным из них был сын знаменитого гетмана литовского, известного своей победой под Оршей, князь Константин Константинович Острожский. Он был киевским воеводой и владел громадным богатством. Родовые земли его заключали до восьмидесяти городов и несколько тысяч сел; сверх того, у него в руках были огромные владения, пожалованные ему в южной Руси. Это был настоящий владетельный князь, превосходивший своим богатством польского короля. Миллионные доходы князя Острожского давали ему такую силу, что и король даже побаивался его, — он мог по своей воле давать ход и направление всем делам в южной Руси. На Люблинском сейме он согласился на присоединение Волыни и Киевского воеводства к Польскому королевству и этим сильно помог унии. Хотя он был чисто русским, но уже начинал подчиняться польской образованности, говорил и писал по-польски, склонялся одно время даже к иезуитам.
Польский король Сигизмунд III
Князь Курбский, московский изгнанник, сильно заботившийся о защите православия, старался всеми силами предостеречь его.
«О государь мой превозлюбленный, — писал он князю Острожскому. — С кем ты дружишься, с кем сообщаешься, кого на помощь призываешь! Прими от меня, слуги своего верного, совет с кротостью: перестань дружиться с этими супостатами прелукавыми и злыми…»
Князь Острожский, впрочем, и не думал никогда отступать от православия, он вполне понимал отчаянное положение русской церкви.
— Правила и уставы нашей церкви, — говорил он, — у иноземцев в презрении; наши единоверцы не только не могут постоять за Божью церковь, но даже смеются над ней. Нет учителей, нет проповедников слова Божьего, повсюду частое отступничество. Приходится сказать с пророком: «Кто даст воду главе моей и источник слез очам моим?»
Князь Острожский глубоко скорбел, глядя на бедствия и нестроения русской церкви, и, видимо, искал выход для нее. Он прислушивался к мнениям образованных иезуитов, сочувственно относился к кальвинистам, потому что находил у тех и других то, чего недоставало православным: он с уважением указывает на школы, типографии, на высокую нравственность и образованность пасторов и горько жалуется, что всего этого нет у православных. Деятельность его направляется именно к тому, чтобы восполнить все эти недостатки. Он заводит у себя в Остроге типографию. Здесь была напечатана в первый раз Библия на славянском языке. Много труда и расходов стоило князю Острожскому разыскать для этого издания списки греческие и славянские по разным монастырям. Появление в первый раз полной славянской Библии было настоящим событием в русской церковной литературе. Затем из Острожской типографии вышел целый ряд богослужебных книг и разных сочинений в защиту православия. Из последних особенно важна книга «О единой истинной и православной вере и святой апостольской церкви», написанная острожским священником Василием, напечатанная в 1588 году. Это сочинение служило ответом на известную книгу Скарги и указывало православным, как следует отвечать на упреки и внушения католиков. В 1580 году Острожский основал в Остроге главную школу, послужившую образцом высших учебных заведений на Руси; ученый грек Кирилл Лукарис был призван руководить этим училищем. Сверх того, князь Острожский завел еще несколько училищ в своих владениях. Таким образом, могущественный ревнитель православия старался приготовить православную церковь к борьбе, вооружить ее тем духовным оружием, которого ей недоставало, — именно просвещением. Оно одно только и могло спасти православие.
Кроме князя Острожского, видным защитником русской церкви был упомянутый уже князь Курбский, ученик Максима Грека, отдавший на защиту православия все свои силы и средства. Он вел переписку с западнорусскими панами, предостерегал их от увлечения протестантством и католичеством, писал послания горожанам, советовал им не спорить о вопросах веры с католиками и еретиками, которые искусны в прениях и доказательствах, а учиться больше из святых книг. Он сам уже стариком выучился латинскому языку, переводил поучения Златоуста и прочее.
Замечателен также как ревнитель православия Скумин-Тышкевич, богатый и очень влиятельный человек. Он тоже употреблял все усилия, чтобы отстоять православие.
Но для православной церкви еще важнее, чем отдельные сильные покровители, или патроны, как их звали, оказались братства. Так назывались общины, которые уже издавна учреждались при церквах из прихожан с целью заботиться о благосостоянии их, об устройстве церковных празднеств и прочего. С конца XVI столетия, чем более грозит опасность православию, тем сильнее становятся и братства. Они заводятся во всех важнейших городах, вменяют себе в обязанность покровительство (патронат) церквам и монастырям, устраивают на свои средства больницы, богадельни, училища. Иные братства достигали очень большой силы, особенно замечательно из них львовское (в городе Львове, в Галиции). Патриарх Антиохийский Иоаким во время проезда своего через Россию (1586) дал львовскому братству большие права: право искоренять всякое бесчиние в церкви, наблюдать над священниками, обличать самих епископов, если они будут уклоняться от православия или от христианской нравственности, даже право отлучать недостойных от церкви. Львовское братство завело у себя больницу, типографию и школу и своим вмешательством в церковные дела очень стеснило даже львовского епископа; по образцу Львовского заведены были Троицкое братство в Вильно и других городах. Эти братства заботились о просвещении народа, о том, чтобы приготовить достойных учителей православной веры и благочестия. Устраивались училища, о каких прежде русские и не слыхивали, — обучали уже не только славянской грамоте, но и языкам: греческому, латинскому и польскому, а также грамматике, красноречию и прочему.
Ф. Бронников Католическая месса
Но в то же время не менее ревностно работали иезуиты: старались всякими способами показать превосходство латинской церкви, вызывали православных на состязания, распространяли свои сочинения среди них, чтобы привлечь их к латинству. Особенно усердно трудился известный иезуит Антоний Поссевин; он издал на русском языке множество католических катехизисов. Страсти в борьбе начинали уже разгораться. В иных местах католики стали даже творить грубые насилия православным, пользуясь тем, что высшие пастыри православной церкви вовсе не заботились о ней. Понятно, как трудно было при этом мирянам, ревнителям православия, охранять его.
Вот небольшое послание галицко-русских дворян к киевскому митрополиту Онисифору (14 февраля 1585 года), которое ярко рисует печальное положение православной церкви.
Сообщив о дерзких выходках и обидах, какие творили латиняне православным во Львове, желая навязать им новый календарь (григорианский), дворяне пишут:
«Что сказать о поругании св. крестов, об отобрании колоколов и отдаче их жидам? и ты еще сам даешь открытые листы на помощь жидам против церкви Божией, к потехе их, к большему поруганию нашего св. закона… Какие при том совершаются опустошения церквей! Из них делаются иезуитские костелы; имения, что были даны церкви Божией, отдаются костелам. В честных монастырях, вместо благочестивых игуменов и братии, живут игумены с женами и детьми, владеют и правят церквами Божиими, из больших крестов делают малые, совершают святокрадство и делают себе пояса, ложки, сосуды… Но что еще прискорбнее — ваша милость сам, один поставляешь епископов, без свидетелей и без нас, братии своей, чего и правила вам не дозволяют, и возводятся в великий епископский сан люди негодные, которые к поруганию святого закона занимают епископские места, живут без всякого стыда… Мы по своему долгу предостерегаем вашу милость и молим, и просим: Бога ради осмотрись, вспомни святых твоих предместников, митрополитов киевских, и возревнуй их благочестию. Не прогневайся на нас: нам жаль души твоей; ты за все должен дать ответ Господу Богу».
Н. Горский-Чернышев Тихая молитва
Из этого послания видим, что многие недостойные пастыри православной церкви своими пороками и нерадением вредили ей не меньше прямых врагов.
Когда в 1589 году константинопольский патриарх Иеремия на возвратном пути из Москвы посетил западную Россию, к нему со всех сторон от мирян были поданы жалобы на церковные беспорядки, на злоупотребления и пороки епископов. Патриарх удалил недостойного митрополита Онисифора и по желанию мирян посвятил на его место Михаила Рагозу. Это был человек, казалось, вполне нравственный, но слабый, неспособный к решительным действиям, к борьбе. Не такого митрополита нужно было в то бурное время. Патриарх, как видно, понимал это и назначил ловкого и деятельного епископа Луцкого Кирилла Терлецкого своим наместником (экзархом) в западной России с правом наблюдать за епископами, низвергать недостойных.
Львовскому братству патриарх придал еще больше силы. Он дал ему новые права: печатать всякие книги — и церковные и школьные, заведовать училищами, избирать и удалять от должности своих священников.
Патриарх убеждал православных устраивать братства, сам благословил новое братство виленское, которое открыло школу и получило право печатать всякие книги.
Мало доброго вышло из распоряжений патриарха.
Одно то, что он принимал от мирян жалобы на епископов и придал в ущерб им силу братствам, возбудило большое неудовольствие в среде высшего русского духовенства. Довольных почти не было. Вновь поставленный митрополит Михаил был обижен тем, что патриарх лишил его всякой силы, назначив своим наместником Кирилла Терлецкого, а этот, метивший в митрополиты, недоволен был тем, что высший церковный сан достался не ему. Львовский епископ Гедеон Балабан негодовал на усиление львовского братства, с которым он давно уже враждовал. Выбор главных лиц был тоже неудачен. О слабом Михаиле говорить нечего — он был митрополитом только по имени. Кирилл Терлецкий, хотя и умный и ловкий, вовсе не годился в блюстители гонимой православной церкви. Это был скорее хороший управитель церковных имений, чем архипастырь; по образу жизни, по привычке к самоуправству он походил больше на богатого пана, чем на духовное лицо. Едва патриарх назначил Кирилла экзархом, как получил множество жалоб, обвинявших его в наездах, буйстве, безнравственности, даже в делании фальшивой монеты. Патриарх не знал, как ему и быть. Он поручил митрополиту созвать собор, чтобы устранить церковные беспорядки и низложить недостойных духовных лиц, но многим этот собор был вовсе не по душе, и они всячески замедляли съезд. Патриарх так и уехал, не дождавшись собора.
П. Оссовский Молитва
После его отъезда среди высшего русского духовенства пошли толки о том, что зависимость от византийских патриархов тяжела, что они и не думают о благоустройстве русской церкви, а видят в русских лишь овец, которых стричь-то стригут, но не пасут.
Церковная уния
Приезд патриарха вскрыл страшные язвы, которыми страдала западнорусская церковь, обнаружил их во всей их неприглядности. Меры, принятые патриархом, оказались бессильными помочь беде. Все это послужило только на пользу врагам православия. Многие ревнители православия стали уже отчаиваться, терять веру в способность патриарха избавить русскую церковь от беспорядков; даже и князь Острожский потерял надежду на него и стал склоняться к унии с Римом. Иезуиты спешили ковать железо, пока оно было горячо: издали вторично книгу Скарги о единении церквей и стали горячо проповедовать, что русская церковь только и может ждать спасения от папы.
Уния была особенно выгодна православным епископам: подчинение Риму поднимало их значение в государстве, уравнивало их с польскими бискупами, которые принимали участие в государственных делах, избавляло их, наконец, от неприятного вмешательства в их дела мирян, панов и братств. В эту пору католические власти стали нарочно теснить православных более прежнего. Самый смелый и деятельный из епископов — Кирилл Луцкий, который в то время страдал от борьбы с луцким старостой и притом рассорился с князем Острожским, сделал решительный шаг к унии.
Вид окрестностей Кракова
В 1590 году королю, по мысли Кирилла, была подана просьба, подписанная им и еще тремя епископами: Гедеоном Львовским, Дионисием Хельмским и Леонтием Пинским. Они соглашались подчиниться папе, просили только, чтобы русской церкви оставлены были ее обряды и язык, а им, епископам, обеспечены были права. Король с большой радостью принял эту просьбу, обещал епископам уравнять их с католическими бискупами и защитить от восточных патриархов. До поры до времени, однако, все дело хранилось в глубокой тайне: главным зачинщикам унии, видно, хотелось сначала навербовать сторонников унии и тогда уже привести свой замысел в действие. Скоро нашелся важный союзник Кириллу. Это был владимирский епископ Ипатий Поцей, только что получивший этот сан (в 1593 году), человек знатного рода, родственник и приятель князя Острожского. Поцей получил воспитание в иезуитской академии в Кракове, сначала был католиком, потом кальвинистом, наконец принял православие. Возведенный в сан епископа, Поцей стал вести безукоризненную, строгую жизнь, что было редким явлением в то время. Православные глубоко уважали его, видели в нем настоящего подвижника; такой союзник зачинщикам унии был особенно дорог. Поцей пробовал склонить окончательно князя Острожского к унии, вел с ним переписку об этом, но тот хотел соединения всей восточной церкви с западной, а не одной западнорусской. Поцей считал такую унию делом неисполнимым и сошелся в мыслях с Терлецким, чтобы прежде всего западнорусскую церковь подчинить папе. Они открыли свой замысел митрополиту Михаилу Рагозе. Этот слабый старик колебался, не зная, что и делать: понимал, как выгодно было принять унию и этим снискать милость короля, но боялся вооружить против себя православных, особенно могущественных панов. Митрополит стал хитрить — сторонникам унии выказывал готовность поддерживать их, а православным вельможам и братствам писал, что он не одобряет унии. Малодушие митрополита и двусмысленность его поступков принесли печальные плоды: Терлецкий и Поцей стали действовать, не обращая большого внимания на митрополита, а православные потеряли к нему всякое уважение, и слух о его измене православию вооружал их против него.
Когда князь Острожский узнал, что замышляется уния вовсе не такая, о какой мечтал он, то есть не добровольное соединение всей восточной церкви с западной на основании обоюдного согласия; когда он узнал, что уния заключается несколькими духовными лицами без согласия восточных патриархов, московского духовенства и князя, без ведома православного низшего духовенства и паствы, он написал Поцею суровое письмо, а затем издал свое знаменитое воззвание ко всем православным обитателям Литвы и Польши (24 июня).
«С молодости моей, — писал он, — я воспитан моими благочестивыми родителями в истинной вере, в которой с Божиею помощью и доселе пребываю и надеюсь непоколебимо пребывать до конца жизни. Я научен и убежден благодатию Божиею, что, кроме единой истинной веры, насажденной в Иерусалиме, нет другой веры истинной. Но в нынешние времена злохитрыми кознями вселукавого диавола сами главные начальники нашей истинной веры, прельстившись славою света сего и помрачившись тьмою сластолюбия, наши мнимые пастыри, митрополит с епископами, претворились в волков и, отвергшись единой истинной веры святой восточной церкви, отступили от наших вселенских пастырей и учителей и приложились к западным, прикрывая только в себе внутреннего волка кожею своего лицемерия, как овчиною. Они тайно согласились между собою, окаянные, как христопродавец Иуда с жидами, отторгнуть благочестивых христиан здешней области без их ведома и втянуть с собою в погибель, как и самые сокровенные писания их объявляют. Но человеколюбец Бог не попустит вконец лукавому умыслу их совершиться, если только ваша милость постараетесь пребыть в христианской любви и повинности. Дело идет не о тленном имении и погибающем богатстве, но о вечной жизни, о бессмертной душе, которой дороже ничего быть не может. Весьма многие из обитателей нашей страны, особенно православные, считают меня за начальника православия в здешнем крае, хотя сам я признаю себя не большим, но равным каждому, стоящему в правоверии. Потому, опасаясь, как бы не остаться виновным пред Богом и пред вами, и узнав достоверно о таких отступниках и явных предателях церкви Христовой, извещаю о них всех вас, как возлюбленную мою о Христе братию, и хочу вместе с вами стоять заодно против врагов нашего спасения, чтобы, с Божиею помощью и вашим ревностным старанием, они сами впали в те сети, которые скрытно на нас готовили… Что может быть бесстыднее и беззаконнее! Шесть или семь злонравных человек злодейски согласились между собой и, отвергшись пастырей своих, святейших патриархов, от которых поставлены, осмеливаются властно, по своей воле, отторгнуть всех нас, правоверных, будто бессловесных, от истины и низвергнуть с собою в пагубу. Какая нам может быть от них польза? Вместо того чтобы быть светом миру, они сделались тьмою и соблазном для всех… Если татарам, жидам, армянам и другим в нашем государстве сохраняются без всякого нарушения их законы, не тем ли более нам, истинным христианам, будет сохраняться наш закон, если только все мы соединимся вместе и заодно усердно стоять будем? А я, как доселе, во все время моей жизни, служил трудом и имением моим непорочному закону святой восточной церкви, в размножении святых писаний и книг и в прочих благочестивых вещах, так и до конца при помощи Божией обещаюсь служить всеми моими силами на пользу моих братий, правоверных христиан, и хочу вместе со всеми вами, правоверными, стоять в благочестии, пока достанет сил…»
Константин Константинович Острожский
Это послание быстро распространилось и вызвало сильное возбуждение среди православных. Смутные слухи об измене нескольких епископов теперь для всех подтвердились. Западная Русь взволновалась. Испуганный общим негодованием православных, львовский епископ Гедеон Балабан отступился от унии. Восстал против нее и перемышльский епископ Михаил Копыстенский. Учитель Львовского братства, переселившийся в Вильно, в своих проповедях громил отступников от православия и издал «Книжицу на римский костел».
Поцей при свидании с князем Острожским рассказал ему подробно все дело, как и с какого времени оно началось и кто был первым его виновником; затем, упавши на колени пред князем, умолял его со слезами взять на себя святое дело унии и, пользуясь своим могуществом, уладить все в том виде, как он сам хотел. Острожский выслушал благосклонно Поцея и потребовал, чтобы владыки испросили у короля разрешение собрать собор, а сам обещал употребить все свои силы, чтобы постановление об унии совершилось с общего согласия всего христианства.
Король на просьбу епископов собрать собор сначала было согласился, но потом, когда узнал, что русские враждебно смотрят на унию, отказал. В грамоте к Острожскому король между прочим писал:
«Что касается до съезда, или собора, о котором просили сами ваши епископы, то он нам не угоден. Судить о делах спасения принадлежит власти пастырей; за ними и мы обязаны идти, как за нашими пастырями, не испытывая, чему учат те, которых Дух Святой дал нам в вожди до конца жизни. Притом же такие съезды обыкновенно более затрудняют дело, нежели приносят какую-либо пользу».
Король желал скорее кончить дело унии; Терлецкий и Поцей должны были немедля отправиться в Рим, чтобы изъявить покорность папе. Очевидно, и король, и эти епископы рассчитывали на то, что многие из колебавшихся православных пристанут к унии, лишь только будет положено начало делу.
Поцей и Терлецкий после семинедельного трудного путешествия прибыли в Рим. Папа приглашал их к себе два раза частным образом и принял их, как они сами рассказывали, «с несказанной милостию и ласковостию». Они представили ему грамоты и «униженно просили, — по словам самого папы, — принять их в лоно католической римской церкви, с сохранением их обрядов согласно с униею, постановленною на Флорентийском соборе».
Более месяца пришлось Терлецкому и Поцею ждать торжественного приема. Он состоялся 23 декабря.
Папа в своем блестящем облачении восседал на богатом троне, под балдахином, в большой зале своего дворца. Тридцать три кардинала окружали его. Многие архиепископы, епископы, прелаты и иноземные послы присутствовали здесь стоя. В это торжественное собрание были введены русские послы, то есть Терлецкий и Поцей, в сопровождении всех приехавших с ними спутников.
Подошедши к месту заседания папы и его кардиналов, оба русских епископа три раза преклонили колени. Затем приблизились к папе, поцеловали его ноги и, стоя на коленях, кратко объяснили цель своего посольства (говорил Поцей, знавший по-латыни) и подали папе грамоты. Потом, по указанию придворных распорядителей, отошли к своим спутникам, стоявшим на коленях. Папа приказал прочесть вслух представленные ему грамоты. Во время чтения Поцей и Терлецкий в знак покорности наклоняли головы и становились на колени.
Герб князя Острожского
По окончании чтения секретарь папы, с его благословения, стоя по левую сторону его седалища, сказал послам речь:
«Наконец, после ста пятидесяти лет, возвращаетесь вы, русские епископы, к камню веры, на котором основал Христос церковь свою, к матери и учительнице всех церквей — церкви римской. Никакое слово, самое красноречивое и сильное, не в состоянии выразить всей радости нашего святейшего отца. Дух его восторгается к Богу и признает Его премудрость», — и прочее.
После того Терлецкий и Поцей должны были пред Евангелием, положенным на аналое, произнести громогласно исповедание католической веры. Они признавали этим вполне римское учение — об исхождении Святого Духа, чистилище, главенстве папы и прочем. Православию уступались только одни обряды. По прочтении исповедания русские епископы со слезами на глазах снова лобызали ноги папе, а он сказал им несколько ласковых слов.
— Я не хочу господствовать над вами, — говорил он между прочим, — хочу на себе носить тяготы ваши.
Обняв и поцеловав русских послов, папа объявил во всеуслышание, что принимает их, а также отсутствующего митрополита Михаила и всех русских епископов со всем духовенством и народом русским, живущим во владениях польского короля, в лоно католической церкви и соединяет с ней в одно тело.
Рим ликовал, радуясь новому завоеванию папы, усилению его могущества. На память этого «великого» события в 1596 году была выбита медаль с изображением папы, благословляющего русских послов, и надписью «Ruthenis receptis» (на присоединение русских).
Жутко было возвращаться к себе домой двум русским епископам, обласканным папой, осыпанным его милостями: они, принимая в Риме унию от всей будто бы паствы своей, обманывали папу, а признавая римское исповедание веры, должны были явиться отступниками в глазах всех православных русских.
Г. Чернецов Площадь Святого Петра. Рим
Вернувшись из Рима, Терлецкий и Поцей доставили королю и митрополиту от папы послание, в котором он требовал, чтобы созван был собор для окончания дела унии.
Но и до собора еще ясно сказалось негодование русских людей на епископов, изменивших православию. В это время происходил общий государственный сейм, и русские земские послы от имени всех своих избирателей подали просьбы королю, чтобы Терлецкий и Поцей были лишены духовного сана, так как они без ведома патриархов и своей паствы ездили в Рим и самовольно отдались под власть папы и привезли оттуда великие перемены в вере. Такую же просьбу подал на сейм князь К. К. Острожский лично королю. Когда же король не обратил внимания на эти просьбы, Острожский и другие русские в последний день сейма торжественно объявили королю и всему сейму, что они и весь русский народ не будут признавать Поцея и Терлецкого своими епископами и не допустят их власти в своих владениях. Возбуждение было общее. Братства и священники предавали епископов — изменников православия — проклятию; говорились горячие проповеди против папы; Острожский своими посланиями волновал дворян и мещан, грозил даже вооруженным восстанием.
Король издал манифест к народу — извещал о состоявшемся соединении церквей и открыто становился на сторону унии. Этим же указом он требовал от митрополита созвания в Бресте собора, на котором должна была решиться судьба унии. Время для него было назначено в октябре 1596 года.
Такого собора по числу лиц и по важности вопроса еще не бывало в западнорусской церкви. В Брест прибыли экзарх константинопольского патриарха Никифор, «муж большой учености и мудрости», по словам современников, Кирилл Лукарис, экзарх александрийского патриарха, западнорусский митрополит Михаил с семью епископами и много других духовных чинов западнорусской церкви. Сюда прибыло много и светских лиц: князь Острожский явился с отрядом вооруженных людей, послы от всех областей и множество людей всякого звания. Все съехавшиеся сразу разделились на две части: латиняне соединились с униатами, Поцеем и другими епископами, сторонниками унии. Митрополит Михаил Рагоза был в их руках, а это было очень важно для них: митрополит был начальником всех русских духовных чинов, и потому епископов, противников унии, можно было выставить как ослушников высшей власти. Зато во главе православных стоял экзарх Никифор, уполномоченный патриархом заменять его. Окрестности Бреста представляли воинственный вид: всюду виднелись шатры и пушки. Католиков и униатов особенно пугали боевые силы князя Острожского.
М. Воробьев Вид Рима
С первого же дня ясно обнаружилось, что настоящего собора и прений по вопросу об унии не может быть: для одной стороны этот вопрос был уже бесповоротно решен, а другая сторона хотя и готова была рассуждать об унии, но с явной враждой относилась к совершенному делу.
Из католиков явились на собор три бискупа, Петр Скарга и королевские послы. Начать свои заседания собор должен был 6 октября, но с самого начала обнаружился совершенный разлад. Митрополит никаких распоряжений о заседаниях собора не делал; все церкви в Бресте по приказу местного епископа Ипатия Поцея были заперты, и православные вынуждены были открыть свои заседания в частном доме. (Духовные лица заседали отдельно от мирян.) На первом же собрании, после обычных молитв, Гедеон Балабан, львовский епископ, заявил, что все собравшиеся хотят стоять всеми силами и готовы даже умереть за истинную восточную веру и, по их убеждению, митрополит с некоторыми владыками поступил незаконно, отрекшись от подчинения патриарху. Решено было призвать в собрание митрополита и униатских епископов, чтобы они объяснили свои действия. В то же время униаты открыли заседания в городском соборе.
А. Афонин Монах в храме
Три раза экзарх посылал звать митрополита. Сначала получались уклончивые ответы, а на третий раз посланным сказали:
— Что сделано, то уже сделано, — иначе быть или переделаться не может. Хорошо или худо мы поступили, только мы отдались западной церкви.
После такого ответа не оставалось ждать ничего более, и Никифор обратился к собору с большой речью — резко осуждал митрополита и других епископов, сторонников унии, за их отступничество, хвалил тех, которые твердо стояли против них.
Затем рассмотрены были наказы земских послов, приехавших на собор. Они заявляли, что поместный собор в Бресте не вправе принять решение о соединении с римской церковью без согласия патриархов и всей восточной церкви и духовные лица, отступившие от власти патриархов, должны быть наказаны лишением сана, и прочее.
В это время явились королевские послы и старались в длинной речи склонить к унии лиц, высланных для переговоров с ними. Петр Скарга в свою очередь пытался поколебать князя Острожского, но все старания были напрасны.
Четвертый день собора был самый решительный. Бискупы и владыки-униаты, в полном облачении, в сопровождении других низших духовных чинов, отправились в церковь св. Николая при колокольном звоне и пении. Совершили благодарственное молебствие за соединение христиан. Во всеуслышание была прочтена грамота, в которой митрополит и владыки именем Бога заявляли всем «на вечную память» о своем подчинении папе.
Как только окончилось чтение грамоты, бискупы западной церкви бросились к епископам-униатам, облобызались с ними и воспели хором хвалебную песнь Богу. Затем все вместе пошли в латинский костел и там торжественно пропели «Те Deum laudamus» («Тебя, Бога, хвалим»). Противников своих, епископов и других духовных лиц, верных православию, они объявили лишенными сана и священства и предали проклятию. Не менее решительные действия совершились в четвертый день и на православном соборе. Заседание началось с раннего утра. Экзарх Никифор подробно изложил вину митрополита и владык-униатов: обвинил их в том, что они нарушили клятву, данную ими при рукоположении, — подчиняться цареградскому патриарху, — нарушили постановления древних соборов, самовольно, без вселенского собора, решили вопрос о соединении церквей и прочем.
Выслушав это, собор потребовал, чтобы тотчас же был произнесен приговор над отступниками. Тогда Никифор стал на возвышении с крестом в правой руке и Евангелием в левой и громко произнес:
— Святая Божия восточная церковь повелевает нам и настоящему собору, чтобы митрополит Михаил и единомысленные с ним владыки лишены были архиерейского достоинства и служения, епископской власти и всякого духовного сана.
Приговор этот был подписан всеми духовными членами собора, и постановлено было просить короля, чтобы он назначил вместо свергнутых митрополита и владык других лиц, верных блюстителей православия.
Понятно, как должен был взглянуть на это дело король, сильно хлопотавший об унии. Она была им признана и узаконена. Греческие экзархи объявлены были турецкими шпионами, епископы и другие духовные лица, противники унии, — ослушниками митрополита, отступниками от своей церкви и даже противниками короля. Таким образом вмешательство короля в церковные дела обращало ревнителей православия в государственных преступников, в мятежников.
Н. Третьяков В закрытом храме
Итак, уния, вместо действительного соединения церквей, разорвала западнорусскую церковь на две враждебные части, повела к новой розни, вражде и бедствиям.
Скоро возникли усиленные гонения на православие. Началось с возмутительного суда над Никифором, на которого взводили всякие вины. Старик князь Острожский, глубоко оскорбленный, не стерпел и высказал самому королю много резких, хотя и справедливых укоров.
— Ваша королевская милость, — говорил он, — видя насилие над нами и нарушение прав наших, не обращаешь внимания на присягу свою, которой обязался не ломать прав наших… Не хочешь нас в православной вере нашей держать при наших правах, наместо отступников-епископов других дать, позволяешь этим отступникам насилия творить… За веру православную наступаешь на права наши, ломаешь вольности наши и, наконец, на совесть нашу налегаешь… Не только сам я, сенатор, терплю кривду, но вижу, что дело идет к конечной гибели всей короны польской, потому что теперь никто уже не обеспечен в своем праве и вольности, и в короткое время настанет великая смута. Предки наши, сохраняя государю верность, послушание и подданство, взаимно от него милость, справедливость и защиту получали. На старости лет затронули у меня самые дорогие сокровища: совесть и веру православную. Видя смерть перед глазами, напоминаю вашей королевской милости: остерегитесь! Поручаю вам отца Никифора. Бог взыщет на вас кровь его, а мне дай Бог не видать больше такого ломания прав!..
Кончив свою горячую речь, Острожский встал и, опираясь на руку одного своего приятеля, пошел из королевской комнаты. Тот напоминал ему, что надо подождать ответа короля.
— Не хочу! — ответил князь Острожский.
Король послал за ним его зятя Радзивилла с просьбой вернуться.
— Уверяю вас, — говорил Радзивилл Острожскому, — король тронут вашей печалью, и Никифор будет освобожден.
— Пусть себе и Никифора съест!.. — ответил разгорячившийся Острожский и ушел из дворца.
Упрямство старого князя повредило делу: Никифор не увидел свободы и умер в заточении.
И прежде православным трудно жилось под властью польского короля — приходилось терпеть всякие притеснения от католиков, а теперь к этим врагам прибавились еще униаты. Униатские епископы выгоняли православных священников из их приходов и ставили на их места своих униатов. Братства объявлены были мятежными сходками, их стали строго преследовать. У православных отбирали церкви и отдавали униатам; они овладели даже Софийским собором в Киеве и едва не прибрали к своим рукам Киево-Печерскую лавру. Православных жителей не допускали к городским должностям, всякими способами стесняли их в промыслах и торговле, на их жалобы и просьбы не обращалось никакого внимания — им приходилось выносить всевозможные притеснения и обиды. О страданиях простого народа нечего и говорить…
Ф. Солнцев Старинная панагия
Борьба православия с унией
Православие оказалось, однако, сильнее, чем думали враги его: нашлись у него сильные защитники и среди книжных людей, и в темном народе, готовые оборонять отцовскую веру и пером и мечом.
Скоро разгорелась сильная литературная борьба (полемика). Даже с дальнего Афона раздался сильный обличительный голос.
«Покайтесь все, — писал оттуда русский инок Иоанн Вишенский, — покайтесь, да не погибнете двоякою погибелью! Турки некрещеные честнее пред Богом в суде и правде, нежели крещеные ляхи. А вы, православные христиане, не скорбите: Господь с вами… Имейте веру и надежду на Бога жива; на панов же ваших, на сынов человеческих, не надейтесь — в них нет спасения: они от живого Бога и от веры в Него отступили. Да будут прокляты владыки, архимандриты, игумены, которые монастыри запустошили… гроши собирают с доходов, данных богомольцам Христовым, дочерям своим приданое готовят, сыновей одевают, слуг умножают, кареты себе делают… а в монастыре, вместо песнопения и молитвы, псы воют!..»
Тот же инок послал резкое обличение главным отступникам от православия: Терлецкому, Поцею и Рагозе.
Стефан Зизаний, который и раньше волновал Вильно своими горячими проповедями против католицизма и унии, в 1596 году издал «Казанье (слово) святого Кирилла, иерусалимского патриарха, об антихристе». Из этого сочинения явствовало, что время унии и есть антихристово время. На эту книжку явился ответ от католиков.
Особенно сильная литературная борьба разгорелась по поводу Брестского собора. О нем появилось два сочинения: одно — православное, другое — католическое. Последнее было написано Скаргой. Он утверждал, что все постановления православных в Бресте не имеют никакого значения, потому что законно только то, что постановлено митрополитом и епископами, то есть уния, а миряне не имеют никакого права мешаться в церковное дело и должны, как овцы, повиноваться своим пастырям.
В ответ на сочинение Скарги появилась «Отповедь», подписанная вымышленным именем «Христофор Филалет». Здесь, вопреки Скарге, доказывается многими примерами, что миряне не должны следовать за своими духовными пастырями, если те заблуждаются и отступают от истинной веры.
«Если мирские люди, — говорится между прочим в „Отповеди“, — обязаны во всем повиноваться пастырям своим, то не погрешили и немцы кельнские, которые по примеру своего архиепископа сделались лютеранами; и мы не грешим, слушаясь владык львовского и перемышльского, которые говорят, что папа вовсе не наивысший правитель церкви, и если бы луцкий владыка (то есть Кирилл Терлецкий) потуречился, что для него дело возможное, то „овцы“ его были бы оправданы перед Богом, если бы обратились за ним в магометанство».
Ф. Солнцев Старинная панагия
Эта «Отповедь» сильно раздражила католиков, так как, поймав Скаргу на противоречии самому себе, остроумно била его собственным же его оружием. Ответ католиков на «Отповедь» дышит сильным гневом и переполнен бранными выражениями. «Сам дьявол, — говорится в этом ответе, — из ада вылезши, не мог бы большей неправды сочинить, как этот „Христофор Филалет“». (Это имя в переводе с греческого значит «носитель Христа» и «любитель истины».) «Поистине каждый, — говорит сочинитель ответа, — может назвать его не Христофором Филалетом, а Дьявол офором и Филопсевдисом» (то есть «носителем дьявола» и «любителем лжи»).
В это же время явилось обстоятельное и правдивое сочинение о происхождении унии — «Перестрога» (то есть предостережение), написанное православным львовским священником.
Таким образом, борьба православия с унией и католичеством заставляла православных глубоко вдумываться в церковные вопросы, пробуждала их силы и направляла их к литературной деятельности и проповеди.
Король в своей грамоте к русскому народу требовал, чтобы все православные последовали примеру митрополита — приняли унию, и запрещал признавать владыками и иметь общение с епископами, восстававшими против унии, и даже приказывал карать ее противников. Итак, сам король считал православных преступниками и своей властью узаконивал гонение на них.
Наказать всех противников унии, то есть целый народ, и принудить его признать унию было не под силу польскому правительству, но всячески теснить и гнать православных оно могло. Положение униатов было тоже далеко не привлекательным: они от своих отстали и к чужим не пристали. Православные презирали их как отступников; не считали их своими и католики: в унии они видели только переходную ступень к католичеству. Сенаторских мест униатским духовным сановникам польское правительство не дало, зато щедро наделяло их имениями, отнятыми у православных церквей и монастырей. Епископы-униаты своим корыстолюбием и небрежным отношением к церкви еще более роняли унию в глазах всех благомыслящих людей. Паны и шляхтичи, изменяя православию, считали за лучшее переходить не в унию, а прямо в католичество. Уния только и находила себе поддержку в правительстве.
После Михаила Рагозы, горько каявшегося в принятии унии, митрополитом стал Ипатий Поцей (1599). При нем усилились преследования православных: он отнимал у православных церквей и монастырей имения в пользу униатов, изгонял православных духовных лиц и давал их места униатам, теснил братства. Притеснения дошли наконец до того, что раздраженному населению стало невмочь более терпеть. Один православный мещанин в Вильно даже покусился на жизнь Поцея, но отрубил ему только два пальца. Преступник был казнен, а пальцы Поцея как мученика за веру долго лежали на престоле в церкви. Это покушение только сильнее разожгло страсти: преследование православных после этого еще более усилилось. На церковные места в униатской церкви стали допускать прямых католиков, и явно обнаружилось стремление обратить униатов совсем в латинство; преемник Поцея Иосиф Рутский особенно хлопотал об этом.
В. Поленов Ночью в монастыре
Начало XVII века, когда Московская Русь страдала от смут, было особенно тяжелым и для православных в западной Руси. Чего только не делалось здесь против них! Шайки голодных и оборванных жолнеров (солдат), воротившихся из похода на Москву, буйствовали, грабили и всячески тешились над православным населением. Иезуиты натравливали даже своих школьников на православное население, и те заводили с православными уличные драки, издевались над их обрядами, врывались в церкви и бесчинствовали. Бывали даже случаи, что «питомцы иезуитов» разносили церкви и дома. Все это буянам сходило безнаказанно с рук. Управы на них найти православным было негде: суды охраняли права лишь католиков и униатов, а не православных. Сильных покровителей их уже не стало. Князь Острожский умер в 1608 году. Многие прежде русские и православные роды ополячились.
В 1610 году появилось сочинение Мелетия Смотрицкого «Фринос» («Плач»). Здесь представлена православная церковь, которая оплакивает утрату западно-русских родов, перешедших в латинство, в следующих словах:
«Где теперь тот неоцененный камень, который я носила вместе с другими брильянтами на моей голове в венце, как солнце среди звезд, — где теперь дом князей Острожских, который превосходил всех ярким блеском своей древней (православной) веры? Где и другие так же неоцененные камни моего венца, славные роды русских князей, мои сапфиры и алмазы — князья Слуцкие, Заславские, Збаражские, Вишневецкие, Чарторижские? (Далее следует длинный перечень знатных русских родов, ополячившихся и окатоличившихся.) …Вы, злые люди, своею изменою обнажили меня от этой дорогой моей ризы и теперь насмехаетесь над немощным моим телом… Прокляты будете все вы, насмехающиеся над моей наготой, радующиеся ей! Настанет время, когда все вы будете стыдиться своих действий».
Не стало сильных защитников православия между русскими панами; один за другим сошли в могилу и последние православные епископы: Гедеон — епископ львовский и Михаил — перемышльский.
Все сильнее и сильнее сказывался недостаток в православных священниках. В иных местах православному населению поневоле приходилось обращаться к униатским священникам, а гонения на православных все росли да росли.
Вот какими красками на сейме 1620 года волынский депутат Лаврентий Древинский обрисовал пред королем и всеми членами сейма положение православных польской короны:
— Каждый видит ясно, какие великие притеснения терпит этот древний русский народ относительно своей веры. Уже в больших городах церкви запечатаны, имения церковные расхищены, в монастырях нет монахов — там скот запирают; дети без крещения умирают, тела умерших без церковного обряда из городов, как падаль, вывозят; народ умирает без исповеди, без приобщения. Неужели это не самому Богу обида и неужели Бог не будет за это мстителем?!
Скажу, что в Львове делается: кто не униат, тот в городе жить, торговать и в ремесленные цехи принят быть не может; мертвое тело погребать, к больному с тайнами Христовыми открыто идти нельзя. В Вильно, когда хотят хоронить тело благочестивого русского, то должны вывозить его в те ворота, в которые одну нечистоту городскую вывозят. Монахов православных ловят на вольной дороге, бьют и в тюрьму сажают. В чины гражданские людей достойных и ученых не производят потому только, что не униаты; простаками и невеждами, из которых иной не знает, что такое правосудие, места наполняют в поношение стране русской. Деньги у невинных православных без всякой причины исторгают… Уже двадцать лет на каждом сеймике, на каждом сейме горькими слезами молим, но вымолить не можем, чтоб оставили нас при правах и вольностях наших. Если и теперь желание не исполнится, то будем принуждены с пророком возопить: «Суди ми Боже и рассуди прю мою!»
С. Щухвостов В церкви. Жанровая сцена
Вид окрестностей Вильно
В 1620 году в Малороссию приехал иерусалимский патриарх Феофан и поставил для православных митрополита Иова Борецкого и шесть епископов. Это сильно встревожило иезуитов; они пустили молву, будто Феофан — самозванец, а не патриарх, и поэтому все посвященные им епископы незаконны. Из-за этого вопроса снова разгорелась полемика. Законность действий Феофана была доказана. В это же время казаки решительно заявили, что не пойдут на турок, если польское правительство не признает вновь поставленных православных епископов, а на сейме 1622 года снова Древинский возвышал свой горячий голос в защиту свободы веры. По новому определению сейма признаны были права православных и решено было прекратить судебные дела, порожденные религиозной враждой. Казалось, наступала пора примирения и спокойствия, но случилось несчастье, которое разбило все упования православных и вызвало новые нападки и гонения на них.
Полоцкий униатский епископ Иосафат Кунцевич, один из самых рьяных поборников унии, не останавливался ни перед чем, добиваясь торжества ее над православием. Он не мог вынести, что многие из его паствы стали переходить к православному полоцкому епископу Мелетию Смотрицкому, и стал творить такие неправды и насилия, что даже иные католики старались умерить его слепую вражду к православным.
Литовский канцлер Лев Сапега, как дальновидный государственный человек, понимал, как вредны могут быть последствия насилий, какие совершал Кунцевич и подобные ему. Письмо Сапеги к нему, полное резких, но правдивых укоров, очень любопытно: здесь истый католик свидетельствует о тех безобразиях, какие творили горячие ревнители унии.
«Бесспорно, — пишет Сапега Кунцевичу 12 марта 1622 года, — что я сам хлопотал об унии и покинуть ее было бы неразумно, но мне никогда и на ум не приходило, чтобы вы решились приводить к ней такими насильственными средствами. Уличают вас жалобы, поданные на вас в Польше и Литве. Разве не известны вам ропот темного народа, его речи, что он хочет лучше быть в турецком подданстве, нежели терпеть такое притеснение своей вере? По словам вашим, только некоторые монахи епархии Борецкого (нового православного митрополита) и Смотрицкого да несколько киевской шляхты противятся унии; но просьба королю подана от войска Запорожского, чтобы Борецкого и Смотрицкого в их епархиях утвердить, а вас и товарищей ваших свергнуть. И на сеймах мало ли у нас жалоб от всей Украины и от всей Руси, а не от нескольких только чернецов! Поступки ваши, проистекающие более из тщеславия и ненависти, нежели из любви к ближнему… произвели те опасные искры, которые угрожают всем нам или очень опасным, или даже всеистребительным пожаром!»
Далее Сапега указывает на весь вред насилий, указывает, что поступать так, как поступает Кунцевич и ему подобные, и невыгодно для успеха унии, и противно христианскому духу.
«Говорите, — продолжал он, — что вольно вам неуниатов топить, рубить. Нет! Заповедь Господня всем мстителям дает строгое запрещение, которое и вас касается. Когда насилуете совести людские; когда запираете церкви, чтобы люди без благочестия, без христианских обрядов, без священных треб пропадали, как неверные; когда своевольно злоупотребляете милостями и преимуществами, от короля полученными, то дело обходится и без нас; когда же, по поводу этих беспутств, в народе волнение, которое надо усмирить, то вы хотите нами дыры затыкать! …Вы требуете, чтоб не принимающих унию изгнать из государства. Да спасет Бог наше отечество от такого величайшего беззакония!.. Печатать и запирать церкви и ругаться над кем-либо ведет только к пагубному разрушению братского единомыслия и взаимного согласия. Покажите, кого вы приобрели, кого уловили вашею суровостью, строгими мерами, печатанием и запиранием церквей? Вместо того откроется, что вы потеряли и тех, которые в Полоцке у вас в послушании были. Из овец сделали вы их козлищами, навлекли опасность государству, а может быть, и гибель всем нам, католикам. Вот плоды вашей хваленой унии! Если отечество потрясется, то не знаю, что в то время с вашей унией будет!.. Король приказывает вам православную церковь в Могилеве распечатать и отпереть, о чем я, по приказу его, пишу к вам, и если вы этого не исполните, то я сам велю ее распечатать… Жидам и татарам не запрещается в областях королевских иметь свои синагоги и мечети, а вы печатаете христианские церкви!»
Но эти укоры не действовали на Кунцевича, ослепленного враждой к православию. Он, выражавший опасение за свою жизнь, казалось, шел навстречу беде: запирал православные церкви в Витебске, не дозволял православным служить даже за городом, в шалашах. Озлобление против него дошло наконец до крайней степени: раздраженная уличная чернь кинулась на него, избила его палками до смерти, а изуродованный труп его кинула в Двину (в ноябре 1623 года).
Это убийство было знаком к новым гонениям на православных. До сих пор они имели право говорить о себе: «О насилии наша сторона не мыслит». Теперь же в глазах католиков и униатов они этого права лишились. Кунцевич был провозглашен по всему католическому миру мучеником за свою христианскую ревность. Сам папа Урбан VIII взывал о мщении — он смотрел на православных глазами Кунцевича. В своем послании к королю 10 февраля 1624 года он между прочим говорит:
«Восстань, о царь, знаменитый поражением турок и ненавистью нечестивых! Прими оружие и щит и, если общее благо требует, мечом и огнем истребляй эту язву!»
«Кто даст очам нашим источник слез, — пишет папа в другом месте, — чтобы мы могли оплакать жестокость схизматиков и смерть полоцкого архиепископа? Где столь жестокое преступление вопиет о мщении, проклят человек, который удерживает меч свой от крови! Итак, могущественнейший король! Ты не должен удерживаться от меча и огня. Да почувствует ересь, что за преступлениями следуют наказания. При таких отвратительных преступлениях милосердие есть жестокость!»
Такие воззвания делал папа, считавший себя наместником Христа на земле. Он писал не только к королю, но и ко многим епископам и светским лицам, требуя гонения на православных.
В Витебск явились королевские комиссары (чиновники), окруженные значительными отрядами пешего и конного войска, — боялись казаков, которых звали на помощь жители Витебска. Судебное разбирательство было окончено в три дня. Два бурмистра и 18 горожан были казнены; около 100 бежавших горожан были приговорены заочно к смерти; имения их отобраны в казну. Город потерял все свои права и преимущества («Магдебургское право»); ратуша и две православные церкви были разрушены; даже колокола, в которые били в набат, возбуждая народ против Кунцевича, были сняты.
По всему пространству польских владений с новой силой поднялось гонение на православных. Витебский погром и другие насилия нагнали такого страху на православных, что они целыми тысячами стали переходить в унию.
По поводу витебской расправы один из современников-униатов пишет:
«Великий страх после этого напал на схизматиков; начали понимать, что когда сенаторы хотят приводить в исполнение приказы королевские, то не боятся казацкого могущества».
Казацкие движения против Польши тогда уже начались, и польское правительство стало с тревогой смотреть на свою казацкую юго-восточную Украину.
Герб княжества Витебского
Петр Могила
Католики и униаты, как мы видели, сильно боролись с православием, между прочим и пером. Православным пришлось обороняться тем же оружием — писать и издавать книги против своих врагов. Это вызвало сильное умственное движение; для духовной борьбы нужны были просвещенные борцы, умеющие хорошо писать; нужны были и талантливые проповедники. Братства, стоявшие на страже православия, особенно способствовали умственному возрождению в православном мире: посылали даровитых молодых людей в западные университеты, заводили училища, типографии. Быстро увеличивалось число людей пишущих, читающих, думающих о высших умственных вопросах, и, несмотря на бедствия и гонения, в среде православных просвещение поднималось. Большую службу сослужили в этом деле братства, но они мало-помалу слабели в борьбе и, когда высший класс русский олатинился и ополячился, стали одно за другим исчезать. Одно только из них, киевское, имело иную судьбу. Киеву снова выпало на долю быть источником христианского просвещения.
Еще в 1594 году братство киевской Богоявленской церкви завело школу. Двадцать лет она работала на пользу православия и просвещения; но тут ее постигло несчастье — она сгорела. В 1615 году богатая женщина Анна Гугулевичевна пожертвовала землю и несколько зданий для братства и школы — она возобновилась и скоро достигла цветущего состояния.
В. Штенберг Киев
Умственное движение в южной Руси получило особенную силу с той поры, как в нем принял участие Петр Могила.
Происходил он из очень знатного молдавского рода; учился, как говорят, в Париже, затем служил в военной польской службе. В 1625 году, когда ему не было еще и 30 лет, он постригся в Печерской лавре. Его образование, богатство и сильные связи обращали на него общее внимание, подавали надежду на то, что в нем православная церковь найдет сильного борца. Петр Могила скоро был избран архимандритом монастыря. Новый игумен с первых же шагов выказал необычайную деятельность на пользу монастыря: подновил церковь, не жалел издержек на украшение ее и пещер, построил на свой счет при лавре богадельню для нищих и задумал завести при монастыре высшую школу Чтобы приготовить для нее хороших учителей, он стал посылать, не жалея своих средств, молодых людей за границу. Но спустя некоторое время члены Богоявленского братства — дворяне и казацкие старшины — стали просить Петра Могилу, чтобы он не заводил новой школы, а обратил свои средства и силы на улучшение уже существующего братского училища на Подоле (нижняя часть города Киева). Могила согласился и признан был старшим братом, блюстителем и пожизненным опекуном киевского братства (в конце 1631 года). Гетман от всего Запорожского войска обещал в случае нужды защищать оружием церковь, монастырь, богадельню и школу братства, а киевские дворяне обязались заботиться о содержании училища.
В. Орловский Окраина Киева
В начале 1632 года скончался король Сигизмунд III, заклятый враг православия, и у православных ожила надежда на лучшее будущее. На сейм, где должны были толковать о разных улучшениях в государстве, уполномочен был ехать от русского духовенства Петр Могила. Православные требовали уничтожения всяких стеснений и запретов относительно своей церкви. Вместе с просьбой дворян и духовных подали на сейм и казаки свое прошение. Оно было изложено в резких выражениях.
«При покойном короле, — писали казаки, — мы терпели неслыханные обиды… Униаты отстранили от городских должностей добродетельных мещан нашей веры и замутили сельский народ; дети остаются некрещеными; взрослые — невенчанными; умирающие отходят на тот свет без причащения. Пусть уния будет уничтожена; тогда мы будем со всем русским народом полагать жизнь за целость любезного отечества. Если же, сохрани Боже, и далее будет не иначе, мы будем искать других мер удовлетворения».
Эта угроза сильно раздражила поляков. Но все же сейм согласился исполнить многие просьбы православных: отдать им киевскую митрополию, львовское епископство, позволить братствам свободно распоряжаться школами. А Владислав, искавший содействия казаков и русских, ввиду неприязни Польши к Москве, дал православным от себя грамоту с обещанием еще больших прав и свобод. Православные дворяне и духовные лица, бывшие на сейме, порешили вместо дряхлого и болезненного киевского митрополита Исайи избрать Петра Могилу. Король утвердил этот выбор и дал Петру право преобразовать Киевское братское училище в высшую школу — коллегию.
С большой ревностью принялся новый митрополит приводить в порядок расстроенные дела православной церкви в Киеве. Церковь св. Софии, это «единственное украшение православного народа, глава и матерь всех церквей», как ее называл Петр Могила, была приведена в благолепный вид и освящена. Церковь св. Василия возобновлена; из развалин Десятинной церкви была воздвигнута новая каменная церковь; при работе был найден гроб святого Владимира. Возобновлена была также древняя церковь Спаса на Берестове.
Не одним внешним восстановлением святынь занялся Петр Могила — он стремился исцелить и внутренние язвы православной церкви.
Т. Шевченко Киево-Печерская лавра
«Наша церковь, — писал он позже в своем окружном послании, — оставаясь ненарушимою в догматах веры, сильно искажена в том, что касается обычаев, молитв и благочестивого жития. Многие православные, часто посещая богослужение иноверцев и слушая их проповеди, так заразились ересью, что трудно распознать, истинные ли они православные или только по имени. Другие же, не только светские, но и духовные, прямо покинули православие и перешли к разным богомерзким сектам. Духовный и монашеский сан пришел в нестроение, нерадивые настоятели не заботятся о порядке и совсем уклонились от примера древних отцов церкви…»
Вернуть русскую церковь к древнему благочестию — вот задача, какую поставил себе Петр Могила.
Он издал Служебник, где было приложено объяснение литургии; затем Требник, подробный сборник богослужений, долгое время служивший руководством во всей России; велел напечатать «Краткий катехизис». В предисловии к нему сказано: «Книга эта публикуется не только для того, чтобы священники в своих приходах каждый день, в особенности в воскресенье и праздничные дни, читали и объясняли ее своим прихожанам, но также чтобы мирские люди, умеющие читать, преподавали одинаковым способом христианское учение, а также чтобы в школах все учители заставляли своих учеников учить наизусть по этой книжечке». Изложен катехизис в вопросах и ответах и содержит в себе объяснение Символа веры по членам, молитвы Господней и заповедей. Книжка эта послужила образцом для позднейших катехизисов.
Понятно, какое важное значение имели все означенные книги: они объясняли православным смысл их веры и богослужения и придавали последнему определенность и устойчивость.
Не мог такой горячий ревнитель православия, как Могила, не принять участия в полемике с католиками. Когда один из отступников от православия, перешедших сначала в унию, а потом в католичество, осмеял собор, созванный Могилой в 1642 году для улучшения церковных дел, и затем в длинном сочинении изобразил недостатки православной церкви, то Могила написал большое сочинение «Лифос», или «Камень», где он рассуждает о таинствах, обрядах, церковном уставе, главных отличиях восточной церкви от западной и о печальном состоянии православной церкви.
С. Христофоров Вид Киева
Но более всего Могила направил свои заботы на школу. Киевскую братскую школу он преобразовал в коллегию, устроил при братстве типографию и монастырь, где жили монахи, наставники школы; подарил коллегии свое собственное село, постоянно давал деньги на постройки, помогал учителям и ученикам, своим примером увлекая и других к пожертвованиям.
Могила понимал вполне, что для спасения православия необходимы такие борцы, которые знаниями не уступали бы своим противникам — образованным католикам, — и целью его стало создать рассадник вполне просвещенных духовных лиц.
Управлением и всем строем коллегия Могилы походила на иезуитские коллегии. Во главе заведения стоял ректор; он был вместе с тем игуменом братского монастыря и профессором богословия.
Помощником его был префект. Кроме этих двух начальствующих лиц, выбирался на известный срок суперинтендант, наблюдавший за поведением учеников. Некоторые из них, более благонравные, должны были ему помогать в этом деле. Часть учеников жила за счет коллегии в ее доме, так называемой бурсе.
Учебный курс распадался на две части, низшую и высшую. Низшая делилась на шесть ступеней, или классов. Фара, или аналогия, — здесь обучали чтению и письму на славянском, латинском и греческом языках; инфима — класс первоначальных сведений; затем следовали классы грамматики и синтаксимы — в этих двух классах изучались грамматические правила трех вышеупомянутых языков, объяснялись и переводились разные сочинения, преподавались катехизис, арифметика и пение. В следующем классе — поэзии — обучали пиитике, то есть правилам стихосложения, приучали учеников писать стихи, или, как называли тогда их, вирши (versus). За классом поэзии шел класс риторики — науки, излагавшей правила красноречия. Здесь ученики упражнялись в сочинении речей и рассуждений. Самыми высшими были два класса: философии и богословия. Курс первого продолжался два года, а второго — четыре. В последнем классе, кроме изучения разных богословских предметов, обращалось большое внимание на составление проповедей.
Направление преподавания было так называемое схоластическое: считали, что все знания, возможные для человека, заключаются в Святом Писании и в сочинениях Аристотеля. Внимание наставников было обращено не на то, чтобы при помощи разнообразных сведений развить умственную пытливость учеников, пробудить в них желание доискиваться новых истин и знаний, а лишь на то, чтобы придать уму гибкость, сноровку, способность ловко доказывать данные истины. Такое направление господствовало в те времена как в иезуитских коллегиях, так и в большинстве западноевропейских школ и университетов.
Н. Богданов-Вельский У дверей школы
Преподавание всех наук, кроме славянской грамматики и православного катехизиса, велось на латинском языке. Ученики обязаны были и между собой постоянно говорить по-латыни.
Заведены были даже нотаты, или листки, где записывалось имя того ученика, который, говоря по-латыни, ошибался или проговаривался нелатинским словом. Такой листок оставался у виновного до тех пор, пока ему не удавалось поймать на подобном же промахе своего товарища, которому он и передавал нотату. Плохо приходилось тому, у кого этот листок оставался на ночь, — его секли.
Г. Михайлов Девушка, ставящая свечу
Такое предпочтение латинскому языку объясняется тем, что в те времена, как известно, он был общим языком науки: на нем писались сочинения, велись диспуты, а кроме того, он употреблялся на судах и сеймах.
Господство латинского языка в киевской коллегии чуть было не навлекло на нее большой беды. Пошла молва, что наставники коллегии, воспитанные за границей, хотят совратить юношество в латинство. И вот раз буйная толпа черни под предводительством казаков приступила к коллегии и грозила сжечь ее и перебить наставников. Насилу удалось образумить толпу.
«Мы, — писал потом один из наставников школы, — уже исповедовались и ожидали, что нами начнут кормить днепровских осетров, но, к счастию, Господь, видя нашу невинность, разогнал тучу предубеждений и осветил сердца наших соотечественников; они увидели в нас сынов православной церкви, и с тех пор жители Киева и других мест не только перестали нас ненавидеть, но стали отдавать к нам в большом числе своих детей…»
Обучение и воспитание были в коллегии основаны главным образом на соревновании. Рассаживались ученики в классе по успехам — лучшие занимали переднюю скамью, называемую «сенатом». Из этих учеников выбирались старшие, которые должны были помогать учителю, спрашивая уроки у товарищей, наблюдая за поведением и прочее. Очень часто велись диспуты и писались сочинения. На письменных работах ученики обыкновенно обозначали, какой стороной своего труда они думают превзойти товарищей: трудолюбием, правописанием или красивым почерком и прочее. Иные из беднейших учеников надписывали, что они желали бы получить за свой труд — хлеб, свечи, сапоги, рубаху и прочее. Если работа с подобной надписью была хороша, то учитель в пользу писавшего взыскивает требуемое с учеников достаточных, но ленивых и малоуспешных. По субботам производилась расправа с ленивыми. Словом, весь строй школы был совершенно такой же, как у иезуитов.
Ученики коллегии не много выносили настоящих знаний, зато выходили способными и устно и письменно оборонять православие, ловко опровергая доводы своих противников, ни в чем не уступая им. Этого и желал Петр Могила.
Враги православия крайне враждебно смотрели на коллегию — старались, где могли, всячески вредить ей.
Могила ничего не жалел на училище — свое детище. Восстановить в прежнем виде святыни и православные церкви, поднять духовенство и мирян просвещением — вот что было задачей всей жизни и деятельности знаменитого просветителя и ревнителя православия.
В своем духовном завещании он говорит:
«Видя, что упадок святого благочестия в народе русском происходит не от чего иного, как от совершенного недостатка образования и учения, я дал обет Богу моему — все мое имущество, доставшееся от родителей, и все, что ни оставалось бы здесь от доходов с порученных мне святых мест, с имений, на то назначенных, обращать частию на восстановление разрушенных храмов Божиих, от которых оставались плачевные развалины, частию — на основание школ в Киеве».
Коллегии своей Могила завещал довольно крупный капитал, всю свою библиотеку, четвертую часть своего серебра и некоторые ценные вещи.
Скончался Петр Могила 1 января 1647 года, незадолго до страшного казацкого и народного движения в защиту русской веры и народности при Хмельницком.
Казаки и борьба их с турками и татарами
С тех пор как Литве достались юго-юго-западныерусские земли, литовские князья стали смотреть на них и на всю степную Украину как на свою собственность и начали раздавать здесь участки служилому люду за военную службу. Сначала помещики предпочитали лесные области и не выказывали особенного желания водворяться в степных местностях, более подверженных нападениям татар. В степях приднепровских селились лишь выходцы-крестьяне, обрабатывали здесь землю, становились собственниками ее, составляя вольные общины. Но мало-помалу помещики начинают понимать выгоды земледельческого промысла на тучной степной почве и понемногу подвигаются на юг, добывая себе от литовского правительства права на владение землями, которые раньше были заняты свободными промышленниками. Поселенцы, занявшие раньше пустопорожние земли и считавшие их своей собственностью, по большей части не желают обращаться в подневольных крестьян нового владельца земли и выселяются на новые места. Таким образом население все больше и больше вдавалось в южную степь и придвигалось ближе к татарским кочевьям. Литовское правительство строит по границам ряд укрепленных мест, замков для обороны своей южной границы от татар; с течением времени эти укрепления тоже все дальше и дальше вдвигаются на юг, в степь.
Татарин
Но любителей вольного степного житья было много, и они шли все дальше на юг и восток, уходя от власти и помещиков и старост или воевод. Эти поселенцы, занимаясь земледелием, рыболовством, охотой, беспрерывно сталкивались с татарами; оружия нельзя было из рук выпускать. Постоянная тревога и опасность придали особый склад этому военно-промышленному люду. Многие из военных обычаев пришлось им заимствовать от своих постоянных врагов — татар; усвоили себе они и название от них.
Крымские татары делились, кроме князей (то есть знатнейших), на уланов, поземельных собственников, составлявших высший военный класс, и казаков, низших воинов, которые владели только домами, занимались разъездами и набегами на пограничные государства и составляли как бы пограничную стражу. Такое же военное значение, как татарские казаки, имели и южнорусские. (В Московской Руси, как известно, казаками называли не только вольных воинов и пограничных стражников, но и вообще свободных рабочих, гулящих людей.)
Польско-литовское правительство издавна старалось воспользоваться силами украинских казаков, признавало за ними право мелкого землевладельчества; за это они обязывались держать полевую стражу в степи. Общины казаков пользуются правом самоуправления и самосуда. Подчинить и прибрать к рукам степных поселенцев — казаков — было мудрено. Степь служила приютом для беглых крестьян и для всех, кому трудно жилось в обществе. Бежали сюда из пограничных городов жители, которым тяжело становилось, так как они должны были, кроме разных повинностей, нести также и военную службу, всегда быть готовыми отражать врагов.
Степь манила к себе народ не только своим широким раздольем, но и роскошной природой. И в наше время южно-русская степная полоса славится богатой растительностью, а в старину степь, орошаемая множеством ручьев и мелких речек, от которых остались теперь только их ложбины, или «балки», была куда богаче. До сих пор еще «диды», дожившие до глубокой старости, с печалью вспоминают о стародавнем степном приволье и богатстве. Травы, по рассказам «дидов», бывали такие, что на пастбище лошадей не видно было, от волов только рога мелькали поверх травы; дети легко могли заблудиться в траве. Тучная почва давала такие урожаи, что с одного мешка посеянного зерна собирали тридцать — сорок. По балкам да у речек раскидывались вековечные леса. Дикие груши давали такое обилие плодов, что хоть граблями их греби, когда нападают на землю. Всякой птицы да зверя разного в степи да в лесах водилась пропасть. Меду от диких пчел не обобраться было. Реки и речки кишели рыбой. И обилие, и раздолье, и свобода! Как было не стремиться толпам поселенцев в эту степь? А тут еще и воля — селись где любо, паши земли сколько хочешь, держи скота всякого сколько душе угодно.
Горные татары
В XVI веке уже встречаются в Литовской Украине казаки двух родов: одни набирались старостами из королевских местечек и волостей, а другие сами собирались в вольные шайки и выбирали себе вождей. Чем больше население вдавалось в степь и приближалось к татарским кочевьям и чем чаще становились набеги татар, тем более усиливалось и казачество.
Важнейшими предводителями и устроителями казаков были старосты: Евстафий Дашкович, Предслав Ляндскоронский и князь Дмитрий Вишневецкий. Черкассы и Канев с их волостями были местом, откуда стало разрастаться казачество. Эти местечки долгое время были под властью Евстафия Дашковича, «знаменитого казака», как называют его польские историки. На казаков правительство возлагало борьбу с татарами.
В 1533 году Дашкович на сейме выставлял на вид необходимость держать постоянную казацкую стражу в две тысячи человек на днепровских островах, чтобы сдерживать татар от набегов на страну. Лет через тридцать после того князь Дмитрий Вишневецкий (Байда, по народным песням) построил укрепление за порогами Днепра, на острове Хортице, и поместил там казаков. Не по вкусу татарам пришлось это новое военное поселение. Сам хан ходил добывать этот казацкий городок и выгонять из своего соседства казаков, но безуспешно. Это и была знаменитая впоследствии Запорожская Сечь.
Конечно, Запорожская Сечь сложилась не сразу. Издавна уже рыболовы и звероловы из Украины ходили весной к порогам и за пороги на свои промыслы, а осенью возвращались домой и продавали в украинских городах свежую и соленую рыбу, а также и звериные шкуры.
Крымские татары и мулла
Приходилось, конечно, за днепровскими порогами украинским охотникам и рыболовам сталкиваться с татарами; надо было ходить довольно многочисленными ватагами, и притом с оружием в руках. Постоянная опасность, частые схватки с татарами придали этим шайкам промышленников-охотников воинственный закал. Бродячая жизнь, полная тревоги и военной удали, многим приходилась по душе; война мало-помалу обращалась у них в промысел. Вооруженные толпы промышленников-казаков стали ходить за пороги и в степь не только за рыбой и зверем, но и за военной добычей: нападали на татарские улусы, угоняли скот, лошадей и прочее, грабили и купеческие караваны. Часто возвращались казаки с большим богатством домой; удачи этих «промышленников» привлекали и других. С каждым годом число охотников промышлять за порогами росло.
Широкая, разгульная жизнь в Запорожской Сечи после удачных походов, удаль, простота, равенство при строгом повиновении выборному начальству — все это приходилось по душе многим. Это было тоже в своем роде братство, члены которого, подобно монахам, были равны между собой и вполне подчинялись своему вождю. Главным обетом запорожцев была война с татарами и турками, которые считались злейшими врагами христиан, — это обстоятельство войну с басурманами делало в глазах казаков священной, извиняло, по их понятиям, всякие насилия и грабежи.
Не только запорожское казачество росло день ото дня — росло число казаков и в других местностях. Они не ограничивались уже Черкассами и Каневом, как было сначала, но распространялись на всем пространстве нынешних губерний: Киевской, Полтавской и южной части Подольской. В одной из украинских летописей говорится, что султан спросил:
«Сколько в Украине казаков?» — и получил такой ответ: «У нас где крак (куст), там и казак; а где буерак, там сто казак».
Теперь, когда казачество разрослось в огромную силу, казаки уже не ограничивались схватками с татарами в степях и грабежом купеческих обозов, а пускались на своих легких чайках (лодках) в открытое море — нападали на берега Турции европейской и азиатской и производили здесь погромы и грабежи в больших размерах.
Крымские татары
Вот как описывает эти нападения один из писателей, хорошо знавших обычаи казаков (Боплан):
«Задумав погулять на море, казаки испрашивают дозволение не у короля, а у своего гетмана; затем созывают раду, то есть военный совет, и выбирают себе походного атамана так точно, как и главного вождя. Походный атаман ставится только на время. После того казаки отправляются в войсковую скарбницу — сборное свое место; строят там челны длиной в 60, шириной от 10 до 12 футов, а глубиной в 12 футов. Челны эти без киля: дно их состоит из выдолбленного бревна ивы или липы; оно обшивается с боков на 12 футов в вышину досками; приколачиваются они одна к другой так точно, как при постройке речных судов, до тех пор, пока челн не будет иметь в вышину 12, а в длину 60 футов… Толстые канаты из камыша, обвитые лыками или боярышником, охватывают челн от кормы до носа… Лодки свои казаки осмаливают и приделывают к каждой по два руля, чтобы не терять попусту времени, когда придется отступать. Челны казацкие, имея с каждой стороны по 10 и 15 весел, плывут на гребле скорее турецких галер. Ставится также и мачта, к которой привязывают в хорошую погоду довольно плохой парус, но при сильном ветре казаки охотнее плывут на веслах. Челны не имеют палубы; если же их зальет волнами, то камышовые канаты предохраняют их от потопления. Сухари складывают в бочки и достают их чрез втулку. Сверх того, каждый казак запасается горшком вареного проса и горшком теста, распущенного в воде, которое они едят, смешав с просом. Тесто это, кисловатое вкусом, служит казакам для пищи и для питья: называют его саламатою и считают лакомым кушаньем, хотя я не находил в нем большой приятности… Казаки во время похода всегда трезвы, и если замешается пьяница — атаман тотчас приказывает выбросить его за борт. Им не позволяется также брать с собою водки, потому что трезвость считают необходимою при исполнении их предприятий.
Для отмщения татарам за разорение Украины казаки выбирают осеннее время; заранее отправляют в Запорожье снаряды и запасы, необходимые для похода и для постройки челнов. В Запорожье собирается от 5 до б тысяч добрых, хорошо вооруженных казаков, которые немедленно принимаются за постройку лодок. Не менее 60 человек, искусных во всех ремеслах, трудятся около одного челна и отделывают его чрез 15 дней, так что в две или три недели изготовляют около 80 или 100 лодок с 4 или 6 фальконетами (маленькими пушками) на каждой. На челн садится от 50 до 70 казаков, из которых каждый имеет саблю, две пищали, 6 фунтов пороху, достаточное количество пуль… В ладьи кладут ядра для фальконетов и необходимые жизненные припасы. Походная одежда казаков очень проста — состоит она из рубахи, шаровар, кафтана из толстого сукна и шапки. Вот какие витязи садятся на летучий флот, приводящий в трепет многолюдные города, расположенные по северному берегу Малой Азии.
А. Кившенко В степи
Челны казацкие спускаются по Днепру и плывут так тесно, что едва не задевают друг друга веслами. Атаманский флаг развевается впереди. Турки обыкновенно заранее проведывают о намерении казаков и, чтобы удержать их, расставляют галеры свои в устье днепровском. Но хитрые казаки для выхода в море избирают ночь самую темную, пред новолунием, а до того времени скрываются в трех или четырех милях от устья, в камышах, куда турецкие галеры, помня прежнюю неудачу, не смеют показаться: они стерегут казаков только на устье и всегда без успеха. Впрочем, проезд казаков чрез лиман не может совершенно укрыться от стражи; весть о выходе их в море быстро распространяется по морскому берегу до самого Константинополя. Султан рассылает гонцов по берегам Натолии, Болгарии и Румелии для предостережения жителей, но все это ни к чему не служит. Казаки, пользуясь и временем, и обстоятельствами, чрез 36 или 40 часов по выходе из Днепра причаливают к берегам Натолии и, оставив для караула на каждой лодке по два мальчика, вооруженных пищалями, делают высадку. Нападают врасплох, приступом берут города, грабят, жгут, опустошают Натолию, нередко на целую милю от морского берега; потом немедленно возвращаются к судам, нагружают их добычею и плывут далее на новые поиски. Есть надежда на успех — вновь делают высадку; если нет — возвращаются с добычею на родину. Встретятся ли им на море турецкие галеры или купеческие корабли, они бросаются на них (на абордаж). Открывают же казаки неприятельский корабль или галеру прежде, нежели турки заметят их челны, возвышающиеся над морской поверхностью не более чем на 2 с половиной фута. Увидев вдали корабль, казаки немедленно складывают мачты, замечают направление ветра и становятся таким образом, чтобы к вечеру солнце было у них за спиною. За час до захода его на всех веслах плывут к кораблю и останавливаются за милю от него, чтобы не упустить его из виду. Наконец, в полночь по данному знаку устремляются на врага. Половина удальцов, готовых к бою, с нетерпением ждет схватки и, сцепившись с турецким судном, в одно мгновение всходит на него. Турки, изумленные нападением 80 или 100 лодок и множеством врагов, уступают, а казаки, забрав деньги, негромоздкие товары, которым не вредит подмочка, пушки и все то, что может быть для них полезно, пускают корабль на дно со всем его экипажем. Если бы они умели править морскими судами, то уводили бы с собою и взятые корабли, но они еще не дошли до этого искусства. Наконец настает время возвратиться на родину. Турки между тем усиливают стражу на устье днепровском, но казаки смеются над этим, даже и тогда, когда битвы уменьшили число их или волны морские поглотили некоторые из утлых челнов их. Они причаливают в заливе в 3 или 4 милях на восток от Очакова. От этого залива к Днепру идет низкая лощина длиною около 3 миль, которую море иногда заливает на четверть мили, покрывая ее водой не более чем на полфута. Чрез эту лощину казаки перетаскивают свои суда: над каждым челном трудится 200 или 300 человек, и чрез два или три дня весь флот, обремененный добычею, является на Днепре. Таким образом казаки избегают сражения с турецкими галерами, стоящими на устье днепровском близ Очакова, возвращаются в войсковую скарбницу (складочное место) и делят добычу. Есть еще и другая дорога для возвращения в Запорожье — чрез Азовское море, по Донскому лиману, по реке Миусу, затем около мили волоком, и добираются до реки Самары, впадающей в Днепр. Этот путь казаки избирают редко — по отдаленности его от Запорожья…
Татарки
Впрочем, и казаки в свою очередь иногда попадаются в западню, если встретятся с турецкими галерами среди белого дня на открытом море. Тогда от пушечных выстрелов челны их рассыпаются, как стая скворцов, и многие гибнут в морской пучине. Удальцы теряют все свое мужество и в быстром бегстве ищут спасения. Но когда решаются на битву — привязывают весла по местам и вступают в бой: одни, не трогаясь с лавок, палят беспрерывно из пищалей; другие заряжают их и подают своим товарищам.
Меткие выстрелы их не допускают турок до ручной схватки. При всем том турецкие пушки наносят казакам ужасный вред: они обыкновенно теряют в сражениях с галерами около двух третей своих сподвижников. Редко возвращается их на родину более половины, зато привозят богатую добычу — испанские реалы, арабские цехины, ковры, парчу, бумажные и шелковые ткани и иные драгоценные товары. Вот главный их промысел: они живут одной добычею. Возвратясь на родину, они ничем не занимаются — только пьют и бражничают с друзьями».
К. Гун Татарский наряд
Казаки выходят на морские поиски после Иванова дня, а возвращаются не позже первых чисел августа месяца.
Борьба с турками и татарами, этими исконными злейшими врагами и восточной, и западной Руси, была главным делом казаков.
О крымских татарах и набегах их мы находим любопытные сведения у того же Боплана.
«Татарина, — говорит он, — можно узнать с первого взгляда. Росту татары по большей части ниже среднего, коренастые, широкоплечие, голова у них огромная, лицо почти круглое, лоб открытый, глаза черные и узкие, нос короткий, цвет лица смуглый, волосы черные, как смоль, и грубые, как лошадиная грива. Все они воины крепкие и мужественные, приученные с малолетства презирать труды и непогоду: с семи лет они оставляют свои кантары (юрты на двух колесах), спят всегда под открытым небом и едят только то, что сами добывают стрелами, ничего не получая от родителей. Таким образом, научившись с детства метко попадать в цель, они на 12-м году отправляются в поле против неприятелей. Татарки ежедневно купают своих детей в соленой воде для того, чтобы кожа их загрубела и сделалась нечувствительною к холоду, чтобы они не боялись простуды даже в случае переправы чрез реки в зимнее время…
К. Гун Татарский двор
Одежда татар состоит из короткой бумажной рубахи и шаровар, иногда суконных и пестрых бумажных. Важнейшие из татар носят пестрый бумажный кафтан и сверх него надевают кафтан суконный, подбитый лисьим или собольим мехом; голову покрывают меховой шапкою; сапоги носят красные сафьянные, но без шпор. Простые татары накидывают на плечи овчинный тулуп, который зимой носят шерстью вниз, а летом и во время дождя — шерстью наружу. Встретив их в таком одеянии нечаянно в поле, испугаешься: подумаешь, что это белые медведи, вцепившиеся в лошадей. То же самое делают они и с овчинными шапками.
П. Гославский Татарская деревня
Татары вооружены саблею, луком и колчаном с 18 или 20 стрелами; на поясе висят нож, огниво для добывания огня, шило и 5 или б сажен ременных веревок для вязания пленников. Одни только зажиточные носят кольчуги, прочие же отправляются на войну просто. Они весьма храбры и проворны на конях, хотя и дурно сидят на них, подгибая колена от коротких стремян: конный татарин похож на обезьяну, сидящую на гончей собаке. При всем том ловкость и проворство татар изумительны: несясь во весь опор, они перескакивают с усталого коня на запасного и легко избегают преследования неприятелей. Конь, не чувствуя на себе всадника, тотчас берет правую сторону и скачет рядом, чтобы хозяин в случае нужды мог снова перескочить на него.
В. Серов Татарская деревня в Крыму
Татарские мурзы
Так умеют служить своим господам татарские кони, которые переносят труды почти невероятные. Только эти с виду неуклюжие и некрасивые лошади в состоянии проскакать без отдыха 20 или 30 миль. Густая грива и хвост их достигают до земли.
Все вообще татары низшего звания, не исключая и кочующих, питаются не хлебом, а кониною; ее предпочитают и говядине, и козлятине, и баранине…
Должно еще заметить, что татарин решится зарезать для пищи только больную лошадь, которая ни к чему не годна. Если даже она издохнет сама собою от какой бы то ни было болезни, татарин не побрезгает есть и падаль.
Во время походов та же пища: составив артель из 10 человек, татары берут коня самого изнуренного и убивают его. Если случится мука, размешивают ее рукою в лошадиной крови, потом кладут эту смесь в котел, варят и едят ее как самое лакомое кушанье. Мясо же рассекают на четыре части: три четверти отдают взаймы товарищам, а заднюю четверть оставляют для себя. Разрезав ее на большие пласты, в дюйм или два толщиною, кладут по одному на спину лошади под седло и, затянув крепко подпруги, скачут часа два или три, продолжая поход с товарищами. Потом снимают седло, переворачивают конину, смачивают ее пеною, которую собирают с лошади пальцами, из опасения, чтобы мясо не потеряло сочности; вновь седлают коня и скачут опять два или три часа, и кусок — самый лакомый для них — готов. Прочие же части возят с небольшим количеством соли в котле… Чистую воду пьют татары только тогда, когда найдут ее, что случается редко, а зимою употребляют одну снеговую. Мурзы, то есть благородные, и другие зажиточные татары пьют лошадиное молоко (кумыс), которое заменяет им вино и водку. У этого народа ничто не пропадает даром: конским жиром приправляют ячменную, просяную и гречневую кашу, из кожи искусно плетут веревки, делают седла, узды и нагайки… Остающиеся дома татары едят овец, козлят, кур и другую живность — свинины же не терпят, подобно жидам. Из муки, когда достанут ее, пекут лепешки, но самая обыкновенная их пища состоит из просяной, ячменной и гречневой каши…».
Татарские мурзы
Из этого описания видно, что татары-степняки остались по своим нравам и обычаям такими же полудикими кочевниками, какими были четыре века тому назад их предки, выведенные из Азии Батыем. Только те из татар, которые занимались торговлей и жили по городам, приучались к оседлости и усваивали себе некоторые обычаи более образованных народов.
К. Гун Татары на молитве
Н. Чернецов Татарский двор
Хищнические набеги татар по своей свирепости походили на прежние нашествия. Кроме крымских татар, на русские окраины делали набеги ногаи, кочевавшие между Доном и Кубанью, и буджакские татары, занимавшие степь между устьями Днестра и Дуная.
«Получив от султана повеление вторгнуться в Польшу, хан собирает тысяч до восьмидесяти всадников, если сам намерен громить неприятельские области; если же посылает мурзу, то дает ему сорок или пятьдесят тысяч. Походы предпринимают обыкновенно зимою, в начале января, чтобы не затрудняться переправами через реки и болота… Татары смело пускаются в дальний поход с нековаными лошадьми, которых копыта защищаются снегом — иначе они разбили бы их о замерзшую землю, что и случается во время гололедицы… Отправляясь в путь, татары рассчитывают так время, чтобы вернуться в Крым до вскрытия рек без всякого урона. Чтобы скрыть свои движения и избежать казаков, стерегущих врагов в степи, татары переходят степи по лощинам, идущим от Крыма к польским границам; ночью не разводят огней в лагере, а для разведок и чтобы добыть „языка“, высылают самых расторопных и опытных наездников. При каждом всаднике имеется две запасные лошади… Для не видавшего татар будет непонятно, как 80 тысяч всадников могут иметь более 200 тысяч лошадей. Не столь часты деревья в лесу, как татарские кони в поле, — их можно уподобить туче, которая появляется на горизонте и, приближаясь, более и более увеличивается. Вид этих полчищ наведет ужас на воина самого храброго, но еще не привыкшего к такому зрелищу… За три или за четыре мили от границы они отдыхают два или три дня в скрытном месте и устраивают войско, разделив его на три отряда. Две трети составляют главный корпус, а одна треть образует крылья — левое и правое. В таком порядке татары устремляются на неприятельскую землю и идут без отдыха день и ночь, не делая опустошений и останавливаясь не более часа для корма лошадей. Отойдя 60 или 80 миль от границы, они поворачивают назад. Главный корпус отступает в том же порядке, но крылья удаляются от него на несколько миль в сторону и вперед. Каждое крыло дробится на 10 или 12 отрядов в пятьсот или шестьсот человек каждый; отряды эти рассыпаются по деревням, окружают селения со всех сторон и, чтобы не ускользнули жители, раскладывают по ночам большие огни; потом грабят, жгут, режут сопротивляющихся, уводят не только мужчин, но и женщин с грудными младенцами, угоняют быков, коров, лошадей, овец и прочее. Отряды не смеют удаляться в сторону от главного войска далее 12 миль. Обремененные добычею, они спешат соединиться с главным войском, которое легко находят по следам часа через четыре… Когда грабители возвращаются, то от войска отделяются два свежих крыла направо и налево, грабят и опустошают так же, как первые отряды, и возвращаются, а на добычу выходят новые отряды… Отступают татары медленно, шагом, чтобы не утомить коней, и всегда готовы дать отпор полякам, хотя и стараются избегнуть встречи с неприятелем. Обороняются татары только тогда, когда вдесятеро сильнее врага; иначе спешат поскорее выбраться из неприятельской земли. Удалившись в степи миль на 30 или на 40 от границы, татары останавливаются в безопасном месте, отдыхают и приводят в порядок свое войско, если встреча с поляками расстроила его. Во время этого роздыха, продолжающегося около недели, татары собирают и делят между собой добычу, состоящую из пленников и домашнего скота. И бесчеловечное сердце будет тронуто, — говорит Боплан, — при виде прощания мужа с женою, матери с дочерью, навсегда разлучаемых тяжкой неволей, а зверские татары притом творят всевозможные жестокости и насилия над детьми в глазах их родителей. Крики и песни буйных татар, стоны и вопли несчастных пленников приведут в трепет и зверскую душу. Пленники отводятся в Константинополь, Крым, Натолию и прочее. Таким образом, менее чем в две недели захватив тысяч пятьдесят жителей, татары уводят их после дележа в свои улусы, а затем продают в неволю».
Князь ногайских татар
Ж. Мивилль Вид на татарскую деревню
Летом татары отправляются на добычу обыкновенно меньшими отрядами, чем зимой, — тысяч в десять или двадцать. Все войско разбивается на 10 или 12 отрядов, которые идут один от другого на расстоянии мили. В таком порядке, не теряя сообщения между собой, отряды переходят степи и соединяются в известное время в назначенном месте. Разделяются на отряды они для того, чтобы казаки, стерегущие по степям на каждых 2 или 3 милях, не узнали настоящей силы их. Казаки, открыв врагов, быстро отступают и уведомляют пограничных жителей о появлении тысячи или двух тысяч татар, а те через несколько дней всеми силами налетают на оплошных жителей, не думавших, что опасность так велика.
Казаки старались всячески помешать наступающим врагам: тревожили их внезапными нападениями во время ночлегов, по пути; в траве и в реках, где были броды, разбрасывали железные «якорцы», о которые татарские кони портили себе ноги, и так далее.
«Переправы чрез реки татары совершают довольно просто. Для перехода, например, чрез Днепр, самую большую из украинских рек, татары выбирают места с отлогими берегами. Каждый татарин связывает из камыша два пука, прикрепляет к ним три поперечные палки, потом ставит на такой плот седло и, раздевшись, складывает на него одежду, лук, стрелы, саблю. Все это накрепко привязывается к камышу. После того, нагой, с плетью в руке, входит в реку и погоняет лошадь, ухватившись одной рукой за узду и гриву… Таким образом татары переплывают чрез реки все вдруг, строем, который занимает иногда вдоль по реке около полумили».
Татарская кибитка
Татарские юрты
Таковы были нравы и военные обычаи татар, с которыми приходилось казакам постоянно бороться и от которых они сами многое переняли.
«Зная, какая опасность грозит в степях, казаки принимали большие предосторожности, когда надо было проезжать степью. Проходили они ее обыкновенно в таборе, или караване, между двумя рядами телег, замыкаемых спереди и сзади 8 или 10 повозками; сами же казаки с дротиками, пищалями и косами на длинных ратовищах идут посреди табора, а лучшие наездники едут вокруг него. Сверх того, во все четыре стороны на четверть мили высылают по одному казаку для наблюдения. Только что покажется неприятель, стражи дают знак, и табор останавливается. Татары стараются всегда к табору подкрасться незаметно и напасть врасплох, но казаки в таборе не боятся врага, хотя бы он был раз в десять сильнее их».
На ночлегах вокруг палаток также расставлялись возы, а на некотором расстоянии около табора ставилась стража, чтобы заблаговременно предупредить об опасности…
«Случалось мне, — говорит Боплан, — несколько раз с 50 или 60 казаками переходить степи. Татары нападали на наш табор в числе 500 человек, но не в силах были расстроить его; да и мы также мало вредили им, потому что они только издали грозили нападением, не подъезжая на ружейный выстрел, и, пустив чрез наши головы тучу стрел, скрывались. Стрелы их летят дугою вдвое далее ружейной пули».
Казацкие думы о турецкой неволе
Тяжкая участь ждала тех несчастных, которых татары тысячами угоняли в плен после удачного набега. Пленных гнали в Крым, словно скот, окружив цепью верховых и подгоняя нагайками; иных пленников клеймили раскаленным железом, как лошадей. В Крыму невольники, которые посильнее, связанные или скованные, мучились днем на тяжелой работе, а ночью томились в темницах, и жизнь поддерживалась самой скудной и плохой пищей — кормили их нередко мясом дохлых животных. Выводили рабов на продажу целыми десятками, прикованных друг к другу около шеи. Этот живой товар продавался в Крыму разным иноземным купцам, которые внимательно осматривали невольников со всех сторон, нет ли у них каких телесных недостатков, даже зубы разглядывали у них. Продажа невольников производилась во всех крымских городах, но особенно в Кафе (теперь Феодосия). Этот город был главным рынком невольников — там их всегда было около 30 тысяч. Хан выбирал первый и получал пошлину с каждого купленного раба. Пока захваченных пленников не продавали «за море», была еще возможность их выкупить, но обыкновенно иноземные купцы, купив здесь наиболее сильных рабов, развозили их по отдаленным странам и продавали, с большим барышом для себя, сарацинам, персам, индийцам, арабам и прочим. Невыносимо тяжело было положение невольников, попавших на турецкие гребные суда-каторги (галеры). Несчастные приковывались к скамьям, на каждое весло по пяти или по шести человек. Поперечные скамьи шли вдоль правого и левого бортов каторги; между скамьями был проход, по которому ходил взад и вперед надсмотрщик над гребцами, поощряя их к работе кнутом. Невольники были обнажены до пояса во всякую погоду и никогда не оставляли своих скамей; на них они спали и ели, не зная отдыха даже и в праздники. Мучительнее этой подневольной жизни и придумать трудно — вот почему само слово «каторга» получило свое страшное значение.
К. Богаевский Кафа (Старая Феодосия)
Судьба красивых девушек, попавших в плен к татарам, была сноснее сравнительно с участью других пленников. Эти девушки ценились очень дорого, нарасхват раскупались знатными и богатыми турками для их гаремов, и случалось, что они попадали даже в султанши.
Выйти из своего тяжкого положения христианские пленники могли, лишь приняв ислам. Бывали случаи, что такие отступники (или ренегаты), которые потурчились, злее самих турок мучили попавшихся к ним в руки христиан-пленников, твердо державшихся своей веры. Из детей-христиан, захваченных в плен, турки, как известно, образовали войско под именем янычар. Особенно страшно было положение тех казацких вождей, которые попадались в руки турок. Озлобленные турки вымещали на них все зло, причиненное Турции казацкими нападениями. По словам одного польского историка, Вишневецкий (Байда), основатель Запорожской Сечи, попался в руки турок и подвергся страшной смерти. Он по приказу султана был сброшен с башни на крюки, вделанные в стене. Несчастный, зацепившись ребром за крюк, повис и жил, перенося мужественно страшные мучения, три дня в таком положении, пока турки не убили его стрелами за то, что он бранил Магомета.
А. Орловский Всадник-турок
Страшные мучения, какие терпели русские пленники у татар и турок, еще больше разжигали ненависть и вражду к мучителям у казаков: они старались тем же отплатить своим заклятым врагам. Нападать на «басурман», то есть татар и турок, грабить их, всячески мучить и убивать казаки считали своим священным правом и готовы были пользоваться им при всяком удобном случае.
Борьба с басурманами, горькое рабство у них, бегство из плена, мечта невольников о родном крае — все это запечатлелось в народной памяти и сказалось в старинных украинских песнях. Старые казаки, распевая их, воспламеняли у молодых ненависть к басурманам.
Вот как, например, изображен в одной казацкой думе плач невольников на турецкой каторге:
«В Святую неделю не сизые орлы заклектали, то бедные невольники в тяжкой неволе заплакали, кверху руки подымали, оковами забряцали, Господа милосердого просили, ублажали: „Подай нам, Господи, буйный ветер! Хоть бы буря встала на Черном море, хоть бы повырвала якори с турецкой каторги — нам уж басурманская каторга надоела. Оковы-железо нам ноги повырывало, тело казацкое-молодецкое до желтой кости попротерло!..“»
Другая дума представляет побег из турецкой неволи трех братьев:
«То не туманы великие подымались из-под Азова, то три брата родные, голуби сизые, из Азова от тяжкой неволи убегали, в землю христианскую к отцу, к матери. Два брата конные, а третий пеш-пехотинец спешит за братьями, разбивает свои ноги казацкие-молодецкие о белое каменье, о сырое коренье, кровью след заливает, слезно братьям промолвляет:
„Братики мои родненькие, голубчики сизенькие, возьмите меня, брата вашего меньшого, меж коней и в землю христианскую, к отцу и к матери отвезите!“ Братья отказывают ему, опасаясь, что их азовская орда тогда догонит и вконец погубит. Они гонят своих коней, а меньшой брат пеш-пехотинец их догоняет, за стремена хватает, слезами обливает: „Братики мои родненькие, голубчики мои сизенькие, не хотите меня меж коней взять, так застрелите меня, порубите, не дайте меня в пищу зверю да птице!“ Отвечают ему братья: „Братик милый, голубок сизый, говоришь ты — словно сердце наше ножом пробиваешь! Не подымутся на тебя наши мечи, на 12 частей разлетятся, и душа наша вовеки от грехов не избавится; лучше мы будем рвать и разбрасывать по дороге терновые ветви, чтобы ты знал, куда убегать в землю христианскую, к отцу, к матери, ко всему роду…“ Бежит меньшой брат, пеш-пехотинец, добегает до тернов, хватает их, к сердцу казацкому прижимает, горючими слезами обливает. „Здесь, — говорит он, — проезжали мои конные братья, терновые ветки мне на примету бросали, чтобы знал я, куда уходить от тяжкой неволи, к отцу, к матери, ко всему роду“. Добегает он до Савур-могилы, слезами обливается. „Три недоли, — говорит он, изнемогая, — погубили меня в поле: бесхлебье, безводье, а третья недоля, что не догнал своих братьев“. А буйный ветер повевает, несчастного казака с ног уже валяет. Ложится он на Савур-могилу… Уже волки-хищники набегали, орлы сизокрылые налетали, смерти бедного казака поджидали. Слышит он клекот орлиный и говорит сам себе: „Когда бы дал мне Бог встать на казацкие ноги, поднять пищаль семипяденную и послать пулю орлам сизым в подарок“. И встал еще казак, и послал пулю орлам сизоперым… Ложится снова он, припоминает отцовскую-материнскую молитву и отдает Богу душу… И вот к нему сизые зозули (кукушки) прилетели и, словно сестры родные, над ним куковали; налетали и орлы сизоперые, на кудри наступали, очи ясные вырывали; набегали и волки хищные, разносили по тернам, по байракам кости казацкие».
Л. Лагорио Турецкий порт
А. Ананьев Казачье седло
Дума о Самойле Кошке тоже рассказывает о побеге казаков, турецких невольников; здесь дело увенчалось успехом. Кошка, удалой казацкий вождь, со своими товарищами попал на каторгу, но, по словам думы, очень ловко выкрал у подгулявшего надсмотрщика ключи, отомкнул себе и товарищам оковы, и в полночь освобожденные казаки бросились по его команде на спящих врагов: «Турок-янычар рубили, а других живьем в море побросали». После того казаки приплыли в Днепр. Здесь встретили своих товарищей — запорожцев. Богатство, какое было на каторге, они поделили меж собой, а галеру «на пожар спустили». Серебро и золото поделили на части: одну назначили на церкви, которые давно уже содержались на казацкий счет, чтоб было кому утром и вечером молиться за казаков; вторую часть казаки разделили меж собой, а на третью — пировали и пили, засевши в камышах, палили из ружей, поздравляли Самойла Кошку. Дума заканчивается уверением, что слава казацкая не умрет, не ослабеет, и пожеланием долговечности и всякого благополучия народу христианскому, войску Запорожскому, Донскому и черни днепровской, низовой на многие лета до конца века.
Любопытна также дума о Марусе Богуславке.
На Черном море, на белом камне стояла каменная темница, а в ней томилось 700 казаков — бедных невольников; тридцать лет уже не видят они ни света Божьего, ни солнца праведного. И приходит к ним «девка-бранка» (то есть пленница), Маруся Богуславская, поповна, и говорит: «Казаки, бедные невольники!.. Угадайте, что за день теперь в земле христианской?» «Почем же знать мы можем, Маруся? 30 лет мы в неволе, света Божьего, солнца праведного не видим!» И говорит им снова Маруся: «Казаки вы, бедные невольники! Ведь сегодня в земле христианской Великая Суббота, а завтра Святой праздник, Великий день (Светлое Христово Воскресение)». Услышавши это, казаки припали белым лицом к сырой земле, Марусю-поповну Богуславку кляли-проклинали: «Чтоб тебе, Маруся, не было счастья и доли за то, что ты нам сказала о Святом празднике, Великом дне!» «Не браните меня, казаки, бедные невольники, — сказала Маруся, — и не проклинайте; как будет господин наш выезжать к мечети, он отдаст мне ключи от темницы на руки, тогда я приду к вам и выпущу всех вас».
Так и случилось. Выпустила казаков Маруся и сказала им:
«Казаки, бедные невольники! Убегайте теперь в города христианские. Только прошу я вас, одного города Богуслава не минайте, моему отцу и матери знать давайте. Пускай отец не сбывает своего добра-имущества, пусть не собирает больших денег, чтобы выкупить меня: я уже потурчилась, побасурманилась».
Дума заключается горячей мольбой к Богу от невольников:
«Ой, вызволи (освободи), Боже, нас всех, бедных невольников, от тяжкой неволи, от веры басурманской, в край веселый, в мир крещеный! Услышь, Боже, искреннюю мольбу нас, бедных невольников!»
В. Суриков Казак в лодке
Казацкие восстания против Польши
Казачество в степной Украине, по Днепру и его притокам, год от году росло. Со времени Люблинской унии особенно усиливается прилив населения в степи.
В это время польско-литовское правительство и дворяне сильно хлопочут о прикреплении крестьян к земле. Положение их ухудшается, и побеги становятся все чаще и чаще. Степное приволье манит беглецов со всех сторон, и степи быстро заселяются. Но тучная степная почва, как сказано уже раньше, привлекает и дворян-панов, понявших всю выгоду земледельческого промысла; стремятся и они завладеть приднепровскими землями, выпрашивают себе у правительства грамоты на них.
Поселенцам, раньше занявшим эти земли, приходилось или снова подчиняться помещичьей власти, или уходить от нее бездомными скитальцами дальше, поближе к татарам. Понятно, какую вражду к панам уносили эти любители свободы.
Не только крестьяне-беглецы и свободные земледельцы и промышленники, спасавшиеся от закрепощения, уходили в степи, но нередко шли сюда казаковать мещане и шляхтичи, мелкие дворяне, служившие в тех вооруженных отрядах, какие окружали обыкновенно южнорусских и литовских панов, и польские солдаты, жолнеры, кроме войны да грабежа, ничего не знавшие.
Буйная казацкая вольница, беспрерывно ездившая «шарпать» (грабить) турецкие берега, не прекращавшая борьбы с татарами, причиняла много неприятностей польскому правительству. Султан беспрестанно корил его за своевольство и разбои казаков. Не раз эти разбои выставлялись причиной войны. Напрасно польское правительство отказывалось от всякой связи с казаками, называя их степными разбойниками; султаны не принимали этих доводов, они знали, что с польским войском в случае войны почти всегда были казаки, знали, что на них возлагалась степная сторожевая служба.
Польский король Стефан Баторий первый задумал прибрать казаков к рукам, обратить эту буйную вольницу в покорную силу Польши. Для этого он велел выделить всех лучших казаков и занести их в список (реестр), а остальных приписать к крестьянству. Всех реестровых казаков набралось 6 тысяч; они были разделены на шесть полков (Переяславский, Черкасский, Каневский, Белоцерковский, Корсунский и Чигиринский). Полкам этим, занимавшим целые области, по городам которых они получали название, давалось право выбирать самим свою старшину, то есть начальников. Полк распадался на сотни, курени и околицы. Местом жительства главного начальника (гетмана), столицей казацкой был признан город Трахтемиров. Казаки обязывались вполне повиноваться своему начальству и охранять границу.
И. Занковский Казачий дозор
Каждый казак должен был иметь лошадь, ружье, пику и получал в год червонец жалованья и кожух (тулуп). Предводителю казаков король прислал особые знаки гетманского достоинства: королевское знамя, бунчук (булаву с конским хвостом), начальнический жезл, или булаву, и войсковую печать. Все казаки, не попавшие в реестр, должны были считаться простыми крестьянами. Очевидно, король думал своим распоряжением ослабить казацкое войско, уменьшить число настоящих казаков и притом вольных воинов обратить в своих наемников. Но затея эта ему не удалась: хотя и нашлись охотники получать королевское жалованье, но немного набралось желающих из вольных казаков обратиться в крестьян.
В одной украинской песне так вспоминается о Стефане Батории. Собирает гетман раду и говорит: «Вот, братцы, король прислал нам великий дар: золотую булаву, серебряную хоругвь (знамя) и косматый бунчук. Хочет он, братцы, храбрые мои товарищи, чтобы мы ему, королю, верно служили, поляков не били и с ними как с родными братьями жили. Пусть, говорит он, твои казаки-товарищи служат мне верой и правдой, а если не будут мне служить верой и правдой, то я пришлю им не такой подарок — бедой тяжкой, невыносимой порадую я их тогда!» Казаки на это так отвечали гетману: «Король польский нам великий подарок прислал, чтобы мы служили ему верой и правдой, а если не послужим, то и бедой какой-то нас порадует! Какой же это бедой? Уж не свободой ли? Если свободой, то нам, казакам, иных даров и не надо». Сказавши это, казаки замолчали.
Эта песня, сложилась ли она в народе или какой-либо книжный человек, украинец, придумал ее, прекрасно выражает задушевную мысль и чувство казацкой вольницы. Свобода, воля, такая же широкая, беспредельная, как та бесконечная степь, какая раскинулась пред глазами казака, — вот что было задушевной мечтой его.
Наряду с реестровыми казаками (лейстривиками), несмотря на все усилия польского правительства, продолжали действовать казаки свободные, не попавшие в реестр. Они выбирали сами себе вождей, которые по-прежнему водили их на татар, на турок, а затем и на поляков.
Черноморский казак
Чем сильнее паны притесняли крестьян, стараясь их всеми мерами прикрепить к земле и закабалить, тем больше беглецов скапливалось и в Запорожской Сечи, и по степным окраинам. Мирному люду, крестьянам, да не только им, но и всем промышленникам в пределах Речи Посполитой жилось очень незавидно. Здесь всякими правами и преимуществами пользовались паны. Богатейшие из них жили настоящими владетельными князьями, и для них никакие законы, никакие суды не были страшны — творили эти паны что хотели. Мелкие дворяне-шляхтичи тоже пользовались всякими вольностями, с презрением смотрели на «хлопов», то есть на народ, презирали всякий труд, только военное дело считали для себя почетным, подходящим занятием и в то же время по бедности своей большей частью пресмыкались пред богатыми магнатами, шли к ним на службу в те отряды, какие обыкновенно магнаты держали при себе. Паны беспрестанно между собой враждовали и вели усобицы, «делали наезды» друг на друга. Соберет пан свою военную команду, шляхтичей и вооруженную челядь, и нагрянет невзначай на владение своего соперника. И пойдет тут грабеж и погром: увозят ценные вещи, угоняют и панский скот, да разом и крестьянский. «Хлопам», конечно, доставалось тут пуще всего, спуску никому не давали. Недаром сложилась на Украине пословица: «Паны дерутся, а у хлопов чубы болят». Насилие и грабежи, таким образом, паны производили не хуже украинских казаков или татар. Жизнь «хлопа» ни во что не ставилась: довольно сказать, что любой пан имел право не только всячески истязать, но даже убить своего крестьянина. Понятно, почему эти «хлопы» толпами бежали на Украину, понятно также, почему год от году росла казацкая сила и крепла непримиримая вражда к Польскому государству с его панским строем.
После Люблинской унии, в конце XVI столетия, начались враждебные движения казаков против Польши, которые становились все грознее и грознее. В 1593 году явился у казаков смелый вождь — Косинский; родом был он шляхтич русской веры. Он кликнул клич, и к нему стала со всех сторон стекаться казацкая вольница. Немало собралось у него удальцов, готовых на все. Выслан был военный отряд разогнать скопище мятежных казаков, но Косинский разбил его. Восстание быстро разрасталось. Казаки нападали на панские и шляхетские дворы, грабили и беспощадно опустошали их, особенно старательно истребляли разные дворянские документы и грамоты, поскольку со злобой и ненавистью относились к тому, что поддерживало и давало права панству, господству одних над другими. Повсюду в панских имениях «хлопы», почуяв свободу, приставали к казакам и помогали им грабить своих господ.
Донские казаки
Косинский овладел Киевом, затем Белой Церковью и другими городками. Казаки не только разбивали и грабили панские дворы, но брали и королевские замки, и города и принуждали всех присягать казацкому войску; противников убивали и мучили. Уже в эту пору восставшие казаки помышляли отделить Украину от Речи Посполитой и сделать ее вполне независимой, прогнать с земли дворянство, а все остальное население привести к присяге казацкому войску. Восстание главным образом было направлено против дворянства. Дворяне поняли, какая беда грозит им. Они на время прекращают свои распри и соглашаются действовать заодно против общего врага; составляют ополчение из дворян и наемников и близ Житомира, у местечка Пятки, наносят поражение казакам. Те вынуждены были в договоре обещать прекратить нападение на панские земли, возвратить беглых крестьян и добычу. Вскоре после того Косинский погиб в одной схватке.
Четыре года спустя поднимается новое казацкое восстание — восстание Лободы и Наливайко. Первый из них был признан начальником реестровых казаков, второй был избран помимо правительства — казацкой вольницей. Сначала они вместе ходили в походы на Молдавию и Трансильванию, без разрешения от польского правительства. Это вызвало большое неудовольствие султана. Затем Наливайко направил свои силы уже прямо против правительства: напал на Луцк и страшно ограбил его. В это время уже известно было о замысле Кирилла Терлецкого подчинить православную церковь папе, и злоба казаков и приставших к ним русских людей особенно обратилась на сторонников и слуг Терлецкого. Наливайко звал к себе в казаки всех охотников до вольной и боевой жизни.
Шли к нему толпами; он делил их на отряды, на сотни, давал им казацкое устройство. Кто не потакал казакам, тех били и грабили. Наливайко врасплох взял еще город Слуцк, с бою занял Могилев, который был почти истреблен пожаром. После нескольких удачных для казаков действий, которые все сильнее привлекали к ним народ, польскому правительству удалось наконец и на этот раз смирить казацкое восстание. Жолкевскому, который раньше потерпел неудачу в борьбе с казаками, посчастливилось окружить их под Лубнами.
Казаки огородились табором из возов в четыре ряда, оградили свой стан валом и рвом, поставили на валу орудия и стали мужественно отбиваться. Они беспрестанно делали вылазки. Выйдя ночью из своего укрепления, копали в поле ямы, прятались там с ружьями и при всяком удобном случае выскакивали оттуда и стреляли в своих врагов. Поляки не знали покоя ни днем ни ночью; каждую минуту им приходилось быть настороже: того и гляди, что враги выскочат из табора и нападут. Казаки держались стойко, и, быть может, долго еще полякам не удалось бы сломить их, да, на беду, начались в казацком стане сильные нелады между Наливайко и Лободой — дело кончилось тем, что последнему отрубили голову. Но раздоры продолжались. Жолкевский велел привезти большие пушки и стал громить казацкий стан; вдобавок у казаков не стало вовсе воды. На бурной раде они порешили выдать полякам Наливайко как главного виновника восстания. Наливайко силой отбивался от враждебных ему казаков; наконец его одолели, связали и выдали Жолкевскому. Но польский военачальник этим не удовольствовался — он потребовал, чтобы они выдали не только свои пушки и знамена, но и всех присоединившихся к ним панских людей, беглых «хлопов».
Запорожские казаки
«Мы лучше все здесь пропадем до единого, — отвечали казаки, — а будем обороняться!»
Поляки сделали общий приступ, одолели противника. Немногим в общей суматохе удалось пробиться и убежать; большая часть легла на месте битвы, многие попались в руки поляков.
Важнейших из казаков, взятых в плен, отправили в Варшаву; там всех немедля казнили смертью, кроме Наливайко. На него слишком злобились поляки как на заклятого врага панского сословия. Засадили его в тюрьму, подвергали изощренным мучениям: подле него были поставлены два литаврщика, которые били в литавры, не давая ему заснуть. После разных истязаний, какие были в ходу в те грубые времена, его казнили. Самое распространенное сказание говорит, будто его посадили в медного быка, нарочно сделанного для этого, а под ним разложили огонь и медленно жгли несчастного. Долго были слышны стоны его; тело его превратилось в пепел.
Кто кого больше ненавидел: казаки ли панов или паны казаков — трудно решить.
После поражения казаков под Лубнами двадцать лет с их стороны не было движения против Польши. Но сила казацкая все растет; толпы недовольных все идут да идут на Украину, и особенно на Запорожье. Запорожцы предпринимают целый ряд морских походов — то на Турцию, то на Крым. Чего только не делает польское правительство, чтобы обуздать запорожцев: издается против них множество указов (универсалов); учреждается пограничная стража, чтобы не пропускать на Запорожье ни хлеба, ни оружия; строится целый ряд крепостей, между прочим — Кременчуг, который должен был порвать сообщение по Днепру.
На Запорожье в 1607 году является даровитый вождь, который придал казацкому делу еще большую силу. Это Петр Конашевич Сагайдачный, православный дворянин, родом из Червонной Руси. Учился он в острожском училище. В начале XVII столетия он является в Запорожье. Ум, военные способности и образование скоро выдвинули его вперед. В первый раз он прославился смелым морским походом в 1605 году, когда ему удалось завладеть сильной турецкой крепостью Варной; на следующий год он совершает новый удачный поход; в 1606 году запорожцы под начальством Сагайдачного напали на Кафу, сожгли здесь турецкий флот, овладели крепостью и освободили из неволи множество христиан-пленников, свезенных для продажи. Не раз и после того Сагайдачный делал походы на турецкие берега, и всегда с блестящим успехом. Имя его гремело по всей Украине. Польское правительство не могло в это время помешать усилению казачества. Сигизмунд в начале XVII столетия напрягал все силы, чтобы воспользоваться смутами в Московском государстве и завладеть им. Самозванцы вербовали свои шайки на Украине, где всегда было среди казаков много буйного, гулящего люда, готового идти куда угодно и на кого угодно, лишь бы были в виду богатая нажива да разгулье. Хотя польское правительство издавало ряд грозных указов против своевольных казаков, но, не подкрепленные силой, указы эти не имели никакого значения.
Когда Владислав предпринял поход на Москву в 1618 году и чуть было не попал в беду, так как большая часть его войска, не получая жалованья, ушла от него, выручил королевича, как известно, Сагайдачный: он привел на помощь полякам 20 тысяч казаков. За эту услугу польский король благосклонно смотрел на Сагайдачного, а тот вернулся из московского похода уже не в Запорожье, а в Киев и стал заправлять с титулом гетмана всей казацкой Украиной. У него под руками были такие военные силы, что полякам трудно было спорить с ним. Пользуясь своим выгодным положением, Сагайдачный взял под свою охрану гонимое православие. В 1620 год)7 он убедил иерусалимского патриарха, приехавшего в это время в Киев, рукоположить нового православного митрополита и епископов для всех православных епархий. Таким образом, под охраной казацкого оружия православное духовенство стало оправляться и входить в силу. Заботился также Сагайдачный и о процветании православных школ.
К. Богаевский Древняя крепость. Феодосия
С. Васильковский Казачий пикет
Поляки не могли помешать этому: в то время страшная беда грозила Польше. Огромное полчище турок стояло уже на Днестре, готовое вторгнуться в ее пределы и разгромить ее. Польша могла выставить сравнительно ничтожное войско. Опять пришлось просить помощи у Сагайдачного; тот выговорил разные льготы Украине и привел к крепости Хотину 40 тысяч казаков. Все усилия турок взять крепость и сломить казацко-польское войско оказались напрасными. Опытность и храбрость Сагайдачного спасли и на этот раз поляков, но дорого поплатился он за свою услугу: еле живой, весь израненный, вернулся он домой, лежа в карете. Но и перед смертью он больше всего думал об Украине, о православии и незадолго до кончины написал королю следующее письмо:
«Я, вашего королевского величества ноги смиренно обнявши, покорно и слезно прошу, чтобы творимые казакам бедствия и злоба высоким и грозным приказом вашего наияснейшего королевского величества были запрещены и укрощены. Особенно чтобы уния у нас, с позволения вашего величества снесенная святейшим Феофаном (иерусалимским патриархом), не возобновлялась и своих рогов не возносила. Имеют, думаем, отцы-иезуиты и все духовенство римской церкви кого к своей унии привлекать — те народы, которые вовсе не ведают и не верят в Христа, а мы, православные, древних святых апостольских и отеческих преданий и догматов без всякой унии придерживаясь, не отчаиваемся достигнуть спасения и вечной жизни. Сии два мои желания, вашего слуги, если исполнишь и детям своим прикажешь всегда соблюдать, то и панование их и целой короны в тишине… всегда пребудет».
Скоро после того (10 апреля 1622 года) Сагайдачный скончался в Киеве. Перед смертью он разделил по завещанию все свое имущество между женой и братскими школами — киевской и львовской.
Угнетение крестьян
Сагайдачный, оказавший важные услуги Речи Посполитой, в своей просьбе королю ясно указал на то, что возмущало казаков против правительства, — на притеснение православия, на нарушение их прав. Казаки уже сознательно выставляли на своем знамени защиту гонимой православной церкви.
Кроме казаков, теперь в юго-западной Руси не было силы, которая взяла бы на себя эту задачу. Южнорусское дворянство к половине XVII столетия уже не могло выставить борцов за православие и русскую народность: более сильные из русских магнатов уже изменили им. Видная государственная деятельность, роскошь и блеск придворной и панской жизни в Польше увлекали богатейших из русских дворян. Они все более и более свыкались с мыслью, что их отечество — вся Речь Посполитая, а не подчиненная ей южная Русь, все лучше и лучше осваивались с польскими нравами, обычаями, языком, забывали свой родной язык, переменяли веру — словом, совершенно полячились. Помогли этому и браки с польками, причем дети становились католиками. Усердно и неустанно трудились, как сказано уже, и иезуиты в своих школах над переработкой русского юношества в поляков и католиков. Труды эти увенчались успехом: многие из потомков именитых русских родов обратились в злейших врагов православия и русской народности. Южнорусское дворянство было оторвано от почвы, от народа, от православной церкви; из естественных защитников их они обратились в беспощадных гонителей. Лет через сорок от начала унии Боплан, хорошо знавший Польшу и Украину, уже пишет: «Дворянство русское походит на польское и стыдится исповедовать иную веру, кроме римско-католической, которая с каждым днем приобретает себе новых приверженцев, несмотря на то что все вельможи и князья ведут свой род от русских».
Костюмы украинских крестьян
Положение крестьян в юго-западной Руси в это время сильно ухудшилось. В Польше владельцам давалась неограниченная власть над крестьянами. Помещик мог делать с «хлопом» своим что хотел — мог всячески истязать его, мог убить и даже не подвергался за это никакой ответственности. Таким бесправием и беззащитностью крестьянина возмущались даже и некоторые истые поляки.
«Нет государства, — говорит известный Скарга, — где бы подданные и земледельцы были так угнетены, как у нас под беспредельной властью шляхты. Разгневанный владелец или королевский староста не только может отобрать у бедного хлопа все, что у него есть, но и убить самого когда вздумается, и за то ни от кого дурного слова не услышит».
Но подобные обличения не приносили пользы. Король в Польше мало имел силы; вся власть в государстве принадлежала панам, а они, конечно, далеки были от мысли уменьшить в чем-либо свои права, отказаться от своих выгод. «Польское дворянство, — говорит Боплан, — блаженствует, как будто в раю, а крестьяне мучатся, как в чистилище; если судьба пошлет им злого господина, то участь их тягостнее галерной неволи».
И. Репин Еврей на молитве
Тяжело было польским крестьянам, но еще невыносимее было положение крестьян в юго-западной Руси. Здесь ополяченные и окатоличенные паны к обычному в Польше презрению к «хлопам» присоединяли еще религиозную вражду: не могли отступники от православия равнодушно смотреть на своих рабов, крепко державшихся православия, служивших живым укором им, изменившим вере отцов и своему народу. С презрением смотрели окатоличенные паны и на униатов.
С той поры, как южнорусские помещики стали осваиваться с правами и обычаями польского магнатства, начали они жить на широкую ногу. Непомерная роскошь и безумная расточительность доходили до неслыханных размеров у польских вельмож. Обыкновенный обед в знатном польском доме превосходил, по словам Боплана, званые обеды французских богачей. Бережливость в Польше считалась постыдной. Груды серебра и золота украшали обеденные столы; множество кушаний, дорогие иноземные вина, музыка, песельники и толпы служителей в богатых кунтушах были необходимой принадлежностью панских обедов. Роскошь в одежде тоже доходила до крайности: господские кунтуши были обыкновенно из драгоценного бархата, вышитого золотом, и украшались драгоценными камнями. При дворах своих паны содержали множество челяди и целые толпы шляхтичей, составлявших военные отряды, а при пани было множество шляхтенок. Все эти дармоеды, которых иногда было более тысячи, содержались за счет панской казны, которая собиралась с несчастных крестьян.
Каких только поборов не брали с них!.. Кроме обычной барщины, или панщины, то есть работы на пана, которой помещик распоряжался по своему произволу, он отбирал себе в дворню детей у крестьян, не облегчая при этом ни в чем их повинностей. Сверх того, крестьянин три раза в год — перед Пасхой, Пятидесятницей и Рождеством — обязан был доставить помещику «осып», то есть несколько четвериков всякого зерна, несколько пар домашней птицы. Со всего крестьянского достояния — со стад крупного и мелкого скота, с табунов лошадей, с меда и плодов — десятая часть должна была оставаться помещику. Каждый улей в крестьянском пчельнике, каждый «хлопский» вол были обложены пошлинами. За право пасти скот, ловить рыбу, за измол муки — за все крестьяне должны были платить пану пошлину; даже сбор желудей приходилось им оплачивать. Мало того, крестьянам запрещено было не только приготовлять себе напитки: мед, пиво, водку, — но даже и покупать в ином месте, кроме панской корчмы, которая обыкновенно сдавалась в аренду жиду. Случится у пана какое-либо торжество: именины, свадьба и прочее, а крестьянину горе — неси поздравительное. Едет пан куда-нибудь, на богомолье или на сейм, и тут какая-нибудь тягость ложилась на крестьян. Панские слуги и шляхтичи проездом по владениям своего пана хозяйничали как у себя дома.
Страдал народ от панов, страдал, конечно, еще больше от жидов. Паны, особенно богатейшие из них, почти никогда сами не управляли имениями, а сдавали их в аренду евреям.
Это даровитое племя, рассеявшееся почти повсюду в Европе, гонимое вследствие слепой религиозной вражды, не могло сливаться с населением, держалось повсюду особняком, своими отдельными общинами, и направило все свои способности на быструю наживу, так как деньги только и давали еврею цену в глазах населения. Торговля и ростовщичество, как более легкие способы наживы, особенно полюбились евреям: всюду, где они водворялись, они ловко забирали торговые дела в свои руки и быстро обогащались. Теснимые и презираемые христианами, они в свою очередь где могли вымещали и свои обиды на них. Таким образом, взаимная вражда между христианами и евреями явилась настолько же по вине первых, сколько и вторых.
А. Риццони В синагоге
В Польше оказывалось евреям больше терпимости, чем в других странах, поэтому они и стали сюда переходить в большом числе. Им разрешалось здесь свободно заниматься торговлей и ремеслами; общинам их (кагалам) дано было право самосуда и самоуправления. Раввины, то есть еврейские священники, стали заправлять всеми делами общин. Мало-помалу евреи распространились по всей западной России. Повсюду, где они водворялись, в городах или местечках, денежные обороты и вся мелочная торговля переходили в их руки. С ловкими, находчивыми торговцами-евреями, которых поддерживали кагалы, трудно было соперничать русским или полякам. Особенно охотно евреи стали брать в аренду панские имения и корчмы. Паны, безумно мотавшие деньги, проживая в Варшаве или за границей, с радостью сдавали свои родовые и жалованные имения в аренду, лишь бы только скорее получить побольше денег, и давали арендаторам не только свое имущество в полное распоряжение, но даже и свои панские права над крестьянами. Еврей-арендатор получал власть не только облагать крестьян разными пошлинами, всячески наказывать их, но даже казнить смертью. Это повело к страшным злоупотреблениям. Арендатор не дорожил, конечно, выгодами помещика, не заботился о том, чтобы привести имение в цветущее состояние; главным делом для арендатора было поскорее нажиться за счет пана, хотя бы для этого надо было выжать последние соки из несчастных крестьян. Евреи-арендаторы придумывали новые поборы с них. Дело дошло до того, что крестьянин не мог крестить дитя свое, не мог справить свадьбы, не уплатив установленной пошлины. Паны-католики даже стали отдавать евреям в аренду православные церкви, и жид-арендатор не прежде открывал церковь для разных треб и обрядов, как получив известную плату. Казалось, не было унижения и поругания, какому паны не подвергали бы православной церкви и несчастных крестьян. Одни из них под гнетом нищеты и неволи тупели, свыкались со своим рабским положением, а другие, более крепкие духом, бежали в степи. И какую же ненависть к панам и к жидам уносили они сюда!
Варшава
Новые восстания казаков
С 1625 года начинаются снова казацкие восстания. Поводом к первому движению было то, что сейм не хотел утвердить прав, добытых казаками при Сагайдачном. Напрасно они добивались на сейме свободы православию. Все просьбы казаков отклонялись; за ними не признавали даже права присылать депутатов, не считали их сословием. Притеснения православных продолжались; тогда и казаки тоже перешли к насилию. Когда киевский войт Федор Ходыка стал, согласно правительственному постановлению, передавать некоторые православные церкви униатам, казаки напали на польский отряд, бывший с ним, рассеяли его, а самого Ходыку бросили в Днепр. Мало того, напали на католический монастырь, ограбили его, убили священника. По совету митрополита казаки отправили в Москву посольство с просьбой к царю принять их под свою руку. Об этом узнало польское правительство, и коронный гетман Конецпольский получил приказ укротить мятежников. Дело кончилось тем, что казацкий табор был осажден у озера Куракова, близ Кременчуга, и казаки вынуждены были сдаться на тяжелых условиях: должны были ограничиться 6000 реестровых, выдать пушки, отказаться от походов на Крым и Турцию и прочее.
Договор этот, впрочем, никакой силы не имел: казацкие чайки по-прежнему носились по Черному морю. В 1629 году казаки, по их выражению, «окурили мушкетным дымом цареградские стены» и нагнали большого страху на жителей Стамбула.
Притеснения православных продолжались. Папские грамоты разжигали вражду к ним. В это время польские войска, возвращавшиеся из похода, размещены были на Украине. В православном населении пошли ходить слухи, будто польские жолнеры присланы вывести православную веру из Украины и искоренить весь южнорусский народ; пьяные жолнеры сами, своими похвальбами да стращаниями, породили эти слухи. Раздраженное население сильно взволновалось. Тарас Трясило, запорожский гетман, потребовал, чтобы жолнеры удалились. Те, конечно, не послушались; тогда Тарас напал на поляков — они бежали. Народ, возбужденный его призывом и духовенством, поднялся, стал прогонять жолнеров, толпами бежал к Тарасу, и скоро у него набралось несколько десятков тысяч; но, кроме запорожцев, все были плохо вооружены. Поляки опять одержали верх, но это им стоило больших усилий и потерь. Тарас и другие коноводы восстания были казнены.
Евреи
В 1632 году, с избранием Владислава на польский престол, у русских оживает надежда на лучшее будущее. Это было время, когда действовал Петр Могила.
Новый король понимал, конечно, что казаки могут придать ему много силы в борьбе с внутренними и внешними врагами, и готов был дать всякие льготы православию, но встретил сильное противодействие со стороны сановников. Примас (архиепископ), возлагая корону на Владислава, внушал ему, что он должен всячески охранять и распространять римско-католическую веру и не давать еретикам никаких прав, хотя бы и обещал. А когда король хотел было дать грамоту в пользу православных, то литовский канцлер Радзивилл отказался приложить печать.
«Я во всем прочем повинуюсь вашему величеству, — сказал он, — но там, где дело касается святой римско-католической веры, не могу поступить никак против совести!»
В. Суриков Казачий урядник
Хотя печать и была приложена после того, как примас и епископы объявили, что они берут этот грех (выдачу льготной грамоты еретикам) на свою душу, но из этого ясно можно видеть, как трудно было польскому королю, даже при всем его желании, в чем-либо существенно облегчить положение русского народа и православия.
Не только истые католики-поляки, но и окатоличенные паны старинного русского рода оказывались жестокими гонителями русского населения и православия. Князь Иеремия Вишневецкий, человек талантливый и прекрасно образованный, владелец огромных имений (почти вся нынешняя Полтавская губерния принадлежала ему), происходивший от древней русской фамилии, сделался свирепым гонителем православного русского народа. Вишневецкому ничего не стоило велеть избить православных жителей целого местечка или ослепить сотни людей. Другой, тоже старинного русского рода, дворянин Самуил Лащ — образец необузданного своеволия, жестокости и нахальства, — творил совершенно безнаказанно неимоверные насилия и беззакония. Никаких законов, никакого общественного мнения он и знать не хотел. С отрядом в тысячу человек он делал беспрестанные наезды, грабежи, причем беспощадно избивал людей, обрезал уши, носы. Весьма набожный, он запирался в Великий пост в монастырь, где проводил время в духовных упражнениях, каялся, молился, а в первый день Пасхи 1630 года в одном местечке вырезал поголовно все население. Этому разбойнику все сходило с рук, так как он находился под покровительством всесильного тогда коронного гетмана Конецпольского. Целые сотни было судебных дел по жалобам на него; были изданы сотни приговоров, осуждавших его на изгнание из отечества, лишавших его прав, но он ни на что не обращал внимания. Рассказывают даже, будто он дошел до такой дерзости, что, собравши все свои приговоры, велел сшить себе из них мантию и в ней явился к королю.
Притеснения народа и гонение православия вызывают целый ряд новых казацких восстаний. В 1635 году казаки ходили в Черное море под начальством Сулимы, ограбили турецкие берега, а на обратном пути нечаянным нападением завладели польской крепостью Кудаком (построенной у порогов, чтобы сдерживать казаков от их морских походов) и истребили всех защитников ее. Восстание это скоро было подавлено; Сулима при помощи реестровых казаков был выдан полякам. В Варшаве ему и четырем казацким старшинам отрубили головы, тело Сулимы разрубили на четыре части и развесили на четырех концах города.
Через два года вспыхнуло новое, более опасное восстание. Главным коноводом явился Павлюк. Поводом послужили недовольство казаков и притеснения тех, которые самовольно приняли на себя казацкое звание. Их принуждали силой обращаться в крестьян и повиноваться панам, в имениях которых они жили. При этом жолнеры обходились с ними очень сурово.
«Мы, рыцарский люд, к этому не привыкли!» — кричали украинцы и уходили толпами, кто на Запорожье, кто далее на восток.
На этот раз волновались и реестровые казаки, которым плохо платилось обещанное жалованье.
«Нам обещали деньги в мае, — говорили недовольные, — а не доставляют и в августе… На море ходить нам не позволяют, а мы оттуда получали себе пропитание; мы и братьев своих воевали, и непокорных выдали под меч его величества, а теперь переносим только утеснения и оскорбления, а денег нам не дают!»
Наконец прибыли польские чиновники с жалованьем казаков. Но когда собрали раду, то увидели, что казаков оказалось гораздо больше, чем должно было быть по реестру. На шумной раде ясно высказалось общее неудовольствие, которое успокоить жалованьем было нельзя.
И. Прянишников Казачий разъезд
Потоцкий, один из присланных сановников, думал смелой речью пугнуть казаков:
— «Напрасно волнуетесь, паны-молодцы, — сказал он. — Если бы пришлось Речи Посполитой извлечь свой меч на вас, она извлечет его и самое имя ваше сгладит! Пусть на этих местах обитают дикие звери вместо мятежного народа. Вы уйдете на Запорожье? Что же из того? Жен и детей своих оставите же здесь; стало быть, надо же будет вам вернуться и придется тогда преклонить головы под меч Речи Посполитой. Стращаете вы нас, что уйдете куда-нибудь подальше — на Дон, например, — так это неправда. Днепр — ваше отечество. Другого Днепра нет на свете. Дона нельзя сравнить с Днепром: там неволя, здесь — свобода. Как рыбе нельзя жить без воды, так казаку — без Днепра. Чей Днепр, того и казаки! Теперь прощайте; мы едем к его величеству и скажем, что вы бунтуете!..»
Некоторых казаков даже слеза прошибла, когда заговорили об их родине, о «батьке» Днепре. Смятение мало-помалу улеглось, и казаки присягнули, подняв пальцы кверху, что они будут соблюдать прежний (кураковский) договор.
Но присяга не помогла. В это время Павлюк рассылал свои грамоты, призывая весь народ в казачество. Эти призывы были по сердцу многим. Народ бежал толпами от своих господ на Запорожье. Южнорусский народ всегда рад был случаю восстать на ненавистных им панов, а в этот год был вдобавок неурожай. Поднялась страшная дороговизна; бедняки голодали. Голод да нужда — лучшие пособники мятежам. Толпы беглецов являлись к Павлюку; реестровые казаки полк за полком стали присоединяться к мятежникам.
Для усмирения мятежа явилось польское войско под начальством Потоцкого. После нескольких стычек поляки разбили казаков под деревней Кумейки. Битва была страшно упорная. Польское войско, устроенное и хорошо вооруженное, стало осиливать казаков, между которыми было много «хлопов», еще плохо знавших боевое дело.
Б. Щербаков Курень казачий
— Сдавайтесь! Просите пощады! — кричали поляки им.
— Не сдадимся ляхам! — кричали те в ответ. — Один на другом головы свои сложим!
Казаки не выдержали. Часть их конницы бежала, но пешие из частей разбитого табора устроили новый, теснейший табор и отчаянно отбивались. Когда не стало у них пороху, они дрались оглоблями, обломками телег. Чуть какой-нибудь поляк падал с коня, они кидались на него, как разъяренные звери, и терзали его, пока на них не налетали поляки и не рубили их в куски. Это было уже не сражение, а зверская бойня, — так велико было ожесточение с обеих сторон. Резня прекратилась только с наступлением сумерек; пользуясь ночью, остаткам казацкого табора удалось уйти.
Страшное зрелище представляло поле битвы. На снежной равнине всюду, куда хватало глаз, виднелись багровые полосы крови, человеческие тела, отрубленные головы, руки, ноги, лошадиные трупы, обломки оружия и возов да обгорелые бревна деревни Кумейки.
Когда ушли поляки, то русские «хлопы» из окрестных деревень похоронили тела своих собратий и насыпали над ними высокие могилы — на память потомкам о злосчастном побоище, где столько бойцов сложили буйные головы за свою волю и кровью своей напоили родную землю.
К. Филиппов Казачий разъезд
Скоро и остатки казацкого табора должны были покориться полякам — обороняться не стало силы. Реестровые казаки, бывшие в таборе повстанцев, обвинили во всем Павлюка, пропустившего удобное время для удара на польский стан. Дело кончилось тем, что Павлюка и его товарища скованных выдали Потоцкому. Их свезли в Варшаву. Здесь в феврале 1638 года собрался сейм. Озлобление против казаков было так велико, что уж и не знали, какую казнь придумать Павлюку. Ввиду того что его винили в том, будто бы он хотел отторгнуть Украину от Польши и сделаться государем, приговорили надеть ему на голову раскаленную железную корону и дать в руки раскаленную железную палицу вместо скипетра. Но король не допустил этого зверского шутовства: Павлюку и его сообщникам отсекли головы, а затем воткнули их на колья.
За частые мятежи сейм постановил отнять у казаков всякие права, совершенно уничтожить их как отдельное сословие. Но, чтобы не слишком раздражать русский народ, постановили действовать тайно и постепенно. На первый раз решили отнять у казаков право избирать себе старшину, а назначать им начальников из лиц, преданных Речи Посполитой, из шляхтичей. Решено было также завладеть Запорожьем, чтобы не давать в этом «гнезде» собираться казацким силам. Таким образом, в сущности хотели искоренить казачество. Но легко было решать, да трудно исполнить.
В. Суриков Донской казак
Вскоре после восстания Павлюка вспыхнул новый мятеж, под руководством Острянина (Остраницы), а потом Гуни. Сначала повстанцам посчастливилось разбить польский отряд, но затем, несмотря на необычайную храбрость казаков и находчивость их вождей, поляки снова взяли верх. Вожаки спаслись бегством: одни — в Московское государство, другие — на Запорожье.
Во время этих казацких восстаний, которые кончались печально для повстанцев, они уходили далее на восток, заселяли по Дону и его притокам земли, которые Московское государство считало своими. Область эта, все более и более населявшаяся выходцами из Приднепровья, стала называться слободской Украиной и занимала нынешнюю Харьковскую губернию, южную часть Курской и большую часть Воронежской. Город Белгород был средоточием этой области, и здешний воевода ведал этих поселенцев.
Десять лет после восстания Павлюка на Украине было тихо. То было затишье перед грозой.
Запорожская сечь
«Гнездом» казачества была Запорожская Сечь. Здесь вырастала казацкая сила; отсюда по большей части выходили главные вожаки повстанцев и лихих шаек, гулявших по морю на страх туркам; сюда сходились удальцы со всех сторон.
Там, где Днепр, пробившись меж подводных скал (порогов) и каменистых островов, широко разливается ниже впадения речки Самары и спокойно течет, образуя множество низменных островов, по берегам поросших густым и высоким камышом, — там устроили себе военный стан запорожские удальцы, нередко переводя его с одного места на другое. Главным местопребыванием их сначала был остров Хортица. Кругом были повсюду богатые места: устья речек, впадавших в Днепр, заливные луга, леса, степь. И рыбы, и всякого зверья было здесь вдоволь. Сначала на Запорожье, в эти благодатные места для охоты, шли ватаги охотников-промышленников, а потом, в начале XVI века, устроен был здесь сторожевой стан, чтобы сдерживать татар от внезапных вторжений. Из этих-то станичников и сложилось мало-помалу запорожское казацкое братство. Занявши необитаемые острова и берега вдали от всяких властей, они считали себя здесь полными хозяевами. Занимались охотничьим промыслом в окрестных местах, но когда их силы выросли, стали они чаще и чаще отправляться на более далекую и опасную охоту — ходили на своих легких чайках «шарпать» берега Крыма и Турции. Бить и грабить «нехристей», по их понятиям, сам Бог велел.
Запорожская Сечь имела вид укрепленного стана: довольно значительное место было окружено земляной насыпью, или валом, с засекой, или тыном; кое-где были поставлены и пушки; внутри ограды были курени — деревянные, очень незатейливые жилища казаков, или мазанки.
Весь казацкий стан, или «кош», как называли его, делился на несколько десятков отдельных отрядов (впоследствии дошло до 38). Каждый и жил в отдельном курене, и выбирал себе кошевого атамана и других старшин: есаула, судью и писаря. Важнейшие дела решались с общего согласия на раде (общая сходка). Когда надо было собрать раду, то прежде всего давали знак выстрелом из пушки, чтобы все казаки, которые разбрелись по окрестностям Сечи на охотничьи или рыбные промыслы, могли прийти. Затем, спустя некоторое время, довбиш (литаврщик) бил в литавры, и казаки спешили из всех куреней на площадь пред церковью. Тут близ церкви под распущенным войсковым стягом (знаменем) становился кошевой с другими старшинами, а казацкая чернь размещалась кругом. Тогда писарь, если надо было, читал грамоту или сообщал о том деле, какое предлагаемо было на решение раде. Кошевой смиренно спрашивал собравшихся, как они изволят постановить, и согласно решению большинства и поступал.
Места по берегам Днепра близ Запорожья делились на несколько участков, или «паланок», как их звали, где и занимались запорожцы скотоводством и другими промыслами. Некоторые из казаков, имевшие больше склонности к оседлой и семейной жизни, селились на этих участках, устраивали себе землянки («бурдюги»), стоявшие часто на далеком расстоянии одна от другой, а не то заводились и целые хуторы, так называемые «зимовники».
Тип запорожца
1 января, по старому обычаю, происходило избрание нового кошевого и других старшин; в этот день распределяли по куреням реки, речки и озера для рыбной ловли. Когда довбиш по приказу кошевого бил сбор, есаул выносил из церкви походное знамя, затем сбирались казаки из всех куреней. Раздавался еще два раза бой в литавры; тогда приходил кошевой с палицей, за ним судья с войсковой печатью и писарь с чернильницей. Все они становились без шапок в середине круга и кланялись на все четыре стороны. Довбиш в честь начальства снова бил в литавры. Тогда кошевой обращался ко всем обыкновенно с такой речью:
— Паны молодцы и товариство! У нас нынче новый год, треба нам по древнему нашему звычаю раздел в войске рекам и урочищам учинити.
В ответ на это все кричали: «Добре!»
Затем мечут жребий, и какому куреню где досталось, там и должен он промышлять целый год.
Затем кошевой снова говорил:
— Паны молодцы! Не будете ли с сего року (году) по вашим обычаям иных старшин выбирати, а старых скидати?
Если казаки были довольны своим старшиной, то кричали:
— Вы батьки и паны наши добрые! Треба вам над нами пановати!
Тогда кошевой и прочие старшины, поклонившись, уходили по своим куреням.
Если же рада изъявляла желание переменить своих начальников, то кошевой должен был положить свою палицу на шапку и принести к знамени, а потом, поблагодарив всех за прежнюю честь и повиновение, уйти к себе в курень. Так же поступали и другие старшины.
При выборе нового кошевого и других должностных лиц часто происходили большие споры. Случалось, что некоторые курени хотели одного, другие — другого. Поднимались шум, гам, брань, а иногда и рукопашная схватка. Когда наконец какая-либо сторона одолевала, человек десять казаков шли в курень за избранником и просили, чтобы он принял ту должность, в какую его избрали. Если же тот отнекивался и не хотел идти на раду, то его силой тащили: два человека брали его за руки, а другие пихали сзади, толкая в спину и в шею, и таким образом приводили своего вновь выбранного начальника на площадь, причем приговаривали порой:
— Иди, собачий сын! Нам тебя треба; ты наш батько. Будь нам паном!
Приведя на раду, вручали ему знак его достоинства. Он же, по обычаю, должен был два раза отказаться, признавая себя недостойным той высокой чести, какой его хотели почтить; только по третьей просьбе соглашался. Тогда боем в литавры отдавали ему честь. При этом совершался еще такой обряд: старейшие казаки брали в руки землю или даже грязь, если дело было после дождя, и клали вновь избранному на голову. (Вероятно, этим хотели напомнить ему, чтобы он не зазнавался и не забывал бы о смерти — о том, что и его земля со временем покроет.)
Кроме января, рада собиралась еще два раза в году: 1 октября, в день Покрова, когда в Сечи был храмовый праздник, и на Светлое Христово воскресение. Впрочем, если не предстояло никаких перемен в составе начальства и не было особенных каких-либо вопросов, то в эти дни рада отменялась.
Кроме этих определенных для рады сроков, случались сходки и в неурочное время. Если было какое-либо неудовольствие на начальников и у многих являлось желание сменить их, то иногда совершенно неожиданно происходили очень бурные рады. Несколько куреней сначала тайно сговаривались свергнуть старшин, затем двое-трое наиболее смелых, иногда сильно подгулявших, колотили чем попало в литавры, находившиеся всегда на площади. Прибегал довбиш. Буйная толпа заставляла его бить сбор. Ослушаться он не смел, иначе его могли бы избить до смерти. Сбегались казаки на раду и становились на площади кругом. Посреди помещались старшины: кошевой, судья, писарь, есаул. Кошевой обыкновенно спрашивал:
— Паны-молодцы, на что рада у вас собрана?
А те, которые хотели свергнуть его, говорили:
— Ты, батьку, положи свое кошевье; ты нам не способен.
При этом объясняли и причину, почему находят нужным его сменить. Если желали сменить судью или писаря и других, то обыкновенно говорили:
— Годи (довольно) им пановати; они негодные… уже наелись войскового хлеба!..
Старшины тотчас же уходили в свои курени. При этом поднимался обыкновенно страшный шум. Казаки делились на две части: одна отстаивала старых начальников, другая требовала выбора новых. Тут без ссоры и спора дело не обходилось; нередко пускались в ход палки, и случались даже смертоубийства. Положение старшин при этом было незавидно: они могли потерпеть в это время побои, увечья и даже с жизнью проститься. Сторона, делавшая новых начальников, тащила на площадь своих избранников, а противники не пускали их в круг. Дело кончалось нередко тем, что эти избранники возвращались в свои курени избитые, изорванные и рады-радехоньки были, что жизнь свою спасли.
Таково было положение начальников у буйной запорожской вольницы в мирное время. Не то было во время войны: тогда повиновение начальству и почтение к нему доходили до самой высокой степени — понимали все, что своеволие и несогласие в походе грозят гибелью не одному или нескольким казакам, а всему их войску.
Старшинам шли значительные доходы, особенно с вина, которого истреблялось запорожцами чрезвычайно много.
Все торговцы, привозившие какие-либо товары, обыкновенно делали подарки кошевому и всем старшинам; не считалось зазорным брать приносы и с разных просителей. Сверх того, все казаки, ходившие на какой-либо промысел: рыболовство или охоту и прочее, обыкновенно часть своей добычи дарили своему старшине, в пользу которого шли также доходы, довольно значительные, с перевозов через реки.
Самым выгодным промыслом была в глазах казаков война. Невзначай напасть на татарские улусы, угнать сразу целые стада скота или табуны лошадей или «пошарпать» богатые берега Турции и вернуться с грудой всяких драгоценностей, с карманами, полными золота и серебра, захватить сразу столько, чтобы можно было не трудясь, без заботы прожить много дней, бражничать и кутить на широкую ногу, — вот что было заветной мечтой запорожца. Те атаманы-удальцы, которые умели часто и ловко устраивать набеги, доставляли «товариству» запорожскому «славу лыцарскую» да богатую добычу и были главными любимцами казаков и в песнях прославлялись.
Задунайский запорожец
Война и разгул — вот из чего главным образом сплеталась жизнь запорожца. И на жизнь и на смерть истый запорожец смотрел с презрением. Он не жил семейной жизнью. Ни одна женщина не смела показаться в Сечь. О будущем, о судьбе своих детей, стало быть, забот не было, не было думы и о своей старости: редкий из запорожцев умирал своей смертью. Одни из них находили смерть себе в морской пучине; другие гибли от сабли турецкой или татарской; третьи, более несчастные, кончали жизнь в невыразимых мучениях, какие только могла измыслить человеческая злоба, — умирали, часто удивляя своих мучителей необычайной твердостью, с какой выносили они ужасную казнь. Гибли они целыми сотнями и на турецких каторгах. Да и те из запорожцев, которые умирали у себя, в Сечи, умирали обыкновенно не в старых годах: боевая жизнь, полная всяких невзгод, да разгул, не знавший меры, сильно сокращали казацкий век.
И. Репин Запорожец
Тысячами погибали запорожцы, но Сечь, это «гнездо» казацкое, не пустела. Охотников до вольного житья, хотя бы полного тревог и опасностей, было много среди людей, подавленных панским гнетом, тяжелым подневольным трудом да нуждой безысходной. Шли в Сечь толпами, лишь бы приняли только. Запорожцы в свое братство принимали новичков очень легко: требовалось только, чтобы человек был православной веры, способный к военному делу, расторопный, сметливый. Между запорожцами попадались и литовцы, и поляки, и татары крещеные, и волохи, и черногорцы — словом, могли быть здесь люди разных племен. Но огромное большинство было чисто русских, и притом из простого деревенского люда.
Жизнь в Сечи была очень проста. В каждом курене при атамане, который заведовал всем хозяйством, был повар с двумя или тремя мальчиками-помощниками. На столовые расходы собиралось с каждого казака по пять рублей в год. В пище казаки были вовсе неприхотливы — ели саламату да тетерю. Первая состояла из ржаной муки и варилась с водой густо; вторая же готовилась из муки и пшена жиже — на меду, квасу или рыбьей ухе. Эти кушанья подавались на стол в больших деревянных чашках, или «ночовках», откуда все брали ложками. Особых тарелок не подавалось. Большая часть куренных казаков вполне довольствовалась этой пищей. Если же находилось в курене несколько охотников полакомиться мясом или рыбой, то они покупали их себе в складчину, артелью.
Более зажиточные казаки заводили свои дома в предместье, где почти все имели какие-либо промыслы: варили мед, пиво, брагу или занимались различными ремеслами.
Одежда казаков обыкновенно была тоже очень проста. Любили они щеголять хорошим оружием да конями. После хорошей поживы на войне запорожцы не прочь были рядиться и в красивые синие кунтуши, алые суконные шаровары и алые шапки с околышем из смушек. Головы себе и бороды выбривали, оставляя лишь клок волос (оселедец), да запускали длинные усы.
Никаких письменных законов или правил у запорожцев не существовало. Войсковой судья решал все дела по своему усмотрению, сообразуясь с обычаями и укоренившимися понятиями казаков, а в трудных случаях совещался с кошевым, «дидами» (престарелыми казаками) и другими старшинами. Воровство, неплатеж долгов и убийство считались у них главными преступлениями. Несмотря на то что грабеж был делом привычным для запорожца — грабить позволялось лишь врагов. Если же кто попадался в краже у своего товарища, или покупал заведомо украденное, или скрывал у себя, то подвергался суровому наказанию: виновного приковывали к столбу на площади, подле клали кий (палку), и все проходившие ругали осужденного и беспощадно били. Если его не прощал пострадавший от его преступления, то его забивали до смерти. Если кто попадался второй раз в краже, то лишался жизни на виселице. Не плативший долгов должен был стоять на площади прикованный к пушке, пока заимодавец не получал от него или его друзей удовлетворения. Но особенно страшно было наказание за намеренное убийство: убийцу бросали в могилу, на него опускали гроб с телом убитого и засыпали землей.
Суровость запорожцев не знала границ; не знала их и неукротимая казацкая удаль; беспределен был и дикий разгул, которому отдавались запорожцы в досужее время.
В предместье Запорожской Сечи жили всякие мастера: кузнецы, слесари, портные, сапожники и другие. Тут же и торговали всем, что нужно было казаку. Были бы только деньги у него, а то все можно было добыть, что требовалось для неприхотливой его жизни. А денег у запорожцев после всякого удачного похода было вдоволь, так что бессемейному и девать их было некуда. Гульба, самая широкая и бесшабашная, шла на Запорожье почти беспрерывно. Кутить и пить без конца считалось молодечеством. Поделив добычу меж собой, запорожцы предавались необузданному разгулу, пока не прокучивали всего до конца. Иные из них нанимали музыкантов и певцов и разгуливали с ними по улицам, а следом за ними носили ведра вина и меду. Всякого встречного поили наповал, а кто отказывался, того всячески бранили.
Тип запорожского казака
По воскресным и праздничным дням бывали в Сечи у казаков кулачные бои, и если кто во время драки нечаянно убивал другого, то взыскания за это не полагалось. Большие были охотники запорожцы до лихого пляса — казачка; любили послушать пение бандуристов. Песни о подвигах казацких, о турецкой и татарской неволе, конечно, должны были сильно действовать на них, возбуждать в них удаль и чувство мести, а рассказы о притеснении народа, о поругании православия во владениях Речи Посполитой разжигали ненависть к полякам.
Таково было Запорожье, на которое со страхом и ненавистью смотрели поляки. Здесь вырастала и крепла казацкая сила, росла и вражда к панству: оно в понятиях казаков и народа отождествлялось с насилием, несправедливостью, горькой обидой.
Панский гнет в Литве и западнорусских областях, можно сказать, выдавил из несчастного народа казацкую силу, на беду для Речи Посполитой.

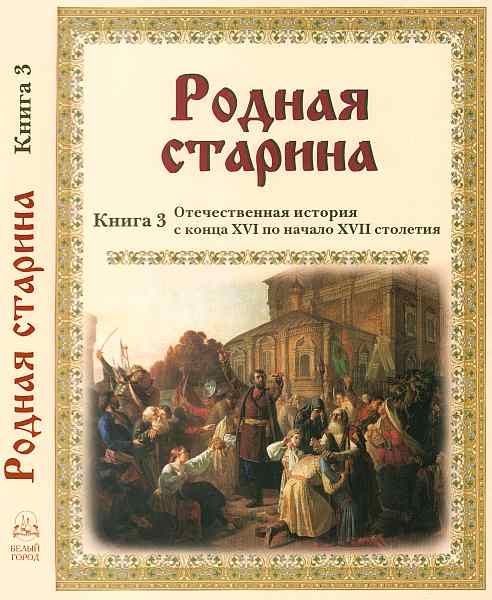



Комментарии к книге «Родная старина Книга 3 Отечественная история с конца XVI по начало XVII», Василий Дмитриевич Сиповский
Всего 0 комментариев