Роберт Бартлетт СТАНОВЛЕНИЕ ЕВРОПЫ. Экспансия, колонизация, изменения в сфере культуры. 950—1350 гг.
ОТ АВТОРА
Пенелопе посвящается
Исследования, которые легли в основу этой книги, проводились при поддержке Научного общества Мичиганского университета, Эдинбургского университета, Принстонского института углубленных исследований, центра Шелби Каллом Дэвис при Принстонском университете, Чикагского университета, Фонда Александра фон Гумбольдта и Семинара по истории Средних веков и Нового времени Геттингенского университета. Всем этим научным учреждениям автор выражает свою признательность. Ранние варианты некоторых глав книги были представлены на обсуждение в университетах, и все выступления, комментарии и замечания заслуживают горячей признательности. Варианты Главы 3 выходили из печати как отдельные работы: War and Lordship: The Military Component of Political Power, 900–1300 (Четвертые ежегодные исторические чтения Phi Alpha Theta, Государственный университет Нью-Йорка, Олбани, 1984), и Technique militaire et pouvoir politique, 900–1300, Annales: economies — societes — civilisations 41 (1986), 1135–1159. Bo время работы в Геттингене большую помощь автору оказал Фридрих Лоттер. Патрик Дж. Гири, Уильям С. Джордан и Уильям ШМиллер любезно согласились прочесть текст в рукописи и высказали ценные замечания. Йон Лейрих оказал действенную помощь на заключительных этапах работы над рукописью. И конечно, книга не увидела бы свет без моральной и физической поддержки и подчас бескомпромиссной стилистической правки Норы Бартлетт.
О ПРИМЕЧАНИЯХ
Источники всех упоминаемых в книге цитат и конкретных фактов приведены в Примечаниях.
Сноски даются к ключевым фразам цитируемого или упоминаемого текста. Для поиска требуемой сноски или примечания необходимо найти соответствующую страницу в разделе «Примечания» и отыскать ключевую фразу, данную курсивом. В каждой главе, при первом упоминании какого-либо источника, дается полная библиографическая информация, далее — краткое название. В библиографии, разумеется, даются полные данные об источнике.
Карта 1. Европейский регион в эпоху Высокого Средневековья
* * *
Historia est rerum gestarum narratio.
(Гуго Сен-Викторский, De sacramentis, I, prol. 5)ПРЕДИСЛОВИЕ
Европа — это и регион, и идея. Общества и цивилизации, существовавшие в западной части евразийского материка, всегда отличались большим разнообразием, и само группирование их под термином «европейский» в разные периоды было неодинаковым. Однако начиная с Позднего Средневековья области Западной и Центральной Европы имели достаточно много общего в принципиальном плане, что дает все основания рассматривать этот регион мира как единое целое. По сравнению с другими культурными ареалами, например, Ближним Востоком, Индокитаем или Китаем, Западная и Центральная Европа имела (и имеет) ряд отличительных особенностей. Например, латинская Европа (то есть та часть европейского континента, которая изначально исповедовала преимущественно римский католицизм в отличие от греческого православия или других религий) образовывала регион, где наряду с географическими и культурными контрастами не менее важную роль играли выраженные черты сходства.
Некоторые такие черты сохраняли свое основополагающее значение на протяжении всего Средневековья. Европа была миром крестьянских общин, поддерживавших существование земледелием и скотоводством и, в качестве вспомогательного промысла, охотой и собирательством, и уровень технического прогресса и производительности труда были далеки от сегодняшних. Повсюду властвовала немногочисленная аристократическая элита, которая кормилась за счет труда крестьян. Эта аристократия включала представителей светской знати, искусных воинов, гордившихся своим славным родом и считавших себя его продолжателями; в нее входили также клирики и монахи, избравшие затворничество во имя церкви, посвятившие себя книжной мудрости и принявшие обет безбрачия. Светские феодалы образовывали определенную структуру взаимоотношений, со своей системой союзов, взаимного подчинения и власти, которые и составляли суть политической системы. Священники и монахи существовали в рамках своей системы институтов и иерархий, с условным центром в виде римского папства. В цивилизационном плане наследием этого общества стала смесь римской культуры, с латынью как языком учености и частично сохранившимся остовом империи в виде дорог и городов, христианской — с повсеместным присутствием религии, основанной на таинствах и письменных текстах — и германской, сохранившейся в виде имен, ритуалов и этических норм военной аристократии.
Если сравнивать латинскую Европу в Раннем и Позднем Средневековье, то в первом случае будет заметна значительно большая степень дифференциации между странами при меньшей общей территории. Ни один период истории и нигде в мире не может считаться чем-то действительно неподвижным или застойным, однако уровень мобильности и интенсивность межрегиональных контактов в раннесредневековой Европе несомненно были ниже, чем после X века. Новое тысячелетие не ознаменовалось внезапным или радикальным изменением конфигурации этого общества, но начиная с XI века в границах Западной Европы начался период исключительно интенсивной созидательной активности. Вторжения, которыми был ознаменован предшествовавший период (викинги, венгры, сарацины), сошли на нет; начиная с XI века и вплоть до кризиса и заката XIV–XV веков продолжалось так называемое Высокое Средневековье, эпоха экономического роста, территориальной экспансии и динамичных перемен в социальной и культурной жизни.
Жизнеспособность европейского общества в период конца X — начала XIV столетий проявлялась в разных сферах жизни. Изменились размах и темпы производства и распределения: население увеличилось, расширилась площадь обрабатываемых земель, новыми темпами пошло развитие городов и торговли — все эти факторы изменили сам строй экономической и общественной жизни. Параллельно с распространением денег, инструментов банковской и деловой жизни, в некоторых областях был достигнут невиданный доселе уровень производства. Подобная же созидательная активность наблюдалась и в социальной сфере. Во многих областях жизни некоторые базовые институты и структуры именно в этот период получили решающее оформление: город с правами самоуправления, университет, центральные представительные органы, международные ордена римской католической церкви — все они ведут начало из этой эпохи.
К началу XIV века Европа имела относительно высокую плотность населения и занимала передовые позиции с точки зрения производства и культуры. Во Фландрии десятки тысяч ткацких станков производили текстиль на экспорт. В северной Италии развитые международные банковские империи предоставляли кредиты, обеспечивали страхование и инвестиции. В северной Франции параллельно развивались интеллектуальная жизнь высочайшего уровня и политическая власть необычайной эффективности. Это динамично развивающееся общество имело свои центры и свою периферию, и его внутренняя динамика сопровождалась внешней, или территориальной экспансией. В некотором смысле этот феномен очевиден и вопросов не вызывает. Повсюду в Европе XII–XIII веков валились деревья, старательно выкорчевывались пни, копались канавы для осушения заболоченных почв. Агенты по вербовке колесили по перенаселенным областям Европы в поисках потенциальных переселенцев; повозки с взволнованными эмигрантами со скрипом колес передвигались по всему континенту; из оживленных портов к чужим и далеким берегам отправлялись суда полные колонистов; отряды рыцарей мечом и топором отвоевывали у врага и природы свои новые владения. И все же в этом мире залитых кровью границ, молодых и еще не оформившихся городов и новых земельных владений первопроходцев не всегда можно четко очертить границы экспансии. Отчасти причина заключается в том, что не менее важное значение, чем экспансия вовне, имела «внутренняя экспансия», то есть интенсификация заселения и реорганизация общества в рамках границ западной и центральной Европы, а следовательно, описывать и интерпретировать историю этих экспансионистских процессов невозможно в отрыве от природы европейского общества как такового.
Эта книга представляет собой попытку обрисовать историю Европы в эпоху Высокого Средневековья, главным образом, с одной точки зрения — в контексте территориальных захватов, колонизации и вытекающих из них изменений цивилизационного характера, происходивших в Европе и Средиземноморье в середине X — середине XIV веков. Это анализ становления государств, образовавшихся в ходе завоевания и заселения отдаленных стран иммигрантами по всей периферии континента: английский колониализм в кельтском мире, продвижение немцев в Восточную Европу, испанская Реконкиста и деятельность крестоносцев и колонистов в Восточном Средиземноморье. Мы пытаемся ответить на вопрос, какими изменениями в языке, праве, религии и нравах сопровождались война и переселение. При анализе этих явлений мы постоянно переводим свое внимание с феноменов чисто «приграничного» порядка, проистекавших из нужд и потребностей нового поселения или угрозы вооруженной конфронтации, на те силы и процессы, которые наблюдались в сердце европейской цивилизации, ибо присущая этой цивилизации энергия экспансии исходила из ее центров, при том, что ощущалась она порой сильнее на окраинах. Следовательно, темой исследования является не только колониальное завоевание и эмиграция, то есть движущая сила, но и ее результат — формирование разрастающегося и все более однородного общества, то есть «становление Европы».
1. ЭКСПАНСИЯ ЛАТИНСКОГО ХРИСТИАНСТВА
«Привел он каменщиков издалека,
В Тройне заложил фундамент церкви, построил ее быстро,
Покрыли крышей, положили потолок, а стены выкрасили черным,
И церковь та Святой Марии Девы была наделена землей и десятиной,
Украшена богато и возвышена до кафедры епископа»{1}.[1]
РАСПРОСТРАНЕНИЕ КАТОЛИЧЕСКИХ ЕПАРХИЙ В X–XIV вв.
В период Высокого Средневековья многие явления и сферы жизни переживали широкомасштабное распространение, и среди самых наглядных был процесс расширения границ влияния латинской церкви. Речь идет о зоне распространения того направления в христианской церкви, которое признавало власть папы римского и совершало латинские церковные обряды. Следовательно, одним из наиболее простых способов оценить в предварительном порядке размах этой экспансии может стать карта распространения католических епархий. Хотя сам по себе этот процесс нельзя считать достаточно точным показателем изменений, происходивших в духовной сфере, у этого критерия есть тем не менее несколько существенных преимуществ. Во-первых, епархии были чем-то вполне конкретным и осязаемым. В каждой был свой епископ, как правило, с кафедральным собором или церковью. Епископ носил имя, а епархия — название. Следовательно, католические диоцезы можно перечислить поименно, сосчитать и нанести на карту. В отношении каждого епископства можно составить список сменявших друг друга клириков, диоцез характеризовался такими отличительными особенностями, как главный святой, земельные владения и центральный собор — вещественное и вполне ощутимое воплощение католицизма. Во-вторых, епархии обычно формировались по территориальному признаку, роль которого неуклонно возрастала. Епархия включала не только прелата и его собор, но и земельные владения, неизменно очерченные самым точным и исчерпывающим образом. Сама структура католической церкви была сродни клеточному организму, клетками в котором служили диоцезы. Любая часть католического мира должна была принадлежать к какой-то конкретной епархии, причем ни одна не могла относиться более чем к одной епархии одновременно. Естественно, говорить о полном отсутствии спорных границ или каких-то других спорных моментов не приходится, и в некоторых частях Европы территориальный диоцез утвердился не сразу, однако нет сомнения в том, что именно епархии являлись формой существования латинского христианства. Стоило какой-либо немногочисленной группе селян заявить, что они «не принадлежат ни к какой епархии»{2}, как их немедленно клеймили за неподобающее поведение и приписывали к какому-то приходу. Более того, эти единицы были для своего времени необычайно единообразны, хотя абсолютным это единообразие назвать нельзя. Литургический цикл, внутренняя структура и иерархия, правовые взаимоотношения с папским престолом — эти аспекты на всей территории, находившейся под юрисдикцией католической церкви, сохраняли большое сходство. Таким образом, епархии представляют ясную, единообразную и измеряемую (то есть имеющую определенные параметры) единицу, которая может служить для нас инструментом в описании экспансии западного христианства и определении ее границ{3}.
Однако не только конкретность епархий, безусловно удобная для исследователя, служит основанием для предварительного рассмотрения экспансии латинского христианства на основе роста числа диоцезов. Епископ был не просто местным прелатом, чью личность легко установить, но и на локальном уровне — абсолютно незаменимой фигурой в обществе. Он посвящал в духовный сан священников, конфирмовал верующих, выступал в роли судьи. Исчезновение епископов означало бы скорый конец всей церкви. Таким образом, являясь элементарной частицей церковной структуры, диоцезы средневековой церкви представляют для нас сколь естественную, столь и удобную единицу изучения христианства в целом.
К началу XIII века около 800 епархий признавали власть папского престола и совершали обряды по латинскому ритуалу. Они сильно разнились по размерам, охвату территории и социальному составу. Отличались они и возрастом. В Римской империи христианство было преимущественно городской религией, и наиболее древние епархии отражали характер расселения и политическую карту гражданского античного мира. В это центральное ядро епархий входили Италия, Франция и Рейнская область. Наибольшей плотностью католических диоцезов характеризовался собственно Аппенинский полуостров, здесь насчитывалось 300 епархий из 800. Достаточно высокая их плотность отмечалась также в Провансе и на юге Франции. В остальных районах Франции и в Рейнской области епархий на единицу площади было меньше, но при этом распределялись они весьма равномерно и обычно отстояли одна от другой в среднем на 60 миль, занимая обширную область от Атлантики до Рейна.
Эти епархии зачастую имели давнюю историю и вели начало из самых ранних веков христианства. В некоторых случаях в их истории имелись лакуны, падающие на период нашествий германских племен V века либо набегов викингов IX–X веков. Тем не менее в описываемых областях нередко можно встретить епархии наподобие Сполето или Реймса, где достоверные сведения о первом епископе относятся соответственно к 353 и 314 году, а начиная с 500 года в источниках неизменно упоминаются не менее чем по три епископа за каждые сто лет, что позволяет говорить о непрерывной череде бенефициариев.
Совершенно иными представляются епархии, которые образовались в V, VI и VII веках, по мере распространения христианства за пределы римского мира или на территории послеримских государств. В Раннем Средневековье в Ирландии и Англии еще не получили значительного развития города, и здесь был актуален иной тип епархии — она могла не иметь своим центром город и вообще престола, привязанного к какому-либо одному населенному пункту, а должна была быть адаптирована к потребностям народа (gens) либо, как в Ирландии, монашеской конгрегации. Таким образом, ранние англо-саксонские епархии характеризовались изменчивой политической моделью в зависимости от политического строя и получали свое название скорее от той или иной этнической группы или области, нежели от города. Отсюда — сочетания наподобие «епископы Западных саксов», вслед за которыми шли «епископы Винчестерские», «епископы Хойке» и наконец — «епископы Вустерские». Так сам институт епископата приспосабливался к социальным условиям, разительным образом отличавшимся от тех, в которых он зарождался. В самом деле, одной из главных черт церковной истории Британских островов XI–XII веков было восстановление диоцеза, основанного на территориальном принципе и привязанного к конкретному городу, который, в качестве латинской модели, пришел на смену раннесредневековой епархии негородского типа.
VIII и IX века ознаменовались для латинского христианства рядом существенных достижений, в частности, созданием постоянных диоцезов в центральной и южной Германии, а также, в годы правления Карла Великого, насильственным обращением саксов. Одним из залогов этого процесса христианизации явилось создание целой сети епархий, в том числе Гамбургской (831–834), которая стала первым епископатом восточнее Эльбы. С другой стороны, на эти же столетия пришлись и ощутимые потери христианской церкви, связанные с исламским завоеванием католического Вестготского королевства и подчинения епархий Пиренейского полуострова власти мусульман.
Следовательно, к 900 году влияние латинского христианства, если определять его по наличию епархий, ограничивалось тремя регионами. Первым являлась территория бывшей империи Каролингов, где правили преемники и наследники Карла Великого; сюда входило ее романизированное ядро — Галлия и Италия, а также основанные позднее германские церкви. Второй составляли «осколки», или окраины католической Испании, вдоль северного побережья Пиренейского полуострова от Астурии до Пиренейских гор. Третьим были Британские острова. Границы латинского мира были компактны и сжаты. Более того, и этот узкий мир казался очень не -прочным. Западная Европа открыта нападению с трех сторон — с моря на севере и юге и с суши на востоке. В X веке ее атаковали со всех трех направлений. Викинги и сарацины, как и мадьярские конники, видели в богатых церквях Запада легкую добычу. Следовательно, границы латинского христианства были не только компактны, но и весьма уязвимы. Одной из самых поразительных особенностей Высокого Средневековья стало радикальное изменение этой ситуации после того, как эти границы начали шириться во всех направлениях.
Восточная Европа в X и XI веках
Первым важным шагом на пути преодоления той замкнутости, которая характеризовала латинский христианский мир в IX и X веках, стали события, происшедшие в Германии при императоре Отгоне I. В 948 году он создал либо способствовал созданию цепи новых епархий вдоль северной и восточной границы империи. К востоку от Эльбы их главной задачей было служение интересам завоеваний Отгона в землях славян-язычников. Севернее Лидера они должны были способствовать продвижению христианства в земли, входившие в клиентское королевство Дания. В 968 году Отгон увенчал долгий подготовительный этап тем, что придал своему любимому детищу Магдебургу архиепископский статус. Магдебургу предстояло отныне играть роль церковной метрополии для «всего народа славянского за Эльбой и Зале, который недавно был или будет обращен в веру христианскую», причем восточные границы этого влияния не устанавливались.
Становление в Восточной Европе церковной иерархии, как и повсюду, в сильной степени зависело от местных политических соображений. Первым из таковых являлся выбор между византийской либо западной формой христианской веры и церковной власти. Начиная с VIII века, когда папы римские рассорились с византийскими императорами из-за того, под чьей юрисдикцией — папы или патриарха Константинопольского — находятся иллирийские земли, в этой части Европы не прекращались споры о разграничении властных полномочий. По мере обострения отношений эти споры приобретали все более ожесточенный характер. Обращение в католическую веру Богемии и Моравии в IX веке сопровождалось столкновениями изобретателей славянской письменности Кирилла (Константина) и Мефодия, двух братьев фессалоникского происхождения, с «когортами латинян»{4}, баварскими священниками из Регенсбурга и Зальцбурга. И по сей день самый резкий культурный раздел внутри славянского мира проходит между народами, которые в свое время были обращены в христианство либо немцами, либо, с другой стороны, греками.
Западным славянам и мадьярам именно Германия в X и начале XI века дала толчок и модель для создания христианской церкви. В случае с Богемией результатом явилось основание епархии в Праге, которая к 973 году уже упоминается в источниках. Она подчинялась немецкому архиепископству Маинцкому вплоть до самого Позднего Средневековья. Первыми бенефициариями в Пражской епархии были немцы, и Богемия, сохраняя, впрочем, высокий уровень автономии и самобытности, оказалась связана со Священной Римской Империей гораздо теснее, нежели Польша или Венгрия. В этих двух странах, напротив, при том, что религиозное влияние Германии имело первостепенное значение, на рубеже первого и второго тысячелетия появились совершенно независимые церковные структуры. Начиная с 968 года в Польше существовало епископство Познанское, первоначально, по-видимому, подчинявшееся Магдебургу. Однако в 1000 году было основано Гнезненское архиепископство и несколько новых викарных престолов, а вскоре и сама познанская епархия перешла под юрисдикцию Гнезно, и таким образом польская католическая церковь получила своего архиепископа. В следующем, 1001 году в Эстергоме (Гран) было основано первое епископство в Венгрии, а за последующие сто лет венгерские короли создали целую сеть епархий по Дунаю и восточнее, в землях Трансильвании.
Таким образом, за период около 60 лет на огромной части Восточной и Центральной Европы были созданы новые церкви и границы римской и греческой церквей значительно сблизились. Начался процесс, результатом которого явилась ориентация поляков, чехов и мадьяр на запад, в сторону Германии и Рима, как моделей культурного и религиозного развития. Вопреки ожесточенному сопротивлению язычников, имевшему место в XI веке, эти новые епархии устояли. Восточноевропейское язычество уже вынуждено было занять оборонительные позиции.
Скандинавия в X и XI веках
Первыми епархиями в скандинавских странах были те, которые упоминались выше в связи с императором Отгоном I. Письменные упоминания об этих первых датских епархиях (Хедебю/Шлезвиг, Рибе и Орус) мы встречаем уже в 948 и 965 году, а после X века их история уже не прерывалась. На протяжении последующих ста лет число датских диоцезов множилось, и новые епископаты возникали как в материковой части Ютландии, так и на островах. Большую роль в развитии молодого датского католицизма играла Англия; так, например, в 1020-х годах во главе епархии в Роскилле стоял английский священник. В 60-х годах XI века сформировалась сеть из девяти (впоследствии — восьми) диоцезов, и в 1103–1104 годах Датская церковь получила наконец собственную архиепархию — Лундскую в Скании (теперь эта территория относится к Швеции, но в те времена она входила в Датское королевство).
В Дании первой из скандинавских стран получили развитие диоцезы и сформировалась собственная, хорошо организованная церковь. Процесс становления организованного христианства в Норвегии, Швеции и Исландии носил более скачкообразный характер, что, вероятно, было связано с еще недостаточно сильной монархией: именно сильная прохристианская династия могла стать идеальным инструментом для обращения в христианскую веру всего населения. Однако по мере того, как в XI веке в Скандинавии крепла централизованная королевская власть и ширилось влияние христианской Англии, началась и решительная христианизация. Самой первой скандинавской епархией за пределами Дании стала Скара (Швеция), прибл. 1014 г. Хронист Адам Бременский пишет о посвящении в сан в 60-х годах XI века двоих епископов в Норвегии, шестерых — в Швеции и девятерых — в Дании{5}. В некоторых районах Швеции языческие культы сохранялись еще и в XII веке, однако уже задолго до этого времени в Скандинавии появилась развитая сеть диоцезов от Исландии до Упсалы{6}. Кульминация этого процесса пришлась на середину XII века, когда в Швеции и Норвегии были образованы новые архиепископства. В 1164 году Упсала, где еще столетие назад высился грандиозный храм царственному Тору, воинственному Одину и фаллическому Фрею, где проходили ритуальные жервоприношения, после чего принесенные в жертву животные (а по некоторым сведениям — и люди) висели на деревьях в священной роще, стала архиепископством Шведской церкви.
Южная Италия в XI–XII веках
Вовлечение Восточной и Северной Европы в орбиту римско-католической церкви время от времени оказывалось сопряжено с насилием, но крайне редко с вражеским завоеванием. Западнославянские, мадьярские и скандинавские правящие династии, которые вводили у себя в странах христианство, сумели не только сохраниться, но и укрепить свои позиции. Безусловно, иностранное влияние имело место, в первую очередь со стороны Германии и Англии, но это влияние в подавляющей степени затрагивало культуру в широком смысле и не подразумевало никакого политического или военного господства.
Совсем иной была ситуация в Средиземноморье. Здесь, в отличие от Восточной или Северной Европы, христиане столкнулись с культурными общностями, не уступавшими им по уровню развития грамотности и цивилизованности вообще. Если в Польше или Скандинавии имелись лишь начатки городской жизни — рынки, крепости, кое-где святилища, то Средиземноморье было зоной античных городов и прославленных центров культуры. Латинская экспансия на восток и север отчасти совершалась благодаря превосходству в культурном развитии, что привлекало правителей неграмотной и по преимуществу сельской Европы, но в Средиземноморье римская церковь могла расширять сферу своего влияния только силой оружия.
Одним из регионов, где в XI–XII веках создавалась новая или по-новому организованная иерархическая структура католической церкви, стала южная Италия и Сицилия. Это был сложный в геополитическом отношении регион, где вели непрерывное и беспорядочное противоборство византийцы, самоуправляющиеся города-государства, ломбардские князья и мусульмане Сицилии. Норманнам потребовалось сто лет для утверждения в этом пестром в этническом и культурном отношении регионе новой, унитарной формы политического правления — Сицилийского королевства, после создания в 1030 году первого устойчивого политического образования в Аверсе. В религиозном плане этот политический процесс дополнялся насаждением в греческих епархиях католических епископов, чаще всего северо-французского происхождения, возрождением диоцезов в завоеванных мусульманами районах и иногда — созданием совсем новых епископств, как, например, в самой Аверсе (1053 г.) или Катании на восточном побережье Сицилии, которая получила статус епархии в 1091 году и была вверена бретонскому монаху Ансгару{7}. Ансгар нашел церковь «в крайне запущенном состоянии, поскольку она только что была освобождена из пасти неверных», и первым делом позаботился об обеспечении ее всем необходимым, после чего, «возглавив большую группу монахов», основал там по всей строгости монашеское братство.
В Сицилийском королевстве оставались и греки, и мусульмане, которые сохраняли определенную свободу отправления религиозных культов. Однако начиная с XII века здешняя церковная иерархия приняла тот же вид системы римско-католических епископств, какой она имела в других частях Италии, во Франции, Англии или Германии. Вот почему архиепископы Мессины и Палермо второй половины XII века, Ричард Палмер и Уолтер Оффэмил, хотя и были английского происхождения, наверняка нашли тамошние церковные структуры очень знакомыми{8}.
Испания в XI, XII и XIII веках
Историю Сицилии конца XI века можно назвать миниатюрным прообразом испанской Реконкисты, где те же процессы повторились в более широком масштабе. Христианские королевства Пиренейского полуострова, оттесненные к самому побережью в ходе мусульманских вторжений VIII века, вскоре начали консолидироваться и отвоевывать свои владения. Например, епархия Вик{9} в Каталонии, которая полностью исчезла из поля зрения во время исламского вторжения, в 886 году была восстановлена. К началу нового тысячелетия в Каталонии существовала небольшая группа епархий, в том числе в пограничном городе Барселоне. В четырехстах или пятистах милях от него, на северо-западе Иберийского полуострова, под эгидой Леон-Астурийской монархии продолжала существовать другая группа диоцезов, в числе которых была восходящая звезда Сантьяго. Это были те форпосты, опираясь на которые римско-католическая церковь расширяла свое влияние и сумела за последующие три столетия охватить фактически весь Пиренейский полуостров.
Первый шаг на этом пути был сделан в XI веке, когда в Кастилии, Наварре и к югу от Сантьяго были созданы либо реорганизованы ряд епархий. Самым существенным завоеванием церкви этого периода стал Толедо. Этот древний религиозный центр старого вестготского королевства в 1085 году был завоеван Альфонсом VI, королем Кастилии и Леона, и получил затем статус центра архиепископства, которому предстояло стать крупнейшим в Испании. Альфонс посадил на архиепископский престол Бернарда, монаха авторитетного французского монастыря Клюни, который до этого уже занимал в Леоне высокий церковный сан аббата Саагуна. 18 декабря 1086 года была издана торжественная дарственная грамота. В ней говорилось, что
«тайным Божьим промыслом этот город на 376 лет оказался в руках мавров, хулителей имени Христова… после многих сражений и бесчисленных кровопролитных схваток с врагом я отбил у него многолюдные города и мощные замки благодаря Божьей милости. Таким образом, вдохновленный милостью Господней, я двинул войско против этого го рода, где некогда правили в могуществе и богатстве мои предки, пола гая, что то, что вероломные мавры под водительством неверного вождя своего Мохаммеда отобрали у христиан, я, император Альфонс, почитая вождем своим Господа нашего Христа, должен вернуть его приверженцам»{10}.
Далее, после рассказа о падении города, назначении архиепископа и освящении церкви, «с тем чтобы то, что прежде являло собой вместилище демонов, отныне и навсегда стало священным местом для Божественных сил и для всех христиан», король возвещал о пожаловании епархии ряда окрестных селений.
После этого процесс завоевания и реорганизации церкви пошел ускоренными темпами. Две главных волны этого процесса пришлись на 1080–1150 и 1212–1265 годы, когда почти весь запад полуострова перешел под власть христианских правителей, с образованием там латинских диоцезов. В 1147 году с помощью пришедших с севера крестоносцев был захвачен Лиссабон{11}, где тотчас «был восстановлен епископский престол», причем первым епископом стал англичанин Гилберт Гастингский; он ввел в своей епархии обрядовую практику по образу и подобию Солсбери. В конце XII века на несколько поколений продвижение христианства было замедлено, но в 1212 году победа при Лас-Навас-де-Толоса явилась новым толчком на этом пути.
Карта 2. Епархии, образованные на Пиренейском полуострове в III—XIII вв.
Правление Фердинанда III Кастильского (1217–1252) и Хайме Завоевателя Арагонского (1213–1276) ознаменовалось христианским завоеванием всего Пиренейского полуострова за исключением вассального княжества Гренада. Под ударами войска Хайме Арагонского в 1238 году пала Валенсия. Главная мечеть города была немедленно превращена в собор, которому предстояло служить новым епископам вплоть до конца XIII века, когда было возведено другое здание в западном стиле. В 1248 году, после 16-месячной осады, кастильцы вступили в Севилью и также превратили главную мечеть в кафедральный собор вновь образованной епархии:
«Когда благородный король Дон Фердинанд воцарился в этом городе и сердце его наполнилось радостью за награду, которую ниспослал ему Господь за его многотрудные усилия, то начал он, ради чести и прославления Господа и Святой Девы Марии, возрождать архиепископский престол, который давно пребывал в небрежении, был разграблен и лишен своего полноправного пастыря; и в честь Святой Девы Марии была воздвигнута достойная Ее святая церковь, которая стала носить Ее имя… И затем он вверил архиепископство сие Дону Рамону, который стал первым архиепископом Севильским с того времени, как король Дон Фердинанд завоевал этот город»{12}.
К последним годам XIII века в испанских королевствах и Португалии насчитывалась 51 епархия. Это была довольно густая сеть: диоцезы на Пиренеях в среднем лишь в 1,4 раза превосходили по размеру аналогичные, но более давние по возрасту христианские структуры в Англии. Таким образом, Реконкиста естественным своим следствием имела создание новой разветвленной церковной организации.
Восточное Средиземноморье в XI, XII и XIII веках{13}
Если говорить о христианской экспансии с военной точки зрения, то самыми известными походами за веру являются крестовые походы в Восточное Средиземноморье. Начало им было положено той замечательной экспедицией французских и итальянских рыцарей и простолюдинов 1096–1099 годов, когда они прошли две тысячи миль по неизведанной и недружелюбной земле с единственной целью — отбить у неверных Святой Город своей веры. По сравнению с аналогичными завоеваниями в Сицилии и Испании, походы, имевшие место в Леванте, были менее масштабны и продолжительны. Тем не менее, приблизившись к своей цели, крестоносцы в 90-х годах XI века стали активно заниматься созданием структур латинской церкви на Востоке. Вследствие крестовых походов крупнейшие города Палестины и Сирии тоже стали центрами католических епархий. Так, в 1099 году французские архиепископы были назначены в завоеванные города Таре, Мамистра и Эдесса. Пизанский епископ Даимберт, папский легат, стал патриархом Иерусалима. Постепенно государства крестоносцев обрели целую сеть патриархатов, архиепископств и епископств. Прежняя территориальная организация греческой церкви была принята за естественную отправную точку, однако вскоре была существенно видоизменена в ходе формирования и перемещения епархий. Церковные должности по преимуществу занимали иммигранты. Например, четверо первых римско-католических патриархов Антиохии носили абсолютно галльские имена — Бернар Валенсианский, Ральф Домвронский, Эмери Лиможский и Петр Ангулемский.
К 30-м годам XII века латинские патриархаты Антиохии и Иерусалима охватывали территорию, шире которой их власть уже более никогда не простиралась за всю историю. Порядка тридцати епархий с католическими бенефициариями во главе веером расходились от Киликии до Мертвого моря. В последующие времена латинскую церковь на материке ожидали лишь крупные территориальные потери, и только изредка часть утраченных земель удавалось на время вернуть. К концу XIII века крестоносцев полностью изгнали из Леванта, и об этом самом грандиозном этапе распространения католического влияния напоминали лишь несколько номинальных епископов.
XIII век также был отмечен территориальными захватами латинской церкви в Восточном Средиземноморье, однако не у мусульман, а у греков. В 1191 году король английский Ричард I, по пути в Палестину, захватил Кипр у его греческого правителя; впоследствии остров перешел в руки знатного рода из Пуату — Лузиньянов. Спустя несколько десятилетий мы имеем свидетельства присутствия на Кипре латинской церковной иерархии, с архиепископом Никосийским и викарными епископами в Фамагусте, Лимассоле и Пафосе. На Кипре продолжали существовать и многочисленные греческие епархии, однако уже под эгидой латинского архиепископа. Еще одна масштабная волна влияния католической церкви имела место после завоевания Константинополя сборными силами крестоносцев в 1204 году. На его месте утвердилась Латинская империя, а вместе с нею и латинский патриархат и католические епархии. Их история зачастую полна противоречий. Одни, судя по всему, существовали только на бумаге. Судьба других оказалась недолговечной либо прерывистой, целиком зависимой от их политических покровителей. Были и такие «латинские» епархии, которые по сути оставались обычными греческими диоцезами, но во главе их стояли благоразумные епископы, демонстрировавшие готовность подчиняться власти папы римского. Тем не менее намерения римской церкви в отношении своих новых приобретений не оставляли сомнений. Так, например, в Афинской церкви{14}, захваченной латинянами вскоре после падения Константинополя, к 1206 году уже был латинский священник, Берар, который в ответ на свою просьбу получил высочайшее дозволение реорганизовать новое греческое архиепископство по образу и подобию Парижской церкви (secundum consuetudinem Parisiensis ecclesiae) — трудно найти более наглядный пример галло-романского верховенства. Во времена Латинской империи кафедральный собор в Константинополе находился в безраздельной власти венецианского духовенства. В самом деле, в 1205 году латинского патриарха даже вынудили принести клятву в том, «что никто не должен считаться каноником св. Софии, если он не является венецианцем по рождению либо не прослужил десять лет на благо Венецианской церкви». И хотя папа римский объявил эту присягу недействительной, реальный состав собрания каноников в период между 1204 и 1261 годом заставляет думать о том, что в действительности этот принцип соблюдался практически неукоснительно. Из 40 каноников, чье происхождение нам известно, 32 были венецианцами. Остальные являлись итальянцами либо французами. Таким образом, это была колониальная церковь в полном смысле.
Во франкской Греции, на венецианских островах Эгейского моря, а также в епархиях Восточного Средиземноморья епископы французского, каталонского или итальянского происхождения продолжали сменять друг друга вплоть до Позднего Средневековья. Латинская экспансия в Восточном Средиземноморье носила менее прочный характер, чем где бы то ни было, однако и здесь она оставила после себя целую сеть послушных папе епархий, разбросанных на обширной территории от Албании до венецианского Крита и лузиньянского Кипра. Во многих отношениях латинская церковная иерархия в Восточном Средиземноморье к XIV веку выглядела как обломки корабля в море после большой бури, которые волна прибивает к чужим, далеко отстоящим друг от друга берегам; при этом следует заметить, что еще два столетия назад восточнее Италии не было ни одной латинской епархии.
Балтийский регион в XII и XIII веках{15}
Одновременно с наступлением на ислам и вытеснением его с европейских берегов Средиземного моря христианские миссионеры и завоеватели проникали в последний оплот европейского язычества к востоку от Эльбы и в Прибалтике. Здесь еще не обращенные в христианскую веру славянские народы — так называемые венды (лужичане), их дальние родственники по языку балтийские народы — пруссы, литовцы и латыши, наряду с финно-угорскими народами — ливонцами, эстонцами и финнами, образовывали на карте «дугу» языческого варварства, простиравшуюся от границ Саксонии до Полярного круга. По сути дела этот оплот европейского язычества оказался самым стойким, ибо только в 1386 году литовская правящая династия приняла христианство (в обмен на польскую корону). Для этой части Европы XII, XIII и XIV века стали эпохой евангелизации, отступничества и священной войны.
Первым западнославянским народом, который в XII веке принял христианскую веру с ее епархиальной организационной структурой, стали поморяне, населявшие земли вокруг устья Одера. После завоевания их польским королем Болеславом III они стали объектом действий церковной миссии, возглавляемой германским епископом Отгоном Бамбергским. В ходе двух поездок, совершенных в 20-х годах XII века, преодолевая отчаянное сопротивление приверженцев местных верований и языческого духовенства, он сумел разрушить храмы и идолов, возвести на их месте деревянные церкви и крестить тысячи коренных поморян. Епископ Отгон взял под собственную юрисдикцию всю новорожденную Померанскую церковь, а уже на следующий год после его смерти (1140) один из его последователей был назначен первым здешним епископом с кафедрой первоначально в Волине, а позднее — в Камьене.
Корта 3. Католические епархии к северу и востоку от Эльбы (948–1300)
Принадлежность к христианской церкви спустя несколько лет сослужила поморянам хорошую службу, побудив крестоносцев во время похода на вендов 1147 года отступить перед главным городом Померании Щецином. Поморяне, вдохновляемые новым епископом, вывесили на стенах крест. При виде своего самого почитаемого символа крестоносцы отвернули и двинулись на поиски другой добычи.
Еще несколько епархий, основанных на землях вендов в XII веке (Бранденбургская, Гавельбергская, Ратцебургская, Шверинская и Любекская), были образованы на том месте, или рядом с тем местом, которое прежде занимали епископские престолы, учрежденные представителями династии Отгона либо их последователями из представителей Салической (Франконской) династии, которые в свое время не сумели противостоять сопротивлению славян-язычников. К примеру, одной из епархий, основанных Отгоном I в 948 году в качестве миссионерской в ходе его завоевательных походов в земли полабских славян, стал Бранденбург. Однако во время великого славянского восстания 983 года епископ был вынужден бежать, оставшиеся священники попали в рабство, а церковные сокровища вместе с гробницей первого епископа были разграблены. В последующие сто пятьдесят лет Бранденбург неоднократно переходил из рук славян к немцам и обратно, но неизменная зыбкость положения не давала возможности для эффективного восстановления власти епископа, хотя номинально преемственность бенефициариев сохранялась. Лишь после окончательного установления немецкого правления под безжалостным руководством маркграфа Бранденбургского Альбрехта Медведя (ум. 1170) и герцога Саксонского Генриха Льва (ум. 1195) территорию между Эльбой и Одером удалось наконец включить в систему римско-католических диоцезов.
Конец официальному язычеству западных славян был положен в 1168 году, когда войска датского короля Вольдемара I взяли штурмом знаменитый храм Аркона на острове Рюген. После этого исчезли храмы и притихли жрецы. Мы почти ничего не знаем о внутренней жизни лужичан после разрушения их официального культа, и говорить об их обращении в новую веру, наверное, было бы безосновательно, однако начиная с конца XII века публичной альтернативы христианству у этого народа не существовало. Сеть новых епископств отныне простиралась от Эльбы до Восточной Померании.
Процесс обращения в христианство других балтийских народов оказался более длительным, сложным и кровопролитным. Если лужицкие народы (венды) испытали на себе растущее давление окружающих христианских королевств Германии, Польши и Дании как в политической, так и в культурной сфере, и их военная и торговая элита уже была сплошь христианской, пруссы, эстонцы и литовцы в физическом, равно как и идеологическом плане поддавались намного труднее. Они были многочисленны, воинственны, отчаянно привержены своей вере; к тому же земли, на которых они жили, были прекрасно приспособлены к обороне. На подавление пруссов ушло целое столетие, а литовцев покорить так и не удалось.
Раннее христианское проникновение в Прибалтику протекало в форме миссионерства. Вслед за германскими купцами, доплывшими из Любека до Двины, в Ливонии появился августианский каноник по имени Майнгард и основал там миссионерскую церковь. Формально он был посвящен в епископский сан примерно в 1186 году. В Пруссии путь прокладывали цистерцианцы, и около 1215 года христианский миссионер из польского монастыря Лехно стал епископом Прусским. В обоих этих регионах последующее развитие протекало удивительно похожим образом. И в том, и в другом случае для сохранения действенной миссионерской епархии требовалось применение силы; в эпоху папы Иннокентия III, в той идеологической обстановке, это означало крестовый поход. Однако и в Ливонии, и в Пруссии крестовыми походами дело не окончилось, и их результаты были закреплены созданием военных орденов — Меченосцев{16} и Добжинских рыцарей соответственно. Со временем в обоих случаях потенциал старого и более богатого германского военного ордена оказался значительнее этих новых местных образований. К 1240 году и Ливонский, и Прусский крестовые походы прочно держали в своих руках Тевтонские рыцари.
Насаждение крестоносной идеологии и институтов проходило параллельно со становлением епископальной церковной иерархии. Эту задачу взяли на себя папские легаты. Когда прусский епископ Христиан оказался в плену у язычников, было принято решение разделить его диоцез на четыре. В 1243 году легат Вильгельм Сабинский издал документ, подтверждавший решение о создании самостоятельных епархий в Хелмно, Помезании, Эрмланде и Самланде (см. вкл. 1). Одновременно, по мере того как постепенно ширилось завоевание Ливонии и прилегающих областей, происходило создание католических епархий и здесь. В 1251 году старая епархия миссионера Майнгарда на Двине, центром которой теперь являлась Рига, получила архиепископский статус, и в ее подчинение перешли все другие диоцезы Ливонии и Пруссии. Дальнейшее формирование церковной организации и земельных владений, а также становление действенных собраний кафедральных каноников, естественно, не могло произойти сразу, однако уже через два или три поколения римская церковь пополнилась новой провинцией, занимавшей большую часть Восточной Прибалтики. Именно это имеется в виду, когда говорят об «экспансии латинского христианства».
ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Латинская церковь объединяла церкви, в которых служба велась на латинском языке и в соответствии с обрядами, одобренными Римом. Как правило, это был римский обрядовый цикл. Одной из поразительных особенностей западной церкви на самом деле является ее настойчивая приверженность одному церковному языку и одной форме культа. Есть несколько примеров двойственного или пограничного характера, когда в силу особых обстоятельств допускалось ведение службы на ином языке либо в соответствии с иной обрядовой практикой, но под эгидой Рима, однако таких примеров было очень немного, а со временем становилось все меньше. Значение, которое придавалось единообразию и следованию римской модели, прекрасно иллюстрируется той настойчивостью, с какой Ка-ролинги насаждали одну и ту же форму богослужения во всех церквях своего королевства, причем образец для совершения службы надлежало искать в римских текстах. Как сформулировал историк Ноткер: «Карл Великий… опечалился, что провинции, и даже отдельные районы и города, совершали богослужение, а именно — песнопение, по-разному», — и направил гонцов к папе за помощью{17}. Задачей было достижение «единства» (unitas) и «гармонии» (consonantia) в богослужении, для чего реформаторы, облеченные, подобно Карлу Великому, имперской властью, и обращали свой взор к Риму. Конечно, полное единообразие было далеким идеалом, однако для приближения к этому идеалу предпринимались все возможные шаги. В конце XI века, когда мосарабские обряды в Испании уступили место римским, а славянская литургия в Богемии была вытеснена окончательно и бесповоротно, понятие «латинский» в словосочетании «латинское христианство» наконец обрело полный смысл.
По сути дела, термин «латинский» все больше применялся приверженцами западной церкви для самоидентификации. Крестовые походы и более близкие — но не обязательно более теплые — отношения с греческой и русской церквами делали его еще более уместным. Со временем он приобрел квазиэтнический оттенок, как, например, в выражении gens latina («латинский народ»), и даже отчасти стал употребляться вместо слова «христианский»; так, например, когда германские князья в 1125 году обсуждали вопрос избрания нового императора Священной Римской империи, они, если верить одному хронисту, высказывали озабоченность в связи с тем, что от их решения зависит «весь латинский мир» (tota latinitas{18}). Следовательно, понятие «латинский» играло важную в деле самоидентификации народов Западной Европы и, по всей видимости, служило некой концептуальной сплоченности этнических групп, имевших самое разное происхождение и язык. Однако только принадлежность к единому церковному сообществу едва ли могла составить движущую силу военной или колониальной экспансии. Словом «латинский» приверженцы римского церковного обряда и подчинявшиеся власти Рима люди называли сами себя, однако сам по себе латинский религиозный обряд вовсе не обладал способностью к экспансии. На самом деле одним из проявлений этой экспансии, по-видимому, как раз и было насаждение в областях с другими традициями богослужения латинской литургии, настойчиво осуществлявшееся папством и другими заинтересованными группами. Таким образом, распространение литургии, являющееся следствием католической экспансии, едва ли можно считать одновременно и причиной такой экспансии.
Что представляется особенно важным — это не сами по себе особенности католического богослужения, а его статус официального обряда в самой римской церкви, а соответственно, и во всех подведомственных церквях. Если же рассматривать латинскую церковь в контексте соподчинения, то есть как совокупность церквей, признававших над собой власть римского папы, то мы увидим организацию, возглавляемую активно действующим центром. Становится легче представить рост этой организации как распространение не столько форм богослужения, сколько организационных структур. Роль папства в экспансии Высокого Средневековья будет рассмотрена ниже, в главе 10. Там мы подробно остановимся на союзе папской власти с аристократией, использовании папством в своих интересах новых религиозных орденов и особо показательном примере крестовых походов как высшем проявлении завоеваний, вдохновляемых римской церковью. Все эти аспекты безусловно важны, но и в последнем случае следует помнить, что дирижировать оркестром и играть на инструментах — не одно и то же: воля папства поднимала в поход армии крестоносцев, но не означала автоматического перехода в их руки крепостей мусульман или язычников. Даже в этом, самом ярком примере «воинствующего латинского христианства», нельзя пренебрегать вполне материальными и мирскими составляющими. Более того, если мы признаем направляющую роль папства начиная с XI века, то нам следует найти объяснение тому факту, почему именно с этого временем управление христианским миром со стороны папского престола стало носить столь настойчивый и эффективный характер. Одного только существования папской власти вовсе не достаточно для объяснения роста могущества папской монархии. Папство представляется весьма предприимчивым и инициативным институтом, при этом сумевшим извлечь наибольшие преимущества из перемен в окружающем его мире. Великие церковные деятели тех времен, каковыми являлись папы римские XI–XIII веков, действительно проводили осознанную политику «расширения границ Церкви», но проводили ее в мире, где уже полным ходом шло развитие материальной сферы жизни.
«Латиняне» одновременно являлись «франками». В первой половине IX века понятия «христианский Запад» и «империя франков» стали почти синонимами. Если не считать Британских островов и королевства Астурии, практически весь латинский христианский мир признавал над собой только власть Карла Великого и его сына, и ничью больше. Этот мир, в котором смешались потомки римлян, христиан и германцев и который был сформирован могуществом королей-воинов, правивших на пространстве от Барселоны до Гамбурга, от Реймса до Рима, наложил глубокий отпечаток на историю всех последующих веков. Сердцем Запада была «Европа франков», как можно было бы назвать владения Каролингов. В Высокое Средневековье этот регион (куда, с некоторыми допущениями, можно причислить и Англию) сохранил за собой роль естественного центра. Ибо процессы роста и развития не были едиными для всей Европы, в силу чего за определенными районами вполне можно признать такую центральную роль. Этот вывод нельзя подкрепить какой-то надежной статистикой, поскольку в отношении описываемого периода ее не существует, однако все косвенные свидетельства говорят о том, что регион от юго-восточной Англии до центральной Италии выделялся среди других высокой концентрацией населения и уровнем экономической активности. В особенности передовыми для своего времени были области северной Франции и северной Италии. Именно здесь зародились многие религиозные ордена той эпохи, которые затем распространили свое влияние на другие регионы. Северной Франции, родине готической архитектуры, средневековой схоластики и литературы о короле Артуре, европейская цивилизация XIII века обязана существенной долей своего колорита. Можно сказать, что эти территории образовывали «ядро», или «метрополию» по сравнению с окружавшей их «периферией».
Завоевывая новые земли и основывая там свои колонии, воины, торговцы, церковники и землепашцы франкской Европы несли с собой и свои религиозные культы. Похожим образом на волне экспансии шло распространение и английского языка (в научной литературе этот феномен иногда называют «сопутствующей экспансией»), наблюдавшееся на протяжении XVI–XX веков. Мало кто станет утверждать, что широкомасштабная экспансия английского языка имеет в своей основе какие-то его внутренние особенности. Причину скорее надо усматривать в развитии мореплавания, демографических процессах, происходивших в странах, куда английский язык был занесен и укоренился, в их географическом положении и проч. Точно так же к XI веку некоторые франкские, или латинские христиане уже имели развитую систему или форму социальной организации, которая и обусловила их способность к экспансии. Тогда получается, что распространение латинских епархий было не более чем следствием этой экспансии, а ее двигателем выступали мотивы технологического или социального порядка. С другой стороны, ритмы и направление, в котором развивалась экспансия Высокого Средневековья, требуют и религиозного обоснования, ибо ничем другим нельзя, к примеру, объяснить вступление западноевропейских армий в гористую Иудею.
Опыт кельтского мира дает еще одно основание серьезно усомниться в прямой взаимосвязи территориального роста западного общества с распространением латинских диоцезов. Особенно показателен пример Ирландии. Эта страна была в числе первых неримских государств, обращенных в христианство. Это произошло уже в V веке благодаря миссионерской деятельности св. Патрика, и вскоре Ирландия сама стала центром миссионерства, а странствующие ирландские монахи практически обратили в христианскую веру все германские народы Западной Европы. Богатая ирландская монашеская традиция процветала на протяжении многих веков. И казалось бы, не может быть сомнений, что Ирландия в полном смысле являлась составной частью латинского христианского мира. Однако, хотя христианство в Ирландии и имело давние корни, история этой страны XII–XIII века оказалась во многом повторена областями Северной и Восточной Европы, в это время еще только принимавших христианскую веру{19}. Вторжение рыцарской конницы, массовая миграция крестьян, образование самоуправляемых городов, распространение письменной культуры и чеканки денег — всем этим аспектам ирландской истории можно найти параллели в других регионах, испытывавших на себе волну экспансии в эпоху Высокого Средневековья. Всякое колониальное поселение в Манстере неизбежно обнаруживало большое сходство с Бранденбургом. Ирландия и, в большей или меньшей степени, другие кельтские страны испытали на себе процессы завоевания, колонизации, культурной и общественной трансформации, аналогичные тем, что происходили в Восточной Европе или Испании, при том что они уже давно являлись составной частью католического мира. Несмотря на свою принадлежность к латинской Европе, эти страны Британских островов тоже стали жертвами, а не носителями католической экспансии. И вместо того, чтобы идти по пути исключения кельтских стран из процесса христианской экспансии и довольствоваться ярлыком «экспансия латинского христианства», лучше попытаться дать этому процессу новое определение исходя из того, что он не обошел и их.
Еще один аспект ирландской самобытности проявился в том, как Ирландию XII века воспринимали иноземцы. Хотя ирландцы издавна исповедовали христианство и в этом смысле являлись таким же оплотом веры, как и франкская Европа, различия в культуре и общественном устройстве были достаточно сильны. Отсутствие организованной по территориальному принципу церкви, равно как и унитарной королевской власти, ярко выраженная и четкая система родства, а также нефеодальная по сути, малоэффективная экономика казались католическому духовенству и франкским аристократам чем-то диковинным. В начале XII века, характеризуя ирландцев, св. Бернар{20} писал об их «варварстве» и иных «звериных повадках», критиковал брачные обычаи и неспособность воспринять надлежащую практику взаимодействия с церковью, например, уплачивать десятину, и в завершение заклеймил их «христианами только на словах, но язычниками по сути». Местное духовенство отличалось не меньшим прямодушием и в тот период одной из главных своих задач считало приведение ирландской церкви в большее соответствие с образцами, которые черпались из франкского мира. Четкая иерархия по территориальному принципу укоренялась в кельтском мире на протяжении всего XII века. Разумеется, в Ирландии и прежде существовали свои епископы, но не было ни границ диоцезов, ни четкой или единой системы распределения властных полномочий в церковной среде. Утверждение в Ирландии церковной модели франкского типа имеет определенное сходство с процессами, протекавшими в более ранний период в Испании или Англии (там тоже происходило укоренение территориального принципа церковной организации со структурными единицами в виде архиепископств). Однако в общем и целом Ирландия стоит особняком. Лидеры церковного реформаторского движения в Ирландии XII века стремились интегрировать свою страну в более широкий мир, чьи правила почитали для себя за образец.
«Варварские законы были отменены, и вместо них введен римский закон; повсюду были восприняты обычаи Церкви, а противоречащие им отринуты… Все настолько изменилось к лучшему, что сегодня мы можем отнести к этому народу слово, которое Господь несет нам устами своего пророка: «И скажу не Моему народу: “ты Мой народ”, а он скажет: “Ты мой Бог!”»{21}.
Выходит, что местные реформаторы были убеждены в неспособности ирландцев стать Божьим народом до тех пор, пока они не воспримут «римского закона». Еще более четко эту грань обозначали чужестранные оппоненты. Английские отцы церкви поносили ирландские нравы. Не менее критично оказались настроены и те иноземные воины и духовенство, которые в 70–80-х годах XII века обзаводились в Ирландии земельной собственностью. Эти сторонние наблюдатели и захватчики проявили замечательное искусство умолчания. По сути англо-нормандские походы на Ирландию в XII веке, выражаясь словами одного источника того времени, были движимы жаждой «земли либо денег{22}, лошадей, доспехов или боевых коней, золота или серебра…», но проанглийские авторы, в попытке дать иное обоснование, преуспели в некоей «демонстрации религиозного чувства»{23} и рисуют ирландцев, выражаясь словами св. Бернара, «христианами только на словах, а по сути — язычниками»{24}. Они и были «язычники по сути», несмотря на провозглашение символа веры и христианские обряды, поскольку все устройство ирландского общества сильно отличалось от континентальной западноевропейской модели. К XII веку экономика и социальный уклад ирландцев казались англичанам, французам и итальянцам чем-то чуждым, а это означало, что отношение к ним было такое же, как к неверным, хотя формально ирландцы и были христиане. Точно так же, как в «Песне о Роланде» христианские рыцари, узрев в своих противниках доблестных воинов ислама, сожалеют о том, что они исповедуют не ту религию — «Будь они христиане, какими рыцарями они могли бы быть!»{25} — так и в Ирландии воины-франки без труда распознавали чуждые традиции под оболочкой единоверцев. Если иметь в виду раннюю историю ирландского миссионерства, то особенно метким надо признать то выражение, которым чаще всего определяют мотивы англо-нормандского вторжения в Ирландию: его задачей было «расширение границ Церкви». Иметь иные социальные модели означало не являться частью Церкви.
Определение обособленности и принадлежности к чуждому миру для западноевропейских идеологов XII века включало не только сопоставление по линии христианин-нехристианин, но также по линии цивилизация-варварство, причем два этих критерия зачастую дополняли и усиливали друг друга. Валлийцы были «грубые и необузданные» и следовательно, «исповедовали веру в Христа только на словах, а в реальной жизни и своих обычаях его отрицали»{26}. К русским, которые «исповедуют Христа только на словах, а на деле его отрицают», отношение было такое же, как к другим «примитивным славянам» и «диким народам нецивилизованного варварства»{27}. Все это заставляет думать, что одной приверженности латинскому церковному обряду и подчинения Риму еще было недостаточно для того, чтобы считаться полноправным членом христианского сообщества (ecclesia). Завоевывая окружающие и отличные от них государства, жители франкской Европы обнаруживали там и нехристиан (как в Восточной Европе и Средиземноморье), и местные разновидности христианской веры (как в кельтских странах). И если они не видели в христианских государствах сходства со своими социальными и правовыми институтами, то их естественной реакцией было относиться к обоим этим явлениям как к одинаково чуждым. Экспансия Высокого Средневековья означала не только расширение границ латинского христианства, но и территориальное распространение определенного типа общественного устройства. Это общество самоидентифицировалось как римское, или христианское, одновременно считая кельтский мир чуждым себе. К XI веку термином «латинское христианство» следует обозначать не только принадлежность к определенной церкви или подчинение определенной церковной иерархии, но и определенный тип общества.
2. АРИСТОКРАТИЧЕСКАЯ ДИАСПОРА
«Благородный рыцарь, в силу своей доблести и тщания, очень часто добивается большого богатства и больших приобретений. И многие из них стали коронованными правителями, другие же имеют несметные богатства и невиданные владения»{28}.
Одним из самых поразительных проявлений экспансии X–XIII веков стало перемещение западноевропейской аристократии из родных мест в новые земли, где она оседала и, при удачном стечении обстоятельств, приумножала свои богатства. Эти иммигранты в большинстве случаев были родом из бывшей империи Каролингов. Нормандцы по происхождению становились феодалами в Англии, Уэльсе, Шотландии и Ирландии, а на юге — в Италии и на Сицилии, Испании и Сирии. Лотарингские рыцари оседали в Палестине, бургундские — в Кастилии, саксонские — в Польше, Пруссии и Ливонии. Фламандцы, пикардийцы, пуатевинцы, провансальцы и ломбардцы пустились в путь, кто по суше, кто по морю, и тот, кому доводилось уцелеть, мог обрести новое могущество в незнакомой и экзотической стороне. Один нормандский искатель приключений стал властителем Таррагоны, а род из Пуату заполучил корону Кипра.
Этот период в истории аристократической диаспоры совпал с великой эпохой крестовых походов, и для многих именно со святого креста и началось переселение. Однако этим история не исчерпывается. В некоторых местах, в первую очередь на Британских островах и в христианских королевствах Восточной Европы, появление и расселение иммигрантов знатного происхождения шло независимо от крестоносцев. В других регионах, таких, как Испания или земли язычников-вендов, институты и идеология крестоносцев вышли на арену в тот момент, когда фактически уже полным ходом шел захват земель местными военными предводителями. В Южной Италии нормандцы действительно предприняли поход на Сицилию, дабы под папским знаменем и с папского благословения изгнать мусульман, но к тому времени они уже закрепились на своей базе в Южной Италии благодаря готовности сражаться с кем угодно — и римлянами, и греками, и мусульманами, и даже с самим папой. Для историка довольно сложно определить взаимосвязь между религиозным пылом первого крестового похода и вполне корыстной экспансионистской политикой, приверженность которой уже наглядно продемонстрировала светская аристократия Западной Европы.
Многие знатные семейства участвовали не в одном таком захватническом походе, будь то крестовый поход или просто военная кампания. Жуанвили из Шампани — вот один из хорошо известных примеров подобного рода{29}. Имя этого дома известно благодаря тому, что в 1233–1317 годах во главе его стоял Жан Жуанвиль, друг и биограф Людовика Святого (Людовика IX Французского). Фамилия Жуанвилей обосновалась в Шампани давно, первое письменное упоминание о ней относится уже к XI веку. Это были типичные франки-аристократы, их родовой замок стоял в Жуанвиле на реке Марне, они были участниками нескончаемых междоусобных войн того времени, чередовали пожертвования местным церквям с их разграблением, служили и вступали в брачные узы с такими великими фамилиями Шампани, как Бриенны, и медленно, но верно наращивали свое богатство и влияние. Такова была история и многих других аристократических родов.
Первым владельцем Жуанвиля, о чьей деятельности сохранились достаточно полные сведения, был Готфрид III. Впервые его имя упоминается в 1127 году рядом с именем графа Шампани. Он прожил долгую жизнь и скончался в 1188 году. Готфрид служил сенешалем Шампани, был патроном новых монашеских орденов и, если исходить из источников, первым в своем роду участвовал в крестовых походах — он сопровождал графа во втором крестовом походе 1147 года. Участие в крестовых походах вскоре стало семейной традицией. Сын Готфрида III, Готфрид IV Жуанвиль, участвовал в осаде Акры в ходе третьего крестового похода, где и умер в 1190 году в окружении своих шампанских рыцарей. Его старший сын и наследник, Готфрид V, находившийся рядом с отцом во Святой земле в момент его смерти, тоже питал страсть к крестовым походам. Проведя 90-е годы во Франции — в качестве сенешаля Шампани, то есть на важной должности в феодальной иерархии того десятилетия, он вместе с братом Робертом в 1199 году в Экри (Шампань) на большом турнире крестоносцев принял крест. Ни одному из них не суждено было вернуться. Готфрид был в числе предводителей объединенной армии крестоносцев в Венеции, но отказался двинуть свой отряд на Константинополь и с небольшим войском направился в Святую землю. Умер он в Сирии в 1203 или 1204 году в Крак-де-Шевалье. Его брата Роберта другой волной занесло в противоположном направлении. Он отправился на юг Италии со своим родственником и земляком Вальтером, графом Бриеннским, который надеялся, прежде чем двинуться на Восток, утвердиться в своих правах на обретенную там землю и власть. В ходе кампании Вальтер пал в сражении при Апулии, а Роберт, судя по всему, разделил его участь; во всяком случае, к 1203 году его в живых уже не было. Еще один из братьев стал тамплиером. Крестовые походы собрали свою жатву с мужской половины рода Жуанвилей.
Наследником владений Жуанвилей в 1204 году стал Симон, отец того самого биографа Людовика Святого. Он добился наследования должности сенешаля Шампани, был дважды женат довольно авантюрным образом, причем один раз — на наследнице из соседней части империи, основывал в своих владениях новые города и дважды участвовал в крестовых походах, в 1209 году — против еретической секты альбигойцев на юге Франции и в 1219–1220 гг. — в Дамиетгской кампании в Египте Иоанна де Бриенна, титулярного короля Иерусалима. От второй жены, Беатрисы, дочери графа Бургундского, у Симона де Жуанвиля осталось четверо сыновей. Старший из них, Жан, унаследовал положение, земельную собственность и должность сенешаля, стал близким другом Людовика Святого, сопровождал его в Египет и Святую землю в 1248–1254 гг. и после смерти короля в 1270 году приложил усилия к увековечению его памяти. В 1297 году он стал свидетелем канонизации Людовика, в 1309 году завершил «Историю Людовика Святого» ив 1317 году скончался.
Рис 1. Дом Жуанвилей
Восходящей была и звезда других членов семьи. Когда Жан Жуанвиль в 1248 году отправился в крестовый поход, прощальный пир в его честь устроил его младший брат Готфрид. На тот момент в собственности Готфрида находилось только одно поместье Жуанвилей — Вокулер. К возвращению брата из Святой земли в 1254 году он успел сделать целое состояние. Ключом к успеху, как во многих других случаях, стала женитьба на богатой наследнице, что, в свою очередь, стало возможным благодаря обширным семейным связям. Эти связи можно охарактеризовать одной фразой, которая, впрочем, заслуживает внимательного осмысления: муж сводной сестры Готфрида приходился дядюшкой королеве Англии. Связующим звеном между Жуанвилями и английской королевской фамилией была Савойская династия. Этот княжеский дом служил необходимой промежуточной ступенью между крупными сеньорами в лице Жуанвилеи и королевским двором. Решающей фигурой в этом построении и стал Петр Савойский, дядя королевы Английской Элеоноры, который в 1240 году получил земли графства Ричмонд. Благодаря доступу к монаршему уху он мог влиять на те или иные решения по поводу замужества богатых наследниц, а одной из самых богатых оказалась Матильда, внучка Вальтера де Ласи, лорда Мита. Петр Савойский уже однажды сговаривался о ее браке с одним из своих родственников, однако в тот раз жених безвременно скончался, снова сделав Матильду девицей на выданье. Где-то между 1249 и 1252 годами она стала женой Готфрида Жуанвиля.
В результате этой протекции младший сын шампанского сеньора получил во владение значительную часть Ирландии, от Шэннона до Ирландского моря и сделал своей столицей замок Трим. С 1252 до 1308 года, когда он устранился от дел и удалился в доминиканскую обитель (скончался он в 1314 году), Готфрид Жуанвиль (часто называемый Готфридом Женвилем) являлся влиятельной фигурой в Ирландии и одним из видных деятелей Англии. По примеру предков, в 1270 году он совершил путешествие в Святую землю вместе со своим сюзереном лордом Эдуардом (впоследствии королем Эдуардом I), сделав краткую остановку в Тунисе, где незадолго до этого скончался сюзерен его брата Людовик Святой.
Два младших сына Симона Жуанвиля из оставшихся в живых тоже были неплохо устроены. Один, также Симон, получил земельные владения из материнского приданого и присовокупил к ним обширные земли благодаря женитьбе на богатой наследнице из Савойской династии. Подобно своему брату Готфриду он служил королю Англии, хотя жил в основном во Франции. Младший из братьев, Вильгельм, пошел по традиционной для младших отпрысков стезе и стал церковнослужителем. Его карьера священника не была столь блистательна, как карьера одного из его дядюшек, его тезки, который поднялся до престола архиепископа Реймского, но он тоже накопил солидную земельную собственность в виде церковных наделов в Бургундии и Ирландии.
Род Жуанвилеи являет собой идеальный пример той аристократии, охочей до приключений и накопительства, но одновременно набожной, на которой и держалась экспансия католической церкви в Высокое Средневековье. Хотя их могилы остались в Сирии, Апулии и Ирландии, эти люди имели глубокие корни в богатой сельской местности Шампани, и доходы от земледелия явились той основой, на которой базировалось и их высокое положение в родных местах, и успехи в далеко идущих начинаниях. Если идти от XI века к XII и далее — к XIII, то можно увидеть дальнейшее усиление позиций этого рода, его богатые пожертвования в пользу церкви, основанные им города и уверенное приближение к великим правителям эпохи: симптоматичным в этом смысле является вступление Жана Жуанвиля в дружину Людовика Святого во время его похода на Восток. С другой стороны, они сохраняли и свои чисто хищнические наклонности. В 1248 году Жан Жуанвиль в захваченном городе Дамиетте с жаром отстаивал свое мнение о том, как франки «должны разделить то, что захватили в этом городе»{30}. Спустя несколько десятилетий и за 2500 миль от этого места его брат Готрид встречался с магнатами Мита с целью договориться о дележе «добычи, взятой в походах»{31}. Достигнутое соглашение предусматривало, что кони и другие животные, захваченные силами людей Готфрида, должны быть поделены поровну между ним и его воинами, если это не кони тех ирландцев, которых рыцари Готфрида сразили копьями. В распоряжение Готфрида поступали и пленники. Таким образом, и Жан, и Готфрид стояли во главе вооруженных рыцарей, для которых военная добыча была главным источником существования.
История Жуанвилей наглядно демонстрирует растущее могущество двух в наибольшей степени взаимосвязанных европейских монархий. Могущественные короли, подобные Людовику Святому и Генриху III, обладали способностью привлекать на свою сторону честолюбивую знать регионов наподобие Шампани и конкурировали на этом поле. Готфрид Жуанвиль, конечно, удостоился бенефиция в Ирландии не благодаря выдающемуся уму или воинской доблести, как в случае с Робером Гвискаром в Южной Италии в XI веке или в самой Ирландии — со Стронбоу в XII веке. Его путь к власти скорее лежал через нашептывание королю и брачную постель. Тем не менее сцена, на которой исполняли свои роли братья Жуанвили, была воздвигнута не монархией, а всей предшествовавшей экспансией международной франкской аристократии. Жан и Готфрид Жуанвили являлись образцовыми слугами своих государей, за что и были сполна вознаграждены. Но при этом они сохраняли верность традициям воинственного и независимого в решениях класса воинов, которые, по выражению Жуанвиля-биографа, употребленному в эпитафии предкам, «совершали великие дела по ту и эту сторону моря»{32}.
Другим аристократическим родом, участвовавшим в далеко идущих захватнических мероприятиях, был род Робера Гранмениля (ум. 1050), землевладельца и воина из нормандского Кальвадоса. Хронику этого рода оставил Ордерик Виталий, монах монастыря Сен-Эвруль, основанного семьей Гранмениль и их родичами{33}. Несколько потомков Робера добровольно предприняли (или пытались предпринять) путешествие на юг, в Южную Италию, где нормандцы нарезали себе земельные владения начиная с 30-х годов XI века. Они завоевали авторитет и укрепили свое положение благодаря брачным узам с феодальным домом братьев Отвиль, стоявших во главе нормандских предприятий в Италии. Один сын Робера Гранмениля, тоже Робер, являвшийся аббатом монастыря св. Эвруля до того момента, пока Вильгельм Завоеватель не лишил его прихода (пригрозив вздернуть на ближайшем дереве, если тот вздумает жаловаться выше{34}), стал во главе специально основанного для него монастыря св. Евфимии в Калабрии. Его сменил на этом посту племянник Вильгельм — сын его сестры. Другие сыновья и внуки Робера Гранмениля стали крупными феодалами в Италии. Один из них — еще один Вильгельм — женился на дочери Гвискара и получил в приданое обширные земельные владения. Однако род Гранменилей, судя по всему, не был готов признать над собой власть кого-либо из действующих правителей, ибо в 90-х годах XI века Вильгельм Гранмениль принял участие в мятеже и был вынужден искать убежища в Константинополе, при дворе византийского императора. Сын его, Робер, восстановил благосклонность двора, но в 1130 году поссорился с Рожером II Сицилийским по поводу условий своей военной службы и был отправлен в ссылку. Многие члены этого рода принимали участие в первом крестовом походе, хотя нельзя сказать, чтобы их послужной список был всегда безупречен: двое в 1098 году оказались в числе дезертиров из Антиохии, получивших прозвище funambuli («канатоходцы»){35}.
Другой внук Робера Гранмениля направил свои стопы совсем в другую сторону. Роберт «Рудланский», как его со временем стали называть, присоединился к кучке нормандских авантюристов, группировавшихся вокруг английского короля Эдуарда Исповедника. Из рук короля он получил рыцарское звание, а потом вернулся в Нормандию. После завоевания он снова предпринял путешествие через Ламанш, на сей раз — со своим родственником Гуго Авраншским, а когда Гуго стал эрлом Честера, Роберт был назначен главным придворным и шатленом замка Рудлана, форпоста в борьбе против валлийцев на северном участке англо-валлийской границы:
«Сей воинственный муж часто сражался с этой беспокойной нацией и в многочисленных боях потерял немало крови. Он сумел бесстрашными действиями потеснить валлийцев, расширил свои владения и заложил мощный замок на холме Деганви на берегу моря. На протяжении пятнадцати лет он безжалостно подавлял валлийцев, вторгался в земли этого народа, который всегда был свободен и ничем не обязан нормандцам. Через леса, через болота и крутые горы он гнал врага. Одних беспощадно убивал, как диких зверей, других надолго заковывал в цепи либо заставлял непосильно трудиться…
Гордость и алчность, правящие сердцами всех смертных мира сего, — вот что руководило воинственным Робертом в его безудержных грабежах и убийствах»{36}.
«Пограничный Роберт» (Rodbertus marchisus) был в конце концов убит в бою с валлийским отрядом, и его голову победоносно выставили на мачте одного из кораблей. Однако прежде, чем принять сей славный конец, он успел возвести целый ряд замков далеко в глубине валлийской территории, держал in feudo обширные земли и основал городок Рудлан, по образу и подобию нормандского Брейтеля, со всеми его правами и обычаями{37}.
Таким образом, к концу XI века внуков Робера Гранмениля можно было встретить в Уэльсе, на юге Италии, в Константинополе, в Сирии — в качестве крупных феодалов, царских приближенных и воинов. Их горизонты простирались намного дальше, чем у их деда. Такие далеко идущие предприятия вообще стали приметой того времени. Так, например, из феодального рода, ведущего свое происхождение из области Сурдеваль в Западной Нормандии, вышел Ришар де Сурдеваль, который при Вильгельме Завоевателе оказался в Англии и в 1086 году фигурирует в «Книге Страшного Суда» как йоркширский лендлорд. Другой представитель этого рода — Роберт де Сурдеваль, возглавлял осаду Катании на Сицилии в 1081 году и во время первого крестового похода совершил марш до Антиохии. О Стефане Сурдевале известно, что примерно в 1200 году он держал землю в марке Брекона; а Гуго Сурдеваль приобрел поместье в баронии Фипджеральда Наасского и назвал своим именем город Суордлстаун (т.е. город Сурдеваля) в графстве Килдэр{38}.
Французские рыцари и крупные феодалы были особенно широко представлены в крестовых походах и не только участвовали в новых завоеваниях на юге Италии и на Британских островах, но и внесли свой вклад в испанскую Реконкисту. Некоторые из них там и осели. Гастон V Беарнский, сражавшийся в Святой земле, участвовал также в арагонской кампании и в награду получил владение в Ункастильо, должность наместника Сарагосы и право на половину доходов этого города. Бертран де Лаон сражался на стороне Альфонса I Арагонского и стал последовательно графом Карриона, Логроньо и Туделы. Робер Бюрде отправился в Испанию около 1110 года, участвовал в сражении за Туделу, стал там кастелланом замка, а в 1128 году — наместником Таррагоны, где он и его потомки правили полстолетия{39}. О его жене Сибилле, дочери Уильяма Капры, главного держателя Сомерсетшира, известно, что она в отсутствие мужа совершила круговой объезд стен Таррагоны, в кольчуге и с командирским жезлом в руке. Появление западноевропейской женщины в седле, совершающей объезд каталонского города, конечно, во всякую эпоху было бы воспринято как нечто неординарное, но в XII веке — в меньшей степени, чем в любые другие времена{40}.
Все эти случаи наглядно показывают, как далеко простиралось проникновение французских рыцарей. Миграция германских рыцарей, напротив, при существенных масштабах и продолжительности по времени, в географическом плане имела более ограниченные рамки. Разумеется, многие из германских рыцарей участвовали в крестовых походах: историк крестовых походов Рёрихт насчитал свыше 500 персоналий, участие которых в походах из Германии в Утремер («Заморские края») только в первом столетии крестовой эпопеи однозначно зафиксировано в источниках{41}. Присутствие немцев подчас играло решающую роль в успехе предприятия. Так, без моряков Кельна и Фризии не был бы взят Лиссабон в 1147 году или Дамиетта — в 1219, во всяком случае, эта задача оказалась бы намного сложнее, а то и вовсе невыполнимой. Однако мало кто из немцев, если вообще такие были (за исключением выходцев из «полуфранцузских» приграничных герцогств Верхней и Нижней Лотарингии), сумели основать свои аристократические династии на Востоке. Подавляющее большинство из походов возвращались в родные места либо оставались лежать в Святой земле, но редко оседали там во главе нового рода. И только члены Тевтонского ордена, основанного в Акре в 1190 году, обеспечивали постоянное присутствие немцев в крестоносных государствах. Они владели землями вдоль побережья от Акры до Бейрута, а своей штаб-квартирой в 1228–1271 годах сделали замок Монфор, или Штаркенберг, в семи милях от Акры в глубь материка.
Главной зоной немецкой экспансии в период Высокого Средневековья стала Восточная Европа. Здесь немецкая знать утвердилась на огромной территории. Саксонских рыцарей можно было встретить в Эстонии на берегу Финского залива, в Силезии в долине Одера, по всей Богемии и Венгрии. Восточнее Эльбы сколачивались новые фамильные состояния. Подобно тому, как Британские острова, южная часть Аппенинского полуострова и Восточное Средиземноморье были в эти века свидетелями появления аристократов из королевства Французского (а также франкоговорящей области в восточной части Священной Римской империи — Лотарингии), так и Восточная Европа стала объектом вторжения и переселения рыцарей и феодалов из германского королевства. Если сравнить перечень свидетелей, подписавших Хартию Барнима I Померанского от 1223 года и одну его грамоту от 1249 года, то становится очевидным, насколько сильно была онемечена дружина этого «славянского герцога» (dux Slavorum) за истекшие между двумя документами четверть века{42}. В дружине померанских князей появились такие германские рыцари, как Иоганн Аппельдорнский, Фридрих Рамштедтский и Конрад Шонвальдский. Своим присутствием они фактически способствовали трансформации всей придворной культуры и оставили по себе память в виде новых феодальных владений{43}. Выше по течению Одера со времен Болеслава I (1163–1201) открытой для бескровного проникновения немецкой знати оказалась Силезия. Болеслав был князь из рода Пястов, которые правили Польшей еще с X века. Семнадцать лет он провел в ссылке в Тюрингии, откуда привез с собой немецких цистерцианцев, дабы они основали фамильный монастырь. Источник XIII века на этот счет сообщает: «В тех краях всякий герцог или князь, желавший сохранить у себя на службе немецких или каких-то еще рыцарей, жаловал им фьефы в своей вотчине»{44}. Таким образом постепенно протекала германизация правящего класса феодалов в землях полабских славян. Правильно даже было бы сказать, что если переселение французской знати внешне было заметнее современникам, то продвижение немцев на восток оказало более глубокое и длительное воздействие на всю последующую европейскую историю.
Таким образом, когда речь идет о распространении западноевропейской аристократии по всему континенту, следует проводить четкие географические различия. Рейн и Дунай приблизительно очерчивают ту границу, которая разделяла зоны проникновения французской и германской феодальной знати. От Нормандии и Пуату, от Саксонии и Лотарингии потоки переселенцев устремлялись в Уэльс и Апулию, Ливонию и Силезию. Здесь, на своей новой родине, они строили новое будущее.
ВЛАДЕНИЯ ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ
Пути-дороги вновь прибывшей знати были различны. Они могли вступить на новую землю с кровопролитием или более мирно; их могли встретить сопротивлением или, наоборот, приветствовать; это могло быть вторжение в совершенно чуждое или, напротив, близкое по духу общество. На одном конце этого спектра находились приглашенные аристократы Шотландии, Померании и Силезии. На другом — и это одно из самых ярких новшеств, появившихся вследствие аристократической экспансии Высокого Средневековья, — было установление власти завоевателей, примером которому могут служить Бранденбург и Ольстер.
Происхождение того и другого обычно связывают с могущественными фигурами их основателей, однако их следует рассматривать в общем контексте пограничных завоеваний и колонизации. Колониальные экспедиции часто носят характер цепной реакции. Они сплачивают воедино неустойчивые и агрессивные элементы в тот момент, когда все рассчитывают на выигрыш — и некоторые его получают. Обычным делом являются «отщепенческие» экспедиции наподобие высадки Кортеса в Мексике в XVI веке. Англо-нормандское владение Ольстер было образовано как раз в результате такого «осколочного» самодеятельного похода. Зимой 1176–1177 годов, в начале англо-нормандского вторжения в Ирландию, в дублинском гарнизоне, судя по всему, зародилось брожение и пошли разговоры о медлительности и нерешительности командования. В этот момент самые активные и недовольные бойцы гарнизона получили возможность действовать. Зачинщиком выступил Джон де Курси, выходец из англо-нормандского баронского рода (и дальний родственник Роберта Рудланского){45}. В разгар зимы возглавляемый им отряд из 22 рыцарей и 300 пехотинцев выступил на север вдоль побережья Ирландского моря. Целью безрассудной вылазки Джона де Курси был Улад, или Улидия — восточная часть провинции Ольстер. Здесь уже какое-то время вели борьбу за господство несколько ирландских королей. Джон и его небольшой отряд сумели разбить местного царька Рори Макданлеви и в первом же бою захватить Даунпатрик, который стал его опорным пунктом для создания собственного княжества.
На протяжении всего периода между первыми завоеваниями 1177 года и его драматической гибелью от рук англо-нормандских соперников в 1205 году Джон де Курси сохранял свою власть над Ольстером благодаря постоянным войнам, строительству замков и формированию целого слоя собственных вассалов{46}. Первый из этих факторов — непрестанная война — роднил его с любым ирландским королем. Он ежегодно предпринимал вылазки против различных ирландских правителей, но одновременно все время ссорился с другими англо-нормандскими поселенцами. Союзники у него были очень неоднородны по составу. Так, в 1201 году он возглавил «Чужестранцев Улидии» в союзе с де Ласи и «Чужестранцами Мита» в кампании, задуманной в поддержку одного из претендентов на престол королевства Коннахт Кэтала Кровдерга в его войне с внучатым племянником Кэталом Каррахом{47}. В войне за престол Коннахта на сцену выходили самые пестрые альянсы, когда с обеих сторон можно было видеть и ирландцев, и англо-нормандцев. Вопрос происхождения для политического союзничества значения не имел, и коренные жители и эмигранты не составляли двух четко противостоящих «сторон». Цели, которые ставил перед собой Джон де Курси во многих своих военных кампаниях, тоже были достаточно традиционны. Например, его периодические вылазки против Тирона на первый взгляд вообще не имели цели прирастить к своим владениям новые земли (и уж точно в этом смысле были бесплодны). Типичным можно считать набег 1197 года: нанеся поражение войскам Сенела Конайла, солдаты де Курси «разграбили Инишоуэн и пригнали большое множество скота». Широкомасштабная практика угона скота нашла свое отражение и в том, как де Курси делал пожертвования в пользу монастыря св. Патрика в Дауне в виде десятины всего скота, добытого на охоте или в результате набега{48}.
Тем не менее феодальное владение Ольстер держалось не просто силой диверсионного конного отряда. В самой Улидии власть носила достаточно устойчивый и долговременный характер. Англо-нормандское военное владычество над регионом подкреплялось наличием такого же рода замков, какие столетие назад позволили нормандцам подчинить себе Англию: это была сеть замков с башней и двором, воздвигнутых из дерева и глины, а в самых ответственных местах усиленных каменными башнями. Главная башня в Кэррикфергусе, к примеру, имеет высоту 90 футов и поперечник 50 футов (см. рис. 2) и на протяжении всего Средневековья оставалась ядром англо-нормандского и английского могущества. У де Курси был свой управленческий аппарат в лице камергера двора, сенешаля и командующего войском, совет вассалов, многие из которых были завербованы из северо-западной Англии и юго-западной Шотландии, и прослойка чиновников. В его владениях действовали, при поддержке лорда, шесть монастырей, являвшиеся либо дочерними, либо зависимыми обителями от английских религиозных братств. Де Курси чеканил серебряные полупенсовики, на одной стороне которых было выбито его имя, а на другой — имя его небесного покровителя св. Патрика{49}. Джона де Курси современники могли характеризровать как «хозяина Ольстера» (dominus de Ulvestire) или даже «властелина королевства Ольстерского» (princeps regni de Ulvestir){50}. Термин «королевство» (regnum) применительно к Средним векам не означал, что правитель названной так земли непременно является королем (rex), но подразумевал наличие существенного территориального образования и достаточно широкую политическую автономию. К 1205 году, когда Джон де Курси был свергнут, он сумел создать в Ирландии территориальную единицу нового типа — владение, который надолго пережило его самого.
Кровавое и изматывающее дело завоевания и обживания новых земель требовало решительных и эгоистичных вождей. Такие фигуры в XII–XIII веках появлялись в каждом уголке Европы. Среди них иногда встречались люди незнатного происхождения, но часто — и крупные магнаты с большими феодальными владениями на родине, то есть уже имевшие внушительные ресурсы, что облегчало дальнейшую экспансию. Таким был, например, Альбрехт по прозвищу Медведь, основатель Асканской династии маркграфов Бранденбургских (см. его изображение на одной из монет, вкл. 3).
По сравнению с Ольстером Бранденбург имел намного более обширную территорию и продолжительную историю и был. заложен на более старом основании{51}. В X веке регион к востоку от рек Эльбы и Зале, образовывавших границу каролингской Саксонии, был поделен на несколько марок, пограничных областей под властью маркграфа («пограничного графа»), обычно имевшего необычайно широкие военные и территориальные полномочия. Одним из таких районов был Нордмарк, образованный в качестве самостоятельной единицы в 960-х годах и теоретически простиравшийся от Эльбы до Одера и от Лужицы до линии Эльде-Пеене. В границах этой области славяне облагались данью, в случае необходимости для этого совершались карательные рейды. В немецких крепостях были дислоцированы постоянные гарнизоны. Здесь также были основаны две новых епархии — Бранденбургская и Гавельбергская. Большая часть этого образования была сметена мощным славянским восстанием 983 года, однако династия маркграфов, пусть и с ограниченными полномочиями, на Эльбе сохранилась, так же, как и ряд сменявших друг друга епископов Бранденбурга и Гавельберга, хотя уже и без кафедр или диоцезов как таковых.
Именно эта призрачная структура и была возрождена в XII веке{52}. В середине столетия в среднем течении Эльбы немецкое господство было решительным образом восстановлено. Епископы Бранденбурга и Гавельберга вновь обрели свои официальные престолы и принялись за строительство новых соборов. Ключевой фигурой в этом эпизоде являлся Альбрехт Медведь. Альбрехт происходил из высших кругов саксонской знати. Его отец, Отгон Балленштедтский, в свое время завоевал богатые владения в северной Тюрингии и восточной Саксонии. Он имел большой опыт приграничных сражений со славянами и, в частности, в 1115 году при Кётене разгромил крупный отряд, переправившийся через Эльбу. Мать Альбрехта, Илика, была еще более знатного происхождения, она приходилась дочерью Магнусу Биллунгу, герцогу Саксонскому. Таким образом, Альбрехт вырос среди могущественных аристократических родичей, привычных к постоянным пограничным войнам. В начале политической карьеры он проявил себя как своенравный, безудержный и беспокойный правитель. Он заключил союз с Лотарем Зюпплингенбургским, преемником Биллунгов в качестве герцога Саксонского, и благодаря поддержке Лотаря — но открыто воспротивившись воле императора Священной Римской империи — взял под свой контроль Лужицу — немецкую пограничную область восточнее Эльбы в ее среднем течении. Кроме того, его происхождение по материнской линии дало ему основания и самому претендовать на герцогство Саксонское. Примерно в 1130 году Альбрехт выступил против Лотаря, который к тому времени уже был коронован на царство, и силой присвоил себе наследство маркграфа Нордмаркского Генриха Штадского. В ответ Лотарь лишил Альбрехта Лужицкой области. И только поддержав Лотаря в итальянской кампании 1132–1133 годов, Альбрехт вернул себе его благосклонность, и ему снова было пожаловано обширное владение на границе. На сей раз таким владением стал Нордмарк.
Установление власти Альбрехта Медведя над Нордмарком в 1134 году обычно считается решающим этапом в формировании Бранденбургского княжества. Однако более важным нам представляется факт окончательного захвата Альбрехтом самого города Бранденбурга, который произошел 11 июня 1157 года. Эту дату принято считать «днем рождения Бранденбургской марки»:
«Итак, в год 1157 от Воплощения Христова, июня 11 дня, маркграф, волею Божией, захватил как победитель город Бранденбург и, триумфально вступив в град сей с большой дружиной, высоко воздел свое победоносное знамя и вознес надлежащие молитвы Господу, который даровал ему победу над врагами»{53}.
В отличие от Джона де Курси Альбрехт Медведь сумел на новых землях основать собственную династию. Его род, Асканская династия, на протяжении нескольких поколений «поставлял» маркграфов Бранденбургских и угас к 1319 году, успев к тому времени установить свое господство на территориях, простиравшихся почти на 200 миль к востоку от Эльбы.
Если взглянуть на методы, какими Аскании расширяли владения своего рода на территории до Одера и дальше, то заметно будет сходство с поведением Джона де Курси в Ирландии. Это и не удивительно. В XII–XIII веках для успешного установления своего владычества требовались некие универсальные элементы, главными из которых были замки и вассалы. За формированием основ феодальной военной структуры следовало развитие городских и сельских поселений в рамках осознанной политики дальнейшего развития региона. Это уже была задача для внуков Альбрехта Медведя, Иоанна I (1220–1266) и Отгона III (1220–1267), чье совместное правление пришлось на исключительно важный период середины XIII века:
«Достигнув юности, они жили в согласии, как и подобает братьям, и каждый считался с мнением другого. Это согласие позволило им со крушить своих врагов, возвысить друзей, прирастить свои владения и доходы и прибавить себе славы, почестей и могущества. У владетеля Барнима [в Померании] они отвоевали земли Барнима, Телтоу и многие другие, а вверх по реке Вельзе приобрели Укермарк. В Гартоне [не установлено] они получили в собственность замки и подданных. Они построили Берлин, Штраусберг, Франкфурт, Новый Ангермюнде, Штолпе, Либенвальде, Штаргард, Новый Бранденбург и многие другие города и таким образом, обратив пустошь в возделанную пашню, они получили изобилие всякого добра. Они также дальновидно поддержи вали церковь, имели множество священников и основали на своих землях монастыри доминиканцев, францисканцев и цистерцианцев»{54}.
Успехи Асканской династии в определяющей степени зиждились на способности привлекать на свою сторону и вознаграждать за верность вассалов. Этот род завоевал свое могущество благодаря умению делиться властью с другими фамилиями. Одним из таких феодальных домов, который пошел за Асканиями и благодаря этому возвысился, был род фон Веделей, и более пристальный взгляд на судьбу его членов позволит раскрыть некоторые аспекты эволюции аристократов-завоевателей в качестве правителей захваченных земель{55}.
Первое дошедшее до нас упоминание о семье фон Веделей содержится в документе 1212 года. Это дарственная от одного из рыцарей графа Голыптейнского в пользу гамбургской церкви, она ратифицирована графом и засвидетельствована его вассалами и придворными. Среди них — «братья Ведель: Генрих, Гассон и Райнберн». Ведель, откуда пошло название всего рода, — небольшая деревня в Гольштейне на северо-запад от Гамбурга. Здесь издавна находилось германское поселение, и несмотря на близость славянской границы, Ведели, судя по всему, не предпринимали частых военных вылазок, как того, казалось, требовали приграничные условия. Только в 1279 году, по прошествии нескольких поколений, мы находим свидетельства продвижения этого рода на восток. В это время некий Людвиг фон Ведель отличился тем, что был отлучен от церкви знаменитым ученым Альбертом Великим{56}. Ему вменялось вторжение во владения госпитальеров вдоль реки Игна (северо-запад современной Полыни). Эта земля, которую фон Ведели сумели захватить и оставить в своем подчинении, находилась милях в 220 к востоку от их родовой деревни в Гольштейне. Нет сомнения в том, что гольштейнский род связан с восточными переселенцами, поскольку совпадают и необычное родовое имя, и фамильный герб. По всей видимости, Людвиг фон Ведель был либо младшим отпрыском этого рода, отправившимся на поиски состояния, либо сыном такового.
Конечно, поиски богатства не означали поход в никуда. Для молодого амбициозного рыцаря было естественным предложить свои услуги подходящему с виду князю в надежде, что в случае успеха тот поделится с ним добычей. Скорее всего, фон Ведели направились на восток с целью поступить на службу к герцогам Померанским, ибо документ об отлучении от церкви, датируемый 1269 годом, называет Людвига фон Веделя всего лишь соратником герцога Барнима I. К тому времени трения между германцами и славянами отошли на второй план перед задачей дальнейшего продвижения, и Барним, хотя и был родом из языческих славянских князей, вошел в историю как неустанный основатель новых городов, активно привлекавший на свою сторону немецкое крестьянство и рыцарство. Для него самой важной задачей было развитие ресурсов Померании как базы для дальнейшего наращивания могущества своего рода, а не сохранение национальной идентичности. Владения Веделей Кремцау и Ухтенгаген находились в Померании (см. карту 4).[2] Фон Ведели были всего лишь одной группой из множества германских сподвижников, прибившихся к померанскому двору.
Первоначальные владения Веделей в долине реки Игна находились в малонаселенном регионе, в котором вопрос верховного сюзеренитета был постоянным предметом споров. Здесь сталкивались притязания польских, померанских и бранденбургских династий. В конце концов победу одержал дом Альбрехта Медведя. Земли в верховьях Игны оказались в руках маркграфов во второй половине XIII века. Одним из факторов, обеспечивших им успех, стала способность привлекать союзников, пускай даже из числа бывших врагов. Уже через несколько лет после отлучения от церкви в 1269 году фон Ведели — Людвиг и его братья Генрих, Зигфрид, Гассон и Цулис — стали вассалами маркграфа Бранденбургского{57}. Это не означало, что они потеряли свои померанские земли и связи. Быть одновременно вассалом нескольких сюзеренов для того времени было обычным делом. Такое положение в самом деле давало определенные преимущества, поскольку не ставило судьбу того или иного рода в зависимость от одного господина. Тем не менее, несмотря на свои земли, полученные от герцогов Померании и от Померанского епископа Каменя (Каммина), фон Ведели начиная с 1272 года главным образом являлись вассалами маркграфов, причем все более влиятельными.
Карта 4. Владения фон Веделей в Восточном Ноймарке (ок. 1270–1325) по Крамеру 1969
По мере того, как род наращивал свои владения в Ноймарке («за Одером» — terra transoderana), он все больше оказывался перед лицом тех же проблем, что и сама правящая Асканская династия. Единственным способом сохранить и извлекать пользу из новых владений было развивать их самым энергичным и систематическим образом. Первой задачей на этом пути являлось заселение новых земель. В Ноймарке появилась целая плеяда новых деревень, многие из которых горделиво носили имена своих хозяев и основателей — Ведель, Альтенведель, Нойведель, Цульсдорф и Цульсгаген (по имени Цулиса фон Веделя, жившего в конце XIII века). Точно так же, как маркграфы передоверили основание новых поселений семействам типа Веделей, так сами Ведели, в свою очередь, искали себе в помощь вассалов ниже рангом. В 1313 году Людольф фон Ведель продал деревню к югу от Шивельбайна братьям Аитриху и Оттону фон Эльбе, пообещав вдобавок, что, «если они решат заселить и возделать неосвоенные участки леса, мы обещаем им шестьдесят четыре крестьянских манса (mansi) со всеми надлежащими правами»{58}. Эта цифра — шестьдесят четыре манса — обычный размер новой деревни в Ноймарке, а значит, соглашение между Веделями и братьями Эльбе предусматривало создание совершенно новых деревень на необжитых землях, в качестве составной части дарения.
Ноймарк был завоеван и удерживался силой меча, и ценность Веделей для маркграфов заключалась не только в их энергичном освоении сельскохозяйственного потенциала этого района, но и способности поставлять воинов. В самом деле, на пике своего могущества в конце XIV века род Веделей имел возможность давать сюзерену обещание поставить под знамена «сотню хорошо вооруженных рыцарей и оруженосцев и еще сотню арбалетчиков в доспехах». К тому же во времена, когда бранденбургская знать уже различалась по принципу наличия или отсутствия замков, Ведели в большинстве своем относились к категории владельцев замков (schlossgessene). Первым из принадлежащих им замков был Кюртов, который находился в их руках еще до 1300 года. Вскоре после этого они на какое-то время завладели пограничной крепостью Дрезден, имевшей важное стратегическое значение в борьбе с поляками. Естественно, они также возводили или захватывали замки в центрах своих вотчин, (см. карту 4). Это были «гвозди», которыми они намертво крепили «здания» своих владений.
Масштабы и степень могущества фон Веделей подтверждается той независимой ролью, которую они играли в основании новых городов. Им принадлежит создание не менее четырех городов в Ноймарке и соседних районах Померании. Рождение всех этих городов с той или иной степенью точности можно отнести к первой половине XIV века. Существует документ 1314 года, в котором братья Генрих и Иоанн фон Ведель даруют привилегии «своему городу Нуве Фределанду» (Меркиш-Фридланд), причем среди скрепивших документ свидетелей фигурируют «основатели города и члены городского совета». Такие города были не только символом определенного положения и свидетельством значительных ресурсов, находившихся в распоряжении того или иного магната, но также представляли собой запас наличности, к которой он имел доступ в любой момент. Когда в 1338 году фон Велели даровали своему городу Фрайенвальде бранденбургский закон и различные фискальные и правовые привилегии, они одновременно заручились ежегодными выплатами по 100 фунтов из городской казны. Эти поступления позволили Веделям сделать решающий шаг в приращении своих земель и могущества. В 1319 году Ведегон фон Ведель участвовал в приобретении у последнего асканского маркграфа Вальдемара земли Шивельбайн за 11 тысяч марок. Сделка предполагала выкуп «замка и города Шивельбайн, с народом, землей, поместьями, высоким и низким судом, казной, древесиной, мостами» и т.д.{59} Тем самым род Веделей получал «как бы княжеское положение»{60}.
За несколько поколений представители рыцарского рода из Гольштейна сумели воспользоваться шансом, какой давала близость восточной границы. Продвинувшись на несколько сот миль на восток и обращая свои материальные возможности на укрепление власти местных правителей, будь то славянских или немецких, этот род утвердился в качестве крупных землевладельцев, чье могущество и земельные владения не подлежали сомнению. Члены этой фамилии поднялись из зависимого положения вассалов в господской дружине до господского положения владельцев собственной дружины, основателей городов, хозяев земли.
НОВЫЕ КОРОНЫ
Фон Велели были «как бы князья»; Джон де Курси был «властелин королевства» (princeps regni). Существовала и следующая ступень: высшим достижением являлась корона. XI, XII и XIII столетия были эпохой образования новых королевств — Кастилии, Португалии, Богемии, Иерусалима, Кипра, Сицилии, Фессалоник. Новые королевства нуждались в новых королевских династиях, и «поставляла» эти династии беспокойная знать Западной Европы.
Одним из знатных родов с притязаниями на корону стал дом Монферрат, в северо-западной Италии, который предпринял серию эффектных, но в конечном счете бесплодных попыток захватить какую-либо из новых корон на Востоке{61}. Вильгельм Старый, маркиз Монферратский, потомок древнего рода с обширными связями (по линии жены он состоял в близком родстве с французской династией Капетингов и германскими правителями Гогенштауфенами) был героем второго крестового похода ив 1187 году возвратился в Палестину, однако после сокрушительной победы мусульман при Хатгине оказался в плену у Саладина. У него было пять сыновей, из которых четверо сделали мирскую карьеру. Старший, рослый русоволосый мужчина, склонный к обильным возлияниям, женился на наследнице королевства Иерусалимского, однако вскоре умер при загадочных обстоятельствах{62}. Его сын, появившийся на свет уже после смерти отца, стал впоследствии Иерусалимским королем Балдуином I (1185–1186). Два других сына Вильгельма Старого нашли жен и состояние в Византии. Один стал жертвой запутанной константинопольской политической интриги, оказавшейся для него фатальной. Зато второй, Конрад, участвовал в походе в Святую землю, сражался при обороне Тира от войск Саладина, женился на другой наследнице королевства Иерусалим и два года правил, после чего был зарезан на улице Ассасинами, экстремистской исламской сектой, которую западные источники изображают как курильщиков гашиша и последователей таинственного «Горного Старца». Мусульмане боялись и восхищались Конрадом за его «дьявольское искусство обороны и управления городом» и «необычайную отвагу»{63}. Последний из братьев Монферрат, Бонифаций, в 1201 году был избран руководителем четвертого крестового похода, повел его не в Святую землю, а на Константинополь и получил, в качестве своей доли Византийской империи, королевство Фессалоники, где он расселил многих своих итальянских соратников. Таким образом он воплотил изящно сформулированные надежды своего придворного поэта Пейре Видаля, который завершал одно из своих стихотворений таким обращением к маркизу:
«И если все пойдет согласно моим желаниям и предвидению, То я увижу на его голове корону из золота»{64}.Бонифаций пал в бою в 1207 году, сражаясь за только что завоеванный престол. Его сын и преемник Деметрий не сумел сохранить своего положения и в 1224 году был изгнан из Греции.
Монферраты не могли удержать короны, которые одна за другой ускользали у них из рук. Другие обладали более цепкой хваткой. Одним из свидетельств того важного значения, какое имела экспансия франкской аристократии в Высокое Средневековье, служит их роль в основании правящих династий в Европе (см. карту 5). Подобно тому, как в XIX веке незаметные немецкие князья станут основателями новых национальных монархий, так отпрыски великих фамилий из средневековой Франции распространились по всему свету, чтобы занять королевские престолы в далеких пределах. Успехи французской аристократии на этом поприще можно считать выдающимся. В 1350 году в католическом мире было пятнадцать коронованных монархов.[3] Среди них некоторые были незнатного происхождения, то есть из пятнадцати только десять являлись выходцами из старинных родов. Если проследить родословную этих правителей по мужской линии до XI века (или, если это невозможно, то настолько, насколько позволяют имеющиеся данные), то получится, что из этих десяти династий пять были из старого королевства Французского, главным образом из северной его части (Иль-де-Франс, Нормандия, Анжу и Пуату), а один, и очень влиятельный, род — с юга (графы Барселоны). Две других династии происходили из районов, лежащих непосредственно к востоку от границы Французского королевства, одна представляла собой боковую ветвь рода Арлон в Верхней Лотарингии, а другая вела свое происхождение от графов Бургундских. Оба региона в культурном отношении были французскими и, конечно, «франкскими» в более старом понимании. И только три фамилии, Фолькунгер в Швеции, датская королевская династия и Пясты в Польше, не имели предков-франков. Результат будет еще более разительным, если мы попробуем взглянуть на правителей середины XIV века, так сказать, в индивидуальном плане, вне их принадлежности к той или иной династии. Оказывается, что из пятнадцати монархов пятеро были прямыми потомками королевского дома Франции — Капетингов. Из оставшихся десяти семеро по прямой мужской линии вели свое происхождение либо от династий королевства Французского, либо от правящих родов примыкающих франкоязычных областей Лотарингии и Бургундии. У нас остается только три правителя нефранкского происхождения — из скандинавских королевств и Польши, которые были потомками старинных нефранкских династий. К концу Средневековья франки составляли 80 процентов европейских монархов.
Можно возразить, что такой анализ принижает значение германских правящих династий. Подсчет царственных особ по состоянию на середину XIV века заведомо оставляет за кадром многих представителей крупных германских династий, Габсбургов и Виттельсбахов, которые обе в прошлом занимали престол, а также Веттинов, по могуществу и древности рода стоящих в одном ряду с правящими фамилиями Шотландии или Кипра. Однако и это обстоятельство само по себе тоже примечательно. Многие правящие династии франкского происхождения завладели новыми престолами, то есть королевствами, образованными в ходе экспансии латинского христианства в XI–XII веках, а именно — Португалией, Королевством Обеих Сицилии или Кипром. В то же время германская экспансия в Восточной Европе не увенчалась созданием новых колониальных монархий. К началу второго тысячелетия Польша, Богемия и Венгрия уже существовали на политической карте, причем две из них — в виде королевств, и все три были государствами христианскими. Германская экспансия, протекавшая под неофициальной эгидой Священной Римской империи, вызвала к жизни новые политические образования — к примеру, Бранденбург или земли Ветгинов, которые впоследствии срослись в единое государство — Саксонию, но новых коронованных особ не прибавилось. Это важный момент для понимания природы экспансии в Восточной Европе, где немецкая эмиграция чаще имела вид переселения в христианские (славянские или венгерские) государства, нежели была сопряжена с созданием собственных новых государственных образований.
Карта 5. Распространение правящих династий в эпоху Высокого Средневековья
По карте видно, что большинство правящих фамилий в позднесредневековой Европе имели давние франкские корни. Чтобы найти объяснение этому феномену, полезно провести различие между двумя периодами распространения франкских династий. Существование французских династий в Неаполе и Венгрии, представители которых вели родословную от брата Людовика Святого Карла Анжуйского, явилось следствием высокой политической игры конца XIII — начала XIV века. На Сицилии правление Каталанцев стало следствием того же хода событий, хотя в данном случае скорее имела место реакция, нежели активные действия сами по себе. Решающим моментом для этих новых династий является главенствующее политическое положение королевства Французского, завоеванное при Капетингах в XIII веке. В то же время другие волны распространения франкских династий выросли из той аристократической франкской диаспоры XI–XII веков, о которой говорилось выше, и политическое могущество династии Капетингов тут было ни при чем. В середине XIV века королем скоттов был потомок нормандского рода, сумевшего сделать свою игру на завоевании Англии 1066 года. Это же событие — Нормандское завоевание 1066 года — косвенным образом породило ситуацию, которая привела Плантагенетов на трон в Вестминстер. Королевские династии Португалии и Королевства Леон и Кастилия вели родословную от двух кузенов — из рода герцогов и графов Бургундских, которые оказались в Иберии в период интенсивного франкского (главным образом бургундского) влияния, ставшего отличительной чертой эпохи Альфонса VI (1065–1109). Альфонс был женат на представительнице бургундской фамилии, дочери герцога Бургундии Констанции, и когда сородичи жены Раймон и Генрих появились в Кастилии — вероятно, в числе крестоносцев, участников похода под предводительством герцога Бургундского, — он принял их весьма благосклонно. Около 1090 года оба женились на дочерях Альфонса, то есть наследницах королевского рода. Вскоре после этого в одном источнике говорится о Раймоне «из рода франкского» (de genere Francorum){65}, наделенном большой властью в Галисии. Генрих также получил высокие полномочия в районе Браги. Вместе с сыном он храбро бился в войне с мусульманами, а в 1140 году сын его стал королем Португалии. Одновременно с ним на троне Леона и Кастилии правил его родственник Альфонс «Император», сын Раймона Бургундского. Дела у двух франкских монархов по эту сторону Пиренеев шли хорошо. Еще одна франкская фамилия, Лузиньяны, не только присоединила к своим владениям обширные земли и значительно укрепила свою власть в Пуату и Англии, но и утвердилась на королевском троне в Средиземноморье, а точнее, получила два королевства — Иерусалим и Кипр. Кипр они удерживали дольше и прочнее всего. А получили они его из рук Ричарда Львиное Сердце, который в 1191 году по пути в Палестину отвоевал его у греков, и правили там до 1267 года, когда по брачному договору остров отошел антиохийскому роду Лузиньянов[4]. Династия Лузиньянов, корни которой находились в Пуату, правила на Кипре до самого конца Средних веков.
Следовательно, эта вторая категория служит подтверждением не только могущества Франкского королевства, но и той большой активности, какой отличалась франкская аристократия в XI–XII веках. Завоевание рыцарями-франками Британских островов, участие бургундской знати в войнах Реконкисты и, наконец, доминирующая роль франков в крестовых походах Восточного Средиземноморья имели следствием становление новых франкских династий на обширной территории от Шотландии до Кипра. В некоторых случаях новые монархии образовывались в результате завоевания; в других происходила «прививка» франкских аристократических династий к «стволу» местных правящих родов. Династийная диффузия — вот, грубо говоря, результат экспансионистской активности франкской знати в Высокое Средневековье.
ПРИРОДА АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ ЭКСПАНСИИ
Захватив и подвергнув Константинополь разграблению в 1204 году, франки и венецианцы начали распространяться по соседним районам Византийской империи, утверждая свое право на новые территориальные владения и не прекращая междоусобных распрей. Среди народов, на чью землю они вступили, были, в частности, населявшие Балканы валахи, которые в то время переживали период исключительного политического подъема. Из источников известно о переговорах, которые валашские вожди вели с французским рыцарем Пьером Брашо. «Господин, — сказали валахи, — мы не перестаем восхищаться твоей рыцарской доблестью и удивлены, что ищешь ты в этих крах и что подвигло тебя завоевывать земли в такой далекой стороне. Или нет у тебя в твоей стране земель, которыми ты мог бы обеспечить свое существование?»{66}
Современный историк вполне может задаться тем же вопросом и подивиться тому, какие мотивы двигали западноевропейской знатью в ее ограблении безземельных. Очевидно, сама аристократическая диаспора была крайне неоднородна в плане материального богатства, власти и положения. Существовала настоящая пропасть между, скажем, графами Монферрат, которые вели переговоры с императорами и заключали брачные союзы с представителями королевской династии государства крестоносцев, и безземельными воинами, которые в 1066 году прибились к Вильгельму Завоевателю. Мотивы поведения тех и других необязательно совпадали. Ясно, однако, что среди этих людей было много таких, кто не имел земли на родине, и отчасти тяга средневекового рыцарства к захватническим походам объяснялась стремлением получить в собственность земельные владения. Историки нормандских завоеваний в Южной Италии рисуют яркую картину всего цикла победоносного похода, начиная от формирования войска:
«Огромная толпа родичей, земляков и жителей соседних областей следовали за ними в надежде на обогащение, и их принимали по-братски, со всей щедростью, одаривая конями, оружием, одеждой и всевозможными дарами. Некоторым давали обширные участки земли, ставя благополучие храбрых рыцарей выше всех богатств мира. Благодаря этому все их начинания увенчивались успехом. Словно о них сказано в Евангелии: “Давай — и воздастся тебе”. Ибо чем больше они давали, тем больше приобретали»{67}.
В 1040-х годах Ричард Аверсский такой именно щедростью привлекал на свою сторону рыцарей: «То, что он мог забрать, он отдавал, а не оставлял себе… Вся округа была таким образом разграблена, а рыцари его множились… было у него шестьдесят всадников, а стало сто»{68}.
Существует мнение, что отсутствие фамильных имен европейского происхождения среди франкских поселенцев Утремера может означать, что «эти поселенцы были простых кровей и потому не стремились запечатлеть свои фамилии в названиях новых владений в Европе»{69}. Эту точку зрения подтверждает и запись хрониста первого крестового похода: «Кто был беден там, того Господь сделал богатым здесь… Тот, у кого не было там и деревни, здесь обрел город»{70}. И слог, и образы неизменно те же, о каком бы уголке Европы ни шла речь. Первые немецкие аристократы, утвердившиеся в Ливонии, «сумели завоевать почет и собственность, не запятнав себя позором; и велико было их удовлетворение от своего путешествия, ибо их имущество настолько умножилось, что до сих пор плодами его с радостью пользуются их наследники»{71}. Их современников, рвавшихся к земельным угодьям и могуществу в Ирландии, привлекали похожие ожидания, которые дошли до нас, в частности, в виде риторики, обращенной к потенциальным участникам похода:
«Кто пожелает земли или денег, Кольчугу или боевого коня, Золота или серебра — того награжу я Со всею щедростью; Кто пожелает луга иль пашни — И того награжу я богато»{72}.Мечтой каждого пешего воина в такой армии было сесть в седло, осуществив магическое превращение из пропыленного пехотинца в стремительного конника. Иногда залогом успеха могла стать одна-единственная удавшаяся вылазка. Как сказано в «Песне о Сиде», после взятия Валенсии, «кто пешим был, тот сел в седло»{73}. Другой мастер грабительских набегов XI века Робер Гвискар аналогичным образом одаривал своих соратников в Южной Италии. После одного ночного рейда в Калабрии, «захватив победную добычу, он обратил своих пехотинцев в рыцарей»{74}. Повсеместно мы можем проследить один и тот же цикл: грабительский поход, раздача трофеев и даров, вербовка новых воинов и новые грабежи, с решительными прорывами к рыцарскому статусу и земельной собственности.
Военная дружина была в средневековой Европе в числе главных общественных организмов. Она представляла собой отряд воинов во главе с господином, воинов, объединяемых общей клятвой, боевым товариществом и собственным интересом. Такие отряды уходили корнями в далекое прошлое германских воинских подразделений, члены которых с неизменной щедростью одаривались «мощным потоком дарений»{75}, а в случае особой удачи в награду за верную службу своему господину получали землю. Еще Тацит сформулировал краеугольные камни взаимоотношений господина с его верным воином: «слава и честь, проистекающая из многочисленности и доблести собственного войска» — и «щедрый дележ добычи и трофеев, добытых в сражении и грабежах»{76}. Зависимость вознаграждения от службы явствует и из более поздних источников, например, из таких слов Беовульфа: «За все, что Хигелак мне дал державный, за все достояние, дом и земли, ему платил я клинком, сверкавшим в работе ратной»{77}.
В то же время земля была особым видом вознаграждения, менее распространенным, а следовательно, и наиболее ценимым. Для вассалов и придворных рыцарей земельное владение было главной целью, и они с особой настойчивостью добивались фьефов, поскольку видели в земельном наделе необходимую предпосылку для последующей женитьбы и создания семьи. Уже в VIII веке Беда Достопочтенный сетовал, что «всегда не хватает таких мест, где сыновья знатных фамилий или доблестных воинов могли бы иметь землю, а потому, достигнув совершеннолетия и будучи не в силах сохранять безбрачие, они отправляются за море, покидая край, который им надлежит защищать»{78}. Из более поздних времен до нас дошло яркое свидетельство того, как придворные рыцари (tirones) французского короля прилагали усилия к тому, чтобы убедить своего повелителя выделить им земли за счет нормандцев.
«О государь, властелин наш, мы верой и правдой служили тебе и никогда не получали вдосталь, не считая еды и питья. Мы умоляем тебя, выступи в поход и разбей нормандского неприятеля, а нам пожалуй нормандские владения и дай нам жен»{79}.
Такие пассажи наглядно демонстрируют извечные основополагающие причины существовавшей практики наделения землей. Придворные рыцари и вассалы старели и, естественно, росло их желание встретить старость в собственном поместье, в окружении жены и сыновей, нежели питаться объедками с господского стола в замке. Фьеф, в том понимании, какое приобрело это слово во все более канцелярском языке нормативных текстов XII–XIII столетий (почти по определению), был явлением новым, но практика вознаграждения вассала за воинскую службу путем пожалования ему поместья бытовала уже давно. Именно эта практика, а не какой-либо набор правовых норм, и служила пружиной, придававшей динамизм миру феодальных дружин.
Тот факт, что в целом фьеф был редкостью, виден, например, из труда под названием «Саксонское зерцало» (Sachsenspiegel){80}. Так назывался германский свод законов 1220 года. Между строк читается постоянное давление со стороны не получивших фьефов рыцарей: в кодексе целый ряд достаточно сложных правил касается порядка возвращения фьефа господину, что могло происходить неоднократно. Существовал особый порядок рассмотрения притязаний разных лиц на один и тот же феод. Постоянно делается моральный упор на то, что господин должен даровать фьеф и что его рыцари вправе, если он не оправдывает их ожиданий, искать службы у другого феодала. Атмосфера нервозности и соперничества, которой был пронизан этот мир, имела такой накал, что мы и теперь ощущаем всю радость и облегчение средневекового рыцаря, когда вожделенная земля была наконец обретена. «У меня есть свой фьеф, слушайте все, у меня есть фьеф»{81} — так выразил это чувство в своих знаменитых строках Вальтер фон дер Фогельвайде, которого можно считать не только одним из величайших лирических поэтов Германии, но и вдохновенным певцом господ.
Борьба за вассалов и земельные владения, которая ознаменовала XI век, может навести на мысль, что она и послужила главным мотивом для экспансии европейской знати, начало которой пришлось как раз на этот период. Даже Жан ле Патурель, при всем его стремлении к осторожности и скрупулезности, в своем труде, посвященном анализу того, что он называет «Нормандской империей», высказал предположение, что «пожалуй, нет нужды искать других причин тому процессу, следствием которого стали завоевания в Британии и Северной Франции, нежели потребность в экспансии, характерная для развивающегося феодального общества»{82}. И еще: «Источники формирования Англо-Нормандской империи — а, возможно, и самые главные его источники — надо усматривать в давлении, создаваемом феодализмом на начальных этапах его развития»{83}. «Давление» или «необходимость», о которой говорит ле Патурель, по всей вероятности, заключала в себе два главных момента: спрос вассалов на фьефы и господ — на воинов. Эта система характеризовалась своего рода круговоротом: чем больше земли было у господина, тем большему количеству своих людей он мог пожаловать землю, а чем больше у него на службе было рыцарей, тем больше и возможностей завоевывать себе новые земли.
Однако сам факт жесткого соперничества между феодалами, имевшими вассалов в лице конной свиты, еще не объясняет того, почему дальние походы предпринимала вся знать. Этот мир германских военных отрядов и феодальных дружин (mesnie) состоял не только из победителей. В нем были и свои проигравшие: оставшиеся без наследников старцы, загнанные в угол целые фамилии, сеньоры, у которых ряды сторонников редели год от года. «Потребность в экспансии», осуществляемая одними феодалами и их дружинами, естественно, означала поглощение или поражение других. На первый взгляд, темпы вырождения европейских аристократических родов в эпоху Средневековья позволяют думать, что места новичкам было более чем достаточно. Из шестнадцати малых аристократических родов, существовавших в Оснабрюке XII века, к 1300 году осталось только шесть, а из семидесяти рыцарских фамилий, которые значатся в числе получивших свой лен в Айхштатте за период между 1125 и 1150 годами, тридцать исчезли уже к 1220 году. За 125 лет между 1275 и 1400 годами шестнадцать из двадцати пяти крупнейших фамилий Намюра (на территории современной Бельгии) исчезли с горизонта, а из девяти уцелевших некоторые потеряли в своем социальном статусе. Одно из исследований, посвященных знати среднего уровня в Форезе на юге Франции, показало что за столетие исчезло свыше половины таковых{84}. Все это не удивительно, особенно если иметь в виду такие демографические факторы, как высокий уровень детской смертности и низкая продолжительность жизни, бурная жизнь, какую в те времена вела аристократия, и обет безбрачия, который давали вступившие на путь служения церкви и Богу. На едином структурном фоне имели место и небольшие отклонения непринципиального характера. Иными словами, в рамках самой системы могло иметь место интенсивное соперничество, которое, тем не менее, никак не способствовало ее расширению — подобно тому, как жидкость в закрытой колбе может образовать водоворот, даже если сам сосуд не вращается. Превосходным примером этого мира острой конкуренции, в котором воинские дружины ожесточенно бились между собой, оставаясь в пределах своих территориальных границ, служит ирландское общество XI–XII веков. Таким образом, конкуренция внутри этой системы феодальных дружин если и может служить объяснением ее внутренней динамики, то никак не объясняет внешней экспансии.
Некоторые фигуры, которых мы уже упоминали в этой главе, такие, как Готфрид Жуанвиль или Джон де Курси, были в своих семьях младшими сыновьями, но сами их семейные кланы уже имели достаточные земельные владения, и ни тот, ни другой не рвались искать счастья за рубежами родины, поскольку прекрасно обеспечивали себе существование за счет уже имеющихся земель. Зато аристократия менее знатная действительно могла оказаться перед выбором между обнищанием и авантюрой. Один из классических, а возможно, что и самый классический пример такой быстро размножающейся и жадной до земли небогатой знати являет собой род Танкреда Отвильского, нормандского лорда, чьи сыновья в результате захватнического похода основали на юге Италии свои княжества, вошедшие впоследствии в нормандское Сицилийское королевство. Хронист Готфрид Малатерра, соседствовавший с этим семейством еще в Нормандии, последовал за ними на юг и описывал, как Танкред, «рыцарь благородного рода», в первом браке имел пятерых сыновей, а после смерти жены, поскольку «его цветущий возраст делал воздержание невозможным», женился снова и произвел еще семерых. Все двенадцать его сыновей получили хорошую военную выучку, а также, по-видимому, и некоторое образование, насколько это было возможно в те суровые времена:
«Они видели, что соседи их старятся, а наследники начинают ссориться между собой, так что поместье, изначально дарованное одному, иногда оказывается поделено между многими и таким образом теряет всю ценность. Вот почему, для того чтобы избежать такой судьбы, они созвали совет. И по общему решению первородные сыновья, будучи сильнее и старше своих братьев, первыми покинули отчий дом и отправились искать воинского счастья в дальних странах, а со временем, волею Господа, оказались в Апулии, в Италии»{85}.
В южной Италии сыновья Танкреда процветали. Постепенно они установили свое господство над всем регионом, а также над островом Сицилия, и в 1130 году внук Танкреда Роджер был коронован на царство на Сицилии, основав таким образом новое королевство, которому суждено было просуществовать вплоть до эпохи Гарибальди. В изложении Малатерры и его товарища по монашескому ордену Ордерика Виталия эта история особенно явственно показывает, что двенадцать сыновей никак не могли жить за счет наследства. По версии Ордерика, одиннадцати своим сыновьям Танкред объявил, «что им надлежит покинуть отчий дом и двинуться на поиски всего необходимого, что им следовало добыть силою ума и тела»{86}. Действительно, трудно себе представить какую-либо иную судьбу для дюжины братьев, разве что переход в более низкое сословие и занятие сельскохозяйственным трудом на семейном хуторе.
Истории Отвилей вторят другие современные ей свидетельства того, что аристократическое сословие страдало от перенаселения. Например, папа Урбан II, затевая первый крестовый поход, говорил: «Земля, на которой вы живете, со всех сторон заперта морем и окружена горными хребтами, а кроме того, сильно перенаселена… Вот почему вы пожираете друг друга и постоянно сражаетесь»{87}. Казалось бы, вот он, главный двигатель аристократической экспансии. Тем не менее сами собой возникают вопросы. Даже в «цветущем возрасте» мало кто из нормандских рыцарей был способен произвести на свет двенадцать сыновей, которые к тому же все дожили до взрослого состояния. В действительности установлено, что в тогдашних условиях лишь 60 процентов супружеских пар вообще оставляли после себя сыновей{88}. Демография французской аристократии XI века есть и навсегда останется для нас тайной за семью печатями, однако совершенно исключено, чтобы общая картина воспроизводства повторяла ситуацию в роду Танкреда де Отвиля. Следовательно, раз род Отвилей представлял собой исключение в демографическом, военном и политическом плане, было бы неразумно делать из этого примера какие-то обобщения и утверждать, что поразительный размах аристократической миграции и завоевательных походов был простой производной от перенаселения.
Конечно, самым логичным для не слишком обеспеченной военной знати было искать счастья за рубежом. Однако в этом случае трудно найти объяснение тому, почему нормандские искатели приключений на юге Италии основывали новые королевства, а рыцари Южной Италии не предпринимали аналогичных походов на французскую территорию. В этот период части французского королевства в политическом отношении были так же разрозненны, как и районы Южной Италии, и представляли собой достаточно легкую добычу — найдись до нее охотники. Если мы условились не считать серьезным аргументом необычайную плодовитость французской знати, то следует вернуться к мысли о том, что возможности для отдельных аристократов на родине становились все более ограниченными. Признав убедительным этот аргумент, мы в своем поиске разумных обоснований оказываемся перед необходимостью выделить в отношении рыцарского сословия послекаролингской Европы что-то существенное, нечто такое, что волновало и двигало аристократами Франции и позднее Германии, причем так, как не волновало и не двигало никогда прежде.
Недавнее исследование немецких и французских историков приводит к выводу, что в X–XI веках претерпела трансформацию сама структура аристократического рода{89}. По мнению авторов этого исследования, на смену кланам с достаточно разветвленной системой родства, для которых одинаково важны были связи и по материнской, и по отцовской линии и которые не имели давнего генеалогического или территориального центра, пришли родственные группы с четко очерченными родословными, в которых на первый план уже выступило первородство по отцовской линии. Единая мужская линия наследования, по возможности отодвигающая на второй план молодых отпрысков, двоюродную родню и женщин, стала доминировать над более широкими и аморфными семейными образованиями раннего периода. Если признать такое умопостроение резонным, то получается, что экспансия XI, XII и XIII веков и стала одним из результатов этой трансформации. Снижение возможностей для некоторых представителей военной аристократии — разумеется, в первую очередь злополучных младших сыновей — и могла послужить стимулом для их эмиграции. На самом деле, один видный историк усмотрел привлекательность Шотландии XII века для заморских рыцарей как раз в том, что это была «земля для младших сыновей»{90}. В то же время ведущий историк государств крестоносцев характеризует иммиграцию рыцарей в Утремер как «работу младших сыновей или молодых мужчин»{91}. Речь идет не просто об одном из многих сыновей, как в случае с Отвилем, а о некоем сжатии структуры рода, ограничивавшем возможности ряда его членов.
Несомненно, аристократические династии XIII века имели некоторые черты, отличавшие их от родов предшествующего периода. Это, в частности, переход к передаче наследства по отцовской линии и постепенный отказ от широко разветвленной системы родства, особенно по сравнению с X веком. Фамильные имена зачастую происходили от названия принадлежащего им надела или замка, что на многие годы вперед служило верным инструментом идентификации. У них была своя геральдика, со все более сложными правилами; фамильные гербы отображали происхождение рода, наглядно выделяли его старшие и младшие ветви и отдавали предпочтение опять-таки мужской линии родства. Дальние родственники все реже привлекались к участию в таких жизненно важных для рода делах, как, например, вендетта или передача собственности. В Англии XII века после смерти рыцаря, «согласно закону Королевства Английского, отцу во всем наследовал старший сын»{92}. В 1185 году герцог, епископы и бароны Бретани договорились, что «отныне не будет различия в баронском или рыцарском держании, но старший по рождению будет владеть им во всей полноте»{93}. На самом деле у такой практики были свои противники. «Кто сделал братьев неравными? — вопрошал автор XII века. — Все отцовское наследство отдается одному из сыновей, который отныне богат. У одного оказывается все в изобилии, он получает всю отцовскую собственность, другой же оплакивает свою нищету, оставаясь без доли богатого наследия отца»{94}. Таким образом появился «дом» в узком понимании, то есть последовательность отцов и сыновей, сменявших друг друга во времени, но остававшихся при наследственной фамильной собственности. «Сужение и концентрация семьи вокруг мужской линии», судя по всему, были налицо.
Можно ли хотя бы умозрительно связать это «сужение» с нарастающим расселением западноевропейской знати по окружающим областям в XI, XII и XIII веках, — вопрос сложный. Основательная проверка этой гипотезы — дело будущего, она потребует многих лет кропотливого труда и все равно останется весьма спорной, поскольку генеалогия аристократии даже и в XIII веке чаще строится на догадках, нежели на наглядных свидетельствах. Иными словами, пока однозначного ответа на этот вопрос нет.
«Разве появление новых типов родственных отношений в аристократическом сословии и становление феодальной системы не протекали параллельно?» — задается вопросом один из видных специалистов по истории Высокого Средневековья. Возможно, ключ к аристократической экспансии XI, XII и XIII веков кроется не в развитии военных структур и не в эволюции родственных связей по отдельности, а в судьбоносном сплетении этих двух процессов. Высказывается мнение, что феодальные структуры требовали более надежной территориальной базы для аристократии и порождали военный класс, «более прочно стоящий на своей земле»{95}. XI же век изображается как период «реорганизации нормандского рыцарства по территориальному принципу»{96}. Есть также точка зрения, что передача земельной собственности в целости от поколения к поколению явилась предпосылкой для формирования постоянных феодальных военных институтов{97}. Но еще более важно то, что наделенное землей рыцарское сословие XI века представляло собой не просто новых людей, а новый тип аристократии. В документах того времени можно найти примеры превращения крестьян в конных воинов, как, например, в Лимбургском акте 1035 года, в котором разрешается господину делать своих холостых крестьян прислугой на кухне или конюхами, а женатых — лесничими или конными воинами (milites){98}. Даже если принять уровень естественной убыли аристократического класса за столетие равным 50 процентам, все равно в условиях растущей экономики всем новым кандидатам на пополнение его рядов места явно не хватало. Подъем рыцарского сословия (первоначально стоявшего очень низко в сословной иерархии и не имевшего земельной собственности) в сочетании с принципом первородства и династийности могли настолько переполнить рамки существовавшей системы, что экспансия за пределы страны становилась неизбежна. Пусть даже люди подобные Танкреду де Огвилю были редкостью, все равно такие факторы, как сужение самого понятия рода и притязания нового рыцарского сословия, были вполне достаточным основанием для существования странствующего рыцарства. Возможно, те самые младшие сыновья, оплакивающие «свою нищенскую долю богатого наследия отца», и пустились в путь по морям, по долам в XI, XII и XIII веках. С уверенностью сказать этого мы не можем, но не исключено, что к XI веку франкская знать, то есть относительно малочисленная военная элита, организованная строго по принципу наследования по мужской линии и династийных домов и имеющая прочные земельные корни, являла разительный контраст с тем внешним миром, куда она направила свою экспансию.
ВЛИЯНИЕ НА ПЕРИФЕРИЮ
В какой степени агрессивная политика французского рыцарства ни коренилась в земельных притязаниях феодалов, нет сомнения, что одним из ее последствий явилось распространение феодальных форм землевладения и связанных с ними правовых отношений. Регионы наподобие Ирландии, Восточной Прибалтики, Греции, Палеетины и Андалусии, до середины XI века не ведавшие фьефов, вассалов и оммажа, в последующие столетия познакомились с ними вплотную. Так, например, случилось в Южной Италии, куда «вслед за завоеванием пришло понятие фьефа и оммажа»{99}. Удачливые завоеватели или воины-иммигранты Высокого Средневековья рассчитывали на вознаграждение, и чаще всего этим вознаграждением становился фьеф, то есть земля, получаемая вассалом от господина взамен на оговоренные услуги, обычно военную службу. Распределение фьефов, будь то местными правителями, желающими привлечь на свою сторону новых рыцарей, или предводителями завоевательного похода, такими, как Джон де Курси или Альбрехт Медведь, были составной частью процесса формирования колониальной знати.
Например, «Морейская Хроника», документ XIII века, посвященный установлению власти франков над Грецией, описывает «субинфеодацию» Морей: Вальтер де Розьер получил 24 фьефа, Гуго де Брюйер — 22, Отгон де Турней — 12, Гуго де Лиль — 8 и т.д.{100} Ордена крестоносцев и местное духовенство также получили земельную собственность. «Рыцарей, у которых было по одному фьефу, а также сержантов… [sirgentes] я называть не стану»[5], — заключает хронист. Однако именно этот, местный уровень инфеодации и был самой главной предпосылкой эффективного руководства в военной сфере. В Бранденбурге маркграфские министериалы (первоначально — несвободные рыцари) в XII веке получали фьеф именно в тех землях, которые были отбиты у славян-язычников{101} Издавна населенный Альтмарк, находящийся западнее Эльбы, стал родиной целой когорты рыцарей-вассалов, которые получили землю восточнее Эльбы, заселили там замковые земли и стали собирать ренту. В Ирландии и Уэльсе обширные владения получили от королей английских крупные феодалы, которые затем выделяли землю своим вассальным рыцарям, то есть осуществляли процесс инфеодации на местном уровнем. От каждого крупного владения в войско «поставлялось» точно оговоренное число рыцарей: для Лейнстера эта цифра составляла 100, для Мита — 50, для Корка — 60 и т.д.{102} Англо-нормандская колония в Ирландии опиралась на людей военных, которые таким образом и оседали на новых землях: «так прочно укоренились на земле (ben… aracinez) прославленные благородные вассалы»{103}.
Представляя собой форму правовых отношений, фьеф не столько существует в природе, сколько конструируется человеком и видоизменяется, а не остается чем-то застывшим. Тем не менее, учитывая его функцию вознаграждения или оплаты услуг конного воина, следует сказать о том, что подобный рыцарский лен в Высоком Средневековье имел определенные пределы. Размер и характер осваиваемой территории налагали ограничения на число и размер ленов, выдаваемых рыцарям. Они были неодинаковы, поскольку различной была сама местность. На плодородных землях можно было нарезать больше фьефов, нежели на скудных: так, лены рыцарей в графстве Дублин состояли из десяти пахотных участков, в графстве Мит — из двадцати, а в неприютном Вестмите — тридцати{104}. В экономической системе с развитыми городами и торговлей, как было в государствах крестоносцев, бенефиции включали не только землю, но и денежный доход, который в начале XIII века составлял обычно 400 безантов в год{105}.
Несмотря на эти вариации, мы можем составить достаточно конкретное представление о самой концепции фьефа, ибо, как подчеркивал сэр Франк Стентон, хотя фьефы «могли иметь разную ценность [и]… размер.., различия эти были вполне определенны»{106}. Один источник информации — это зафиксированное в списках земельных управлений или явствующее из косвенных свидетельств число фьефов, получатели которых (воины-рыцари) обязаны были нести военную службу у короля или лорда. В Английском королевстве, имевшем площадь 50 000 квадратных миль, было порядка 7,5 тысяч рыцарских ленов, обязанных поставлять воинов, то есть один фьеф приходился на шесть или семь квадратных миль. Нормандия, имея площадь около 13 тысяч квадратных миль, в 1172 году включала около 2,5 тысяч рыцарских владений, то есть один лен приходился на пять квадратных миль. Шампань, намного меньше Нормандии по площади, но значительно более плодородная, имела 1,9 тысяч рыцарских ленов. Королевство Иерусалим включало примерно 700, хотя здесь экономическая база была существенно иной, нежели в Северной Франции. Местные бароны стремились наделять землей больше рыцарей, чем они должны были поставлять в войско сеньора, и в границах конкретной территории рыцарских ленов, как правило, было больше, чем требовалось рыцарей в дружину{107}. Графство Лейнстер в Ирландии обязано было поставлять короне 100 рыцарей, однако количество рыцарских ленов здесь равнялось 181.{108} Первая цифра означала бы один фьеф на 35 квадратных миль, вторая — на 20. Встречаются также данные, относящиеся не к числу фьефов, выделенных рыцарям на условиях несения военной службы лорду, а к количеству рыцарей, которых данная местность была способна поставить в случае необходимости. Очевидно, что эта вторая цифра больше. Например, в середине XII века Апулийская и Капуанская области нормандского Сицилийского королевства были обследованы на предмет того, скольких воинов они могли привести под знамена сюзерена в случае необходимости{109}. По площади эти две области составляли примерно 20 тысяч квадратных миль. Было рассчитано, что они могут выделить 8 620 рыцарей, то есть один рыцарь приходился на 2,3 квадратных мили. Хотя эти цифры представляют определенные сложности для толкования, их все же можно принять за базу для некоторых выводов общего порядка. Рыцарский фьеф приходился по меньшей мере на несколько квадратных миль, даже в плодородной Италии, а в районах с неблагоприятными условиями земледелия эта цифра могла возрасти десятикратно.
Целостность нового крупного владения могла зависеть от успешного наделения землей вассальных рыцарей. Этот момент был особо подчеркнут в тексте средневекового французского автора, который описывал основание королевства Кипр. «Теперь, — писал он, — я вам поведаю,
что сделал король Гвидо, когда обрел в свое владение остров Кипр. Он разослал гонцов в Армению, Антиохию и Акру и по всей земле, с известием о том, что обеспечит хорошими средствами к пропитанию любого, кто приедет жить на Кипр… Он дал им богатые фьефы… Наделил бенефициями 300 рыцарей и 200 рядовых конников… и таким об разом король Гвидо обжил остров Кипр; и я говорю вам, что если бы император Балдуин обустроил Константинополь так же, как король Гвидо — остров Кипр, то он бы его никогда не лишился»{110}.
В глазах этого наблюдателя решающая разница между недолговечной франкской колонией в Византии и более прочной на Кипре заключалась в активной раздаче фьефов.
Не только в государствах, образовавшихся в результате завоевательных походов, шло распространение феодальных форм землевладения и социального устройства. Местные династии, пустившие к себе заморских правителей, тоже создавали для их поддержки систему вассальных владений. Иммиграция англо-французского и англо-нормандского рыцарства в Шотландию по приглашению местной королевской династии изучена особенно хорошо. Формы, которые приняло здесь феодальное землевладение, позволяют предположить, что имел место полномасштабный и осознанный перенос их с материка: «ранний шотландский феодализм, который никак нельзя назвать неразвитым или сформировавшимся только наполовину, на удивление оказывается практически хрестоматийной, законченной копией североевропейских феодальных отношений»{111}. В Клайдсдейле такие рыцарские наделы в «законченной» форме получила группа фламандских переселенцев. Новички могли основывать новые поселения, которые затем получали их имена, как, например, Даддингстон (Мидлотский), принадлежавший Додину, или Хьюстон (в Ренфрушире), владельца которого звали Хьюго. Порой, однако, эти фьефы приходилось «наскребать» из скудных земельных ресурсов. Когда король Шотландский Давид I (1124–1153), которого никак не упрекнешь в недостатке воли к «масштабной феодализации», пожаловал Ательстейнфорд и другие земли Александру Сенмартенскому, рыцарю, прибывшему на волне переселения 30-х годов XII века, было специально условлено, что «владение пока надлежит держать, в виде лена и права наследования, в размере половинной доли рыцаря, и я буду ежегодно выплачивать ему 10 марок серебра из своей казны до тех пор, пока не смогу предоставить ему полный рыцарский надел»{112}. Радикальные преобразования, которым шотландское общество подверглось в результате появления большого количества иноземных рыцарей, не укрылось от внимания современников. Один из них полагал, что преемники Давида I были отмечены особой святостью, и связывал это с тем фактом, что они «изгнали скоттов, с их отвратительными привычками, пригласили рыцарей и наделили их землей»{113}.
Там, где появлялись феьфы, шло и распространение феодальной лексики в языке. У всех народов, населявших периферию франкской Европы, в ту эпоху в языке появилось множество заимствований, чаще всего французских, связанных со снаряжением и привычками рыцарей-переселенцев, которые на протяжении XI–XIII веков селились на этих землях. В венгерский язык слова со значением «шлем», «доспехи», «замок», «башня», «турнир», «герцог», «фьеф» и «маршал» пришли из немецкого, причем некоторые, например, «турнир», до этого были заимствованы немцами из французского{114}. Германское слово «всадник» (современное немецкое Ritter — «рыцарь») было в ходу в средневековой Ирландии (ritire) и Богемии (rytiry) для обозначения рыцаря{115}. Польские и чешские слова для фьефа — прямые заимствования из немецкого (от слова Lehen). На юге Италии нормандцы ввели в широкое употребление бывшее до этого редким слово «фьеф»{116}. Новые волны переселенцев привносили с собой новую терминологию, что отражало различные типы общественных и правовых отношений.
Сплоченность иммигрантов зависела от обстоятельств их переселения. Иногда разом перебирались на новое место целые группы лордов с вассалами, как было в случае с нормандцами, осевшими в Шропшире после 1066 года, которые, как оказалось, и в своем родном герцогстве были связаны определенными феодальными отношениями{117}. Нормандцы, переселившиеся на юг Италии, были связаны тесными семейными и феодальными узами. В более общем плане могло иметь место происхождение из одной и той же местности, что уже придавало новым поселенцам большую сплоченность. Так, например, государство крестоносцев Триполи первоначально было населено преимущественно выходцами с юга Франции, а Антиохийское княжество — нормандцами. Из пятидесяти пяти благородных поселенцев Иерусалимского королевства первой волны, чьи европейские корни удалось проследить, двадцать три (то есть свыше 40 процентов) были выходцы из Фландрии и Пикардии{118}. В других случаях, однако, набор в войско крестоносцев проводился в индивидуальном порядке, и тогда только связи с местной династией сплачивали колониальную аристократию. В Венгрии семейства новых магнатов имели французские, итальянские, испанские, русские и чешские корни, с преобладанием немецких, вот почему там не могло сформироваться цельное мировооззрение иммиграции{119}.
Судьба коренной знати перед лицом завоевания и наплыва иммигрантов порой складывалась трагично. Ирландские правители восточных районов Ирландии целиком были вытеснены уже в ходе первой волны переселения. В Валенсии мусульманская знать какое-то время (а точнее — несколько десятилетий) после падения города в 1238 году еще сохраняв свои позиции, однако в ходе восстаний, имевших место в середине столетия, исчезла окончательно{120}. В тех областях, где местные династии контролировали процесс иммиграции, исход обычно оказывался более сбалансированным. Например, к 1286 году пять шотландских графств находились в собственности англо-нормандских иммигрантских фамилий, однако восемь оставались у местных династий{121}. В Венгрии эпохи Позднего Средневековья, как уже упоминалось, потомки иммигрантов занимали влиятельное положение в обществе, но составляли, тем не менее, только 30 процентов класса крупных феодалов{122}. Здесь мы имеем пример скорее «прививки», нежели отчуждения собственности. При этом даже в случаях импортируемого феодализма порой оставалось место и для исконных форм лена, с другим порядком наследования: валлийские поместья в Уэльсе и ломбардийские на юге Италии были делимыми (то есть могли дробиться между несколькими наследниками), в то время как в нормандских владениях в тех же областях установилось право первородства.{123}
Порой частым явлением становились браки между переселенцами и коренными жителями. Практически повсеместно наблюдался дисбаланс в демографическом составе эмигрантов, со значительным преобладанием мужского пола, и смешанные браки обычно заключались между мужчинами-колонистами и женщинами местного происхождения. По сути дела, женитьба на наследнице богатого местного рода была для многих поселенцев верным способом укрепить свои позиции в обществе, поскольку тем самым они разом получали семью, земельную собственность и покровительство. Бывало, что командир наемников брал в жены дочь хозяина, как в случае с Робертом Гвискаром, женившимся на Зихелгайте, дочери князя Салернского Гаймара V, или с Ричардом Фицгилбертом (по прозвищу Мощный Лук), который взял в жены дочь Дермота Макмарроу Лейнстерского — Аойфе. Аналогичным образом, когда Пандульф III Капуанский пожелал отблагодарить за поддержку нормандского вождя Райнульфа, «он отдал ему в жены свою сестру»{124}. На высшем уровне серьезных препятствий к смешанному браку не существовало. Из жен первых маркграфов Бранденбургских (которых было шестнадцать) половина была славянского происхождения{125}.
В долгосрочном плане влияние аристократической иммиграции в значительной степени определялось людскими ресурсами. Там, где иммигранты имели небольшую численность, политика экспроприации и вытеснения могла стать невозможной. Леон-Робер Менажер в своих доскональных и вдумчивых работах, посвященных Южной Италии, установил все фамилии переселенцев знатного происхождения XI–XII веков. Их оказалось 385. Даже если делать поправку на недостоверность источников, вырисовывается картина небольшой кучки нормандцев и других рыцарей с севера Франции среди подавляющей массы ломбардийцев, греков и мусульман. Однако если колонисты аристократических кровей и составляли явное меньшинство, то это длилось недолго. В других же областях состав населения оказался более сбалансированным — например, в Ирландии, где в Позднее Средневековье весьма остро встал вопрос интеграции колониальной знати или, наоборот, ее дальнейшего существования в качестве изолированной элиты.
Отношения между переселенцами и коренным населением были окрашены враждебностью в различной степени — в зависимости от обстоятельств завоевания и прежних культурных различий между этими двумя группами. Барьер между христианами и нехристианами обычно оказывался непреодолимым, однако тот факт, что мусульманская знать в некоторых регионах уцелела, показывает, что истребление не всегда было единственным решением вопроса. Отношение жадной до завоеваний аристократии Высокого Средневековья к туземным народам и культурам складывалось различным образом. Она могла оказаться в роли чуждой и победоносной элиты, составить узкий круг безраздельных правителей, восприимчивых, тем не менее, к местной культуре, либо смешаться с местной знатью.
В некотором смысле признаком культурной адаптации служит тот факт, что связанные с топонимикой фамилии чаще происходили от новых владений, нежели переносились со старых мест. Это особенно заметно у родов, стоявших не на самом верху феодального класса, а чуть ниже, поскольку на родине у них, как правило, не было таких значительных владений, чтобы приставлять их названия к своим именам. Как упоминалось выше, мало у кого из осевших в государствах крестоносцев в родовых именах были западноевропейские топонимы. «Тот, кто прежде носил фамилию “Реймский” либо “Шартрский”, отныне стал зваться “Тирским” или “Антиохийским”, — писал один переселенец, — и названия своих родных мест мы уже позабыли»{126}. Рыцари, для которых новой родиной стала Сицилия, взяли себе имена от названий своих новых владений{127}, а во франкской Греции новые господа предали забвению старые фамилии и взяли себе новые, подобно тому, как змея меняет кожу: «Морейские баннереты, вместе с рыцарями, стали возводить замки и бастионы, и каждый обустраивал новую территорию как свою собственную; как только они построили все эти укрепления, они отринули свои старые фамилии, привезенные из Франции, и приняли новые — по названиям местности, которую они освоили»{128}. Конечно, это все второстепенные признаки, и значение их, возможно, ограничивается получившейся в результате лингвистической экзотикой: Симон Тивериадский, Ричард Кефалонийский. Но в конечном счете имена и фамилии равносильны удостоверению личности.
Изменения, происходившие в языке в колонизованных областях Европы, в итоге определялись не столько самим фактом аристократической иммиграции, сколько масштабами сопровождавшего ее переселения простолюдинов. Подробнее эта проблема будет освещаться ниже, сейчас отметим только, что, по-видимому, не было случая, чтобы осевшие в новых местах аристократы оказывались единственным источником фундаментальных изменений в языке. Ни нормандцы в Южной Италии, ни франки в Восточном Средиземноморье не создали нового франкоязычного региона, хотя французский язык и был у них признанным языком литературы. В Англии нормандская знать, похоже, уже через несколько поколений стала считать родным языком английский.
Связи, которые новоявленные аристократические круги в колонизованных периферийных районах Европы продолжали поддерживать с родными местами, сильно различались с точки зрения их прочности и продолжительности. Порой появлялась на свет международная или межрегиональная знать, иногда, правда, лишь на время. Бароны, имевшие собственность на севере Франции, в Англии и кельтских странах, являют в этом смысле наглядный пример. Например, семейство де Ласи имело поместья в Нормандии, в XI веке обзавелось крупной баронией на границе с Уэльсом, а в XII стало собственником феодального владения в Мите, Ирландия{129}. Самые крупные феодалы из тех, кому шотландские короли пожаловали в XII веке земли в своих пределах, почти всегда владели также крупными участками земли в Англии и, как правило, во Франции либо где-нибудь еще. Связи между старым и новым домом выражались не только во владении собственностью. Часто случалось так, что удачливые аристократы из числа переселенцев делились своими новыми доходами с церковью у себя на родине. Так, Джон де Курси основал шесть религиозных братств в своих новых владениях в Ольстере, и каждое из них либо находилось в подчиненном положении от монастырей в тех областях Англии, где также имел земельные владения де Курси (то есть в северо-западном Сомерсете), либо являлось колонией переселившихся оттуда монахов. Такие нити зачастую переживали своего основателя. Аналогичные связи можно проследить и в Уэльсе, где девятнадцать бенедиктинских братств, появившихся в годы завоевания (1070–1150), первоначально все находились в зависимости от монастырей в Англии и северной Франции{130}. Экспансия, выражавшаяся в завоевательных походах и поиске новых земель для освоения, надолго оставила след в географии и держаний, и монастырей.
Однако долгосрочное поддержание таких связей было сопряжено с определенными трудностями. Хотя крупные магнаты могли свободно перемещаться из одной области, где находились их владения, в другую, феодалы среднего уровня чаще делали для себя выбор между ролью помещика-резидента или абсентеиста, и в последнем случае возникали проблемы с осуществлением реального управления имением, а равно и соблазны его продать. Некоторые из мелких феодалов, последовавших за представителями рода де Ласи и решивших не оседать надолго в Ирландии, так и поступили со своими владениями в Мите, продав их местным землевладельцам{131}. Когда постепенно происходит подобное перераспределение собственности, то со временем к аристократии новоосвоенных земель термин «колониальная» подходит все меньше. Спустя несколько поколений, в отсутствие непрерывных связей с исторической родиной, потомки иммигрантов могут уже считаться такими же местными, как и коренные жители освоенных территорий. В другом варианте, если крупные феодалы сохраняют собственность в дальних землях, но сами там не живут, появляется на свет целый класс помещиков-абсентеистов, то есть феномен «колониального» типа отношений в сегодняшнем понимании. В Ирландии имели место оба явления: на уровне мелкопоместного нетитулованного дворянства — джентри — сформировался класс англо-ирландских землевладельцев, в корне отличный от аналогичного класса в Англии, а на уровне крупных феодалов значительная часть ирландских земель оказалась в руках абсентеистов, таких, как Мортимеры и Бигоды, которые постоянно проживали в Англии, а в своих ирландских владениях появлялись редко либо не появлялись вовсе.
Связи между новыми и старыми землями могли и прерываться. В случае с Шотландией происходившие в конце XIII — начале XIV века войны за независимость крайне осложнили контакты между землями, оказавшимися по разные стороны границы. В Испании процесс создания транспиренейских поместий, казавшийся в начале XII века самым естественным следствием участия французов в Реконкисте, так и не получил развития. Уже в 1140-е годы дома Беарна и Бигорра передавали свою земельную собственность в долине Эбро в руки тамплиеров{132}. Общий закат французского присутствия в Испании во второй половине XII века означал, что здесь не удалось установить таких постоянных связей, какие мы наблюдаем в других районах Европы. Реконкиста получала все более испанское «звучание», и на первый план выходят перемещения и заимствования между Старой и Новой Кастилией, Каталонией и Валенсией, Месетой и Андалусией, нежели контакты между Пиренейским полуостровом и остальной частью католической Европы. Символическим смыслом наполнен факт отъезда «сонма рыцарей из-за горного хребта [т.е. Пиренеи]» перед великой победой христиан при Лас-Навас-де-Толоса в 1212 году{133}.
География также играла не последнюю роль в установлении и поддержании прочных связей между старой и новой родиной. Завоевание близлежащих территорий, куда можно было добраться сухопутным путем, как, в частности, в случае с Миттельмарком, присоединенным к Бранденбургской марке, как правило, не прерывали аристократических связей, и, как уже отмечалось, рыцарское сословие Миттельмарка в основной массе происходило из соседнего Альтмарка. Совсем другое дело с дальними заморскими походами. Подобно лучше всего изученному Утремеру, т.е. государствам крестоносцев, экспансия эпохи Высокого Средневековья привела к появлению на свет целого ряда мелких социумов, игравших роль плацдарма для дальнейшей экспансии — таких, как колониальная Ирландия или немецкие поселения в Прибалтике. Торговые и транспортные (морские) связи с родиной в этих случаях были вполне реальны, но заморские земельные владения оставались редкостью. Большинство вассалов из числа переселенцев, такие, как Дитрих Тифенауский, которому Тевтонские рыцари в 1236 году пожаловали замок Малый Кведен (Тыхновы) и 300 земельных участков в Пруссии, предпочел избавиться от собственности на родине{134}. Дитриху принадлежали земли вокруг Гамелина и в низовьях Эльбы, которые он захватил еще до Тевтонского пожалования. В этом смысле можно говорить о том, что постепенно сходила на нет специфическая иммигрантская, то есть иноземная, суть колониальной аристократии. За исключением случаев, когда между новоявленным и коренным населением существовали этнические или религиозные противоречия, колониальная знать со временем слилась с аристократией исконной, хотя память о героической истории завоевания и первопроходства могла сохраняться.
3. ВОЕННОЕ ИСКУССТВО И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ
«Кто станет отрицать, что замки — вещь необходимая?»{135}
Средневековая аристократия была прежде всего аристократией военной. В этот высший слой средневекового общества входили хорошо тренированные воины, имевшие определенный комплект оружия и снаряжения и обученные определенным приемам ведения боя. Вот почему расширение сферы влияния франкской знати сопровождалось распространением военного искусства франков — вооружений, фортификационных сооружений, тактики и приемов ведения боевых действий — из сердца королевства Каролингов, где оно зародилось (сюда можно причислить и Англию после Нормандского завоевания 1066 года) в другие части Европы. Все возрастающее могущество этой знати и рвение, с каким ее привлекали на свою сторону европейские правители, отчасти объясняются именно тем военным превосходством, которое давало ей передовое для той эпохи военное искусство.
Если говорить о центральной части северо-западной Европы, то здесь для ратного дела середины X — первой половины XIV века были прежде всего характерны три особенности: доминирующая роль тяжелой конницы, возрастающее значение лучников, в первую очередь арбалетчиков, и совершенствование определенного типа укреплений, а именно — замков, которое, в свою очередь, сопровождалось развитием осадного дела.
Рыцари, лучники, замки. Картина, хорошо знакомая со страниц Вальтера Скотта или исторического эпоса кинокомпании «Метро Голдвин Майер», и в этом писатели-романтики и Голливуд были совершенно правы. Ошибочно они рисовали фон, на котором происходили военные события, то есть соотношение таких категорий, как историческая необходимость, политическая воля и практические устремления.
ТЯЖЕЛАЯ КОННИЦА
Уже к началу X века главной фигурой военных действий стала тяжелая конница. В последующие века доля пешего войска возрастала, однако по своему тактическому значению вплоть до окончания описываемого нами периода пехота так и не смогла сравниться с кавалерией. Конница практически всегда уступала пехоте в численности, и возможно, что объяснение ее доминирующей роли надо искать в равной степени в соображениях тактического и социального плана. Несомненно одно: как в X, так и в начале XIV века тяжелая конница представляла собой элитные силы армии.
Представление о военном снаряжении конницы начала рассматриваемой нами исторической эпохи можно получить из таких бесценных иллюстративных источников, как Лейденская Книга Маккавеев X века{136} и гобелен из Вайе{137}, датируемый концом XI века. Защитное снаряжение конника состояло из конического шлема, доспеха (кольчуги или лорики) и большого щита. Наступательное вооружение включало копье, меч и иногда булаву или дубину. Наконец, незаменимым в наступательном бою был тяжелый боевой конь. Тяжелой конница называлась потому, что всадники шли в бой в полном снаряжении и в первую очередь благодаря своим дорогостоящим кольчужным доспехам. Латинские источники того времени употребляют в отношении конников термины armati, то есть «люди в броне», либо loricati — «люди в кольчугах».
Металлические доспехи делали всадников тяжелыми в буквальном смысле. Войско становилось поистине несокрушимым тогда, когда было «все в железе»{138}. Зачастую из всего имущества рыцаря кольчуга оказывалась самой ценной, и неудивительно, что, столкнувшись с нуждой, рыцарь, случалось, отдавал ее в заклад{139}. Такое происходило нередко. Во времена, когда многие сельскохозяйственные орудия еще делались из дерева — деревянным был даже плуг, от которого подчас зависела сама жизнь (лишь изредка для него выковывали железный наконечник), — рыцари были одеты в железо! Это была поистине головокружительная роскошь.
На полное снаряжение армата и лориката могло уходить до 50 фунтов железа[6]. Когда в 80-х годах X века Отгон II двинул в поход свое войско, включавшее около 5 тысяч всадников, тяжелая конница тащила на себе железа общим весом 125 тонн{140}. Эта цифра еще более впечатляет, если вспомнить, что в те времена германская плавильная печь за два, а то и три дня работы могла выдать всего лишь 10 фунтов металла{141}.
Специалист по экономической истории Беверидж писал:
«до Черной Смерти цены на пшеницу могли различаться в зависимости от урожая, но колебались, как правило, вокруг 5 шиллингов за четверть; металл на изготовление лемехов и других орудий труда шел по ценам, которые от года к году тоже разнились, но в среднем составляли около 6 пенсов за фунт, то есть 50 и более фунтов за тонну. Сегодня (1939 г.) нормальная цена на зерно составляет около 50 шиллингов за четверть, а на сталь — около 10 фунтов за тонну. Мы видим, что цена на зерно возросла в десять раз, тогда как на металл упала в пять раз; сегодня четверть зерна стоит в пересчете на сталь в пятьдесят раз дороже, чем в те времена. Едва ли можно найти более наглядное подтверждение тому, насколько сильно отличалась эра зерна от эпохи металла»{142}.
Тяжелые всадники Средних веков жили в эру зерна, но выглядели как люди эпохи металла.
Тяжелой кавалерия была и еще по одной причине — из-за боевых коней. Эти кони не просто должны были выдерживать вес закованного в латы всадника. Это были животные особой породы, которых специально готовили к трудным условиям битвы. Об этих «величественных скакунах» часто пишут источники того времени{143}. Их забирали в качестве трофеев, преподносили в дар, продавали, покупали и обменивали. Они были крупнее и сильнее обычных лошадей, предназначенных для верховой езды аристократов, и применялись только в бою. Это, естественно, означало, что рыцарю требовались и другие кони, и средневекового всадника скорее следует рисовать в центре небольшого отряда из людей и лошадей. Ему могли понадобиться дополнительно как боевые, так и обычные верховые скакуны. В 1101 году между Генрихом I Английским и графом Фландрским был заключен договор, по которому граф брал на себя обязательство поставлять в королевскую армию конников, причем каждому воину надлежало иметь трех коней{144}. Цифра достаточно красноречивая, хотя в документах XIII века встречается упоминание о всадниках, в чьем распоряжении находилось сразу по пять лошадей.{145} Боевых коней все больше закрывали сбруей и латами, отчего кавалерия делалась еще «тяжелей».
На протяжении всего описываемого нами периода, с середины X до середины XIV века, тяжелая конница сохраняла свое неоспоримое значение. Но не все конники обязательно были рыцарями. На самом деле, при изучении этой исторической эпохи нельзя упускать из виду такой существеннейший момент, как сложное переплетение в языке слов, имеющих общее значение «рыцарь», но с разным оттенком — чисто военным или социальным: между французскими cavalier и chevalier, немецкими Reiter и Ritter прослеживается несомненная этимологическая связь.{146}
Латинское miles охватывало обе категории, причем семантика этого слова историками изучена детально. В начале XI века так называли просто тяжелых всадников, иначе именуемых loricatus. Как правило, значения сколь-нибудь высокого социального положения в это понятие не вкладывалось, скорее напротив, поскольку в те времена milites как раз противопоставлялись магнатам и высшей знати. Так, например, когда Вильгельм Завоеватель в 1066 году снизошел до совета с приближенными относительно своих притязаний на английский престол, отпрыск давнего рода виконт Туарский с негодованием прокомментировал: «Никогда или почти никогда раньше milites не призывались на подобный совет!»{147}
Milites были грубой и буйной толпой, и при всей их значимости для государства едва ли их стоит чересчур превозносить. Однако уже в XI веке в некоторых частях Европы это слово стало приобретать почтительный оттенок, и в последующие века такая тенденция лишь крепла и ширилась. В XI веке, чтобы сделать человека воином, ему достаточно было вручить коня и доспехи; к XIII веку рыцарь уже входил в узкий, замкнутый круг, и рыцарство передавалось по наследству. Само понятие рыцарь наполнилось новым содержанием: теперь оно имело значение социальной исключительности, а кроме того, носило религиозный и романтический оттенок. Важно, однако, не упускать из виду того бесспорного обстоятельства, что крупные перемены, которые привели к становлению нового самосознания средневековой аристократии и отчасти дали толчок развитию новой культуры и новых общественных идеалов, очень мало отразились на технике ведения конного боя. Как и в X веке, конница XIII столетия сохраняла свое решающее военное значение, но по-прежнему представляла собой небольшой по численности отряд закованных в доспехи всадников, вооруженных мечами, копьями и щитами. Если не считать нескольких несущественных деталей, Лейденская Книга Маккавеев и гобелен из Байе рисуют конницу — ее вооружение, защитные доспехи и, насколько позволяет судить изображение, боевых коней — практически одинаково. Рыцарей и всадников в латах, сражавшихся на стороне Эдуарда I и Филиппа Красивого на закате XIII века, едва отличишь. (Конный воин XIII века изображен на рис. 4){148}.
ЛУЧНИКИ
Средневековые луки были трех видов: короткий, длинный и арбалет. Короткий лук имел длину около трех футов, тетиву при стрельбе оттягивали к груди. В средневековой Европе это оружие было распространено очень широко, его применяли в бою разные народы, прежде всего — скандинавы. В определенных обстоятельствах он мог быть весьма эффективен — такой лук, в частности, помог нормандцам одержать победу при Гастингсе, — но с точки зрения дальнобойности и глубины поражения он далеко уступал луку длинному.
Последний достигал в длину почти 6 футов, и тетиву полагалось оттягивать до самого уха. Зародилось это оружие в Южном Уэльсе. Его эффективность в бою так описывали источники конца XII века:
«В войне против валлийцев один из воинов был сражен стрелой, выпущенной валлийским лучником. Стрела вошла ему в бедро, пронзила верхнюю часть ноги, защищенную сверху и снизу железными щитками, проткнула подол его кожаной туники; затем стрела вошла в ту часть седла, которую называют покрышкой, и наконец, вонзилась в коня, причем так глубоко, что животное пало замертво»{149}.
Этим оружием в конце XIII и XIV веке английские короли вооружали своих воинов, оно обеспечило их славные победы в Столетней войне. Однако до той поры применение длинного лука носило крайне ограниченный, сугубо местный характер. В то время в Европе основным, то есть самым эффективным оружием был не длинный и не короткий лук, а арбалет{150}.
Уже в X веке встречаются упоминания о применении арбалета на севере Франции, однако о массовом его использовании можно говорить лишь с конца XI века. Византийская принцесса Анна Комнина описывала оружие крестоносцев как «варварский лук, абсолютно неведомый грекам»{151}, который производил совершенно «дьявольский» эффект (daimonios). Ей вторило обеспокоенное западное духовенство. Латеранский собор 1139 года постановил: «Отныне мы запрещаем, под страхом отлучения от церкви, применение против христиан и католиков этого смертоносного оружия арбалетчиков и лучников, ненавистного Господу»{152}.
Однако церковные запреты не возымели большого действия. К концу XII века крупные отряды конных арбалетчиков, которые князья включали в свое войско, являлись едва ли не самым эффективным и устрашающим инструментом ведения боя. В 1241 году, когда германский король Конрад IV готовился отразить монгольское нашествие, он начертал сжатый перечень тех неотложных мер, которые надлежало принять князьям. В списке из пяти пунктов нашлось место и такому лаконичному предписанию: «Пусть будут у них арбалетчики»{153}.
Арбалеты, при их достаточно невысокой скорострельности, были необычайно эффективны благодаря страшной пробивной силе. Среди останков, обнаруженных в ходе раскопок на поле битвы у Висбю, на острове Готланд (1361), встречаются черепа, пронзенные пятью или шестью арбалетными болтами (стрелами){154}. Это означает, что болт прошел через шлем либо другой головной убор, закрывавший головы идущих в бой готландских крестьян, и пробил черепную коробку. От арбалета не спасали ни кольчуга, ни шлем. Рыцари — предводители конницы тоже стали уязвимы. Французский король Людовик VI был ранен стрелой из арбалета, Ричард Львиное Сердце от такой стрелы пал в сражении.
Об эффективности этого оружия наглядно говорят некоторые эпизоды гражданской войны в Англии 1215–1217 годов{155}. Несколько вождей восстания баронов пали именно под арбалетным обстрелом: арбалетчики обрушили на них град стрел, воспользовавшись стенами замка как укрытием. Когда в 1215 году гарнизон мятежников в Рочестере капитулировал, король Джон (Иоанн Безземельный) повелел освободить тяжеловооруженных всадников из числа взятых в плен за выкуп, но «за исключением арбалетчиков; арбалетчиков, которые за время осады уничтожили слишком много рыцарей и всадников, он приказал вести на виселицу». Эта незавидная участь ждала их в уплату за ту роль, которую они сыграли в бою. В решающем сражении при Линкольне в 1217 году именно «смертоносные стрелы» 250 королевских арбалетчиков решили исход дела, когда беспощадно валили боевых коней рыцарей, «как свиней на бойне».
В определенном смысле арбалетчики были изгои — церковные источники склонны ставить их в один ряд с наемниками и еретиками, — но это были изгои-профессионалы. Внушающие повсюду страх и ненависть, они тем не менее получали хорошее вознаграждение за свой ратный труд. На рубеже XII и XIII веков пеший арбалетчик во Франции зарабатывал вдвое больше, чем простой пехотинец{156}. Европейские правители зачастую привлекали в свои армии арбалетчиков на особых, заманчивых условиях, которые могли фиксироваться документально. Так, например, за службу арбалетчику (per arbalisteriam) иногда давали участок земли{157}. В Силезии немецкий воин мог владеть достаточно крупным участком пригодной для обработки земли, «за которую он служит арбалетчиком, в соответствии с грамотой»{158}. В феодальных бухгалтерских книгах XIII века регулярно встречаются записи о расходах на выплату жалования арбалетчикам, приобретение арбалетов и десятков тысяч болтов к ним[7].
Арбалет стал одним из главных военных достижений эпохи между серединой X и серединой XIV веков; появилось новое оружие, которое вызвало в обществе не только моральный шок, но привело к формированию нового корпуса профессиональных воинов и открыло новые возможности перед европейскими правителями.
На этот же период приходится еще одно нововведение в военном деле, пожалуй, даже более значительное — появление и развитие нового типа фортификационных сооружений.
ЗАМКИ
«Поскольку не все они владели замками, Гуго Абвильский стал могущественнее любого из равных себе. Ибо он мог делать что пожелает, ничего не страшась, полагаясь целиком на защиту стен своего замка, в то время как другие, если и пытались что-то предпринять, легко становились жертвой более сильного соперника, поскольку укрыться им было негде»{159}.
В приведенном отрывке речь идет об основателе династии графов Понтье, который в последние десятилетия X века выдвинулся на фоне своих основных соперников. Как видим, здесь ясно говорится, что решающим фактором возвышения стало наличие у него замка. Именно замок оказался его главным преимуществом. Подобное соперничество в X и XI веках разыгрывалось по всей Европе, и верх неизменно одерживал тот, кто мог эффективно распорядиться своим замком, подобно Фридриху Швабскому, который, по меткому выражению его родственника Отгона Фрейзингенского, «таскал замок на хвосте своего коня»{160}.
Процесс распространения замков в Европе в X–XIII веках имел фундаментальное военное и политическое значение, и при оценке новаторской роли замка как фортификационного сооружения от исследователя требуется максимальная точность. Это задача непростая. В Европе военные укрепления существовали на протяжении тысячелетий, причем в самых разнообразных формах. Ни один набор критериев не дает возможности с абсолютной четкостью провести грань между крепостями Раннего Средневековья и замками Средневековья Высокого. Всегда будут оставаться какие-то сомнения, в чем-то будут усматриваться совпадения и элементы сходства. Тем не менее, если принять за удовлетворительную ту методику оценки, которая позволяет отмечать наиболее распространенные различия, то можно сказать, что замки, во множестве появившиеся в Европе в X–XII веках, характеризовались двумя отличительными особенностями: они имели малые размеры, но большую высоту.
Небольшие размеры замка наглядно подтверждаются примерами, когда они возводились внутри прежних фортификационных сооружений более внушительных габаритов. Одним из таких примеров служат нормандские замки, воздвигнутые в Англии после завоевания. В Олд-Саруме, например, нормандский замок стоит посреди старых земляных укреплений, которые почти в тридцать пять раз превосходят его в поперечнике{161}. Подобный контраст заметен повсеместно. В Оверне, во Франции, небольшие замки нового тысячелетия зачастую строились внутри старых общинных укреплений, которые могли иметь в двадцать раз больший диаметр{162}. На севере Германии мощные саксонские сооружения VIII века подчас имели очень большие параметры. В одном случае, в Скидриобурге, размер таких укреплений составлял 1000 на 800 футов{163}.[8] Величина же замков, воздвигнутых впоследствии на месте или внутри прежних оборонительных сооружений, всегда оказывалась существенно скромнее. Так, например, около 980 года — тогда уже стали появляться замки нового типа — епископ Ольденбургский построил замок в Незенне, в Гольштейне, и сооружение имело поперечник от 50 до 150 футов{164}. Существенное различие в размерах связано, в частности, с разным назначением этих сооружений. Скидриобург был большой общинной крепостью, которая возводилась для зашиты сразу целой общины. Незенна же строилась с иной целью — защитить от вражеского нападения прежде всего епископа, то есть феодала, а заодно и его приближенных и воинов — milites. (Другие примеры см. на рис. 2){165}.
В силу малых размеров и скорее господских, нежели общинных, функций обслуживание замков требовало меньших усилий, а следовательно, и множиться они могли куда стремительнее, чем более громоздкие крепостные сооружения прежних времен. XI и XII века становятся эпохой новых замков, о чем свидетельствуют разбросанные по всей Европе бесчисленные Ньюкаслы (Newcastle), Шатонефы (Chateauneuf) и Нинбурги (Nienburg). На начало XII века в Англии, судя по всему, насчитывалось до 500 замков, причем все они были воздвигнуты за предшествовавшие 50 лет. Несложные расчеты показывают, что в среднем замок стоял через каждые десять миль. Аналогичные цифры можно привести и в отношении некоторых районов Северной Франции. В местах, где ощущалось мощное военное давление, например, вдоль границ Англии и Уэльса или саксонского государства со славянским миром, частота фортификационных сооружений оказывалась еще выше. Милитаризация общества была налицо{166}.
Рис 2. Сопоставление некоторых типов средневековых укреплений по площади
Наиболее характерная черта замков — большая высота — была отчасти следствием их малой площади. Замки не предусматривали мощных оборонительных валов, которые могли бы остановить неприятеля. В их функции как оборонительных сооружений не входило служить укрытием для целой общины перед лицом вражеского набега, а следовательно, в них не предполагалось наличие места для большого числа защитников. Замки строились с таким расчетом, чтобы держать оборону в них могли некрупные отряды, вот для чего их и строили небольшими, но высокими. Высота, во-первых, делала замок недосягаемым, а во-вторых, превращала его в самую высокую точку округи. Укрывшись за стенами замка, гарнизон становился почти неуязвимым, однако мог по-прежнему держать ситуацию под контролем, ибо имел прекрасный обзор местности: «главная башня — что царица, она устремлена ввысь и властвует над округой»{167}.
Для того, чтобы добиться необходимой высоты, проще всего было поставить замок на холме или вершине горы. Таким именно является расположение обширного множества замков, среди которых, в частности, так называемые «гоэнбурги» (Hohenburg) центральной и южной Германии. Если естественного холма в окрестностях не было, его всегда можно было насыпать, и на протяжении XI–XII веков Европа постепенно покрывалась искусственными возвышениями, увенчанными замками. В те времена на Британских островах, во Франции и северной Германии появились сотни рукотворных холмов с диаметром основания в среднем около 100 футов, а вершины — не более 30 футов. Верхняя небольшая площадка (так называемый «мотт» — motte) служила основанием для башни, благодаря чему достигалась еще большая высота. Будучи самой высокой точкой в окрестностях, неважно — на естественном или искусственном возвышении, башня (донжон) являлась завершающим штрихом, последним рубежом обороны, который не только делал защитников замка недосягаемыми для нападавших, но давал им прекрасный обзор и удобную позицию для обстрела неприятеля{168}.
Имея крайне малые размеры, башня, в особенности, если речь идет о раннем периоде и о замках феодалов (в отличие от королевских или княжеских), оставалась последним оплотом защитников, притом самым неприступным. Она представляла собой следующий шаг в решении задачи концентрации оборонительных сооружений, которая и лежала в основе всей истории европейского замка. Описывая в посвященной жизни Людовика Толстого «Книге о делах управления…» нескончаемую череду боев за замки, Сугерий изображает донжон как конечную цель нападавших: в Креси король «занял замок и захватил неприступную башню с такой легкостью, словно это была обыкновенная крестьянская хижина»; в Ле-Пюизе командир гарнизона, руководствуясь тем, что «стены замка не могли служить достаточно надежным укрытием, поднялся наверх в мотт, то есть в деревянную башню»; в Манте «король, облаченный в доспехи, ворвался в замок, стремительно пробился со своим отрядом к башне и взял ее в окружение»{169}. Захватить боевое снаряжение донжона, его личный состав, оружие и припасы — такова была главная цель штурма, равносильная в наши дни взятию штаба противника.
Небольшие по размерам и сравнительно незамысловатые по конструкции замки X–XI веков (получившие в английской литературе название motte-and-bailey) открывали тем не менее большие возможности. Мы уже отмечали, что тот, кто умел извлечь преимущества из этого нового типа фортификационных сооружений, получал превосходство над политическими соперниками, возвышался над другими феодалами, мог завоевать себе главенствующее положение или упрочить его, если оно уже имелось. Прекрасная иллюстрация этого процесса содержится в тексте Альперта Мецкого под названием «О разных временах» (De diversitate temponim), где описывается борьба феодалов нижнего Рейна в начале XI века. «В 200 шагах от Мааса, — писал он, — есть болото, посреди него — небольшой и почти недоступный холм… Для любого, кто желал бы изменения существующего положения вещей (studenti novis rebus), это было удобное место для строительства замка»{170}.[9] «Новое положение вещей» (novae res) было в те времена расхожим сочетанием для обозначения самых решительных, можно сказать революционных, перемен, и приведенный отрывок показывает, что в сознании людей того времени замок олицетворял собой новые возможности для изменения военного и политического устройства.
Как видно из приведенной цитаты из Альперта, такие перемены имели, среди прочего, и чисто географический аспект. По стране передвигались люди в поисках определенного типа ландшафта: им требовалось место, «пригодное для строительства замка». Все остальное уже не имело большого значения: привлекательным для строителей замков начала XI века могло стать любое возвышение, даже посреди топи. Возможно, такая унылая местность впервые открывала людям свои потаенные преимущества. Конечно, немалое число замков строились для получения контроля над уже обжитым районом либо возводились в городах (зачастую — ценой сноса какой-то части предыдущих построек). И все же в целом о процессе распространения замков в Европе следует сказать, что его характерной чертой была ориентация в первую очередь на необжитые земли. Этот момент явственно прослеживается в отчетах о строительстве замков в Германии Генрихом IV в 60–70-х годах XI века. «Он выискивал в незаселенной местности высокие холмы, укрепленные уже самой природой, и строил там замки», — писал саксконский клирик Бруно{171}. Из своих экспедиций в глухие районы король тоже умел извлечь пользу. В 1073 году, оказавшись перед лицом мятежа, Генрих сумел скрыться «в диких лесах, которые были ему знакомы по прежним поездкам по стране, когда он подыскивал подходящие участки для строительства замков». Открывавшиеся благодаря замкам новые возможности, а соответственно, потребность в возведении все новых и новых укреплений этого типа, заставили короля взглянуть на Саксонию по-иному. Отныне его взор привлекали не обжитые сельскохозяйственные районы, а суровые леса и горы. Примеров можно было бы привести множество. Таковым, в частности, может служить замок Окхэмптон на краю Дартмура, который словно взирает сверху вниз на прилегающее селение{172}. Уместно привести также пример предков тюрингских ландграфов, которые вырубили под свои владения чащобу вокруг замка Шауэнбург, высоко в Тюрингенском лесу{173}. Список можно продолжать, но сказанного уже достаточно, чтобы составить представление о роли, какую играли в то время замки.
Небольшое и устремленное ввысь укрепление, распространившееся в Европе в X–XI веках, явилось новым словом в оборонном зодчестве — даже при том, что вскоре в строительстве замков настал новый этап и их стали возводить из камня. Эти две стадии следует рассматривать по отдельности, ибо, хотя эволюцию замка от земляных и бревенчатых сооружений XI века к каменным крепостям XIII века можно считать абсолютно естественной, тем не менее технические возможности и вытекающие из них политические последствия, характеризовавшие каждый из этих этапов, были в корне различны. Мы можем лишь в самых общих чертах проследить развитие оборонного строительства от деревянного сооружения к каменному, протекавшее на протяжении XI, XII и XIII веков. Из камня замки возводились и в X веке, но вплоть до XII века они оставались редкостью. Каменный замок знаменует собой совершенно новый этап в фортификационном деле. Массивные каменные замки конца XII–XIII веков в военном и политическом отношении представляют собой в корне отличное явление от бесчисленных земляных насыпей, увенчанных деревянной башней, которые прежде были распространены по всей Европе. Их сооружение было намного дороже и занимало гораздо больше времени. Насыпать холм и возвести на нем донжон можно было очень быстро. Когда в 1066 году нормандцы высадились на британском берегу, они за две недели до сражения при Гастингсе успели соорудить два таких укрепления. В то же время такие замки, как Дуврский (конец XII века) или замок короля Эдуарда в Уэльсе, возводились десятилетиями. Множились и расходы на строительство. За период 1168–1189 гг. Генрих II истратил на строительство Дуврского замка около 6,5 тысяч фунтов. В среднем его расходы на строительство замков составляли порядка 700 фунтов в год. В годы правления его сына короля Джона (Иоанна Безземельного) эта сумма стала достигать тысячи фунтов в год, а при сыне Джона — Генрихе III (1216–1272) возросла до полутора тысяч в год{174}. Всех их, однако, оставил позади величайший строитель замков Эдуард I, который в одном только Уэльсе за 27 лет израсходовал на возведение замков 80 тысяч фунтов. Для сравнения скажем, что при Эдуарде рыцарь на войне получал 2 шиллинга в день (т.е. 1 фунт в 10 дней){175}.
Для того, чтобы взять приступом более мощные каменные замки XIII века, с высокими башнями, несколькими концентрическими рядами стен, сложными системами запора ворот и условиями для самых изощренных приемов оборонительного боя, уже недостаточно было одной отваги и решимости Людовика Толстого. Развитие фортификации требовало адекватных перемен и в осадном деле. XII и XIII века стали не только эпохой повсеместного распространения и последующего совершенствования каменных замков, но и параллельного развития осадных орудий и всей техники осады. На смену принципу упругости, применявшемуся в гигантских катапультах, осадных луках и других метательных орудиях X–XI веков, пришел принцип противовеса. К началу XIII века в Англии, Франции, Италии и Германии получили распространение стенобитные машины под названием требюше (см. рис. 5){176}. Процесс строительства такой машины с необходимыми чертежами описал французский инженер и зодчий Вийяр де Оннекур{177}. Самые крупные требюше могли метать 500-фунтовые снаряды на расстояние до 300 ярдов. К этому же периоду относится ряд нововведений в области подкопного дела, регулярное использование специалистов, которых сегодня мы назвали бы саперами и военными инженерами, и распространение целого набора штурмовых орудий — таранов, «кошек» и проч. Осадное дело стало настоящей наукой. К примеру, в 1181 году осада обнесенного стеной Гальдерслебена увенчалась успехом благодаря тому, что нападавшие догадались устроить на реке запруду и таким образом город оказался затоплен{178}.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ФРАНКСКОГО ВООРУЖЕНИЯ
Главными отличительными особенностями военного искусства так называемой центральной части Западной Европы в середине X — середине XIV веков являлись, таким образом, упор на тяжелую конницу, наращивание огневой мощи стрелков, в особенности — арбалетчиков, распространение замков, сначала земляных и бревенчатых, а впоследствии — каменных, и параллельное совершенствование осадных механизмов.
Если обратиться к политическим последствиям такого развития военного дела, то следует прежде всего провести четкую границу хронологического и географического порядка. Описанная выше военная технология в одних частях Европы получила развитие раньше, в других — позже. Так, например, деревянный замок с донжоном на севере Франции или в Рейнской области Германии появился в начале XI века, а в Англию был. занесен только во второй половине столетия. Арбалетчики тоже начали применяться раньше на континенте, нежели за Ламаншем. Как и Англия, Саксония также с запозданием, по сравнению с северной Францией или западной Германией, переняла некоторые нововведения в военном деле, в первую очередь — возведение замков. В общем и целом различие следует провести между теми частями Европы, где замки и тяжелая конница к началу XII века уже получили признание, и тем, где это произошло позднее. Если составить карту распространения нового военного искусства в несредиземноморской Европе на рубеже XII века, то на ней будут выделяться три зоны. В первую войдут уже упоминавшиеся северная Франция, Германия и Англия. В этой части Европы стержнем развития военного дела стали тяжелая конница, замки, осадные орудия и лучники, причем роль последних неуклонно возрастала. Были и еще две зоны. В одной главным действующим лицом военной кампании оставались пешие воины, сюда входили Шотландия, Уэльс и Скандинавия. Здешние армии сражались преимущественно в пешем строю, вооруженные копьями и луками, топорами и мечами. Когда в 1247 году английский король наложил на валлийское княжество Гуинет рекрутскую повинность, он определил ее в размере 1000 пеших воинов и 24 хорошо вооруженных всадников — пропорция говорит сама за себя{179}. Последняя, третья зона, которую следовало бы выделить на такой карте, — это район распространения кавалерии, но уже не тяжелой, а легкой. Ядро этого района составляла Восточная Европа, включая земли западных славян, балтов и венгров. Аналогичные методы ведения войны практиковались и в Ирландии. Ирландские конники вообще были значительно легче конного войска в любой другой части Европы, они не знали ни стремян, ни седла как такового и по сути являлись верховыми копьеносцами{180}.[10] Конница в странах Восточной Европы тоже была более легкой по сравнению с немецкой или французской. Немецкий современник с интересом отмечал, что славяне Померании обходятся только одним конем и носят все свое вооружение сами — ни запасных лошадей, ни оруженосцев{181}.
Отличной была ситуация в Средиземноморье, куда армии франков действительно принесли свое вооружение и тактику ведения боевых действий. В государствах крестоносцев, Сицилии и Испании, возводились замки и сооружались мощные осадные орудия{182}. Тяжелая конница людей Запада произвела большое впечатление на греческих и мусульманских очевидцев того времени. Один исламский источник рассказывает, как в 1148 году в Дамаске «конница неверных выжидала, чтобы вступить в бой и продемонстрировать свою прославленную мощь»{183}. В Испании высокое седло и длинные стремена христианских рыцарей считались исключительно удобными для наступательного боя{184}. Менестрель Амбруаз приводит слова мусульманского эмира, который так описывал европейских рыцарей — участников Третьего крестового похода: «ничто не может противостоять им, ибо закованы они в броню — монолитную, прочную и надежную»{185}. Арбалет тоже стал отличительной чертой западных рыцарей в районах Средиземноморья, а в Испании, как и на севере Европы, арбалетчики освобождались от податей и получали щедрые имущественные пожалования{186}.
Тем не менее контраст в этом плане между западными и иными армиями в Средиземноморье был менее разительным, а военное превосходство западных рыцарей менее явным, нежели в других регионах Европы. Противостоявшие войску франков коренные народы и государства имели древние традиции строительства каменных укреплений и изощренных осадных орудий. И в исламской, и в греческой армии была своя тяжелая конница, у мусульман к тому же был в ходу весьма эффективный в бою сборный лук («склеенный клеем», по выражению Фульхерия Шартрского{187}). Менее выраженный разрыв в соотношении сил в Средиземноморье нашел выражение и в результатах военных кампаний. Со временем мусульмане сумели выбить христиан из Палестины и Сирии, а в 1200 году уже двинулись в поход на Испанию. В XIII веке греки вернули себе значительную часть территории, которую потеряли в результате Четвертого крестового похода. И только на море превосходство западных армий носило решающий и продолжительный характер.
Однако в остальной части Европы в обеих названных выше зонах — с преобладанием пешего войска или легкой кавалерии — наблюдался резкий контраст с «центральным районом» — Францией, Германией и Англией. Здешние военачальники, несомненно, были знакомы с кольчугой, но латы все же оставались редкостью. Тут не было «армий, целиком в железе». При том, что оборонительные укрепления существовали, замков в том смысле, о котором шла речь выше, не возводилось; и, хотя воины южного Уэльса были вооружены длинными луками, а скандинавы стреляли из коротких, арбалета в этих краях не знали. Таким образом, картина несредиземноморской Европы к началу XII века как мира рыцарей и замков, арбалетов и осадных машин, постепенно тускнела по мере приближения к северным и восточным окраинам континента. И одним из важнейших достижений XII–XIII веков надо считать как раз раздвижение границ этого мира рыцарей и замков. Распространение новых методов ведения военных действий имело глубокие политические последствия. Оно по сути дела перевернуло весь кельтский, скандинавский и восточноевропейский мир.
Новое направление в развитии военного искусства находило себе дорогу тремя взаимосвязанными способами. На первое место надо поставить прямое завоевание. Рыцари и строители замков центральной части Западной Европы, со своими арбалетчиками, применяли всю имеющуюся военную мощь для расширения границ своих владений на запад и восток. Нормандское вторжение в Британию и немецкие завоевания в Восточной Европе сопровождались переносом новой тактики ведения войны и нового вооружения на завоеванные районы. Второй канал распространения достижений ратного искусства был напрямую связан с первым. Перед угрозой вторжения более сильного противника местные правители и знать, опасаясь за свою власть, прибегали к самому верному способу отпора агрессии — подражанию. К середине XIII века правители, например, Уэльса или Померании уже практически не уступали своим врагам в вооружении и тактике военных действий (как и во многом другом). Третий канал распространения нового военного искусства был, по сути, разновидностью только что описанного. Многие правители кельтского мира, Северной и Восточной Европы переняли получившие к тому времени распространение в Англии, Франции и Германии военные и организационные нововведения не в порядке вынужденной меры самообороны, а в рамках осознанной, целенаправленной политики укрепления своего могущества. Вспомогательной мерой в этой политике было наращивание подвластных им людских ресурсов. Таким именно образом — в результате завоевания, путем подражания либо в ходе планомерного развития — на протяжении XII, XIII и первой половины XIV веков новые методы ведения военных действий постепенно распространились за пределы Англии, Франции и Германии и укоренились на всем латинском Западе, а кроме того — среди некоторых языческих народов.
Наилучшим примером первых двух способов такого проникновения, завоевания и подражания, может служить история Восточной Прибалтики. Установление в начале XIII века власти германцев над этими землями описано хронистом Генрихом Ливонским, который известен своим детальным отражением военных вопросов и самым глубоким интересом к вооружению и военному искусству в целом{188}.[11] Его свидетельства не оставляют сомнений, что существование германских колоний в Восточной Прибалтике (носившей в те времена название Ливония) зиждилось на их военном превосходстве как в техническом, так и в тактическом отношении.
Первый германский миссионер в Ливонии, Майнгард, пришедший сюда в 80-е годы XII века по следам немецких купцов, оказался евангелистом проницательным и даже расчетливым. После того, как ливонцы пережили ожесточенный набег со стороны литовцев,
«Майнгард назвал ливонцев глупцами за то, что у них не было фортификационных сооружений. Он пообещал, что построит им замки, если они примут решение стать сынами Господа. Те согласились и поклялись принять крещение. И вот на следующее лето из Готланда были доставлены каменщики».
Вскоре в Ливонии впервые появились каменные замки, воздвигнутые иностранными строителями. Для местных народов, которые до этого знали лишь укрепленные сухой кладкой земляные строения, каменная кладка на известковом растворе явилась откровением. Таким образом, Майнгард подметил военное превосходство своего народа, немцев, и попытался использовать его в своих целях, то есть для обращения ливонских язычников в христианскую веру. В итоге, однако, его одурачили: едва заполучив себе новые замки, ливонцы поспешили вернуться к язычеству.
Эта история, изложенная на первых страницах «Хроники» Генриха Ливонского, служит прологом к той теме, которая проходит красной нитью через все его сочинение, — военному превосходству немцев и постепенному распространению их ратного мастерства среди их врагов. Каменные замки представляли лишь один элемент этого превосходства — у немцев на вооружении были еще и мощные доспехи. Это давало им не только физическое, но и психологическое преимущество. Так, перед лицом превосходящих сил литовцев, немецкий князь Конрад «… и сам, и его конь закован в латы, как рыцарь, двинулся в бой против бесчисленных литовцев во главе тех немногих немецких воинов, которые у него оставались. Тогда неприятель дрогнул, ослепленный блеском доспехов, Господь наслал на него ужас, и литовцы расступились перед немецким войском». Отметим, что именно «блеск доспехов» (nitor аrmorum) поверг врага в панику. Когда группа немецких рыцарей «двинулась в самую гущу вражеских воинов, те испугались вида их закованных в броню лошадей». Конечно, преимущества, которые открывало в бою применение доспехов, не ограничивалось только внушаемым неприятелю ужасом. Генрих Ливонский отмечает полное отсутствие у местных воинов надежного защитного снаряжения, что делало их исключительно уязвимыми в бою. В одном из сражений «не защищенные доспехами неприятельские воины падали под градом стрел, которые разили их во все части тела». Генрих точно фиксирует подмечаемые им различия: эстонцы «не носили лат, поскольку не имели такой привычки к доспехам, какая была у других народов».
Уязвимость не защищенных доспехами или легко вооруженных прибалтийских воинов сочеталась с превосходством немцев в метательном вооружении. Решающее различие двух войск заключалось в наличии у немцев арбалетчитков. Они могли оборонять крепость или корабль; они могли сражаться на поле боя; они были незаменимой силой при штурме вражеских укреплений. Описан случай, когда неприятель обошел крепость стороной только потому, что навстречу ему выступили арбалетчики. Это произошло в 1206 году, когда русские переправились через реку Двину и подошли к крепости Укскюлль, построенной немцами незадолго до этого. «Некоторые получили серьезные ранения от стрел арбалетчиков… Им стало ясно, что в крепости засели немцы, и они предпочли двинуться дальше по реке… Русским было неведомо искусство стрельбы из арбалета».
Немцы имели превосходство и в осадном деле. При штурме крепости Межотне в 1220 году
«одни воины строили башню, другие возводили патерель, третьи вели огонь из арбалетов, четвертые построили “ежей” (передвижные укрытия) и начали подкоп под крепостной вал. Были еще такие, которые носили из леса бревна и кидали их в ров, после чего перетащили через него башню, тогда другие тоже принялись копать, укрываясь под нею… наконец была воздвигнута большая машина, и в форт полетели огромные камни. Их размер поверг защитников крепости в великий ужас».
Сочетание осадных башен, подкопов и метательных орудий было на редкость эффективно. Самый большой страх наводили на обороняющихся массивные метательные орудия. Среди местных приемов ведения боя достойного ответа этим новшествам не существовало. При осаде Феллина «немцы соорудили машину и, метая камни денно и нощно, сокрушили укрепления и положили бесчисленное множество людей и животных, которые скрывались внутри крепости, ибо эстонцы никогда не видели ничего подобного и не укрепляли домов так, чтобы они могли выдержать подобный штурм», «…ибо эстонцы никогда не видели ничего подобного» — в этой фразе, как в капле воды, отражен тот разрыв, какой существовал в развитии военного дела в сердце Европы (в лице Франции, Германии и Англии) и на ее географических окраинах. Именно наличие этого разрыва позволило небольшой кучке немцев навязать свое владычество куда более многочисленным коренным народам Восточной Прибалтики. Однако Генрих Ливонский в своей «Хронике» не только описывает военные победы немцев; в его труде находит отражение и сопротивление местных племен немецкой экспансии. В процессе этого сопротивления прибалтийские народы и сами овладевали новыми тактическими приемами.
Коренным народам новая военная наука давалась нелегко, и некоторые первые попытки сопротивления оказались настолько неудачными, что походили скорее на фарс. Так, во время осады Холма в 1206 году «русские тоже соорудили небольшую машину по примеру немецкой, но, будучи незнакомы с техникой метания камней, они направляли их назад и поранили многих своих воинов». Столь бесславные попытки привели к тому, что после первых немецких вторжений потребовалась жизнь почти целого поколения, чтобы коренные народы к 20-м годам XIII века стали наконец овладевать и метательными орудиями, и арбалетом. Если немцы (или датчане, которые в тот период тоже вторгались в земли Восточной Европы) стремились установить свое владычество в этом регионе, им было необходимо для этого опираться на местное население. Коренные жители были нужны им не только как производители сельскохозяйственной продукции, уплачивающие дань и десятину, но и в качестве военных союзников. Чужестранцев для поддержки независимого военного формирования было явно недостаточно. В то же время, для того чтобы рассчитывать на действенную поддержку местных дружин, им требовалось хотя бы минимальное знакомство с передовыми достижениями военного искусства их немецких завоевателей. Таким образом и происходил толчок к распространению новых военно-технических знаний.
Способ, которым получили осадные орудия эзелийцы (один из народов, населявших современную территорию Эстонии), показывает, какими именно каналами шло это распространение. Эзелийцы, которых можно считать одним из самых воинственных и диких народов из всех, с кем пришлось столкнуться завоевателям, в 20-х годах XIII века готовились к крупномасштабному отпору захватчикам, и их приготовления включали среди прочих такие меры, как снаряжение специальных миссий к одному из соседних племен, уже овладевшему осадными орудиями благодаря опять-таки своим иноземным завоевателям:
«Некоторые из них отправились в Варболь изучать технику патере ля, машины, которую принесли народу Варболя покорившие его датчане. Они возвратились в Эзель и принялись строить патерели и другие машины и обучать других. Каждый из них делал для себя машины».
Вскоре они обучили этому искусству другие эстонские племена и русских. Если в начале своей «Хроники» Генрих Ливонский называет применение осадных машин «немецкой техникой» (ars Theutonicorum), то к концу его труда появляется еще и сочетание «эзелийская техника» (ars Osiliarum).
Распространение немецкого военного искусства проходило и другими путями. Особенно это относится к начальному этапу, когда завоеватели нуждались в местных силах не только в качестве вспомогательных и подчиненных им отрядов, но и в роли независимых союзников. Среди самых заманчивых приманок, которые они могли предложить потенциальному союзнику, было преподнесение в дар каких-либо новых средств ведения войны. Так, епископ Риги, предводитель немцев в Ливонии, отправил в дар соседним русским князьям закованных в латы боевых коней и военных советников. Правитель другого соседнего королевства — Кукенойса (Кокенгузена) получил «двадцать крепких воинов, в доспехах и на коне, рыцарей, арбалетчиков и каменщиков для укрепления его крепости».
Коренные племена знакомились с новым оружием не только в виде орудий своих поработителей или даров союзников. Они добывали его и на поле боя, снимая с тел убитых вражеских воинов. Многие местные воины обзавелись кольчугами, сняв их с немецких трупов. При взятии крепостей в их руки попадали доспехи, кони и арбалеты. Какие-то фортификационные сооружения немцы укрепляли, но затем оставляли под натиском местных народов, теперь отбить их назад становилось сложнее. В целом можно сказать, что к 1220-м годам немцы в некоторых областях оказались перед лицом противника, который использовал оружие и технику ведения боя, все в большей степени походившую на их собственную.
Из этой истории явствуют два вывода. Первый — что немцы обладали военным превосходством, основанном на наличии у них тяжелой конницы, каменных замков, арбалетов и осадных орудий (плюс к их преимуществам в кораблестроении). Второй — что разрыв в военном искусстве не был таким разительным, чтобы коренные племена не могли со временем ликвидировать отставание. До некоторой степени ситуация была схожа с более поздней колонизацией Америки и Африки, однако в этом случае техническое превосходство завоевателей было не столь подавляющим.
Похожим образом развивались события в Уэльсе и Ирландии в XII и XIII веках. Здесь, как и в Восточной Прибалтике, первоначальное вторжение иноземцев стало возможным благодаря военному превосходству завоевателей. Например, практика строительства замков была привнесена сюда именно захватчиками, и классическим первым шагом англо-нормандских авантюристов, прибывавших в Уэльс или Ирландию в XII–XIII веках, было возведение центрального замка. «После того, как нормандцы победили англичан в бою, — писал о Уэльсе один наблюдатель XII века, — они присоединили к себе и эту землю, укрепив ее многочисленными замками»{189}. Этот процесс ярко предстает в валлийской хронике под названием Brut у Tywysogion:
«Король послал к Гилберту фиц-Ричарду, который был храбр, знаменит, и могущественен, и дружен с королем, — то был человек, славный любыми своими делами, — и обратился к нему с просьбой прибыть к нему. И он явился. И король обратился к нему. “Ты всегда, — сказал он, — желал получить от меня часть земли бриттов. Теперь я вверяю тебе территорию Кадугана. Иди и возьми ее”. И он с радостью принял ее из рук короля. И тогда собрал войско и со товарищи пришел в Середиджен. И захватил его и возвел там два замка»{190}.
Таким образом валлийцы познакомились с замками как инструментом завоевания — в точности как Англия столетием раньше, а Ирландия полстолетием позже. В Ирландии закованные в тяжелые доспехи англо-нормандцы столкнулись с противником, не имевшим такой мощной защиты: «Иноземцы и ирландцы из Тимхэра [Тары] вступили в неравный бой: рубахи из тонкого атласа были на сынах Конна, иноземцы же были монолитной фалангой из металла»{191}. Когда О'Конноры в 1249 году напали на Этенри и «увидели, как из города на них надвигается жуткая конница в кольчугах, страшный ужас охватил их, и они обратились в бегство».{192}
Тем не менее, как и в Ливонии и в других частях Восточной Европы, превосходство завоевателей в военной технике не было непреодолимым и продолжалось не вечно. Хотя один валлийский автор XII века описывал, как англо-нормандцы «возводят замки по образу и подобию французских»{193}, к концу столетия валлийские князья сами применяли осадные орудия и строили каменные замки{194}. Осмотические процессы, такие, как смешанные браки, прием гостей, наличие пленников на службе при дворе местных правителей, изгнание и временное союзничество, ломали барьеры между захватчиками и коренным населением. Превосходство в искусстве фортификации и боевых доспехах, не говоря уже о преимуществе нетехнологического порядка (более высокие уровень жизни и численность населения) позволили англо-нормандской знати, в некоторых случаях при поддержке крестьянских поселений, осуществить вторжение в Уэльс и Ирландию. Однако покорения местного общества или замены его новым удалось избежать.
Таким образом, Уэльс периода конца XI — конца XIII веков был в некотором смысле наполовину завоеванным государством. Аналогично складывалась судьба Ирландии, однако здесь процесс приобрел постоянный характер. В обоих случаях на судьбе страны отразилось военное превосходство врага, которого хватило для установления своего колониального правления, но не для того, чтобы заполучить все.
Успехи англо-нормандских завоевателей были не безграничны. Одной из причин этого было то обстоятельство, что их военное искусство не всегда и не в любых условиях оказывалось превосходящим. Например, тяжелая конница хорошо подходила к равнинной местности, но в гористом рельефе Уэльса или на ирландских болотах воин в тяжелой кольчуге мог оказаться и бесполезен. В одном случае описывается, как кто-то из англо-нормандских предводителей побуждал своих людей побыстрее выбраться из узкой долины, где им грозила внезапная атака противника:
«Лорды и бароны! Слушайте все! Быстрей пройдем эту долину, Чтобы достичь холма, И оказаться на твердой почве и открытой местности»{195}.Неровности рельефа часто снижали эффект от применения западноевропейской тяжелой конницы, причем не только в Уэльсе или Ирландии, но и в Восточной Европе{196}. Показательна в этом отношении гибель Вильгельма Голландского в 1256 году. Он атаковал фризов — «неотесаный, дикий и необузданный народ», чьи воины носили легкие доспехи и бились в пешем строю, вооруженные дротиками и топорами, и те коварно заманили его в замерзшее болото. Вильгельм, «в шлеме и кольчуге, верхом на огромном боевом коне, закованном в броню», провалился под лед и метался в ледяной воде, пока фризы не прикончили его{197}.
Несмотря на подобные ограничения, есть все основания считать, что в военном отношении центральные районы Западной Европы имели значительное превосходство. Это особенно наглядно видно из тех случаев, когда правители областей, расположенных на географической периферии, проводили осознанную политику освоения новых военных приемов. Это третий из упоминавшихся выше методов распространения передового военного искусства.
Если исконные правители поощряли преобразования в своем обществе, то у них появлялась возможность сохранить власть перед лицом внешней угрозы. То была своеобразная прививка нового к старому стволу. Этот процесс протекал в нескольких странах — Шотландии, западнославянских княжествах Померании и Силезии, в скандинавских государствах, но сопровождался переменами разного характера. В некоторых случаях местную знать надо было подавить и каким-то образом трансформировать либо нейтрализовать. Могли предприниматься усилия по поощрению притока иноземных переселенцев. Могла быть сформирована новая аристократия. Существенные изменения подчас претерпевали и отношения с внешними государствами.
Классическим примером страны, которая под руководством своей правящей династии, осознанно поощрявшей иммиграцию извне, видоизменилась сама, служит Шотландия. Этот процесс включал, в частности, полную трансформацию военной и политической системы скоттов. Картину того, как это происходило, можно воссоздать, рассмотрев три последовательных фазы многолетней истории шотландских набегов на север Англии. В годы правления Малькольма III (1058–93), а затем в 1138 и 1174 годах армии скоттов подвергли Нортумберленд разграблению. В исполненных боли отчетах английских хронистов об этих трех эпизодах, естественно, традиционно присутствует мотив невзгод. Но есть и существенные различия, указывающие на перемены в военной и политической сфере.
Когда воины Малькольма III в конце XI века в легких доспехах двинулись на юг, их целью было жечь, грабить и порабощать. Успешный набег был большим шагом вперед в экономическом плане, поскольку служил источником пополнения поголовья скота и людских ресурсов. «Молодые мужчины и женщины, и все, кто с виду подходил для тяжелой работы, были уведены в стан неприятеля… Шотландия наполнилась английскими рабами и служанками, так что отныне не осталось такой деревни и даже дома, где бы их не было»{198}. Среди богоугодных деяний английской жены Малькольма III, королевы Маргарет, было освобождение и выкуп таких рабов{199}.
У англичан, оказавшихся перед лицом такой угрозы, было две возможности. Во-первых, они могли перебраться в другое место, более надежно защищенное. Хорошо укрепленный Дарэм в годы нашествия скоттов был наводнен беженцами. До нас дошло описание того, как в 1091 году, к вящему неудовольствию автора-церковника, стада скота заполнили церковный двор и монастырская служба была едва слышна за плачем детей и причитаниями матерей. Однако не у всякого поблизости было такое надежное укрытие, да и там, где было, места для всех не хватало. Альтернативой было бросить насиженные места и бежать в дикие места, ища защиты в горах и лесах{200}. В 1091 году «некоторые попрятались в укромных местах в лесу и горах». В 1070 году скотты сделали вид, что возвращаются на свою территорию, дабы выманить беженцев из их укрытия и заставить вернуться в родные селения, а потом разграбить{201}. Когда скрыться от врага в лесу или таком центре, как Дарэм, оказывалось невозможно, единственным убежищем становилась церковь, где можно было хотя бы рассчитывать на каменные стены и могущество местного святого. Примерно в 1079 году воины короля Малькольма подошли в Гексаму:
«Народ Гексама знал о ярости короля, но что им было делать? Их было слишком мало, чтобы оказать сопротивление, ни крепости, где укрыться, ни союзников, от кого ждать помощи. Единственная их за щита заключалась в силе их святых, которую они так часто ощущали на себе. И они собрались в церкви»{202}.
В те времена на севере Англии замков почти не было. Замки, конечно, не могли бы вместить все население округи, однако они безусловно способствовали бы более достойному отпору завоевателям. Не имея же замков, население вверяло себя «защите мест, осененных присутствием святых мощей»{203}. (Другие средневековые источники отмечают, что те районы, где не было замков, нуждались в особенно энергичных святых, как покровителях, так и мстителях{204}.)
Ситуация менялась стремительно. По сути дела, перемены начались уже во времена Малькольма III, причем происходили они по обе стороны границы. Во-первых, после нормандского завоевания по всей северной Англии начали возводить замки. Уже в 1072 году один такой замок был построен в Дарэме. Он предназначался не для того, чтобы защищать крестьянскую скотину или плачущих младенцев, а чтобы «епископ и его люди могли надежно укрыться в случае нападения». В 1080 году был возведен Ньюкасл, а в 1092 — Карлайл. В начале XIII века епископ Дарэмский основал замок в Норэме на Твиде «для отпора бандитским набегам и вторжениям скотгов»{205}. Вторым, но не менее важным этапом стали события в самой Шотландии. Сыновья Малькольма III, в особенности Давид I (1124–1153), видели военное превосходство соседей и соперников с юга и начали проводить осознанную политику насаждения в Шотландии в качестве своих вассалов англо-нормандских рыцарей и баронов{206}. В противоположность Уэльсу и Ирландии «нормандское завоевание» Шотландии было по сути приглашением, и только. Короли скоттов могли отныне опираться не только на легковооруженное местное войско, но и на чужаков — тяжелых всадников и строителей замков. Среди самых известных исторических источников, иллюстрирующих этот процесс, — грамота 1124 года о пожаловании королем Давидом земли Аннандейл на юго-западе Шотландии Роберту Брюсу, англо-нормандскому аристократу, один из потомков которого впоследствии правил на шотландском троне{207}. Здесь, вдоль границ мятежной провинции Галлоуэй, было заложено обширное феодальное владение с замками башенного типа, причем хозяин этой земли поддерживал самые тесные связи с королем. Преимущества этого процесса в глазах короля были тем более очевидны, чем явственнее ощущалась угроза извне местной знати и населению Галлоуэя. Уже в 1124 году под текстом грамоты поставили свидетельские подписи не местные магнаты, а переселенцы англо-нормандского происхождения.
Если перейти к рассмотрению шотландского вторжения 1138 года, то совершенно очевидными оказываются политические и военные последствия распространения новых военных технологий как в Англии, так и в Шотландии{208}. В некоторых случаях набеги этого года носили характер примитивного разграбления и взятия рабов, хорошо знакомого отцу короля Давида: «Все мужчины были убиты, а девушки и вдовы, обнаженные и связанные, толпами угнаны в Шотландию в рабство». Тем не менее времена менялись. Известно, что король Давид свою часть рабов вернул, хотя не исключено, что это лишь штрих к портрету конкретной исторической личности и не стоит делать обобщений. Источники выделяют как особо жестоких поработителей пиктов, то есть коренных шотландцев{209}. Однако армия скоттов в 1138 году состояла не из одних пиктов или воинов из Галлоуэя, «прославившихся» тем, что мозжили младенцам головы о порог{210}, но и значительное количество недавно осевших в этой стране нормандских рыцарей. Армия скоттов образца 1138 года становилась все более похожа на аналогичные войска англо-нормандской Англии.
За время, прошедшее после 1070 года, изменились и методы ведения войны. Строительство замков на севере Англии означало, что захватчики столкнулись с новыми трудностями. Рыцари, засевшие в английских замках, могли совершать неожиданные вылазки и обращать скоттов в бегство{211}. Их необходимо было нейтрализовать. Возможно, что для этого могла потребоваться длительная осада. В одном случае король Давид держал в осаде замок Уорк на протяжении трех недель, применяя «арбалеты и механизмы»{212}. Замки являли собой новую цель и новый инструмент ведения войны. Они таили в себе не только новые сложности, но и новые возможности. Для Малькольма III, в конце XI века, вопрос «захвата» Нортумберленда вряд ли бы стоял. Он мог жечь, грабить, порабощать. Он мог взыскать дань или отступного либо взять заложников. Но как только его люди возвращались в Шотландию, все его внешнее могущество сводилось к потенциальной угрозе соседним народам. Когда же на Севере были отстроены замки, захват этой земли стал более реальным: отныне он означал захват и удержание замков. За несколько лет до вторжения 1138 года Давид I как раз это и сделал: «огромным войском он занял и удерживал пять замков»{213}. В число этих пяти входили Карлайл, Ньюкасл и Норэм — те самые замки, которые были воздвигнуты для отпора скоттам. Парадоксально, но фортификационные сооружения, призванные защищать от вторжения, сделали это самое вторжение и завоевание куда более реальным и продолжительным. Замки стали инструментом для осуществления владычества.
Напряжение и трудности, с которыми сталкивалось королевство, оказавшись перед лицом описанного выше военно-политического процесса, наглядно проявились на поле боя при Норталлертоне, где в 1138 году состоялась так называемая «битва Штандартов» между скоттами под водительством короля Давида и англо-нормандскими войсками Северной Англии. Перед самым сражением в стане скоттов произошла отчаянная ссора. Король и его нормандские и английские советники решили выставить в авангард «так много рыцарей в доспехах и лучников, как только возможно». Тотчас же возроптали воины Галлоуэя: «Чего, о король, ты робеешь, и почему так страшат тебя эти железные доспехи, что ты видишь вдалеке?.. Мы уже побеждали людей в кольчугах». Один из шотландских эрлов даже похвалялся: «О король, зачем ты идешь на поводу у этих чужеземцев, когда ни один из них, при всей их броне, в сегодняшнем бою не останется стоять передо мною, хоть я и без доспехов!» В ответ один придворный нормандец обвинил эрла в бахвальстве, и ситуация разрядилась только тогда, когда король согласился поставить отряды Галлоуэя вперед.
В сражении сразу стало ясно, какие трудности для противника таят в себе новые методы ведения боя. Воинские порядки отличались разительно. Передовые отряды скоттов образовали галлоуэйцы, «незащищенные и голые», с копьями и щитами из воловьей кожи. За ними двигались войска под командованием сына короля, в составе рыцарей и лучников. Собственная гвардия короля включала английских и французских рыцарей, эти больше походили на противника, нежели на передовые отряды своего войска{214}.
В «битве Штандартов» галлоуэйцы отважно и решительно шли вперед, воодушевляя себя боевыми возгласами, но их остановили плотные ряды закованных в броню рыцарей и град стрел — «северные мухи с жужжанием вылетали из колчанов и обрушивались на них, как ливень». «Сплошь покрытые стрелами, как еж иголками», лишившись сраженных в бою командиров, остатки шотландского войска дрогнули. Вскоре англичане перешли в наступление, рыцари шотландского короля увели его с поля боя, и вся армия скоттов обратилась в бегство. До самой границы ее атаковали еще и местные племена, которые давно страдали от шотландских грабежей и набегов. Король Давид, должно быть, мечтал, чтобы у него было больше иностранных рыцарей и баронов, а военные преобразования шли быстрее — тогда они могли бы продвинуться дальше.
Его внук Вильгельм I Лев (1165–1214) продолжил политику короля Давида. «Он всячески привечал, любил и держал при себе иноземцев. Своих же земляков он никогда не жаловал». В 1173–1174 годах он вторгся в Англию в попытке захватить Нортумберленд, где надеялся «заполучить замок и его главную башню». Вильгельм начал осадную войну. Его осадные орудия, однако, были несовершенны (одна метательная машина поубивала нескольких собственных воинов — этот случай похож на описанную выше историю с прибалтами, произошедшую 30 годами позднее), однако в целом война была похожа на тогдашние военные действия во Франции или Германии. Помимо не защищенных доспехами местных ополченцев, в его армии были собственные рыцари и многочисленные французские наемники. Когда читаем о сражении при Альнвике, где король был взят в плен, то узнаем о том, насколько мужественно проявил себя король скоттов. В отношении него употребляются эпитеты pruz и hardi (мудрый и храбрый) — классическая похвала рыцарю тех времен. Рыцари Шотландии называются «славными вассалами» (mult bons vassaus), о них сказано, как, сражаясь с английскими рыцарями, они проявляли взаимное уважение, как были вынуждены сдаться и ожидать выкупа. Один поединок между рыцарями двух армий описан в таких выражениях:
«В тот день особо отличился Вильгельм де Мортимер. Как разъяренный вепрь, носится он в гуще противника. Он наносит серию мощных ударов, но в ответ получает не менее сильные. Вдруг он оказывается лицом к лицу с бесстрашным рыцарем, лордом Бернаром де Бейлиолем… Он повергает его вместе с боевым конем наземь, но освобождает под честное слово, как полагается между рыцарями. Лорд Бернар проявляет себя наилучшим образом, он достойный противник. В конце сражения слава достанется тому, кто лучше бьется мечом и положит больше врагов»{215}.
Единственное, что отличает в данном эпизоде шотландских рыцарей от английских, это то, что они находятся в противоборствующих станах. Если верить одному источнику, то король Вильгельм по ошибке сначала принял наступающих англичан за своих людей, возвращающихся из очередного набега{216}. Вот наглядный показатель того, насколько внешне стали похожи конницы двух армий. И этот момент отлично уловили галлоуэйцы. Для них английская знать и пришлые аристократы нормандского происхождения являли собой такого же противника, как армия с южных рубежей. Как только они услыхали о захвате короля Вильгельма в сражении при Альнвике, они поднялись, разрушили все новые замки, выстроенные в Галлоуэе, и поубивали всех чужаков, каких сумели отыскать{217}. Эта их акция показывает, насколько напряженная борьба развернулась в Шотландии в результате появления там, пускай по приглашению правящего дома, новой знати, владевшей передовым военным искусством. Тем не менее будущее было за чужаками. В XIII веке именно армия закованных в латы воинов и арбалетчиков обеспечила шотландцам превосходство над «незащищенными и голыми» жителями острова Мэн{218}. К XIV веку потомки нормандских рыцарей уже владели шотландской короной.
Процесс, протекавший в Шотландии между XI и XIV веками, имеет параллели и в других странах. Так, Померания, которая в конце XI века была страной легкой конницы, набегов за рабами и политически раздробленного общества, за XII–XIII века изменилась кардинально. Пригласив многочисленных германских рыцарей, даровав им землю и заполучив их к себе на военную службу, местная правящая династия тем самым укрепила собственное могущество и получила возможность, наподобие Шотландии, противостоять натиску извне. В грамотах померанских князей первой половины XIII века год от года растет число свидетельских подписей немецких рыцарей, и они все больше напоминают документы типа жалованной грамоты Аннандейля, упомянутой в Главе 2. Написанный в другое время и в другом месте, этот документ был сродни грамотам, порожденным схожими мотивами и побуждениями.
В скандинавских королевствах, как и в Шотландии, прогресс в военной области совершался без завоевания извне. Датские гражданские войны 30-х годов XII века знаменуют появление немецкой тяжелой конницы и осадной техники в Скандинавии: в 1133 году в Роскильде саксы построили осадные машины, и на следующий год триста немецких «сильнейших воинов» (milites… fortissimi) принимали участие в битве при Фотевике{219}. Однако внедрение военных новшеств и привлечение иноземных рыцарей явно проходило под контролем местных правителей. Хотя между сторонниками передового военного дела и консерваторами шла ожесточенная борьба{220}, скандинавские правящие династии и знать на всем протяжении периода военной модернизации сохраняли свою власть и независимость.
Привлечение в свое войско нормандских рыцарей королями Шотландии, так же, как германских — правителями Померании или Дании, может иметь двоякое объяснение. Во-первых, и это причина более общего плана, найм иностранных воинов сам по себе имел определенную привлекательность в глазах любого средневекового правителя. Ни один из них не стремился развивать национальную государственность, зато все жаждали укрепления и расширения своего военного могущества. Самым простым способом добиться этого и был набор воинов с их последующим вознаграждением. Никаких причин ограничивать этот набор политическими барьерами не было. В действительности для правителя в нем были реальные преимущества. Иноземные воины, во всяком случае поначалу, оказывались в полной зависимости от того монарха, которому служили. Они никак не были связаны с местной аристократией, не были привязаны к этой земле, а потому их преданность не подвергалась сомнению, и они не могли составить серьезного соперничества власти. Они были мобильны, стремились проявить себя и заслужить награду. Вот почему не приходится удивляться, что военные дружины многих крупных правителей Средневековья в значительной степени состояла из иностранных воинов. Однако в таких областях, как Шотландия или земли западных славян, эти соображения общего порядка подкреплялись еще и некоторой спецификой: здесь чужаки были носителями более совершенной техники ведения войны. Это объясняет приход англо-нормандцев в Шотландию и ту роль, какую сыграли в XII–XIV веках в Польше, Богемии, Венгрии и других землях Восточной Европы немецкие гости (hospites){221}. Говоря словами одного венгерского проповедника, «по мере того, как из разных земель приходят поселенцы, они несут с собой разные языки и обычаи, разные умения и виды оружия, которые служат украшению и славе королевского дома и смиряют гордыню внешних правителей. Королевство, в котором есть только один народ и одна традиция, обычно слабое и непрочное»{222}.
Конечно, было бы упрощением пытаться объяснить изменения на политической карте Европы 1300 года одним только воздействием конкретного вида военного искусства. Часто решающими оказывались другие факторы. Нельзя упускать из виду многочисленные соображения политического и культурного толка, не говоря уже о демографических и экономических факторах. Для Шотландии, в противоположность Уэльсу и Ирландии, решающим в жизнеспособности государства оказалась достигнутое на раннем этапе династийное единство. В Восточной Европе политическое будущее целых народов порой определялось временем их обращения в христианскую веру: те, что были крещены раньше, то есть до 1000 года, вступили в Позднее Средневековье в качестве монархий, у других была иная участь. Как можно было бы ожидать, военные процессы скорее взаимодействовали с политическими, нежели определяли их. Тем не менее один из важнейших элементов общеисторического процесса той эпохи заключался в распространении тяжелой конницы, замков и передовой баллистической техники из районов их происхождения между Луарой и Рейном в земли, а значит и армии ирландских королей и литовских герцогов.
4. ОБРАЗ ЗАВОЕВАТЕЛЯ
«Хартия меча — что лучше может быть?»{223}
По мере того, как в XI, XII и XIII веках военная западноевропейская аристократия расширяла свое влияние, ее представители создавали не только государства завоевателей и колониальные общества, но и формировали представление о себе и своих кампаниях. Образы завоевателя и завоевания дошли до нас в хрониках и документах, которые составляли их церковные «братья и кузены», в песнях и рассказах, которые сама сочиняла и с удовольствием слушала знать. Эти письменные творения воспроизводят речь и жестикуляцию прославленных завоевателей. Они донесли до нас терминологию и риторику, сравнимые по накалу страстей с самой экспансией. Появляются в них и мифологические мотивы: первое пришествие завоевателей; фигура героического воина-первопроходца, бедного рыцаря или знатного, который рискнул пуститься в опасное иноземное предприятие; сверхчеловеческие подвиги новых героев. Из всех этих источников облик завоевателя вырисовывается таким, как он видел себя сам.
Этот завоеватель был человек с определенным набором побудительных мотивов и своим эмоциональным строем. Классические имиджмейкеры, какими по сути являлись ранние хронисты нормандского завоевания на юге Италии (Готфрид Малатерра, Вильгельм Апулийский, Амат Монте-Кассинский{224}), не склонны приписывать успех нормандцев их превосходству в живой силе или техническим преимуществам, а скорее ряду психологических особенностей. Нормандцы составляли лишь небольшой островок северян посреди целого моря ломбардцев, греков и мусульман, но они превосходили их в моральном отношении. Во-первых, им была присуща необычайная энергия (strenuitas). Этот мотив особенно явственно прослеживается в трудах Малатерры, который пишет о невероятной энергии представителей клана Огвилей, стоявших во главе нормандской кампании; о том, как «мощно управлялись с оружием» предводители нормандцев; о людях, «снискавших славу благодаря своей храбрости»; об обращениях военачальников к своим воинам перед битвой, в которых звучали призывы «помнить о прославленной мощи наших предков и нашей расы, которую мы сохранили до наших дней»; и о страхе греков оказаться порабощенными «силой наших людей»{225}. Вторжение Роберта Гвискара в материковую часть Византии в 1081 году тоже показало его «беспримерное бесстрашие и энергию рыцаря».
Нормандцам присуща не только неистощимая сила, но и храбрость. Если верить Малатерре, они были «самыми стойкими воинами» (fortissimi milites), и «всегда бились храбро» (fortier agentes). Текст Амата Монте-Кассинского дошел до нас лишь в более позднем французском переводе, но, судя по всему, есть основания полагать, что и во французском варианте сохранился дух — и, возможно, лексика — раннего этапа нормандского завоевания. В сочинении описываются «рыцари редкой отваги» (fortissimes chevaliers), которые правили Южной Италией из своей столицы Аверсы, «города Аверсы, полного рыцарей» (plene de chevalene)', и рассказывается о том, как «с каждым днем росла слава нормандцев, и с каждым днем множились бесстрашные рыцари». «Сказать по правде, — пишет он с обезоруживающей откровенностью, — отвага и бесстрашие (la hardiesce et la prouesce) этой горстки нормандцев стоила больше целого сонмища греков». Он воспевает их «смелость» (сorage), «храбрость» (hardiesce) и «доблесть» (vaillantize) и пишет о том, как каждый византийский император отмечал «храбрость и силу народа Нормандии»{226}.
Под пером этих пронормандских летописцев появление нормандцев знаменовало совершенно новую силу на исторической арене. Оно означало приход народа, который, среди прочего, выделялся своим военным мастерством, «народа Галлии, более мощного на поле брани, нежели любой другой народ», как пишет об этом Вильгельм Апулийский{227}. Во время сицилийской кампании 1040 года, когда нормандцы служили в наемных частях византийского войска, самые храбрые из мусульман Мессины обратили в бегство греческий контингент: «Затем пришел черед наших воинов. Мессинцы еще не испытывали на себе нашей отваги и поначалу бились свирепо, но когда осознали, что враг силен как никогда, то отступили перед натиском этой новой, воинственной расы»{228}. Эта «новая раса» изменила правила ведения войны и связанные с нею ожидания.
Отчасти эти перемены означали нарастание жестокости, грубости и кровожадности, ибо необузданная жестокость была таким же важным атрибутом воинской доблести, как сила и доблесть. «Свирепые нормандцы», как назвал их Вильгельм Апулийский{229}, именно тем и славились. Местным ломбардским князьям они виделись «дикой, варварской и ужасной расой нечеловеческого нрава»{230}. И этот образ тщательно культивировался. Один инцидент, демонстрирующий нарочитую жестокость нормандских вождей, произошел во время спора между нормандцами и греками по поводу награбленной добычи. В лагерь явился греческий посланник. Стоявший поблизости нормандец потрепал его коня по голове. Потом вдруг, «чтобы греческому посланнику было, что поведать грекам о нормандцах по возвращении, голым кулаком нанес удар коню в шею, одним ударом свалив его наземь почти бездыханным»{231}. Такое дерзкое и леденящее душу своей жестокостью увечье коня посланника (которому, впрочем, немедленно был предоставлен новый конь, причем лучше прежнего) должно было довести до сознания греков одну мысль: нормандцы не колеблясь проливают кровь. Еще более примечательный пример намеренной жестокости представляет эпизод, имевший место после того, как нормандский вождь граф Роджер в 1068 году разбил войско Палермо в небольшом отдалении от их родного города{232}. Мусульмане взяли с собой почтовых голубей, которые теперь попали в руки нормандцев. Роджер повелел пустить голубей лететь назад в Палермо, где женщины и дети ожидали известий. Голуби принесли им весть о победе нормандцев, причем записки были начертаны кровью убитых мусульман.
Цель такой неоправданной жестокости, которую можно назвать осознанной демонстрацией неистового нрава, была в том, чтобы добиться подчинения. В изображении источников это было не просто проявление необузданности и не какая-нибудь дикая форма самовыражения. Насилие имело целью довести до сознания местного населения, что на сцену вышли новые игроки и победа их предопределена. В другом отрывке, у Вильгельма Апулийского, мы читаем о первом вторжении Робера Гвискара в Калабрию:
«Повсюду нормандцы прославили себя, Но, не изведав еще их могущества, Калабрийцы пришли в ужас от появления Столь воинственного вождя. Робер, поддерживаемый Множеством воинов, повелел повсюду, куда они вступали, Грабить и жечь. Земля была опустошена, И все было сделано для того, чтоб повергнуть жителей в страх»{233}.Аналогичным образом, когда Робер Гвискар осадил город Кариати, были предприняты все усилия, «чтобы падение его навело трепет на другие города»{234}. Мотив совершенно ясен: требовалось «нечто ужасное, что можно было бы поведать о нормандцах». Окруженные со всех сторон врагами куда более многочисленными, они могли компенсировать это лишь рассказами о своей «природной воинственности и свирепости»{235}.
Целью террора являлись богатство и власть. И нормандцы и их летописцы так же открыто, как о насилии и жестокости, писали о своей алчности:
«Они распространяются по всему миру тут и там, по разным областям и странам… этот народ стронулся с места, оставив позади небольшое состояние, чтобы заполучить большее. И они не последовали обычаю многих, кои перемещаются по земле и поступают на службу к другим, но, подобно рыцарям древности, пожелали всех обратить в своих подданных. Они взялись за оружие, и нарушили мир, и совершили много воинских подвигов и рыцарских деяний»{236}.
Такими словами Амат рисует картину кочующего воинственного племени, влекомого жаждой наживы и владычества. Аналогичную оценку дает Малатерра: «Нормандцы — это раса коварная, они всегда отвечают мщением на причиненное им зло, предпочитают иноземные поля своим в надежде заполучить их себе, они жадны до добычи и власти»{237}. «Жадные до господства»{238} — таким сочетанием Малатерра обычно характеризует клан Огвилей. Граф Роджер, один из наиболее удачливых представителей этого клана, по его словам, «был одержим природной жаждой господства».
Галерея образов и сложная комбинация эмоций и качеств, какими рисуются нормандцы — завоеватели Южной Италии в XI веке, не ограничивались лишь этим историческим контекстом. Другие авторы, писавшие о деятельности рыцарей-агрессоров, использовали ту же терминологию и образный ряд. Ордерик Виталий, летописец нормандцев в период наивысшего подъема их захватнического движения, в своем труде употребляет слово strenuus и его производные 142 раза. Смешанное войско нормандцев, англичан, фламандцев и немцев, которое в 1147 году осаждало Лиссабон, по свидетельству автора, удостоилось похвалы своего союзника, короля Португалии: «Мы хорошо знаем, и убедились на опыте, что вы бесстрашны, и сильны, и неукротимы». Конечно, эти похвалы бледнеют перед тем, как восхваляли себя сами нормандцы. Так, предводитель нормандского войска в Лиссабоне Эрве де Гланвиль произнес такую речь:
«Кто не знает, что нормандский народ не жалеет усилий для приумножения своего могущества? Его воинственность лишь усиливается перед лицом враждебности, она не ослабевает из-за трудностей, а когда они преодолены, разве предается он праздности и бездействию и дает себя поработить? Ибо он хорошо знает, что порок лености преодолевается действием»{239}.
В другом отрывке из того же текста, посвященного захвату Лиссабона, в уста мусульман, засевших в осажденном городе, вложены слова: «Вами движет не нищета, — обратились они к армии франков, — а ваши внутренние устремления»{240}. Ссылка на эти «внутренние устремления» (mentis… ambitio), психологические устремления, выходившие за рамки экономической необходимости, встречается также в другом пассаже Ордерика Виталия. После провала нормандской кампании против византийцев в 1107 году один из воинов, как явствует из текста, обратился к их предводителю, сыну Роберта Гвискара Боэмунду, со словами: «Не наследное право подвигло нас на это опасное предприятие… но желание править в чужих владениях заставило тебя пуститься в столь рискованный поход… и жажда добычи манила нас»{241}.
Энергия и жестокость западноевропейских завоевателей, их жажда господства, описанные в сочинениях западных летописцев, присутствуют и в их характеристике, оставленной арабскими и греческими наблюдателями. Тот факт, что образ западноевропейской военной аристократии в изображении «своих» и «чужих» совпадает, наводит на мысль, что этой знати действительно были присущи явственные поведенческие особенности. Конечно, образ — это не более чем картинка, в ряде случаев — изображение самих себя, но все это не просто фигуры речи. Психология завоевателей, их видение собственного облика, тот образ, какой хотели представить они сами, какой рисовали их братья во Христе и каким его видели их враги, складываются в единый рисунок.
Естественно, этот образ оказывается менее привлекателен, когда рисуется людьми, пострадавшими от насилия и свирепости захватчика, но в целом это тот же самый образ нормандца-завоевателя, что отображают нормандские историки, только вышедший из-под пера жертв этого насилия. Летописцы нормандского завоевания южной Италии, такие, как Амат Монте-Кассинский, неизменно рисуют противостоящих им греков как народ невоинственный и в каком-то смысле женственный{242}. Так, во время первого столкновения нормандцев с греками северяне обращают внимание, что греки «похожи на женщин», и в одной своей речи перед походом предводитель нормандцев обращается к своим воинам со словами: «Я поведу вас против женоподобных мужчин» (homes feminines). Поразительно, что это противопоставление мужественной мощи нормандцев и «женственности» византийцев явно перекликается с различием в социальной психологии этих двух групп, которое признается самими греками, хотя, разумеется, в другой формулировке.
Анна Комнина, дочь византийского императора Алексея (1081–1118), в своем труде «Алексиада» дает знаменитый портрет западного рыцарства, в частности нормандцев из Сицилии, которые прошли через Константинополь по пути в Святую землю. Ее отец, император, пишет она, заслышал о грозящем появлении «несметного воинства франков»: «Его встревожило их появление, ибо он был знаком с их необузданным нравом и непостоянством взглядов и намерений… и с тем, как они неустанно рвутся к богатству и способны в этом рвении под самым ничтожным предлогом нарушить свои обещания». Их неистовый нрав и непредсказуемость сочетались, однако, с неизменной несокрушимостью: «Кельты (такой термин Анна Комнина часто употребляет в отношении завоевателей с Запада) в любом случае отличаются исключительным бесстрашием и дикостью нрава, когда же случай на их стороне, они становятся несокрушимы». Их жадность предстает как составная часть все того же комплекса присущих завоевателям качеств: «Латинская раса вообще отличается алчностью, когда же они решают завоевать какую-либо страну, они становятся необузданны и впадают в безумство». Западные армии демонстрировали неистовую решимость схватиться в бою с любым соперником:
«Кельты независимы, они ни у кого не ищут совета и никогда не следуют воинскому порядку или мастерству, однако, случись сражение или война, сердца их наполняются отчаянной храбростью, и ничто не может их удержать. Не только рядовые солдаты, но и командиры неустрашимо бросаются в самую гущу неприятельских рядов»{243}.
Как отмечает Анна Комнина, ратная доблесть западных вождей была под стать отваге их воинов — какой контраст с учеными генералами, в отдалении наблюдающими за ходом сражения, пока солдаты бьются врукопашную. Как сказал об этом мусульманский эмир Усама ибн Мункыз в своей «Книге назидания», «у франков ничто так не ценится в мужчине, как воинская доблесть»{244}. «Каждый кельт, писала Анна, стремится превзойти других». Именно личная физическая сила и мужество служили залогом успеха в этом военизированном обществе, где столь большое значение имело личное соперничество. Она замечает, что Роберт Гвискар «обладал страстным и свирепым сердцем, и отношение к врагам у него было такое, что либо он пронзит противника копьем, либо сам падет от удара». Его сын Боэмунд, к которому Анна испытывает одновременно отвращение и восхищение, «был груб и дик… И даже смех его повергал окружающих в трепет». Злость и напыщенность были присущи и племяннику Боэмунда Танкреду, и он во всем вел себя «под стать своему племени»{245}. В этих мужах легко узнать грубых героев нормандских летописцев. Анна Комнина наверняка согласилась бы с характеристикой, которую дал Гвискару Малатерра: «Во всем он проявлял наивысшую храбрость и наибольшее рвение ко всему великому»{246}.
Грекам захватчики виделись иррациональным, варварским племенем с необузданной жаждой власти — «кровожадными и воинственными людьми», по словам историка Михаила Атгалеятеса{247}. Мусульманин Усама писал о том, что «франки — это животные, наделенные добродетелями отваги и бесстрашия, но и только»{248}. Необузданность, храбрость, грубость и алчность — вот какой демонический сплав качеств определял облик завоевателя. Этим качествам предстояла долгая жизнь.
ЗАВОЕВАНИЕ И МИР ВООБРАЖЕНИЯ: ВРЕМЯ, ВОСПОМИНАНИЯ, ОБРАЗ ПРОШЛОГО
Победоносное и зачастую драматическое продвижение западной военной машины в эпоху Высокого Средневековья, которое сопровождалось переселением немногочисленных групп военной знати в Палестину, Грецию, Андалусию, Ольстер и Пруссию, а вслед за тем эмиграцией сельского и городского населения, порождали весьма самоуверенные настроения. Франкские воины стали видеть себя людьми, «которым Господь даровал победу, как фьеф»{249}. Им уже виделось будущее с новыми земельными владениями, у них сформировался менталитет, который нельзя назвать иначе как экспансионистский. Опыт успешного завоевания и колонизации наложил отпечаток на сознание князей, феодалов и духовенства. Теперь они были внутренне готовы к тому, что в будущем все больше владений будет захватываться силой, все больше полей — расчищаться и заселяться в плановом порядке, будут расти поступления от сбора дани, налогов, ренты и десятины.
Наглядный признак такой уверенности в продолжении экспансии заключается в наличии множества перспективных, умозрительных либо ожидаемых даров и титулов. У средневековой знати существовал своеобразный фьючерсный рынок. Это отчетливо видно, в частности, из того титула, который с 1059 года носил завоеватель южной Италии нормандец Роберт Гвискар: «Милостью Божией и св. Петра, герцог Апулийский и Калабрийский и, с их помощью, будущий герцог Сицилийский»{250}. Часто составлялись документы, в которых шел доскональный дележ еще только предполагаемых к захвату территорий. Так, например, король Кастилии и граф Барселоны в 1150 году заключили договор «в отношении земли Испании которую в настоящее время держат сарацины»{251}. По условиям этого документа к графу после завоевания должны были отойти Валенсия и Мурсия взамен на его оммаж королю. В этом случае дележ владений оказался несколько преждевременным, ибо десятилетие спустя Альмохады спустились с Марокканских гор, и христиане оказались втянуты в отчаянную оборонительную войну. Потомки графа Барселонского вплоть до 30–40-х годов XIII века не могли получить обещанное им еще в 1150 году. Конечно, экспансионистское мышление само по себе не означает экспансии. Тем не менее частота, с какой такие пожалования обсуждались и производились, позволяет говорить об общей атмосфере готовности к продолжению захватов как светской, так и церковной знати.
Рыцарские ордена оказались самыми жадными до такого рода «фьючерсных» пожалований, причем на всех трех направлениях, куда были направлены их устремления, — в Восточном Средиземноморье, Пиренеях и Прибалтике. Крестоносец Раймунд III, правитель Триполи, даровал госпитальерам право владения мусульманским городом Хомсом в 1185 году, то есть в то самое время, как Саладин шаг за шагом отвоевывал государства крестоносцев{252}. Испанские короли регулярно делали предварительные пожалования военным орденам и отдельным церквям. Когда Раймонд Беренгар IV Арагон-Каталонский в 1143 году делал весомые дарения тамплиерам, он подчеркнул: «Я признаю за вами право безраздельной десятины от всего, что сумею с Божьей помощью получить, и отдам вам пятую часть от завоеванной земли сарацинов»{253}. В конце XI века Санчо Рамирес Арагонский пожаловал одному французскому монастырю десятину от дани, уплачиваемой ему мусульманами Эхеи и Парадильи, и добавил: «Когда Господь в своей святости отдаст эти селения святому христианскому миру, мечети в обоих селениях будут превращены в церкви Христовы и Девы Марии Великоспасительницы»{254}. Расширение границ латинского христианства было не только отчетливо видно современникам, но и имело в их глазах реальные перспективы. В одном эпизоде в Прибалтике рыцари-крестоносцы, судя по всему, проявили чрезмерную торопливость. Генрих Ливонский подробно рассказывает о том, как Орден меченосцев, созданный крестоносцами в интересах латинской церкви в Ливонии (восточная часть Прибалтики), добивалась от епископа Риги «третьей части всей Ливонии и других земель и племен этой области, еще не обращенных в веру Христову, которые в будущем Господь обратит в свою веру посредством их совместных усилий с другими мужами Риги»{255}. Епископ возразил: «Человек не может отдать то, что ему не принадлежит», — и крестоносцам пришлось довольствоваться третьей частью уже завоеванных земель. Чаще, однако, местные правители с радостью отдавали то, что им не принадлежало. Подобно Вильгельму Завоевателю они считали, что «лишь тот победит врага, кто сумеет распорядиться не только своим, но и вражеским имуществом»{256}.
В Ирландии и Уэльсе также практиковались «фьючерсные» пожалования. Английские короли могли даровать какому-нибудь барону «все земли и владения, которые он захватил или сумеет захватить в будущем у валлийского неприятеля», либо «все земли, которые он может завоевать у валлийцев, врагов короля»{257}. Обширные гипотетические пожалования производились в отношении земель ирландских королей. Известен курьезный случай, когда Коннахт был в один и тот же день жалован одному англо-нормандскому лорду и местному королю{258}. В более локальном масштабе феодалы делали пожалования подобные тому, что произвел Николас де Вердон: десятину «от двух рыцарских ленов в первом же имении с замком, которое будет у меня в земле Уриель»{259}, или как рыцарь Рулин: «все церкви… и десятину… со всех земель, какие я завоевал и еще завоюю в Ирландии»{260}. В Италии нормандцы были настроены не менее оптимистично. Их предводитель в середине XI века Вильгельм Железная Рука предложил поделиться с князем Салерно «землей уже завоеванной и той, что предстоит завоевать»{261}. Когда Робер Гвискар и его брат Роджер преодолели свои разногласия, они договорились, что Роджеру достанется половина Калабрии, «которая уже захвачена или будет захвачена, вплоть до Реджио»{262}. Мечты о будущих завоеваниях проникли даже в мир сновидений. Одному монаху из Беневенто приснились два поля, полные народу, одно большое, другое поменьше. Толкователь разъясняет: «Эти люди — те, кто милостью Божией отданы в подчинение Роберу Гвискару; на большом поле — те, кто станут его подданными, но пока еще ими не являются»{263}. Логика сновидения в буквальном смысле открывает новое поле для завоевания.
Таким образом, завоеватели и колонизаторы, которые в эпоху Высокого Средневековья продвигались из Западной Европы в периферийные области континента, с нетерпением предвкушали будущую экспансию. Оглядываясь назад, они ясно различали основные этапы завоевания и колонизации. Средневековые завоеватели осознавали, что их права зиждутся на завоевании, а не являются чем-то исконным, и воспринимали этот факт как отрадный. Для потомков знати, предпринимавшей захватнические походы, само завоевание вошло в миф и стало точкой отсчета, своего рода историческим водоразделом. Вильгельм Апулийский в хронике «Деяния Робера Гвискара» так сформулировал свою задачу:
«Как поэт новых времен, я попытаюсь воспеть деяния людей нашего времени. Моя задача — поведать, под чьим командованием народ Нормандии Пришел в Италию, как он остался там И кто те вожди, что привели его к победе в том краю»{264}.Момент получения в собственность той или иной земли становился ориентиром, вокруг которого строились воспоминания и само прошлое. «О время, по которому тоскуешь! О время, которое вспоминать чаще всех других времен!»{265} — писал французский клирик по поводу взятия Иерусалима крестоносцами в 1099 году. Для более поздних авторов из Иерусалимского королевства тоже стало характерно вести хронологию событий от «освобождения города»{266}, но это крайний случай трактовки героического захвата земли. Распространение в хрониках того времени датировки событий от захвата конкретных городов меркнет перед тем исключительно важным значением, какое средневековые авторы стали придавать завоеванию как таковому, провозглашая его началом принципиально новой эры. Захват маркграфом Бранденбургским своего столичного града был описан в следующих выражениях: «в год от воплощения Господня 1157, июня 11 дня, маркграф, милостью Божией, получил во владение, как победитель, город Бранденбург»{267}. Подобные триумфальные победы и новые начинания находим в испанских хрониках:
«То было в день перенесения мощей св. Исидора Леонского, который был. архиепископом Севильи, в год одна тысяча двести восемьдесят шестой испанской эры, а в год от воплощения Господа нашего Иисуса Христа одна тысяча двести сорок восьмой, когда благородный и удачливый король Дон Фердинанд вошел в сей благородный град Севилью»{268}.
Присутствующие при тех начинаниях вскоре стали героями легенд, и в общественной памяти им было отдано особое место. Присяжные в судебном процессе 1299 года в Ирландии ссылаются на событий столетней давности, а именно — на деяния «Роджера Пи-пара, первого завоевателя Ирландии»{269}, а Готфрид де Жанвиль, властитель Мита, узаконивая привилегии своих баронов в конце XIII века, сделал это после того, как «выслушал и вник в существо хартий и записей моих магнатов Мита и их предков, которые первыми пришли в Ирландию с Гугоном де Ласи для завоевания»{270}. Участие в завоевании действительно могло стать основанием для особого положения в обществе, как было в греческой Морее (полуостров Пелопоннес), захваченной франкскими рыцарями на волне четвертого крестового похода 1204 года, где существовала особая привилегированная группа «баронов завоевания»{271}. Это были потомки тех, кто получил землю во времена «завоевания Княжества». Они были наделены правом распорядиться своим фьефом по завещанию, тогда как другие, менее привилегированные фьефы, в случае отсутствия прямых наследников, переходили в собственность господина. Известен случай, когда один взбунтовавшийся вассал был наказан тем, что его фьеф был переведен из одной категории в другую, «так что в будущем он не мог распоряжаться им как землей, полученной в результате завоевания (tenir de conqueste)». Уже сами названия этих привилегированных баронских держаний служили напоминанием о том, что они образовались благодаря завоеванию, и о тех пэрах, кто в этом завоевании участвовал. «Морейский закон», как сформулировал один исследователь, «сформировался под сильным влиянием самого факта завоевания»{272}.
Воспоминания о захватнических походах могли бы послужить основой для идеологии грубого аристократического эгалитаризма. Поскольку исходный этап в развитии того или иного политического образования представлялся как опасное предприятие, в котором все участники поровну делили опасность и бились за будущее вознаграждение, то потомки захватчиков первой волны могли спекулировать памятью о той нехитрой совместной экспедиции, чтобы противостоять давлению королевской власти. Именно такого рода пример дает франкская Морея. Будучи пленен императором Византии и принужден передать свои земли, морейский князь Вильгельм де Виллардуэн весьма точно сформулировал эту, пускай и небесспорную, идею:
«Отныне этой землей Морей, о господин, я не владею ни как родовым имуществом, ни как частью земли, что получил я от своих предков, с правом отдать или даровать ее кому пожелаю. Землю эту завоевали рыцари, пришедшие сюда, в Романию, из Франции вместе с отцом моим на правах его друзей и товарищей. Они захватили землю Морей силою меча и разделили между собой, словно развесив на весах; и каждый получил сообразно своему рангу, а затем они все избрали моего отца… и сделали его своим предводителем… Следовательно, государь император, я не имею полномочий отдавать ни клочка той земли, которой владею, ибо предки мои завоевали ее в бою согласно нашим обычаям»{273}.
Точно такие же идеи получили развитие и в других государствах и владениях крестоносцев. «Мои предки пришли вместе с Вильгельмом Незаконнорожденным и мечом отвоевали себе землю», — так отвечал граф Варенн на обвинения судей quo warranto Эдуарда I{274}. «Король не сам завоевал и подчинил себе эту землю, его сподвижниками и товарищами были наши предки». Когда Эдуард I подверг сомнению королевский статус эрла Глостера в его валлийском княжестве Глэморган, тот отвечал, что «владеет этими землями и свободами по праву завоевания, принадлежащему ему и его предкам»{275}.
Территориальные захваты породили целый «кодекс завоевания», который был намного сложнее примитивного закона джунглей. Когда христиане в 1099 году взяли Иерусалим, они грабили и присваивали дома в городе в соответствии со своеобразной этикой захватчика:
«После великой резни они вошли в дома горожан и унесли все, что ни попадалось им под руку. Кто первым входил в дом, будь то богатый дом или бедный, тому никто не должен был препятствовать никаким образом, он же брал себе и отныне владел домом или дворцом и всем, что в нем находил, как своей собственностью. Такое правило они установили между собой и ему следовали»{276}.
В XII веке мусульманский эмир Усама описывал, как, захватив город, христиане затем «забирали себе в собственность дома, и каждый из них метил дом крестом и водружал на нем свое знамя»{277}.
Осознание завоевания как перелома естественным образом порождало определенное восприятие предшествовавшего ему времени, то есть эпохи до нашествия, когда конкретная земля имела других господ и других жителей. Эта память о согнанных с земли прежних ее хозяевах нашла отражение в том, как в грамотах и других документах того времени употребляются обороты типа «во времена ирландцев» — об Ирландии, «во времена мавров» и «во времена сарацинов» — об Испании или «во времена греков» — о венецианском Крите{278}. А в одном удивительном случае словосочетание «во времена сарацинов» было использовано в отношении будущего пожалования: после отвоевания у мусульман города Дении (к югу от Валенсии) владеть им станет граф Барселоны «со всем имуществом и всей недвижимостью, что могла находиться в собственности у сарацинов во времена сарацинов»{279}. Как видим, те, кто готовил документ, не только заглядывали в будущее, но словно видели в нем самих себя оглядывающимися назад, то есть фактически в свой нынешний день.
Таким образом, картина, которая отпечаталась в сознании завоевателей и новых поселенцев, включала устойчивый образ того, что можно обобщенно назвать «днями оными» — то есть временами до нового (и продолжающегося) положения вещей. Естественно, что жизненно важным являлся вопрос законных прав, уходивших корнями в прежние времена. Люди размышляли, стало ли завоевание отправным моментом для правовой tabula rasa, новой точкой отсчета, или же в новую эпоху продолжают действовать имущественные права и привилегии прошлых времен, существовавшие до крутого поворота истории. Так, в Ирландии правовое значение завоевания определялось тем, что от него пошло новое толкование прав собственности. Церкви, существовавшие еще до прихода англо-нормандцев, всеми силами стремились заручиться подтверждением своего права собственности на землю и другое имущество, которое получили до переломного момента, определяемого чаще всего как «пришествие англичан»{280}, «завоевание Ирландии англичанами»{281}, «приход франков в Ирландию»{282}, «приход англичан и валлийцев в Ирландию» (это — у некоего Генриха фиц-Риса){283}, или, что точнее всего, «первый приход графа Ричарда [Стронгбоу] в Ирландию»{284}. В 1256 году епископы провинции Туам и их держатели жаловались, «что их в судебном порядке лишают земли, которой они и их предшественники мирно владели во времена лорда Генриха, деда короля [т.е. Генриха II], и со времен завоевания англичанами и даже до их появления в Ирландии»{285}. Решение короля по этой петиции не оставляло надежд на легитимность прежних владений, имевшихся до завоевания:
«По этому предмету предусматривается и устанавливается в законодательном порядке, что если какой-либо истец станет обосновывать свои земельные притязания тем, что это владения его предков до времен Генриха, деда короля, и до завоевания англичанами, а не земля, полученная во времена Генриха или после завоевания, то такой иск будет отвергнут на основании одного этого факта».
Подтверждение права «после завоевания» в ирландском судопроизводстве стало определяющим моментом. Это был рубеж, от которого шел отсчет при вынесении судебных решений, своего рода черта{286}. Аналогичным образом в Уэльсе королевские юристы отвергали иски, основанные на грамотах местных князей, используя огульный аргумент, что «земля Уэльса — это земля завоевания… и сие завоевание аннулировало все свободы и собственность каждого человека и передало их Английской Короне»{287}. Даже в тех владениях, где коренные династии не были покорены, а возглавили процесс утверждения новой, колониальной знати и изменения социальной модели, существовало глубокое осознание этой временной грани. Когда один из герцогов Мекленбургских, потомок славянских князей-язычников, в XIII веке благополучно переживших бурную волну немецкой аристократической, бюргерской и крестьянской иммиграции, решил подтвердить права и свободы своих вассалов, он с этой целью утвердил за ними «право, каким пользовались их отцы и деды со времен новой колонизации». «Новая колонизация» (novella plantacioffo была тем отправным моментом в истории, с которого началась новая эпоха этого региона и который прочно отпечатался в сознании тех, кто пришел сюда позднее.
ЛИТЕРАТУРА ЗАВОЕВАНИЯ
Таким образом, завоевание и колонизация могли восприниматься как драматический и поворотный момент и зачастую в представлении участников (или жертв) событий рисовались совершенно особым, переломным и, судя по всему, героическим периодом истории. Первое поколение поселенцев слагало предания о своем походе в чужую землю, рисовало портреты злодеев и героев первых лет завоевания и выбирало из потока событий отдельные наиболее яркие моменты для своих сказаний. Началось создание некоего ядра рассказов, легенд и воспоминаний, часть которых передавалась в виде письменных текстов. Завоеватели и переселенцы создавали литературу завоевания.
То представление о завоевании, которое сформировалось в прозе и стихах Высокого Средневековья, во многих случаях сыграло стержневую роль в дальнейшем развитии литературы. Например, французская проза начинается именно как литература завоевания. Ее самые ранние образцы — это два сочинения, написанные в 1210-х годах, среди которых прозаический рассказ на французском языке Робера де Клари о четвертом крестовом походе, открывающийся словами: «Здесь начинается история тех, кто завоевал Константинополь, а позже мы поведаем о том, кто они были и что их туда привело»{288}. Другим примером литературы, призванной оправдать захватническую политику, служит сочинение Жоффруа де Виллардуэна «Завоевание Константинополя»{289}, написанное одним из предводителей экспедиции, причем в исключительно апологетических тонах. Примерно к тому же периоду относится перевод на народный язык «Хроники» Вильгельма Тирского, воссоздающей историю государств крестоносцев. Этот труд, вместе с его французским продолжением (которое могло быть написано и раньше), получил известность у современников под названием «Книги завоевания» (Livre dou conqueste){290}.
Через двадцать лет после прихода англо-нормандцев в Ирландию в 1169 году Геральд Валлийский написал «Завоевание Ирландии» (Expugnatio Hibemica), исключительно пристрастный рассказ о том, как его родственники «штурмовали ирландские твердыни»{291}. Будучи представителем одного из рода, возглавлявших поход, Геральд имел возможность черпать материал из воспоминаний своих дядьев и кузенов, которые на протяжении двадцати лет сражались на полях Ирландии. Их «славные подвиги стали для них залогом вечной памяти и прославления», — писал он{292}. Его хроника — это семейный эпос завоевания, во многом сопоставимый с трудами историков нормандского завоевания южной Италии XI–XII веков. Дополнением к сочинению Геральда может служить еще один героический эпос тех же событий, но написанный в ином жанре, который уже подпадает под определение не хроники на латыни, а французской летописи в стихах. Это так называемая «Песнь о Дермоте и Графе», представляющая собой 3500 восьмисложных стихов. В ней можно обнаружить массу литературных приемов, свойственных устному преданию, таких, как прямые обращения к аудитории («Господа бароны… знайте, что…»), упор на правдивость рассказа («без обмана», «поистине» и пр.), в особенности путем указания на источник («что мы узнали из песни») и повтором строк («Они повсюду разослали за лекарями / Чтобы лечить больных: / Чтобы лечить своих раненых / Они повсюду разослали за лекарями»). Точная дата написания и имя автора этого сочинения пока остаются предметом споров, однако можно почти уверенно сказать, что в своем сегодняшнем виде «Песнь» была записана в первой четверти XIII века, хотя речь в ней идет о событиях 1170-х годов{293}.
Как ни странно, основание немецкой колонии в Восточной Прибалтике, начавшееся несколькими десятилетиями позже прихода англо-нормандцев в Ирландию, также оказалось запечатлено в латинской прозе пером церковного летописца. Существовал также и стихотворный народный вариант. Латинская версия, в этом отношении не менее ценная, чем летопись Геральда, — это «Хроника» Генриха Ливонского, в которой поэтапно, год за годом, описывается утверждение немцев в Ливонии начиная с последних десятилей XII века вплоть до 1227 года. В отличие от Геральда Генрих испытывал очевидную симпатию к местному населению и считал себя в равной степени и колонистом, и миссионером. Он критикует жесткость немецких мирских судей, «которые исполняли свои обязанности не столько для выражения уважения к суду Господню, сколько для набивания своих кошельков»{294}; и дает пространное и сочувственное описание визита папского легата Вильгельма Сабинского, который «увещевал немцев не возлагать на плечи неофитов невыносимого бремени, но лишь бремя Господне, легкое и приятное»{295}. Рождение в муках новой колонии в Ливонии, как и ее последующая история, также остались запечатлены в немецком стихотворном произведении под названием «Лифляндская рифмованная хроника» (Livlandische Reimchronik), написанном в конце XIII века, по-видимому, членом Тевтонского рыцарского ордена{296}. Существование параллельно латинского и народного варианта текстов в обоих случаях — в Ливонии и Ирландии — придает письменному свидетельству особенную яркость, так как колониальное общество в самом начале его становления рисуется одним из его непосредственных представителей.
Вся литература завоевания стремится объяснить самим завоевателям, «почему мы здесь». «Песнь о Дермоте» делает это в наиболее персонифицированном виде. Ирландский король Дермот крадет красавицу жену у своего соперника О'Рурке, с ее молчаливого согласия, а О'Рурке, «дабы смыть позор» (sa hunte… venger), вступает в союз с О'Коннором, «Верховным Королем», чтобы напасть на Дермота. В этот момент многие союзники Дермота его бросают: автор «Песни» порицает этих людей за измену (traisun) и клеймит их как предателей и изменников (felun и traitur). Преданный и изгнанный, Дермот ищет убежища в Англии и жалуется, что «мой собственный народ незаконно изгнал меня из моего королевства». С согласия короля Англии совет англо-нормандских рыцарей решает помочь Дермоту. Вскоре вслед за тем англичане высаживаются в Ирландии и принимаются за подавление предателей. История похищения прекрасной Деворгвиллы и мщения были тем сюжетом, который наверняка трогал дупш средневековых рыцарей, даже если они не были знакомы с фабулой «Илиады». Изображение первых англо-нормандцев в Ирландии в качестве рыцарей — искателей приключений, помогающих «благородному королю» вернуть отнятое изменниками наследство, вполне отвечало настроениям переселенцев. Кроме того, эта поэма имеет и более прозаическое значение в плане легитимизации английской колониальной знати, поскольку в ней содержится подробный, длиной более ста строк, отчет о том, как проходил дележ земли между переселенцами первого поколения:
«Затем эрл Ричард дал Морису Фицджеральду Тот самый Наас, что сей добрый эрл Отдал Фицджеральду со всеми почестями. А вот земля Оффелана, Принадлежавшая предателю Маккелану. Он также отдал Виклоу Все земли между Бреем и Арклоу. То были земли Киллмантейна От Дублина до Вэксфорда. Двадцать поместий в Омэрэти Эрл благородный также дал Бесстрашному Вальеру де Ридельсфорду»{297}.Этот отчет о раздаче земли Лейнстера и Мита по сути представляет основные положения типовой грамоты и даже был назван (возможно, не без преувеличения) «своего рода изначальной “Книгой Страшного суда” первого англо-нормандского поселения»{298}.
Аналогичным образом «Завоевание Ирландии» (Expugnatio Hibernica) Геральда Валлийского дает ответ на вопросы, кто были первые англо-нормандцы на острове и в чем истоки колонии. Однако его оценки крайне своеобразны, и далеко не все захватчики в его изображении предстают героями. Геральд выступает глашатаем интересов конкретной группы внутри захватнической элиты, ее первой волны, прибывшей в основном из южного Уэльса, в которой была и его семья. Сам текст исполнен противоречия между этой апологией Фицджеральдов и стремлением всячески заручиться монаршей благосклонностью: сочинение посвящено Ричарду Львиное Сердце и содержит панегирик в адрес Генриха II. В отрывке с подзаголовком «Восхваление его роду» (Generis commendatio) Геральд пишет: «О род! О племя! Вечно под подозрением из-за своей многочисленности и природной силы (innata strenuitas). О род! О племя! Способное в одиночку завоевать любое королевство, если бы только не страдало от высочайшей зависти к их отваге (strenuitas)».{299} В приведенном фрагменте так и слышится недовольство рыцарей, испытывавших недостаток поддержки со стороны английской короны. Вопреки — или благодаря — отраженным в нем противоречиям «Завоевание» имело успех. Его текст дошел до нас в пятнадцати средневековых рукописях (не считая отрывков), а в XV веке труд был переведен на английский и ирландский языки, причем английская версия довольно широко ходила и в Ирландии (в виде шести списков){300}. Ясно, что труд Геральда Валлийского служил популярной версией происхождения колонии. На самом деле, он продолжал играть эту роль вплоть до эпохи Елизаветы и Стюартов, войдя в переработанном виде в «Хронику» Холиншеда, датируемую 1587 годом.
Ситуация в Ливонии отличалась от ирландской, поскольку здесь колонисты были христиане, а местное население — язычники. Автор «Лифляндской хроники» начинает свою поэму не с географического или исторического описания Ливонии или немецких крестовых походов, а с самого Создания и Воплощения. Для него именно эти моменты служат отправными. Войны же, предпринятые в XIII веке немецкими рыцарями, предстают не как эпизод национальной истории, а как часть долгого процесса, в ходе которого «мудрость Господня расширяла границы христианского мира» — здесь часто используются такие абстрактные и обобщающие существительные, как kristenheit («христианский мир») и kristentuom («христианство»). Этим объясняется, почему поэт в первых же строках своего сочинения ведет речь о Пятидесятнице и миссиях апостолов. История завоевания Ливонии, «куда никогда не ступал ни один апостол», безусловно составляет ключевую часть повествования о распространении веры Христовой, но все же только часть. В рамках этой же логики германские купцы и рыцари, пришедшие в Ливонию в конце XII–XIII веке, называются не иначе как «христиане» (die kristen), их оппоненты — при том, что поэт проводит четкие разграничения между различными племенами — обобщенно характеризуются словом «язычники» (die heiden), а абстрактное понятие «язычество» (heidenshaft) становится антонимом слов kristenheit и kristentuom. Хотя по сути своей «Хроника» является победоносным эпосом кровопролитных войн, ее главная идея проступает уже в первых строках: «Сейчас я поведаю вам, как в Ливонию пришло христианство».
Точно так же вписывались в общую панораму христианизации и характерные для рыцарской литературы Германии эпохи Высокого Средневековья эпическая героика и мрачная ирония. Набег на Герсику (Gercike), например, рисуется в таких бойких выражениях: «Рано поутру они пришли в Герсику, ворвались в замок и побили множество могучих воинов, так что те только кричали “увы!” да “ах!” Они разбудили много спящих и проломили им головы. То был истинный рыцарский поход!» В другом отрывке описывается, как литовцы «поубивали многих могучих мужчин, которые прекрасно могли бы защитить себя, если бы удача была на их стороне», — классический пример того выражаемого намеками сознания роковой предначертанности событий, которые так часто встречаются в германском эпосе начиная от «Беовульфа» и кончая «Песней о Нибелунгах». Все повествование представляет собой историю бесконечной череды сражений, разграниченных командованием последовательно сменяющих друг друга магистров Тевтонского ордена. При этом язычники тоже могут представать героями, а судьба тяжела как для христиан, так и для язычников: «И можно было видеть множество бесстрашных героев, могучих и славных, как христиан, так и язычников, которые встретили страшную смерть; снег был красен от крови»{301}.
Не все литературные произведения о завоевании несут лишь победоносную идею. Если одни действительно выражают интересы победившей светской знати, то другие, например, «Хроника» Генриха Ливонского, в большей степени отражают тревогу за миссионерскую церковь. Однако ясно, что сочинения, подобные «Завоеванию Ирландии», «Песни о Дермоте и Графе», «Хронике» Генриха Ливонского и «Лифляндской хронике», являются колониальной по сути литературой. Они были написаны иммигрантами, и народные поэмы слагались на том языке, который еще несколько поколений назад не звучал в стране, где они были написаны. Образцом для этих сочинений послужили прозаическая историческая литература на латинском языке и рифмованные хроники на народном языке, то есть литература западноевропейская, французская или английская, а не литература коренного населения. Средневековые авторы говорили на разные голоса, но у всех них явственно чувствовался колониальный акцент. Подобно образу демонической личности, представленной нормандскими мифотворцами, и мечте о повороте в истории покоренной земли, распространившейся и в законах, и в легендах, панегирическая литература завоевания утвердила в общественном сознании образ государств и колониальных обществ, образовавшихся в результате крестовых походов. Это был кодекс завоевателей и колонистов.
РОДОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Последним приобретением западноевропейской средневековой знати в результате ее захватнических походов стало ее определение, или наименование. Именно в процессе широкомасштабных захватов XI, XII и XIII веков появилось краткое, но емкое понятие, имевшее значение «западноевропейский завоеватель». Таким термином стало слово «франк».
Об употребительности этого слова наглядно говорит документ под названием «Завоевание Лиссабона» (De expugnatione Lyxbonensi), восторженный рассказ о захвате в 1147 году этого города армией крестоносцев, составленной из моряков и пиратов с северо-запада Европы. Анонимный автор текста, по-видимому, священник из восточной Англии, начинает рассказ с того, что сразу констатирует разношерстность двинувшегося в поход флота: «народы разных племен, обычаев и языков собрались в Дартмуте». Затем он характеризует главные силы: под командованием племянника герцога Нижней Лотарингии были люди «из Римской империи» — в основном, как станет ясно позже, уроженцы Кельна; один из фламандских феодалов руководил отрядом из фламандцев и булонцев; а в четырех частях, возглавляемых англо-французскими рыцарями и английскими горожанами, сражались жители портовых городов Англии. Из дальнейшего текста следует, что в составе флота также были бретонцы и шотландцы. Именно этническая и культурная неоднородность обусловила необходимость жесткой системы управления этими морскими силами.
Автор текста ни на миг не забывает об этих этнических различиях. Как обычно бывает в случае с такими категориями, они не всегда предстают в нейтральных тонах. Этническая принадлежность рождала ярлыки: фламандцы — «народ свирепый и необузданный»; шотландцы придерживаются установленного порядка, «хотя никто не станет отрицать, что они варвары». И снова, как и следовало ожидать, та этническая группа, к которой принадлежит сам автор, — «наши люди, то есть нормандцы и англичане», — всячески превозносится. «Кто не знает, что нормандская раса, не жалея себя, способна проявлять беспримерную отвагу?»{302}
Накал этих этнических противоречий ощущается на всем протяжении кампании. То и дело между разными группами вспыхивают стычки и ревность. Но этим история не исчерпывается. Два случая заставляют думать о чем-то выходящем за рамки простого этнического несходства. Во-первых, временами автор пытается ввести термин, которым можно было бы охарактеризовать всех участников похода. Такой термин у него есть — «франки». «Две церкви построили франки, пишет он, одну — люди из Кельна и фламандцы, другую англичане и нормандцы»{303}. В этом пассаже «франками» названы выходцы из трех королевств, говорящие на трех разных языках (при том, что эти политические и лингвистические различия тоже не совпадали). Несмотря на разномастность компании рыцарей, моряков и их женщин, собранной по разным портовым городам Рейнланда, Северного моря и Ламанша, она вполне могла быть охарактеризована общим словом — «франки». Это было и удобно, и понятно.
Это родовое определение — «франки» счел удобным и Альфонс I Португальский. Хотя, как уже говорилось в Главе 2, сам он был сыном знатного переселенца-франка, бургундца по происхождению, добившегося процветания на Пиренеях, он употреблял этот термин для характеристики «чужаков». Если неизвестный автор, о котором шла речь выше, в своем повествовании соблюдает точность и конкретность, то король называет сборный флот из германцев, фламандцев, французов, нормандцев и англичан «кораблями франков». Заключив с ними письменный договор, он уведомил всех о «соглашении, заключенном между мною и франками», и пообещал им Лиссабон и его земли, в случае его капитуляции, «с тем чтобы франки владели ими в соответствии со своими благородными обычаями и свободами»{304}.
Таким образом, употребление обобщающего обозначения «франки» оказывалось удобным в двух взаимосвязанных случаях: во-первых, когда какой-нибудь член группы, составленной из представителей разных этнических общностей Западной Европы, хотел дать определение всей группе в целом; и во-вторых, когда кто-то, считающий такую группу для себя инородной (даже если это было чисто субъективное восприятие, как у Альфонса), желал обозначить единым понятием всю категорию иноземцев. Таким образом, будь то для самообозначения или для обозначения других людей, понятие «франк» фактически стало ассоциироваться с «франком вне дома». Этот термин возник как точное наименование конкретного народа, но в XI–XII веках приобрел обобщенное звучание и стал обозначать западноевропейцев или христиан вообще, особенно в походе, сухопутном или морском.
Классическим предприятием, способствовавшим употребительности этого термина, был крестовый поход, «Деяния франков», как назвал его летописец, и судя по всему, именно с первого крестового похода и вошло в обиход это понятие. Конечно, слово «франк» и задолго до того имело широкое хождение, сначала — как обозначение определенной этнической группы, позже — в связи с конкретным государственным образованием, «королевством франков» (regnum Francorum){305}. Естественность, с какой началось обобщенное употребление этого слова для обозначения всех западноевропейцев, напоминает историю понятия Каролингской империи в IX веке, когда оно стало эквивалентом христианского Запада. Вполне логичным представляется и то, что первоначально в этом значении термин употреблялся людьми, не являвшимися западноевропейцами. Мусульмане обозначали жителей Западной Европы словом «фаранга» (Faranğa или Ifranğa){306}. В X веке они описывали земли франков как холодные, но плодородные, жители которых отличаются отвагой и отсутствием навыков личной гигиены.
У византийцев с западными державами было много контактов, подчас весьма прохладных, и, по-видимому, подобно мусульманам, они всех западноевропейцев называли «франками» (φραγγοι). Особенно наглядной в этом отношении можно считать стычку, произошедшую в середине XI века в разгар конфликта между константинопольским патриархом Михаилом Керулларием и папством{307}. Керулларий составил письменное обращение ко всему западному духовенству, которое было переведено на латынь. В переводе стояло обращение: «Всем главам священников и священникам франков». Ясно, что в греческом оригинале было φραγγοι. Вспыльчивый кардинал Гумберт из прихода Сильвы Кандиды ответил в оскорбленном тоне: «Вы говорите, что обращаетесь ко всем священникам франков… но не одни только римляне и священнослужители франков, но и вся латинская церковь… желает вам возразить». Похоже, Гумберт усмотрел в словах «священнослужители франков» попытку сузить круг адресатов этническими рамками, чего, конечно, не было в оригинале. Здесь следует выделить не противопоставление «священнослужителей франков» и «всей… церкви», а скорее ту мысль кардинала, что термин «франк» уже, чем «латинянин», а не эквивалентен ему. Его послание относится к периоду, когда на Востоке эти понятия уже стали синонимами, а на Западе — еще нет.
Судя по всему, именно у представителей остальной части Европы западноевропейцы, составлявшие огромное многоязыкое войско первого крестового похода, подхватили в отношении себя термин «франки», ибо там он уже употреблялся в этом обобщенном значении. В XI веке византийские авторы часто пользовались словом «франк» для обозначения нормандских наемников{308}, и вполне естественным было отнести этот термин и на счет западных рыцарей, в том числе нормандцев, которые в 1096 году прибыли к стенам Константинополя. Мусульмане употребляли этот термин столь часто, что когда в 1110 году в Святую землю прибыл Сигурд I Норвежский, то в текстах он стал фигурировать не иначе как «франкский король»{309}. Крестоносцы отдавали себе отчет в том, что это слово относится к ним в обобщенном плане. «Варвары привыкли всех людей с Запада называть франками», — писал Эккехард Аурский{310}. А капеллан Раймонд Агилерский, отвечавший за хозяйственную часть у Раймонда Тулузского в первом крестовом походе, проводил четкую грань между тем, как этот термин употребляли сами крестоносцы — в смысле «люди с севера Франции», — и более общим значением, которое вкладывали в него «враги». Значительно позже, в XIII веке, преобладать стало уже именно такое значение этого слова: «Всякий, кто живет за морем, называет всех христиан словом “франк”», — писал в своем труде о монголах доминиканский монах Симон из Сен-Кантена{311}. Именно в таком «широком смысле» стали употреблять этот термин в отношении самих себя и крестоносцы первого похода.
Будучи экспедицией, в которой объединились многие непохожие этнические и языковые группы, оторванные от родных мест, крестовый поход неизбежно рождал и новое самоопределение. Крестоносцы несомненно были «пилигримами», но также и «пилигримами-франками». Участники первого крестового похода приравнивали «наших франков» к «Христовым рыцарям-паломникам»{312}, а свои победы воспринимали как способствующие «славе римской церкви и франкского народа» и радовались тому, как Иисус Христос принес победу «паломникам франкской церкви»{313}. Когда Балдуин I был в 1100 году коронован в Иерусалиме, он назвал себя «первым королем франков»{314}. Этот титул символизировал стремление к преодолению междоусобных и этнических противоречий и на долгие годы сохранил свое значение объединительного лозунга всех западных христиан. Утомившись от распрей и злословия третьего крестового похода, менестрель Амбруаз с ностальгией оглядывался на солидарность столетней давности:
«Когда в другой войне была захвачена Сирия и осаждена Антиохия, в великих войнах и битвах против турок и неверных, многие из которых были истреблены, не было ни заговоров, ни ссор по пустякам, никто не спрашивал, кто нормандец, а кто — француз, кто родом из Пуату, а кто из Бретани, кто из Мэна, а кто из Бургундии, кто фламандец, а кто — англичанин… Всех называли “франками”, какой бы масти — каурой, рыжей, гнедой или белой — они ни были»{315}.
Однако для крестоносцев новое обобщающее обозначение имело не только положительное значение, ведь это был удобный ярлык для обозначения всего мигрирующего населения, распространявшегося из центральных областей Западной Европы к ее окраинам, причем в любом направлении. Конечно, понятие «франки» в первую очередь относилось к ним тогда, когда они оказывались на чужбине. В родных для них районах Западной Европы этот термин имел более узкое значение. Так, во второй половине XII века мы встречаем упоминание о «жителях Константинополя…, которых они [греки] называли франками, иммигрантов (advene) из всех племен»{316}. Одно поселение колонистов в Венгрии так и называлось — «деревня иммигрантов-франков» (villa advenarum Francorum){317}. Кельтский мир тоже ощущал на себе воздействие франков. Валлийские летописцы упоминают о вторжениях франков (Franci или Freinc) начиная с конца XI и вплоть до начала XIII века, а англо-нормандское завоевание Ирландии, как мы уже видели, было названо «приходом франков» (adventus Francorum){318}.
Для правителей кельтских областей франки являлись не только неприятелем, которому надлежало противостоять, но и примером для подражания. О'Бранены из Манстера, высказывая свои притязания на династийное превосходство, называли себя не иначе как «франками Ирландии»{319}. В Шотландии это название воспринималось похожим образом. Здесь в XII веке местная правящая династия стала во главе радикального преобразования основ собственного правления, что привело к трансформации шотландской монархии в государство, которое намного больше походило на южных соседей. Составным элементом этой переориентации шотландских королей стало их новое самоопределение — «франки». Один летописец XIII века отмечал, что «шотландские короли последних времен считают себя франками (Franci) по породе, манерам, языку и стилю, и они низвели скоттов до положения рабов, а себе в услужение и на службу берут только франков»{320} в XII и XIII веках быть франком означало иметь передовые взгляды и власть.
Этот термин мы встречаем в католическом мире повсеместно. Иберийские переселенцы, появившиеся на Пиренейском полуострове в конце XI–XII веке, были франки и следовали «законам франков». Известно, что Альфонс I Португальский утвердил существенные привилегии специально для иноземных переселенцев — так называемый «закон франков» (forum Francorum){321}, и возможно, этим объяснялось проявленное им знание их порядков во время нападения флота крестоносцев в 1147 году. После сдачи Константинополя крестоносцам в 1204 году они создали на его месте империю, которую можно было бы назвать «Новой Франкией»{322}, а когда греки подчинились новым правителям, они, возможно, добивались себе права именоваться «привилегированными франками» (φραγκοι εγκουσατοι){323}. В Восточной Европе иммигрантские поселения в Силезии, Малой Польше и Моравии получили «франкский закон»{324} либо могли пользоваться для обмера своих полей мерами «франкского типа».
Таким образом, термин «франк» относился к западноевропейцам тогда, когда они становились переселенцами либо находились в захватническом походе вдали от родины. Вот почему не приходится удивляться, что когда португальцы и испанцы в XVI веке появились у берегов Китая, местное население называло их «фоланки» (Fo-Lang-ki){325}, то есть принятым у арабских купцов касательно франков термином «фаранга» (Faranga), только на свой лад. Еще и в XVIII веке в Кантоне для обозначения чужеземца с Запада употреблялось то же слово, что и в отношении их далеких мародерствующих предков.
5. ВОЛЬНОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«Большая польза государству от привлечения к освоению незаселенных мест людей из разных областей путем предоставления им вольностей и правильных обычаев»{326}.
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Вопрос о причинах столь заметного расширения границ латинского христианства в эпоху Высокого Средневековья естественным образом влечет за собой другой — увеличивалась ли при этом численность христианского населения. Конечно, рост населения не является ни необходимым, ни достаточным условием для расширения культурного ареала. Превосходство в техническом и организационном плане, в совокупности с такими неуловимым моментами, как более высокий уровень культуры или агрессивные устремления, могут вылиться в распространение какого-либо конкретного типа культуры без больших изменений демографического свойства. Так, например, частичная европеизация Японии проходила на фоне очень незначительной по численности западной колонии. Однако в средневековой Европе ситуация была явно иной. Миграция населения безусловно играла свою роль в экспансии, и мы с полным основанием можем задаться простым, но важным вопросом: увеличивалась ли в этот период численность населения в Европе и если да, то с какими темпами и с какими последствиями.
Исторические свидетельства, которыми мы располагаем для прояснения демографических процессов в Европе, различны в зависимости от рассматриваемого периода. Выделяются три эпохи: последние сто или около ста лет, когда применение сложной статистической методики не только уместно, но и продуктивно в силу регулярных переписей населения, регистрации рождений, браков и смертей; период между XVI и XIX веками, в отношении которого возможен достаточно детальный анализ благодаря регистрации крещения, похорон и браков, а также наличию податных ведомостей, которые велись в общенациональных масштабах, хотя подчас эти документы ограничиваются сугубо местными рамками и точностью не отличаются; и, наконец, период древности и Средневековья, когда, вообще говоря, те цифры, которыми мы располагаем, крайне скудны, разрозненны во времени, локальным и неполным охватом. Высокое Средневековье как раз и попадает в этот, наименее поддающийся изучению, период демографической истории.
Учитывая все сказанное, вряд ли можно ждать многого от анализа тенденций демографического развития в средневековой Европе. Доступные цифры, разумеется, необходимо использовать, но из них невозможно сложить нечто, что имело бы право именоваться статистически обоснованной демографической историей. Более того, в отсутствие надежного статистического ряда, приходится буквально по капле выжимать все возможные данные — будь то косвенные или основанные на субъективном восприятии. Таким образом, сама природа доступной нам информации данных ставит перед исследователем демографии средних веков совсем иную задачу, нежели та, которую решают его коллеги, занимающиеся Европой Нового времени.
Однако впадать в пессимизм вовсе нет нужды. Все косвенные либо субъективные свидетельства указывают в одном направлении, и это позволяет сделать вывод, что Высокое Средневековье в Европе было эпохой роста народонаселения. Так, например, не вызывает сомнения тот факт, что в этот период росло число городов и увеличивались их размеры. В одной только Англии за XII–XIII века было основано 132 новых поселения городского типа{327}. Если в 1172 году городскими стенами во Флоренции была обнесена территория в 200 акров, то для городов моложе всего на сто лет, то есть основанных, скажем, в 1284 году, обычной была площадь свыше 1 500 акров{328}. Вполне вероятно, что к 1300 году некоторые крупные европейские города уже имели численность населения порядка 100 тысяч жителей. Эту радикальную урбанизацию средневекового общества нельзя считать абсолютно бесспорным явлением, однако она представляется весьма логичным следствием роста населения. В том же направлении указывают и сходные по характеру данные в отношении расширения пахотных земель. Повсюду наблюдалось увеличение числа поселений и территориальных образований на единицу площади — церковных приходов, феодальных поместий и округов. Целые области Европы, особенно на востоке континента, подверглись широкомасштабному планомерному заселению. Экономические индикаторы, такие, как цены, оплата труда, размеры рент, проба металла для чеканки монет, хотя и трудно поддаются интерпретации, однако тоже свидетельствуют о росте населения. «Сильное инфляционное давление» в XIII веке, к примеру, ученые объясняют «опережающим ростом населения по отношению к сельскохозяйственным ресурсам»{329}.
При общем дефиците статистических источников относительно Европы того времени есть одно значительное исключение. Это Англия. Книга Страшного суда 1086 года и данные налоговой переписи за 1377 год являются документами общенационального охвата и дошли до нас практически в целости и сохранности. Опираясь на них, некоторые историки, поддавшись искушению к обобщению, пытаются на основе этих источников установить общую численность населения королевства{330}. Конечно, отчасти привлекательность этих документов заключается в том, что они относятся приблизительно к одной и той же области с интервалом в 300 лет. Для нас они особенно заманчивы, поскольку практически датируются началом и окончанием процесса территориальной экспансии, являющегося предметом нашего рассмотрения. Исследователю, желающему установить численность населения поколением или двумя ранее 1377 года, то есть до Черной Смерти 1348 года, открывается возможность воссоздать подобие картины «до и после». Однако не исключено, что для такой реконструкции этих двух источников все-таки недостаточно.
Оба источника представляют несомненные сложности для интерпретации. Ни один из них не является переписью. Вычисление вероятной численности населения на основе того либо другого предполагает определенную долю догадок. Например, Книга Страшного суда называет общую численность населения — 268 984 человека. Это не население Англии 1086 года. Однако к какой именно территории относится эта цифра — вопрос неясный. В своей диссертации Дарби перечисляет некоторые требующие уточнения пробелы в этом тексте: численность городского населения, население северных графств, не охваченных Книгой, и т.п.{331} Вдобавок, разумеется, и в отношении охваченных документом областей наверняка имеются ошибки и неполные сведения, особенно по сельскому населению. Более того, и это куда важнее, в Книге переписью охвачены только главы домохозяйств, а не все население. Следовательно, чтобы получить цифры по всему населению, данные документа надлежит умножить на среднее количество членов домохозяйства — на злополучный и довольно спорный «множитель». Дарби приводит шесть различных версий расчета, основанных на коэффициенте 4, 4.5 и 5 в двух вариантах — считая рабов либо за индивидуумов, либо за глав семейств. Результаты разнятся от 1,2 миллиона до 1.5 миллиона. Можно достаточно смело принять меньшую из этих цифр за вероятный минимум численности население Англии на 1086 год. Однако в отношении верхнего показателя такой уверенности нет. Постан подчеркивает, что население, зарегистрированное в Книге Страшного суда, могло включать не всех глав домохозяйств, а только тех, кто имел полновесный крестьянский надел. В таком случае сюда следует добавить неопределенное число безземельных и субарендаторов, то есть возможно, что исходную цифру надо увеличить раза в полтора{332}. Если проделать это с верхней цифрой из расчета Дарби, то новый максимум окажется равным 2,4 миллиона человек.
Данные подушной подати 1377 года представляют аналогичные проблемы. Они дают для населения старше 14 лет цифру 1 361 478 человек. Чтобы на основе этого показателя рассчитать максимальную общую численность населения Англии в XIV веке, надо установить: 1) масштабы уклонения от налога; 2) процент населения младше 14 лет, не включенного по этой причине в перепись; 3) соотношение между данной численностью населения, значительно сократившегося в результате эпидемии чумы, и населением до эпидемии. При этом каждая из этих цифр может быть не более чем допущением. По общепринятым оценкам, Черная Смерть унесла треть населения Англии. Однако за период между 1348 и 1377 годами было несколько вспышек эпидемии, и кто-то наверняка скажет, что в 1377 году от населения Англии осталось не более половины против того, что было до чумы. Если принять одну треть и половину как крайние показатели, то, не выходя из этих границ, можно сделать множество расчетов на основе разного процента уклонения от уплаты податей (а также освобождения от налогов или утери записей) и доли детского населения моложе 14 лет. Последняя цифра, если иметь в виду биологические особенности человека и возрастную структуру населения других стран или эпох, скорее всего лежит в интервале между 35 и 45 процентами. Труднее всего просчитать процент неплательщиков, однако наиболее правдоподобной представляется предлагаемая рядом ученых цифра в 20–25 процентов. Существенно более низкие показатели нам кажутся нереалистичными. Опираясь на все эти приблизительные подсчеты, можно сконструировать несколько вероятных вариантов расчетов. Если принять все показатели за минимум, то есть неуплату за 20 процентов, долю детского населения за 35 процентов, а смертность от чумы за треть, то экстраполяция от цифр 1377 года даст нам пик населения Англии в XIV веке равный почти 4 миллионам. Если, напротив, принять все коэффициенты по их максимальному значению (неуплату за 25, детское население за 45, а смертность от чумы за 50 процентов), то получим, что до эпидемии население Англии превышало 6,5 миллионов человек (см. Табл. 1).
Таблица 1.
Вероятные показатели максимальной численности населения средневековой Англии (в тыс. чел., округленно)
Зарегистрированное население Доля неучтенных (уклонившихся) Взрослое население Доля детского населения Всего на 1377 год Смертность от чумы Максимальная численность 1 360 25% 1 813 45% 3 297 50% 6 594 1 360 20% 1 700 35% 2 615 33% 3 923Таким образом, эти расчеты дают нам минимальный и максимальный показатели численности населения для 1086 года равные 1,2 млн. и 2,4 млн. человек и для XIV века — соответственно 4 млн. и 6,6 млн. человек. Возможно, кто-то решит, что такой разброс полученных результатов делает их бессмысленными. Тем не менее они, во-первых, однозначно свидетельствуют о тенденции к росту населения в XII–XIII веках, а следовательно, подтверждают косвенные сведения. Во-вторых, они могут служить инструментом для установления вероятных темпов роста населения. Если взять низшую из возможных цифр для 1086 года и низшую для более позднего периода, то мы получим минимальный прирост населения. Этот показатель легко сравнить с данными других исторических периодов. Результаты такой операции приведены в табл. 2.
Таблица 2.
Прирост населения в разные исторические периоды
Прирост населения (% в год) Исторический пример Прирост населения (% в год) Исторический пример -0,07 Англия 1650–1700 0,68 Англия 1080–1330 (макс, допущение) 0,20 Англия 1080–1330 (минимальное допущение) 0,80 Современное развитое общество 0,27 Англия 1700–1750 0,81 Англия 1750–1800 0,35 Англия 1541–1741 1,33 Англия 1800–1850 0,48 Англия 1600–1650 2,50 Современный развивающийся мир 0,62 Англия 1550–1600 0,62 Англия 1541–1871{333}Как видим, разброс вероятных темпов роста населения для Англии XII–XIII веков, а именно — 0,2 процента и 0,68 процента в год, примерно соответствует показателям роста населения за период между серединой XVI и серединой XVIII веков. В отношении последнего периода статистические данные значительно полнее, при том, что Англия в это время еще оставалась доиндустриальным обществом. Учитывая долгосрочные тенденции и непрерывный характер этого роста, логично предположить, что в общем и целом в эпоху Высокого Средневековья население росло теми же темпами, что и в XVI, XVII и начале XVIII века. Конечно, имелись колоссальные различия в зависимости от времени и места. Иногда наблюдалось и сокращение населения; иногда оно могло расти быстрее, чем наши максимальные оценки. Так, например, счастливым образом сохранившиеся местные записи из Тонтона в Сомерсете, показывают рост населения за период между 1209 и 1348 годами порядка 0,85 процента{334}. В районе Ниццы число домохозяйств с 1263 до 1315 года возросло от 440 до 722, то есть прирост составил 0,95 процента{335}.
В демографической истории средних веков множество нерешенных вопросов. Например, когда мы говорим о росте населения после X века, то совершенно неясно, было ли это начало или ускорение темпов роста или же это был только пик демографического роста, продолжавшегося на протяжении столетий. Также нет ни одной удовлетворительной модели, которая позволяла бы судить о таких компонентах прироста, как рождаемость, коэффициент брачности и смертности, их влияние на экономику, в частности на уровень развития земледелия, или на такие базовые социальные параметры, как модель семьи или право земельной собственности. И тем не менее, когда мы пытаемся вникнуть в динамику экспансии Высокого Средневековья, мы можем исходить из того, что в те времена темпы роста населения были сопоставимы с теми, что мы имеем в начале Нового времени, с его высокими темпами урбанизации и миграции населения.
ХАРАКТЕР МИГРАЦИИ
В Высокое Средневековье население Европы характеризовалось не только количественным ростом, но и мобильностью. Иногда это было перемещение на небольшое расстояние: новые города были полны переселенцев из близлежащих деревень, а сельские поселенцы создавали себе дочерние деревеньки или скотные дворы в пределах пешего хода от их основного жилища. Помимо этого, имели место такие сухопутные и морские передвижения людских масс, которые забрасывали их на сотни и тысячи миль от родных мест, порой в совершенно чуждую им в климатическом и культурном отношении среду. Историки окрестили эпоху между IV и VI веками «эпохой переселения народов» (Volkerwanderungzeit), но с точки зрения численности переселенцев и долгосрочных последствий миграционные процессы, протекавшие в Высокое Средневековье, соответствуют этому наименованию даже в большей степени.
Пространственный рисунок миграции того периода был весьма сложен, однако в целом картина переселения европейцев ясна. По мере роста населения наблюдалось движение людских масс из центральных районов Западной Европы на периферию континента во всех направлениях — в земли кельтов, на Пиренейский полуостров, отдельные районы Средиземноморья и в особенности земли полабских славян. Слово «экспансия», конечно, является метафорой, однако с точки зрения перемещения масс населения его следует воспринимать буквально. Сколько бы наемников или ученых ни переселялось из периферийных областей латино-христианского мира в центральные районы континента, число перемещавшихся в обратном направлении значительно их превосходило: огромные массы городского и сельского населения перебирались из Англии в Ирландию, из Саксонии в Ливонию, из Старой Кастилии в Андалусию.
Конечно, эмиграция в разных областях христианской Европы протекала различно с точки зрения масштабов и направления перемещения. Одни области были охвачены этим процессом больше, другие меньше. Существенные различия в размах эмиграционных процессов вносили способы передвижения — сухопутный и морской, ибо действительно массовой заокеанской эмиграции, сыгравшей столь важную роль в истории Нового Света в Новое время, в Средние века еще не было. Заморские колонии, конечно, создавались, и в первую очередь, в Святой земле — так называемый Утремер (Outremer), «заморская земля», а также в Восточной Прибалтике и Ирландии. Однако в этих регионах переселенцы обычно составляли незначительное меньшинство и включали представителей светской и церковной знати, слоя бюргеров и малую толику сельских жителей. Зато районы ближней экспансии, например, Пиренейский полуостров или земли полабских славян, переживали такой наплыв иммиграции, которого оказалось достаточно для кардинальных перемен в культурной среде и фундаментальных изменений в языке. Именно переселение десятков тысяч немецких горожан и селян в XII–XIII веках, называемое иначе «Остзидлунг» (Ostsiedlung), привело к германизации земель полабских славян и укоренению носителей немецкого языка в таких местах, как Берлин или Любек, которые стали впоследствии символами всего германского мира. Контраст, наблюдавшийся между сравнительно высокой плотностью поселений и относительно низким уровнем миграции в Утремеры типа Ливонии или Сирии, можно отчасти объяснить тем обстоятельством, что за передвижение по морю приходилось платить. Хотя наземный путь был дольше и труднее, а отправлять пожитки морем оказывалось дешевле, нежели по суше, отдельные переселенцы или семьи мигрантов, будь то пешком, верхом или в повозке, могли совершить свой путь по суше достаточно недорого и вполне самостоятельно. Путешествие по морю автоматически означало увеличение расходов.
Массовое переселение было характерно в основном для XII–XIII веков, хотя в некоторых регионах оно началось раньше. На Пиренейском полуострове христианская иммиграция последовала сразу за завоеванием, то есть уже в IX и X веках, однако подлинные масштабы приобрела лишь после взятия Толедо в 1085 году. Именно это событие, по мнению мусульманских авторов, стало той точкой отсчета, когда «могущество франков впервые заявило о себе»{336}. В первой половине XII века арагонцы захватили долину Эбро, в середине XIII кастильцы вошли в Андалусию, а к 1249 году португальцы уже хозяйничали в Алгарве. По мере того, как христианские правители захватывали исламские области Пиренейского полуострова, их постоянной заботой становилось заселение и освоение захваченных земель. Иногда такая необходимость диктовалась исходом прежнего мусульманского населения; в других случаях новые поселения закладывались на ранее пустовавших землях. Большинство переселенцев приходили из других областей самого Пиренейского полуострова, но были и такие, кто проделывал путь с юга Франции. Во владениях тамплиеров между Туделой и Сарагоссой в середине XII века встречались землевладельцы с характерными именами типа Раймон из Гаскони, Вильгельм из Кондома, Мартин из Тулузы или Ришар из Кагора{337}. Для всех находилось место.
Общая площадь земель, охваченных Реконкистой, была огромна — около 150 тысяч квадратных миль, и пиренейские королевства остались относительно мало заселенными. Тем не менее в целом миграция людских потоков во вновь захваченные районы существенно изменила тогдашнюю демографическую ситуацию.
Так называемый Остзидлунг, то есть расселение германцев на землях к востоку от Эльбы и Зале, традиционно служивших восточной границей германских племен, носило еще более массированный характер. Этот процесс начался постепенно с первой половины XII века, в первую очередь в восточном Гольштейне, где в 1143 году был заложен город Любек. Во второй половине столетия германские поселения распространились до Бранденбурга, а возможно и до Мекленбурга. Есть также вероятность того, что в 1175 году они были уже и в Силезии, когда герцог Болеслав I даровал свободу от «польского закона» цистерцианцам Лубяжа, дабы на этих землях селились «все немцы, кто возделывает монастырскую землю либо приведены жить на ней настоятелем братства»{338}. В тот же период появились поселения германцев в Богемии и Трансильвании. В XIII веке вся Восточная Европа, от Эстонии до Карпат, оказалась заселена носителями немецкого языка. Среди переселенцев были крестьяне, купцы, шахтеры. Их появление навсегда изменило карту Европы, и первостепенной важности исторические последствия этого процесса мы наблюдаем и по сей день.
По сравнению с поселениями Реконкисты и Остзидлунга в других областях Европы перемещение людских масс носило менее масштабный характер. Однако для вовлеченных в миграционный процесс регионов оно имело большое значение и служит лишним доказательством того, что здесь мы имеем дело с поистине всеобщим феноменом, захлестнувшим весь европейский континент. Ибо точно так же, как чужеземные землепашцы наводнили долину Тахо и леса Силезии, земли кельтов — Уэльс, Ирландия и Шотландия — испытывали на себе наплыв колонистов из Англии и, до некоторой степени, Франции, а в Восточном Средиземноморье новые поселения росли и множились на волне крестовых походов. Во всех этих случаях мы видим, что людской поток устремлялся из центральной части Западной Европы на периферию материка.
Примером такого центробежного движения может служить миграция фламандцев, жителей низменного графства Фландрии на берегу Северного моря. Фландрию с полным правом можно отнести к «центральным» областям на карте средневековой Европы, поскольку она лежит между Англией, Францией и Германией, на оживленных морских путях. Во Фландрии рано сформировалось централизованное феодальное княжество. Фламандские города с развитой торговлей и ремесленным производством образовывали важнейшее ядро средневековой экономики севернее Альп. Фландрия, по всей видимости, имела более высокую плотность населения по сравнению с любым сопоставимым по площади регионом за исключением Италии. Даже после кризиса XIV века Фландрия сохранила столь высокую жизнеспособность, что здесь стало возможным становление и формирование собственной национальной культуры (которую принято ошибочно называть «бургундской»).
В Высокое Средневековье фламандцы распространились по всей Европе. Многие из них возделывали землю, но были среди фламандских переселенцев и рыцари, и воины, и ремесленники, коих можно было встретить во всех уголках христианского мира и за его пределами: в 1081 году некто Раймонд Фламандец являлся «главой стражи и хранителем городских ворот» в Константинополе{339}. В нормандском завоевании Англии 1066 года участвовало столько фламандцев, что когда вскоре после завоевания Вильгельм I издал охранную грамоту в отношении земель архиепископа Йоркского, то в ней содержалась угроза применения надлежащих санкций против любого преступника, «будь то француз, фламандец или англичанин»{340}. Фламандцев продолжали манить военные приключения в Англии, и в качестве наемных воинов они сыграли важную роль в междоусобных войнах и восстаниях XII века. Например, в крупном восстании 1173–1174 годов один из предводителей мятежников граф Лестер «выступил в поход с фламандцами и французами, а также людьми из Фризии»{341}. Король Шотландии, присоединившийся к мятежникам, был заинтересован в наборе фламандцев из Фландрии «и их флоте, сотнях и полусотнях воинов этого сильного народа». Один наблюдатель тех лет неодобрительно комментировал вербовку этих воинов-простолюдинов и писал, что они «рвутся заполучить вожделенную английскую шерсть». «Правда состоит в том, — добавляет летописец, — что большинство из них ткачи, и в отличие от рыцарей они не имеют понятия о том, как держать в руках оружие, а только жаждут грабежей и добычи».
Другие воины-фламандцы стремились к более существенному вознаграждению и сумели стать крупными землевладельцами в странах, с которыми воевали. Так, небольшая группа фламандских феодалов осела в Верхнем Клайдсдейле в качестве рыцарей, держателей земли шотландского короля Малькольма IV (1153–1165). Характерны их имена и фамилии типа Визо и Ламкин, которые они запечатлели в названиях своих владений (Вистон, Ламингтон). Другие фламандцы, такие, как Фрескин и Бероальд Фламандец, владели землями дальше на север, в Морее и Элгине, а граф Давид, брат короля Вильгельма Льва, лорд Гариоха (Эбердиншир), в одной из своих грамот обращался к «французам, и англичанам, и фламандцам, и шотландцам». Два из наиболее влиятельных родов в средневековой Шотландии, Дуглас и Морэй, были фламандского происхождения{342}.
Другие фламандцы осели в городах. В исторической литературе их характеризуют как «важный элемент городского населения Шотландии на раннем этапе его развития». Они имели собственный административный центр в Бервике, так называемый Красный Дом, который получили от короля Шотландии{343}. Нет сомнения, что фламандская колония существовала и в Вене: там в 1208 году герцог Леопольд VI Австрийский даровал особые привилегии «нашим бюргерам, коих мы именуем фламандцами и коих поселили в нашем городе Вене»{344}. Все крупные города в Остзидлуиге имели в числе своих жителей выходцев из Фландрии, о чем свидетельствовала их фамилия — Флеминг{345}.
Фламандские поселенцы-крестьяне особенно ценились за то, что владели искусством мелиорации (как и их соседи голландцы). К 1000 году они уже умели защищать и поднимать пашню с помощью дамб и дренажных канав, и граф Фландрии Балдуин V (1036–1067) прославился именно тем, что «неустанным трудом и заботой превратил целину в плодородные земли»{346}. В следующем столетии этот опыт был перенят землевладельцами других стран. В 1154 году епископ Майсенский Герунг «поселил энергичных пересленцев из Фландрии в невозделанных и необжитых местах», чтобы те основали поселение из восемнадцати крестьянских мансов{347}. Пятью годами позже аббат Валленштедтский Арнольд продал фламандцам несколько участков земли близ Эльбы, где прежде жили славяне. Они преобразовали эти наделы в поселение из двадцати четырех мансов, которые подчинялись фламандскому закону (iura Flamig-gorum){348}. Привлечение фламандцев к освоению земель к востоку от Эльбы получило такое распространение, что одной из двух типовых форм крестьянского надела (манса) стал так называемый «фламандский манс»{349}. Даже сегодня деревни с названиями типа Флемминген, области наподобие Фляминг в Бранденбурге и следы нидерландского диалекта, которые отмечают некоторые исследователи, говорят о том значительном влиянии, какое имела фламандская крестьянская колонизация земель к востоку о Эльбы{350}. Первые немецкие поселенцы в Трансильвании, неосвоенной области королевства Венгерского, прибывшие сюда в 40–50-е годы XII века по приглашению короля Гезы, упоминаются в документах XII века как фламандцы{351}. Ряд ученых, правда, придерживаются того мнения, что этот термин к тому времени уже приобрел обобщенное значение и относился к любым колонистам. Вместе с тем в науке существует и другое, вполне обоснованное мнение, что термин «фламандцы» все же следует считать в первую очередь показателем этнической принадлежности и он мог относиться если и не к поселенцам, непосредственно прибывшим из Фландрии, то к выходцам из новых фламандских поселений к востоку от Германии.
Крупная колония фламандцев была основана в Южном Уэльсе при короле Генрихе I Английском примерно в 1108 году. Их влияние на Уэльс нашло отражение в национальной хронике, «Бруте»:
«Некий народ чужого происхождения и обычаев… король Генрих направил в земли Дайфеда. И этот народ захватил целый кантреф [территориальная единица] Рос… полностью вытеснив оттуда местных жителей. А народ этот, говорят, пришел из Фландрии, из земли, лежащей близ моря Бретонского, и пришли они потому, что море наступило и лишило их земли… Не сумев найти себе место для жизни, ибо море залило прибрежные земли, а в горах и так были люди, и людей было так много, а земли так мало, что всем не было где жить, эти люди взмолились перед королем Генрихом, чтобы дал им место, где жить. И тогда их направили в Рос, откуда они прогнали законных жителей, которые отныне и по сию пору лишены своей законной земли и законного места»{352}.
Отрывок не во всем точен: «горы» Фландрии скорее существуют в воображении летописца, нежели в реальной Фландрии. Суть, однако, схвачена верно: относительно небольшая и перенаселенная территория, испытывающая постоянную угрозу со стороны моря, которая и подвигла мигрантов в дальний путь, в чуждую им в культурном отношении среду.
Фламандская колония в Южном Уэльсе, с центром в районе Роса в Южном Пемброкшире, на протяжении многих поколений сохраняла свою культурную самобытность, в частности, в топонимике. Например, от имени Визо, «вождя фламандцев»{353}, который в 1112 году прошел через Вустер по пути из Фландрии в Пемброк-шир, или Фрескина, сына Оллека, упоминание о котором имеется в королевских документах 1130 года{354} произошли типично фламандские названия — Вистон (сравните с точно таким же названием в Клайдсдейле). Свои обычаи фламандцы соблюдали и в особых гадательных обрядах{355}. Еще и в 1200 году в Пемброкшире говорили на фламандском языке{356}. На протяжении всего этого периода враждебность между чужеземной колонией и коренными валлийцами не утихала. Весь XII век и начало следующего столетия были отмечены взаимными набегами и убийствами. В 1220 году валлийский князь Лливелин ап Йорверт «собрал мощное войско для похода на фламандцев Роса и Пемброка» и «в течение пяти дней пересек Рос и Догледиф, учинив страшную резню среди жителей той земли»{357}. Тонкий наблюдатель Геральд Валлийский в 1188 году так писал о фламандцах:
«Это храбрый и крепкий народ, заклятые враги валлийцев, с которыми они состоят в непрестанной вражде; народ искусный в работе с шерстью, опытный в торговле, готовый к любым трудностям и опасностям на суше и на море в своем стремлении к добыче; легко приспосабливающийся к требованиям времени и места и меняющий плуг на оружие; отважный и удачливый народ»{358}.
Здесь мы опять, но в более доброжелательном тоне, находим мнение о фламандцах скорее как о ремесленниках-ткачах, нежели рыцарях. Геральд, по-видимому, более точен в том, что воспринимает их в равной степени как воинов, купцов и ремесленников — а может быть, пастухов, поскольку пемброкширские фламандцы, конечно, занимались овцеводством. Поразительна одна черта их натуры — разносторонность: они и рыцари, и наемные воины, и ткачи, и крестьяне-переселенцы.
В 1169 году в Ирландию пришли англо-нормандцы. Во всяком случае, именно так характеризуют это событие большинство историков. Но для одного ирландского летописца это было «прибытие фламандского флота»{359}. К армии наемников, первоначально воевавшей в Ирландии, присоединился крупный контингент фламандцев из Пемброкпшра, и многие из них в последующие годы осели на захваченных землях, как случалось до этого в Англии, Уэльсе и Шотландии. Таким образом, в ходе экспансии, характерной для Высокого Средневековья, фламандская народность распространилась по всему христианскому миру. Некоего Жерара Флеминга можно обнаружить в числе поселенцев в Палестине в 1160-е годы, Майкла Флеминга — в роли шерифа Эдинбурга на рубеже XI и XII веков, а Генриха Флеминга — на престоле епископа Эрмландского в Пруссии в конце XIII века{360}. На небольшом примере фламандцев можно воссоздать картину массовой миграции населения, имевшей место в ту эпоху.
СИСТЕМА ПРАВА
Ясно, что окружение, в какое попадали переселенцы в результате миграционных процессов, было неодинаковым. Переселяясь в центральную Месету, кастильцы оказывались в местности, пригодной для зернового хозяйства, виноградарства и овцеводства, если, конечно, у них хватало людей для сельскохозяйственных работ и зашиты от мусульманских набегов. В долинах Эбро и Гвадалквивира пышным цветом расцвело орошаемое земледелие. К востоку от Эльбы, в Силезии, Мекленбурге и Померании, обширные территории были заняты густыми лесами, которые могли быть расчищены под пахоту — и действительно, к концу Средневековья земли полабских славян превратились к одну из главнейших житниц Европы. Территория германского заселения расширилась на север вдоль Балтийского побережья вплоть до Финского залива, а на восток — до Трансильвании, где к концу XII века германцы возделывали виноград, пасли в лесах свиней и получили из рук короля Венгрии привилегированные права. Расселение германцев шло и в Польше, где они также вырубали — ни в коем случае не сводя на нет — густой лесной покров. Области, куда шло средневековое переселение народов, значительно различались и в климатическом отношении. В Иерусалимском королевстве среднемесячная температура июля превышала 77 градусов по Фаренгейту, а в землях Ирландии едва доходила до 59 градусов (соответственно 25 и 15 градусов по Цельсию). В некоторых регионах землю приходилось осушать, в других — орошать. Таким образом, колонисты оказались в разных природных и созданных человеком условиях обитания, к которым им надлежало приспосабливаться: это могла быть лесотундра, болото, плодородные почвы умеренной зоны, высокогорное плато, зона орошаемого садоводства, полупустыня.
Однако то социальное и институциональное устройство, которое иммигранты возводили для себя на своей новой родине, было более однородным, чем можно было бы ожидать исходя из различий в природных и сельскохозяйственных условиях. Если, к примеру, сопоставить документы, относящиеся к поселениям в Восточной Европе и Испании, то немедленно бросаются в глаза определенные параллели. Вот конкретный пример. В 1127 году Альфонс I Арагонский пожаловал Санчо Гарсиесу Наваскуэсскому замок (castro) или поселение (villa) под названием Термино в окрестностях Уэски, «дабы ты населил этот замок и деревню» (ut popules illo castello et ilia villa){361}. Пожалование было сделано в форме фьефа. Королю полагались три стандартных владения — юбита (iubitas) в качестве домена и три — для замка, а Санчо достались три юбита по праву наследства. Будущим поселенцам выделялось два юбита в случае, если они будут рыцарского сословия, и одно — если нет, а также предоставлялся закон (fuero) Эхеи. «Это я даю тебе, Санчо Гарсиес, — заключал монарх, — и ты можешь населять и делить эти владения по своему усмотрению».
Можно сравнить этот документ с тем, который был издан епископом Вроцлавским Фомой в середине XIII века. Епископ пожаловал своему рыцарю Годиславу, «учитывая его заслуги», деревню Прошов (Прошау), с тем чтобы «он заселил ее в соответствии с германским законом так же, как заселены соседние деревни, принадлежавшие ранее ордену крестоносцев»{362}. Деревня приблизительно состояла из пятидесяти мансов, из которых Годиславу доставалось десять. В свою очередь, он уступал четыре из этих десяти мансов епископскому проктору. Годислав также получал право на строительство мельницы и трактира в Прошове и третью часть доходов от судопроизводства на правах скультета (scultetus или Schulze), то есть местного магистрата. Поселенцам, чтобы встать на ноги, на восемь лет давалось освобождение от десятины, после чего вменялось платить одну восьмую марки серебра с каждого манса в качестве ренты и десятину с урожая.
В этих двух документах, испанском и польском, прослеживаются несколько существенных схожих моментов: земля передавалась в собственность с целью ее «заселения»; предполагалась посредническая и предпринимательская роль держателя лена; будущим поселенцам выделялись одинаковые наделы; держателю лена заведомо давалось определенное количество таких участков земли; к новым поселенцам применялись законодательные модели, уже действующие в соседних поселениях. Наличие таких сходных моментов говорит о том, что в обоих случаях освоение новых территорий было целенаправленным и регулируемым процессом. Главными организационными принципами являлись делегирование прав и единообразие. Причины такого принципиального сходства организационных форм в двух совершенно различных регионах освоения заключались в том, что и на Пиренеях, и в Восточной Европе, по сути дела, точно так же, как в Ирландии или Палестине, землевладельцы и колонисты с общей культурной традицией, «франкской», или «посткаролингской», оказывались перед лицом одних и тех же проблем. Они имели общие социальные традиции, выражавшиеся в представлениях об обмере земли, власти и свободе, типах сельской общины, о документальном подтверждении дарения, и испытывали одинаковую потребность в трудовых ресурсах. Для начала рассмотрим эту дилемму, после чего перейдем к механизмам ее решения.
На протяжении почти всего Средневековья в большинстве областей Европы землевладельцы, как правило, имели землю, но испытывали недостаток в рабочей силе. Обратная картина наблюдалась реже. В относительно малонаселенной Европе, с обилием лесов, кустарниковых зарослей и болот, рабочая сила была в дефиците. Методы решения этой проблемы были различными. Некоторые землевладельцы накладывали ограничения на перемещение рабочей силы правовыми мерами: крестьяне-держатели были «привязаны к земле», браки могли заключаться только внутри поместья, сыновьям держателей запрещалось принимать церковный сан. Это были ограничения минималистского толка, поскольку хотя они и были призваны обеспечить стабильность имевшейся у господина рабочей силы, но по сути дела вели к замораживанию существующей модели распределения трудовых ресурсов. Эта политика закрепления на господской земле была лишена динамики. Постоянным искушением оставались соседские сервы, и землевладельцы нередко договаривались о передаче друг другу крестьян в обход закона, однако в общем и целом феодальное общество не имело ни механизмов, ни стимулирования для движения рабочей силы.
В то же время действительность существенно отличалась от теории, отчасти из-за того, что между господами существовала конкуренция в борьбе за сервов, отчасти — потому что в средневековом обществе были и иные, более динамичные способы завладения рабочей силой, например, набеги для захвата рабов или насильственное перемещение населения. Например, когда Бржетислав I Чешский в 1038 году вторгся в Польшу и подошел к крепостным сооружениям Гича, жители не сумели оказать сопротивления и в конце концов было принято решение об их переселении, со всем скарбом и домашним скотом, в Богемию. Бржетислав выделил им участок леса, который надлежало расчистить, и позволил им жить под началом своего старосты и по своим обычаям. Двумя поколениями позже они еще отличались от чешского населения и продолжали именоваться гедчанами, то есть людьми из Гича{363}. А спустя несколько десятилетий в другой части Европы предводитель нормандцев в Южной Италии Робер Гвискар восстанавливал и основывал поселения в Калабрии путем поселения там бывших жителей захваченных им сицилийских городов{364}. В 1165 году валлийский князь Дафид аб Овэйн Гуинет «опустошил Тегейнгл и угнал жителей и скот в Дифрин Клуид»{365}. Во всех этих случаях захват населенного пункта имел значение лишь постольку, поскольку позволял захватить его жителей. Добычей были мужчины, женщины, скот и пожитки, а не просто территория. Насильственное переселение людей было одним из способов влить свежую кровь в феодальное общество.
Однако уже в XI веке, во времена, когда закрепощение и захват в плен несомненно являлись самыми непосредственными способами наращивания трудовых ресурсов, появился и еще один, новый метод набора поселенцев для освоения земель. Интересный промежуточный вариант имел место на нормандской Сицилии. В 1090 году брат Гвискара граф Роджер пошел на освобождение захваченных христианами пленников с Мальты:
«Он созвал всех пленных, и освободил из плена, и увел с собой, и дал им волю. Тем, кто пожелал остаться с ним на Сицилии, он предложил построить деревню за его счет и обеспечил их всем необходимым для существования. Деревню назвали Вранка (Franca), то есть свободная деревня, поскольку она навсегда получала свободу от любых податей и трудовых повинностей. Тем, кто пожелал вернуться к родным полям и семьям, он выдал вольную и разрешил идти куда хотят»{366}.
Эпизод с освобождением пленников с Мальты имел место после набега на остров графа Роджера. Он не просто насильно переселил их в новую местность, как делал еще за несколько десятилетий до него его брат, а предложил на выбор вернуться домой либо поселиться в новой деревне, которую он решил основать как «вольную деревню» (franca, libera) — то есть «свободную от сервильных повинностей». Вместо принудительного перераспределения рабочих рук мы видим тут попытку привлечь работников созданием благоприятных и привлекательных экономических и юридических условий.
Широкомасштабное перемещение людских масс, заселение и освоение новых территорий, имевшее место в Высокое Средневековье, как раз и основывалось на этом принципе набора рабочей силы, а не на закрепощении или захвате в плен. Вольные поселения, создававшиеся специально с целью привлечения новых поселенцев, встречались повсеместно, в первую очередь в тех областях Европы, которые, наподобие Пиренейского полуострова и земель полабских славян, были в тот период открыты для широкомасштабной иммиграции. Суть взаимного компромисса очень просто сформулирована в германском кодексе законов XIII века под названием «Саксонское Зерцало» (Sachsenspiegel): «Когда крестьяне основывают новую деревню путем расчистки леса, барин может дать им наследное право держания, даже если от рождения они таковым не обладали»{367}. То есть крестьяне изменяют свой статус и становятся наследственными держателями. Господин жалует им этот новый и более благоприятный статус в обмен на обработку земли и освоение территории. Феодал получает доход, а крестьяне — средства к существованию и статус. (Момент подобного взаимовыгодного обмена показан на ил. 6.)
Продуманная хозяйственная деятельность господина играла исключительно важную роль для освоения новой территории. Например, документы, из которых мы черпаем информацию о неуклонном расширении пахотных земель и появлении колоний земледельцев к востоку от Эльбы, приводят, пусть и в форме риторических стереотипов, те мотивы, которыми руководствовались феодалы в этой политике. Ключевыми словами в текстах этих источников являются: «полезность» или «выгодность» (utilitas), «улучшение» (те-lioratio), «реформирование» (reformatio). Эта лексика связана с активным преобразованием, и ее звучание еще более усиливается пафосом упорства и заинтересованности. Господин, как правило, «желает» этого улучшения; он «учитывает» то «состояние» или «положение», в коем находится его церковь или владение. Когда в 1266 году герцог Польский Болеслав основал в своих владениях новое поселение, он сделал это «из стремления к усовершенствованию и реформированию нашей земли надлежащим образом»{368}. В целом эта риторика производит впечатление осторожной, но исполненной энтузиазма политики экономического развития.
Землевладельцы Высокого Средневековья, как церковные, так и светские, отлично сознавали важность извлекаемых со своих владений доходов. За период между 1050 и 1300 годами появились новые формы бухгалтерского учета как в сеньориальных, так и княжеских владениях. Появились такие понятия, как бюджет и финансовое обследование. Одним из самых ранних и поразительных обследований такого рода является Книга Страшного суда одной из целей которой было установить, «можно ли получить с этой земли больше, чем получают сейчас»{369}. К концу XII века английские короли проводили ежегодные «аудиторские проверки» — ревизии, результаты которых хранились в центральных архивах. Не отставали правители Франции и Арагона. От XII–XIII веков до нас дошли материалы обследований феодальных поместий и их «бухгалтерские книги», а в конце этого периода существенно возрастает поток специальной литературы по вопросам управления имением. Эти документы отражают тот же менталитет, который в более житейской форме нашел отображение в австрийской поэме XIII века, где описывается дискуссия между сельскими рыцарями по вопросу достижения более высоких надоев молока{370}. Вполне возможно, что денежный доход в сознании светских и церковных феодалов всегда был не столько целью, сколько одним из средств достижения успеха, славы или спасения, но именно в этот период они все более пристальное внимание обращают на эти средства. «Мы жаловали поселенцам для освоения и возделывания болотистый участок, разумея, что лучше и выгоднее поселить там колонистов и получать плоды их трудов, нежели оставить эту землю невозделанной и практически бесполезной», — объявляет один землевладелец XII века{371}. Те же самые господа, что проницательным взором всматривались в лесные угодья, пустоши и холмы в поисках удачного места для строительства себе нового замка (о чем шла речь в Главе 3), обращали внимание на болота и леса, служившие прежде лишь источником рыбы, дров и дичи, и мысленно представляли на их месте колосящиеся поля, полные крестьян, от которых поступает рента.
Примером активного и восприимчивого ко всему новому господина, поощрявшего колонизацию XII века, может служить Викман, архиепископ Магдебургский (1152–1192){372}. Он был выходец из знатного саксонского рода, находился в родственных отношениях с маркграфами Ветгинскими по линии матери и своим продвижением был обязан германскому императору Фридриху Барбароссе. Власть и могущество, как врожденные, так и благоприобретенные, он употребил на развитие хозяйственных ресурсов своей епархии. Еще до получения им архиепископского престола в Магдебурге, будучи епископом Наумбургским, он вел торговые дела с поселенцами из Нидерландов («неким народом из земли, называемой Голландией»), которых пригласил еще его предшественник. Эти поселенцы (давшие свое имя Флеммингену неподалеку от Наумбурга) имели определенные экономические и правовые льготы, включая право избирать орган самоуправления или сельского старосту (Schulze), а взамен платили денежную ренту епископу. Став архиепископом, Викман проводил осознанную политику планомерного заселения пустующих земель с использованием так называемых локаторов (locatores). Эта должность (или профессия) была одной из ключевых в деле колонизации Восточной Европы. Локатор был предприниматель, выполнявший роль посредника между феодалом, желавшим освоения своих земель, и новыми поселенцами. Локатор отвечал за практический механизм заселения, в частности, за привлечение колонистов и распределение земли, а взамен получал солидное имение в границах нового поселения с правом наследования. Так, например, когда в 1159 году Викман выделил локатору Герберту деревню под названием Пехау на юго-восток от Магдебурга, с тем чтобы тот «заселил ее и сделал доходной», то соглашением предусматривалось, что локатор получит в качестве вознаграждения шесть мансов земли, право исполнять обязанности сельского старосты и третью часть всех доходов от судопроизводства, таких, как штрафы и конфискации. Причем все эти привилегии могли передаваться по наследству. Что касается поощрения поселенцев, то жители Пехау получали привилегированный закон Бурга (город в окрестностях Магдебурга), освобождались от строительных работ в замках на первые десять лет после поселения.
Такие новые поселения появлялись не на пустом правовом пространстве. Прежде чем передать деревню Поппендорф к востоку от Магдебурга локаторам Вернеру из Падерборна и Готфриду, Викма-ну сначала пришлось сначала выкупить землю у всех, кто мог на нее претендовать по праву феодала. Ясно, что он считал это выгодной формой капиталовложения и предвидел то время, когда
«Здесь поселят новых колонистов, и те осушат болотистые луга, которые ныне не пригодны ни для чего, кроме как для выгона скота и сенокоса, распашут их, засеют и сделают плодородными, после чего станут платить с пахоты ежегодную ренту в установленные сроки в казну архиепископа».
Рента должна была составлять два шиллинга с манса, плюс два бушеля пшеницы и два бушеля ячменя, не считая полной церковной десятины. Опустошение карманов Викмана, произошедшее в связи с окончательным приобретением этого участка, должно было компенсироваться в будущем не ограниченными по времени гарантированными поступлениями в серебре и зерне.
Викман не только поощрял расселение колонистов и приносящее ренту сельскохозяйственное освоение земли в границах своего диоцеза, но и предпринял дальнейшее наступление на восток, в земли язычников — западных славян, которое осталось вписано в историю середины XII века. В последнем походе на Бранденбург в 1157 году он выступал в союзе с Альбрехтом Медведем. В 1159 году он освободил фламандских поселенцев Гроссвустеритца-на-Гавеле от работ на строительстве замка с небольшим уточнением: «пока они не воздвигнут вал для своей защиты от окрестных язычников». В какой-то момент, по-видимому, во время крестового похода против славян 1147 года, он захватил земли Ютербога за Эльбой и развернул там целую программу развития городского и сельского поселения. В 1174 году он даровал поселенцам те же права и свободы, какие существовали в самом городе Магдебурге. Поступая таким образом, он преследовал цель «сделать так, чтобы усердие и добрая воля, кои мы питаем в отношении нового строительства в провинции Югербог (ad edificandam provinciam Iutterbogk), могли реализоваться более плодотворно и свободно». Он провозгласил свободу торговли между новой провинцией и старым центром архиепархии и планировал превратить город Югербог в «начало и голову всей провинции». Экономическое развитие и христианская вера шли бок о бок:
«С Божией помощью и собственными усилиями нам удалось добиться того, что в провинции Югербог, где прежде бытовали языческие обряды и откуда то и дело совершались набеги на христиан, ныне процветает вера Христова, защита ее надежна и прочна, и во многих местах совершается служба во имя Господа нашего. Вот почему наша любовь к народу христианскому побуждает нас бороться за безопасность и процветание всех, кто переселился в эту провинцию или кто желает прийти сюда с не меньшим рвением к нашему удовлетворению, чем к своему благоденствию»{373}.
Выражение «во имя Господа и прибыли» традиционно ассоциируется с хитрыми и набожными итальянскими купцами эпохи Возрождения, но и в отношении отдельных феодалов XII века оно также вполне уместно.
Викман Магдебургский сумел из разнообразных элементов прежнего опыта поселений и колонизации создать новое и продуктивное целое. Он прекрасно понимал значение отношений с сельскими общинами и знал цену законодательных привилегий: ему принадлежит первая письменная версия Магдебургского права, которой предстояло сыграть необычайно важную роль в истории Центральной и Восточной Европы. Викман санкционировал первые гильдии в Магдебурге. Он неизменно опирался на локаторов и заключал с ними детальные письменные соглашения. Викман поощрял иммиграцию из Нидерландов, в Ютербоге сумел увидеть перспективы развития в масштабе целого региона. Именно участие таких высокопоставленных прелатов способствовало стремительному и успешному крестьянскому заселению и освоению новых территорий, и главным принципом, на который они опирались, было создание вольного поселения, «свободного от любых податей или сервильных повинностей»{374}.
ПОНЯТИЕ СВОБОДЫ
В новых краях переселенцам, для успешного освоения новых земель и создания новых поселений, необходимы были особые условия и привилегии, которые способствовали бы привлечению людей и давали им возможность встать на ноги. Требовалась некая компенсация за долгое и трудное путешествие, за разлучение семьи и лишение прежних привязанностей, а возможно, и какой-то части имущества. Новые условия и положение, которые обещались им на новом месте, должны были быть настолько заманчивыми, чтобы подвигнуть их на разрыв старых связей, которые обычно и удерживают человека в родных местах. Первые годы на новой родине для переселенцев оказывались трудными и опасными, особенно если поселения действительно создавались с нуля и пашню приходилось отвоевывать у леса или болота. От землевладельцев требовались поначалу некоторые уступки в правах и доходах в интересах жизнеспособности нового поселения и его будущей прибыльности.
В первые годы обычным делом было снижение ренты и десятины, а порой поселенцы освобождались от них вовсе. Продолжительность и размеры льгот, которыми пользовались переселенцы, могли быть различны. Когда Герман Балк, ландмайстер Тевтонских рыцарей в Пруссии, в 1233 году занимался организацией заселения принадлежавших ордену земель в Силезии, он определил ренту в размере четверти (12,7 кг) серебра от каждого надела из двух малых мансов, в дополнение к полной десятине; однако оговаривал: «на десять последующих лет, в качестве особой льготы, я освободил их от уплаты десятины и ренты, за исключением той земли, что уже пригодна для обработки; с этой земли десятину подлежит уплачивать с первого же года освоения»{375}. Из данного документа совершенно ясно, с какой именно целью давались эти освобождения новым поселенцам — чтобы они могли расчистить землю под пашню. Еще более явственно это видно из грамоты XII века, которой была оформлена передача поселенцам земли на запад от Эльбы. В ней епископ Гильдесгаймский объявлял:
«Они согласились на следующие условия расчистки земли под пашню. Тот, кто свалит деревья, выкорчует пни и сделает землю пригодной для обработки, не будет платить ни десятину, ни ренту, пока обрабатывает пашню мотыгой. После того, как земля станет более пригодной для обработки плугом и плодородной, он освобождается от ренты еще на семь лет. На седьмой же год он будет платить 2 пенса, а на восьмой — 4 пенса, на девятый — восемь, а на десятый — целый шиллинг, после чего это станет для него ежегодной ставкой ренты»{376}.
Мы видим здесь прогрессивную схему обложения, рассчитанную частично исходя из реального качества земельного участка, а частично — из продолжительности освоения. Существенным представляется разграничение между обработкой земли мотыгой и плугом. Мотыга была необходимым инструментом для обработки недавно расчищенных участков пашни, где корни, камни и другие препятствия делали применение плуга нецелесообразным.
Продолжительность таких освобождений тоже была неодинакова и зависела от того, какого размера надел предполагалось со временем предоставить тому или иному крестьянину. Так, когда в 1257 году граф Конрад Силезский распорядился в отношении заселения деревни Зедлиц, было оговорено, что те участки, которые уже расчищены или заняты лишь кустарником, будут нарезаны на фламандские мансы, а поросшие лесом — на франкские{377}. Это было вполне резонно, поскольку надел фламандского типа составлялся из нескольких разных участков, тогда как франкский представлял собой сплошную полосу земли. Расчистить же лес за один сезон было нереально, следовательно поэтапное увеличение франкского надела, создававшее так называемый ландшафт вальдхуфена (Waldhufen), становился в тех условиях практичным и адекватным способом систематического отвоевывания пашни у леса. С другой стороны, открытые участки могли вводиться в оборот сразу и по общему плану, как предусматривал надел фламандского типа. Оставалась еще разница в размерах. Фламандский манс имел площадь около сорока акров, а франкский — вдвое меньше. Получается, что предусмотренная в Зедлице практика освобождения фламандских мансов от податей на пять лет, а франкских — на десять была обусловлена и размерами самого надела, и пригодностью участка для обработки, то есть тем, насколько сложно или легко было очистить его от леса. Другой силезский документ, относящийся к концу XIII века, предусматривает освобождение от податей для участков земли, уже пригодных для пахоты, на три года; поросших кустарником — на девять, а густым лесом — на шестнадцать{378}. В 1270 году епископ Оломоуца в Моравии предложил поселенцам в Фритцендорфе (Фриковице) двенадцать льготных лет, а тем, чьи наделы были расположены ближе к Старицу (Старичу) — шестнадцать, «поскольку их поля хуже»{379}.
Сроки освобождения от податей в Силезии XIII века могли варьироваться от одного до двадцати лет{380}, и, судя по всему, аналогичной была практика и в других регионах. В 1160 году епископ Герунг Майсенский жаловал поселенцам Бухвица десять льготных лет{381}. Спустя столетие, когда Тевтонские рыцари захотели привлечь эмигрантов из Любека и его окрестностей на поселение в Курляндию, они предложили крестьянам столько земли, сколько те были в силах обработать, и шесть лет без платежей и повинностей{382}. В 1276 году жители одной деревни в польской Галиции получили тринадцать льготных лет, с тем чтобы «за это время они могли все силы направить на расчистку леса и увеличение пахотных земель»{383}. Госпитальеры, которые в 1230-х и 1240-х годах предприняли расселение полутора тысяч колонистов в деревнях Новой Кастилии, обычно предоставляли им трехлетнее освобождение от платежей и повинностей{384}. Когда Совет Толедо в 1258 году основал сельское поселение Хебенес милях в двадцати на юг от города, его жителям давалось освобождение от уплаты ренты на десять лет{385}. Такие освобождения могли касаться не только ренты и десятины, но и других обязанностей. Как уже упоминалось, Викман Магдебургский давал десятилетнее освобождение от участия в строительных работах в замках, а в Силезии такие льготы часто касались и большинства видов воинской повинности{386}. Раймонд Беренгар IV Барселонский пожаловал поселенцам (populatores) в Сан-Эстебан де Луэсия освобождение от воинской повинности (hoste) сроком на семь лет{387}.
Эти первые годы со специальными льготами не означали, что у поселенцев не было никаких обязанностей. В особенности следует сказать о том, что часто они обязывались строить или обрабатывать землю под угрозой лишения надела. В 1185 году Альфонс II Арагонский выделил средства св. Сальвадору Сарагосскому и его прокуратору (управляющему) Доминику на заселение Вальмадрида в долине Эбро с таким условием:
«Повелеваю, чтобы те, кто придет заселить эту землю или у кого есть надел, должны до Рождества построить здесь дома, если же они этого не сделают к означенной дате… Доминик… будет наделен полномочиями отобрать у них надел и передать другому, кто поселится в этой местности и будет строиться»{388}.
Крестьянам Хебенеса вменялось в обязанность разбить на определенной площади виноградники в течение первых двух лет{389}. Иногда специально оговаривалось также, что, даже если поселенцам дается свобода распоряжаться землей по своему усмотрению, отчуждать ее в течение первого года или нескольких первых лет запрещено.
Порядок землепользования в первые годы освоения земли был напрямую продиктован специфическими, но временными обстоятельствами. Эти льготные условия должны были стимулировать освоение земли. Конечно, для колонистов и феодала в том были существенные обоюдные выгоды. Попробуем разобраться, какими мотивами руководствовались переселенцы, когда снимались с насиженных мест и селились в новых краях. Самым очевидным из этих мотивов была земля, которую предлагали лорды. В густонаселенных районах Рейнланда, Фландрии или Англии рост населения медленно, но верно вел к сокращению среднего размера крестьянского надела и сводил на нет перспективу получения такого надела в будущем. Зато в той части Европы, которая лежала восточнее Эльбы, а также в Испании времен Реконкисты свободная земля еще оставалась. Так, в Новой Кастилии стандартным размером надела была так называемая югада (yugada). Это слово является производным от уида (пара волов) и в принципе обозначает участок поля, который можно обработать парой запряженных волов{390}. Любому человеку, хоть сколько-нибудь знакомому со средневековой системой обмера земли, понятно, что измеряемые таким образом участки могли сильно разниться в зависимости от конкретных условий. Тем не менее современные испанские историки сходятся в том, что югада в среднем равнялась 80 акрам пашни, и это представляется вполне резонным. Восточнее Эльбы крестьянская ферма площадью 80 акров тоже была весьма распространенным явлением. Стандартной единицей надела там служил манс, либо фламандский — в 40 акров, либо франкский — в 60 акров, но чаще в Бранденбурге, Пруссии и Померании встречались наделы по 2 манса, особенно если речь шла о мансах фламандского типа{391}. Встречались они и в других областях. Если вспомнить, что в Англии XIII века полные виргаты (25–30 акров) составляли ничтожное меньшинство в целом море мелких наделов (в некоторых областях не более 1 процента{392}) или что на рубеже XIV века свыше третьей части крестьянства в Пикардии имели не более половины акра земли{393} то становится ясно, сколь заманчиво было получить надел земли во вновь обживаемых районах.
Однако колонистам Высокого Средневековья предоставлялась не просто земля, а еще и выгодные условия ее обработки. К востоку от Эльбы надел обычно выделялся на условиях привилегированной ренты. Так, когда рыцарь Герборд Кётенский отдал участок леса севернее Щецина под освоение, он поставил условие, что «все жители, кто здесь поселится и займется обработкой земли, должны будут платить с каждого участка по 1 шиллингу ренты и десятину»{394}. За аналогичный участок в «Лампрехтсдорфе» (Kamjontken/ Liebe) в Пруссии, который Дитрих Штанге отдал под освоение в 1299 году, рента составляла полмарки{395}. Точно так же и в Силезии обычная ставка ренты и десятины с фламандского манса равнялась половине марки. Эти ставки обложения были намного ниже по сравнению с теми, что платили крестьяне в неколониальных областях Европы. Например, в Бранденбурге суммарные подати в пользу господина, включая десятину и оброк, в конце XIII века составляли в среднем 26 бушелей зерна в год с каждого манса{396}. Надел в 40 акров обычно приносил не менее 120 бушелей зерна в год, если засеяно было две трети поля, и полтора бушеля с акра при трехполье. Таким образом, около 1300 бранденбургских крестьян отдавали примерно 20 процентов собранного урожая своему барину. Аналогичной была ситуация и в Силезии, где общий объем податей с каждого манса достигал 20–25 процентов от урожая{397}. Иначе обстояло дело в Англии, где оброк рассчитывался от среднего валового урожая с каждого манса и составлял «около пятидесяти процентов» — и это помимо десятины и королевских податей{398}. В Пикардии тех времен положение крестьянина было не намного лучше{399}.
Другим примерным критерием для сравнения может служить суммарное количество серебра, которое жители должны были вносить за акр земли. В конце XIII — начале XIV веков английские крестьяне платили от четырех пенсов до одного шиллинга за акр, то есть от одной пятой до половины унции серебра, исходя из тогдашней пробы английского пенса. В Силезии крестьянин в эти же времена платил полмарки с манса в качестве ренты и десятины. Если считать кельнскую марку равной 8 унциям, а надел фламандского типа — приблизительно 40 акрам, то выходит примерно одна десятая часть унции за акр земли. Как бы приблизительны ни были эти подсчеты, а они в самом деле весьма приблизительны, из них ясно, что крестьяне-поселенцы в Остзидлунге несли куда менее тяжкое бремя в сравнении со своими собратьями, обрабатывавшими «старую» землю{400} в Англии{401}.
В общем и целом, новые поселенцы не облагались трудовыми повинностями (то есть повинностью работать на господской земле), но платили ренту деньгами либо продукцией, в первом случае — фиксированными суммами, во втором — в фиксированном размере либо долей от полученного урожая. В 50-х и 60-х годах XII века архиепископ Толедо давал селянам землю на условиях уплаты ренты в объеме десятой части собранного зерна, шестой части — винограда и несущественной барщинной повинности в количестве трех рабочих дней в году, либо в фиксированном количестве зерна с каждой югады{402}. В Остзидлунге ссылки на трудовые повинности в отношении новых поселенцев крайне редки{403}. В Ирландии вольные держатели, преимущественно английские переселенцы, вносили лишь фиксированную денежную ренту, и даже в случае достаточно крупных земельных владений трудовые повинности в их хозяйстве не играли существенной роли. В 1344 году в Клонкине держатели обеспечивали только 16 процентов всех рабочих рук, требовавшихся для уборочной{404}. Судя по всему, ради поощрения освоения новых земель и наращивания земельной ренты землевладельцы были готовы идти на уступки своим новым крестьянам в отношении отработок.
Не только непосредственный господин новых поселенцев был заинтересован в их поощрении различными привилегиями исходя из своих долгосрочных интересов. Правители, князья и «хозяева земли» (domini terrae) также рассчитывали и пересчитывали те уступки, на которые можно было пойти, поскольку понимали, что «славу князя составляет число его людей»{405}. Когда Хайме Завоеватель Арагонский решил привлечь людей на «заселение Вилановы», он освободил их от длинного перечня обязанностей: «exercitus… cavlcata… peyta либо questa… cena… и прочих королевских налогов»{406}. Освобождение от пеита (peito) или пакта (pactum), стандартного налога в королевскую казну, либо его низкая ставка были типичны для испанских грамот, касавшихся заселения новых территорий. Колонисты, пришедшие в Артазону (близ Барбастро) в годы правления Альфонса I Арагонского (1104–1134), были полностью освобождены от пейта, наряду с другими льготами{407}. Аналогичным образом, одной из существенных составных частей «Тевтонского права», регламентировавшего жизнь поселенцев восточнее Эльбы, было освобождение от целого ряда повинностей в пользу князя:
«Я, Генрих, Милостью Божией герцог Силезии, по просьбе Витослава, аббата монастыря Святой Девы Марии во Вроцлаве, и его братьев, дарую немецкий закон их поселенцам, живущим в Баудише и двух деревнях под названием Кридель, с тем чтобы они были свободны от повинностей, которые возлагаются на поляков по обычаю этой земли и кои называются на местном наречии povoz, prevod и zlad, а также от уплаты податей, таких, как stroza, podvorove, swetopetro, и им подобных»{408}.[12]
В конце XIII века герцог Пржемысл Краковский подтвердил освобождение «ото всех повинностей, наложенных польским законом, а именно — naraz, povoz, prevod, podvorove, stroza, opole, ova, vacca, “отметки в замке” (castle citation) и всех других, как бы они ни назывались»{409}. «Польский закон», который воспринимается как противоположность «германскому закону», предусматривал, таким образом, разнообразные подати и повинности, одни из которых явно были фиксированы, а другие — нет и исполняемы в форме трудовых повинностей. От этих обязанностей новые поселенцы были освобождены. Такое освобождение мог предоставить только князь своей властью, и мы видим из приведенных примеров, что князья и другие феодалы вместе работали над созданием единообразных законов в отношении поселенцев. В конечном итоге колонисты получали еще более существенные льготы в плане сокращения общественных отработок{410}.
Таким образом, перед поселенцами открывались перспективы двоякого рода — получить солидный земельный надел и иметь возможность оставлять для себя более ощутимую часть произведенной продукции. Помимо этого, заманчивыми были и условия наследования. Герборд Кётенский, который, как упоминалось выше, заселил померанские леса крестьянами, обязав их платить по шиллингу с манса, пообещал также, что «все, что мы даем жителям этой земли, дается по феодальному закону, а значит, по этому закону вся собственность в дальнейшем перейдет к жене, детям и другим близким и дальним родственникам»{411}. В Силезии поселенцы наделялись «правом наследования», или «феодальным и наследным правом»{412}. В самом деле, это так называемое «наследное право» (ius hereditarium) порой использовалось как эквивалент «германского права» (ius Teutonicum), действовавшего в отношении поселенцев{413}. Когда Альфонс I Арагонский привез в Арагон на поселение мосарабов (арабоязычных христиан), он обещал им свободу — «вы и ваши сыновья, а также все последующие поколения, равно как и любой, кто придет сюда поселиться вместе с вами, и все, что вы освоите и обработаете, будет ваше»{414}. Тот же правитель обещал поселенцам Артазоны все их права и свободы — «вам и вашим сыновьям, и всем последующим поколениям, и вашему потомству»{415}.
Помимо права наследования переселенцам предоставлялось еще и право отчуждения: «Если кто-либо не имеет себе в утешение наследников, то есть сына или дочь, то господин не может претендовать на его движимое имущество или собственность, но человек сам волен отдать или распорядиться своим имуществом так, как он пожелает», — так этот вопрос оговаривался в грамоте венгерского короля Белы IV в отношении поселенцев в отдаленных восточных областях его обширного королевства{416}. Когда госпитальеры пожаловали своим поселенцам в Сене и Сихене (в Арагоне) землю под названием Сьерра де лос Монегрос, они документально подтвердили, что те «получают землю бесплатно, в свободное, спокойное, гарантированное наследственное пользование как свою собственную, и навсегда наделяются правом распоряжаться ею как им будет угодно, в том числе продавать и закладывать»{417}
Единственное серьезное ограничение на отчуждение земли основывалось на стремлении землевладельцев сохранить первоначальное назначение надела призванного — формирование экономически активного и процветающего сословия крестьян, которые при этом сохраняли бы зависимость от господина и платили ему ренту. Не в интересах этих господ была спекуляция землей, абсентеистское землепользование или появление землевладельцев со стороны. Вот почему в договорах подчас четко предусматривалось, что новые поселенцы могут передавать землю только по согласованию с феодалом. Например, колонистам Хебенеса в Новой Кастилии выставлялись такие условия:
«Каждый житель или поселенец этого места может поступать со своей собственностью как ему захочется, продавать, покупать, отдавать в залог или обменивать с любым другим таким же крестьянином (omme llano labrador tal commo el), который станет обрабатывать ее как положено, а не может продавать или отчуждать любую часть своей собственности в пользу рыцаря, благородной дамы или помещика, равно как и клирика или монаха, а также еврея или мавра, а только в пользу такого же крестьянина, как он сам, который будет жить на этой земле и делать все что необходимо»{418}.
Аналогичную обеспокоенность по поводу надлежащего освоения новых земель проявляли каноники пригорода Праги Вышеграда, когде в 1252 году организовали там поселение пребендариев и зафиксировали в соответствующих бумагах, что «здешним земледельцам не разрешается передавать свои права никакому другому человеку, если он не будет жить на этой земле»{419}. В одной немецкой колонии в Силезии, получившей землю от монастыря св. Винсента во Вроцлаве, действовало правило, что «никто не может покидать этих мест, пока не найдет себе замену для уплаты в казну аббатства того, что они сами должны платить»{420}. Беспокойство по поводу того, что земельная собственность может утекать в руки рыцарей, звучит в восточносаксонском документе: «Никто из поселенцев не вправе отдавать или продавать свой манс или поле рыцарю или любому человеку, кто станет рыцарем»{421}. Аналогичные порядки существовали в долине Эбро, где свободное отчуждение распространялось на все случаи exceptis cavalariis, то есть «кроме рыцарей»{422}, и даже в Палестине, где такое же ограничение было наложено госпитальерами на право поселенцев в Бет-Гибелине свободно отчуждать землю{423}. И все же, за исключением этого ограничения, новые поселенцы наделялись относительной свободой распоряжаться своей землей.
Мы видим, что привилегии, которыми пользовались колонисты, не исчерпывались чисто экономическими. Их освобождение от обложения в пользу государей, конечно же, носило и юридический, и фискальный характер. Вдобавок германское право (ius Teutonicum) в Восточной Европе давало поселенцам льготы не только в плане уплаты низких по сравнению с другими налогов и ренты, но и особый социальный статус, который наглядно виден из тех законодательных норм, которые в отношении них действовали. Так, документ, которым герцоги Болеслав и Генрих III Силезский в 1247 году жаловали поселенцам три деревни, принадлежавшие вроцлавским августинцам, не только фиксировал ренту в пользу герцогов в размере двух мер зерна с манса, но оговаривал и другие условия: поселенцы освобождались от повинностей в пользу герцогов, в частности, от обязанности предоставлять свои возы, а кроме того, от воинской повинности. «Мы также добавляем, — продолжает документ, — что гофмейстер не будет их вызывать к себе или беспокоить иначе как письмом за нашей печатью; мы повелеваем, что они будут призываться и выслушиваться только в нашем присутствии». Далее герцоги подтверждают освобождение от традиционных польских повинностей — таких, как prevod, zlad и другие, а в завершение пишут:
«Мы постановляем, что никто из наших поверенных не имеет полномочий вершить суд, осуществлять надзор или управление в этих поселениях, но в нашу казну будут поступать две трети судебных сборов от всех самых важных и сложных дел, а именно — от дел, предусматривающих смертную казнь, касающихся серьезных телесных повреждений, находящихся в ведении верховного суда, а одна треть будет идти каноникам»{424}.
Таким образом, правовой режим этих поселений характеризовался «доступом к верхушке». Гофмейстер и адвокаты герцога, чье посредничество было нежелательно, исключались из судебных разбирательств, и поселенцы были подвластны лишь прямому суду герцога. Такие правила были типичной составной частью немецкого права (ius Teutonuicum) в Силезии. Когда Генрих III пожаловал деревню Пси-Поле (Гундсфельд) вроцлавскому монастырю св. Винсента, то «в соответствии с германским законом», он
«освободил деревню от всех повинностей и податей, а также от других обязанностей, предусмотренных польским законом, и от судопроизводства нашего кастеляна и других польских судей и официальных лиц. Мы оставляем за собой право вершить суд лишь в самых тяжких случаях, и две трети от судебных доходов мы будем брать себе, а одну треть будет брать аббат. Они не подчиняются ничьей юрисдикции, пока мы не вызовем их к себе письменной повесткой, дабы они отвечали в соответствии с немецким законом».
Производство низшего суда часто оставалось в местном ведении, как было в случае Казимира Опольского, под чьей юрисдикцией находились новые поселенцы в аббатстве Любяж: «наш поверенный или судья не будет иметь власти вершить вопросы вражды, заключения браков или причинения телесных повреждений, если они не имеют смертельного исхода; эти случаи они будут сами разбирать между собой (iudicium inter se habeant). Мы отменяем полномочия наших судей вершить суд в этой деревне, за исключением особо тяжких случаев, которые остаются в нашей юрисдикции». Порой даже особо тяжкие дела могли передаваться на рассмотрение местным судьям, как, например, в случае с Доманевом (Томаскирх) в 1234 году, когда было определено, что «тот, кто достоин смерти, подлежит суду в той деревне вместе со старостой соседней Олавы [Ohlau] и под председательством старосты самой деревни». Из дальнейшего текста становятся видны некоторые трудности, с которыми могли на практике столкнуться местные представители:
«Если человек какого-то кастеляна замка или другой человек благородного происхождения вступит в тяжбу с кем-либо из немцев из деревни и не хочет подчиняться суду старосты, то в интересах справедливости для обеих сторон мы постановляем, чтобы такой случай рассматривался перед герцогом, если он находится поблизости, или же в присутствии того из кастелян, кто будет приемлем для обеих сторон»{425}.
Здесь видно, что доступ к верхушке власти был выходом из положения в условиях, когда запутанная система аристократического патронажа делала неэффективной местную власть.
Этот набор судебно-правовых привилегий, возможно, уходил корнями в те права, которыми обладали голландские и фламандские поселенцы на нижнем Везере и на средней Эльбе в XII веке, когда для разбирательств по мелким делам им были предоставлены местные законы, наложены ограничения на размер штрафов и отменены неблагоприятные для них процессуальные нормы. Ко второй половине XIII века эти правила действовали в отношении поселенцев в Великой Польше, таких, как жители деревень Йержин (Jerzen), которые, «даже в случае правонарушения, совершенного в (соседнем) городе Победжиска (Pudewitz), подлежат суду и наказанию здесь». В 1294 году жители Калиша получили привилегию «свободно пользоваться немецким законом и в своем судопроизводстве быть свободными от обязанности вершить дела в присутствии любого, за исключением нашего должностного лица, будучи вызваны надлежащим образом к суду в соответствии с германским обычаем». Некоторые суды в Силезии являлись главными судебными органами для всех, кто подчинялся закону колонистов. В 1286 году подобным образом для всех, «кто живет в новых поселениях на наших землях по фламандскому закону», герцогами Ополе-Ратиборскими был введен закон Ратибора, а в 1290 году епископ Вроцлавский сделал суд Нисы высшей инстанцией для рассмотрения всех запутанных мирских тяжб «в наших германских городах и деревнях»{426}. Таким образом, поселенцы, согласно германскому закону, не только имели особые права, но и могли обходить действующую систему судопроизводства.
Хартии особых прав — фуэрос (fueros), которыми наделялись испанские поселения в период Реконкисты, тоже предусматривали исключение каких-либо промежуточных судебных инстанций. Право судиться местным судом ценилось очень высоко, как явствует из хартий Альфонса I в отношении мосарабов, которые получили заверения: «вы сможете судиться своим судом за своими воротами, как и все, кто живет в этих землях»{427}, либо поселенцев Артазоны, которым давалось право «не держать ответа ни перед каким человеком или судом за исключением вашего собственного суда Артазоны и в соответствии с вашими законами». Поселенцы в Туделе в 20-е годы XII века тоже были наделены правом «судиться своим судом, прямым и соседским (vicinalimente et diractamente), прежде чем предстать перед моим судом, который будет представлять меня самого»{428}.
Слово, которым можно обобщенно назвать все эти права и привилегии, было очень простым, но значимым — «свобода». Поселенцы, коих госпитальерам было позволено селить на своих моравских землях в начале XIII века, должны были «во всем иметь полную свободу, твердый и неизменный закон» (securam libertatem, ius stabile et firmum){429}. Иммигранты-христиане, переселившиеся в отвоеванную у арабов долину Эбро, должны были быть «свободными и свободнорожденными» (francos et ingenuos){430} и владеть своей землей «свободно, вольно, от рождения и спокойно» (francum et liberum et ingenuum et securam). Это была свобода, выходившая за рамки расовых и местных различий. «Пусть люди, собравшиеся здесь, — объявлял своим указом Бела IV в отношении новых поселенцев в Берегово, — какого бы происхождения они ни были, на каком бы языке ни говорили, живут здесь в равной для всех свободе»{431}. Законы Сайта Мария де Кортеса в 1182 году однозначно утверждали, что «знатные люди, и рыцари, и иудеи, и мусульмане, которые пришли сюда, чтобы здесь осесть, должны подвергаться одинаковым штрафам и общему для всех судебно-правовому порядку (talem calumpniam et tale forum) наравне с другими поселенцами»{432}. Простые условия свободы были сконцентрированы в красноречивой фразе графа Роджера Сицилийского: «Деревню надлежит называть Франка (Franca), то есть свободная деревня». Вновь осваиваемые земли, как и все земли в средневековой Европе, принадлежали феодалам, но одновременно они были свободной землей, и в этом необязательно усматривать парадокс.
6. НОВЫЙ ЛАНДШАФТ
«Вам надлежит обосноваться там навсегда, построить новые дома и отремонтировать старые… Вам необходимо будет трудиться и возделывать все эти поля и виноградники, как уже обрабатываемые, так и новые, во имя своего и нашего благосостояния, вам надлежит тщательным образом расчистить дубовые леса на плодородных участках, пригодных для земледелия, и ввести их в постоянный оборот… И вам надлежит усовершенствовать все»{433}.
В 1237 году епископ Фома Вроцлавский пожаловал Петру, бургомистру (Schulze) второго города в его епархии Нисы, 200 мансов фламандского типа «в дубовом бору» для расчистки и освоения. Жалованные земли образовывали единый участок, тянувшийся на запад от левого берега реки Нисы, крупного притока Одера. Двести фламандских мансов составляют 8 тысяч акров, из чего можно заключить, что весь проект был довольно амбициозен. Спустя столетие после передачи этой земли был проведен обмер всех земель епархии, на основании которого можно судить об успехе предприятия. На месте «дубового бора» стояло четыре деревни разного размера (61, 20, 80 и 43 фламандских манса) с общей площадью почти 200 мансов. Названия у этих деревень были германские. Одна называлась Петерсхайде («вересковая пустошь Петра»), по-видимому в честь первоначального локатора Петра Нисского; две других — Шёнхайде («красивая вересковая пустошь») и Фридевальде («мирный лес») напоминают интонацию агитационного текста. Петерсхайде, Фридевальде и Гросс Бризен имели собственные церкви с земельным участком величиной в два манса, а жители небольшой деревушки Шёнхайде (занимавшей всего 20 мансов), по всей видимости, ходили на службу в одну из этих церквей. Во всех деревнях староста имел в собственности значительный надел (14, 4, 18 и 7 мансов). В деревне Гросс Бризен была таверна, в Петерсхайде и Шёнхайде — таверна и водяная мельница, а деревня Фридевальде, к которой относились 80 мансов, то есть 3 200 акров пашни, вероятнее всего, была центром районного масштаба{434}.[13] За сто лет полоса первозданного леса превратилась в обжитой ландшафт со всей комплексной системой производства пищевой продукции, средств общения и отправления культа, которой располагало средневековое общество. Каков же был механизм этих революционных преобразований?
ОТЪЕЗД ИЗ ДОМА
Новые крестьянские поселения могли развиваться в различных формах. Это мог быть процесс постепенный, путем расширения уже существующих поселений, либо в виде массированного освоения новых участков, как в случае с новыми поселениями, планомерно заполнявшими карту Восточной Европы. Иногда процесс освоения стимулировался строительством новых крепостей или объектов церковного назначения, которые служили своего рода песчинкой в раковине, притягивая к себе новые поселения. Так, например, в 1101 году восточнее Зале (примерно на границе между немецкими и славянскими поселениями) был реорганизован и получил нового настоятеля Виндольфа монастырь Пегау, и тот немедленно принялся за реконструкцию зданий аббатства, действуя продуманно и тщательно, подобно «искусному мастеру по изготовлению печатей»:
«Он изучил территорию, разровнял неровные или болотистые участки, расчистил заросли кустарника. Он расширил и увеличил надел и искусно превратил доверенную ему церковь в образец совершенной красоты, как если бы это была узорная печать… он начал обрабатывать землю, которая теперь в его честь носит название Аббатисдорф (то есть «Аббатская деревня»), убрал лишние деревья и подлесок, раскорчевал пни и расширил поля; когда здесь была построена церковь и дом для надобностей жителей, он передал их монахам в вечное пользование»{435}.
В последнее время в научных кругах появилась тенденция принижать сельскохозяйственное значение монастырей, в первую очередь основанных в XII веке, но в таком случае более подходящей представляется прежняя героическая трактовка их истории. Новые аббатства, в свою очередь, означали новые деревни.
Точно так же и новый замок мог способствовать образованию в непосредственной близости, то есть под его защитой, нового поселения. Крепости подчас ставились в необжитых местах — либо для того, чтобы использовать фактор труднодоступности, либо в силу того, что они строились на опасных границах, как было в случае с военными сооружениями монахов Сент-Кугата в Каталонии в 1017 году — «в бесплодных топях и уединенных местах, чтобы противостоять засадам язычников»{436}. Однако отстроенные и заполненные воинами фортификационные сооружения требовали рабочей силы и провианта — и то и другое удобнее всего было добыть у окрестного земледельческого населения, которому замок в свою очередь служил защитой. На каталонской границе рост числа поселений действительно был следствием военного строительства: «в этом районе едва ли найдется одна современная деревня, которая своим происхождением не обязана какой-нибудь крепости X века»{437}.
Архиепископ Тирский Вильгельм так описывает последствия другой программы строительства замков, предпринятой крестоносцами в районе между Иерусалимом и Аскалоном в 30–40-е годы XII века:
«Имевшие землю в прилегающем районе чувствовали защиту со стороны соседних замков и построили в их окрестностях (suburbana loca) множество селений. В них жили многие семьи и земледельцы, и в силу их расселения здесь весь район стал более спокойным и начал поставлять округе большое количество продовольствия»{438}.
Среди этих новых поселений был Бет-Гибелин, где госпитальеры предоставили колонистам льготные права, «с тем чтобы лучше шло заселение этой земли»{439}. Каждый житель имел солидный надел в два каруката (порядка 150 акров), вносил за него ренту и мог передавать по наследству. Датированный 1168 годом список поселенцев свидетельствует, что многие из них прибыли в эти места из Западной Европы: Санчо Гасконец, Стефан Ломбардец, Петер Каталанец, Бруно Бургундец, Герард Фламандец, Гилберт Каркасонец и т.п. Крепости 30-х годов XII века вызвали к жизни колониальные поселения европейских земледельцев и ремесленников.
Если документальные свидетельства, относящиеся к правовым условиям существования новых деревень (о чем шла речь в предыдущей главе), достаточно многочисленны и пространны, что вполне объяснимо, то механизм миграции можно восстановить силой воображения, но не на основе документов, которых на этот счет почти не сохранилось. Переселенцы наверняка делали какие-то распоряжения по поводу оставляемого в родных местах имущества, транспорта для переезда на новое место и получения там новой собственности; им наверняка требовалась информация и на первое время поддержка; однако из существующих свидетельств можно составить лишь самое общее представление об этих процессах жизненной важности. Так, нам известно, что в 1210 году братья Петр и Фортуний Гарсиа продали свою землю монастырю Санто Доминго де ла Кальсада за 166 морабетинов (morabetinos), поскольку «желали уехать и присоединиться к новым поселенцам в Мойе (volentes ire ad populationem Mohie)»{440}. Нам не известно доподлинно, сколько земли они продали, на каких условиях получили надел в Мойе и была ли им вообще какая-то выгода от такого обмена, в долгосрочном или сиюминутном плане. Даже в наши дни нелегко проследить судьбу иммигрантов в каждом конкретном случае от отправной точки до конечной цели. Когда же речь идет о Средних веках, это практически невозможно. Упоминания о переселенцах, покидающих родной дом, как в случае с братьями Гарсиа, встречаются крайне редко. Выходит, что картину реального процесса переселения той эпохи мы можем воссоздать лишь в самом общем и весьма умозрительном плане. Тем не менее постараемся сделать все, что в наших силах.
Для начала представим себе крестьянина, надумавшего переселиться в другие края, и колониального землевладельца, решившего привлечь держателей. Предположим, первый — младший сын своих родителей, либо преступник, или же просто человек, движимый голодом, как «многие, оставившие свои поля в годину великого голода в Германии и искавшие прибежища в Польше» в 1264 году{441}. Естественно, между землевладельцем и этим потенциальным контингентом переселенцев должен был существовать какой-то обмен информацией. Такой обмен мог происходить неофициально в виде циркулировавших среди путешественников слухов, однако более надежным каналом была целенаправленная пропаганда. Восточногерманские феодалы, желая заселить и освоить свои владения в малолюдных приграничных районах либо недавно завоеванных территориях, нередко проводили в обжитых областях западной Германии целые кампании по привлечению поселенцев. Одним из ранних примеров такого рода может служить Випрехт Гройцшский, «правитель областей, населенных сорбами», который приблизительно в 1104 году «организовал расчистку новых земель в епархии Мерзебург». После этого он двинулся во Франконию, где жила его мать со вторым мужем, и «многих франконских крестьян увел с собой и повелел им возделывать эти земли после того, как расчистят их от леса, и владеть ими с правом наследования»{442}.
Особенно живо картину ряда энергичных мероприятий по набору поселенцев рисует «Славянская Хроника» Гельмольда Босаусского, написанная в 70-х годах XII века. Он описывает освоение недавно завоеванной Вагрии (Восточный Гольштейн), предпринятое по инициативе графа Адольфа II в 40-х годах XII века:
«Поскольку земля была необитаема, он разослал повсюду гонцов — во Фландрию, Голландию, Утрехт, Вестфалию и Фризию, призывая всех, кто испытывает нехватку земли для пашни, прийти со своими семьями и занять эту хорошую и обширную землю, которая плодородна, полна зверя и рыбы и удобна для пастбищ… Вняв этому призыву, бес численное множество людей разных племен поднялись с места и с семьями и пожитками двинулись в Вагрию к графу Адольфу, дабы получить обещанную им землю»{443}.
В последующие десятилетия такую политику восприняли и другие немецкие землевладельцы. Альбрехт Медведь Бранденбургский
«послал гонцов в Утрехт и на берега Рейна, а особенно — в те края, где люди страдают от близости океана, то есть в Голландию, Зеландию и Фландрию, и те привели большое количество людей, которые поселились в крепостях и городах славян»{444}.
Какое-то представление об этих вербовочных предприятиях дает документ 1108 года, содержащий призыв к влиятельным мужам Вестфалии, Лотарингии и Фландрии помочь в завоевании земли вендов. Текст адресован не столько крестьянам, сколько господам, однако вероятнее всего, что эти две категории имели в отношении земли схожие интересы:
«Эти язычники — худшие из людей, но земля их — самая лучшая, с дичью, медом и хлебом. Если ее начать обрабатывать, она будет приносить столько, сколько не приносит ни одна другая земля. Так говорят люди знающие. Итак, о саксонцы, франконцы, лотарингцы и фламандцы, здесь сможете вы и спасти свои души, и при желании получить прекрасную землю для освоения»{445}.
Упоминание о землях Восточной Европы в связи с их плодородием и необжитостью часто встречается в западноевропейских источниках. Венгрия, писал дядюшка германского императора Фридриха Барбароссы Огго Фрейзингенский, «славится как красивой природой, так и плодородием пашни». Однако, сетует он, «поля ее едва ли видели мотыгу или плуг», и недоумевает, какой волею «эта дивная земля оказалась в руках не людей, а чудищ в человеческом обличье»{446}. Французский монах Одо из Дойля, проезжая приграничные области Венгрии и Болгарии, замечал, что они «изобилуют тем, что дает сама природа и могло бы поддерживать поселенцев, ежели бы здесь были таковые»{447}.
Замечателен другой эпизод «Хроники» Гельмольда, проливающий некоторый, пусть неяркий, свет на рудиментарный механизм переселения. Описывая нападение славян-язычников на колонию фризов в Сюзеле (Вагрия), недалеко от балтийского побережья, он пишет, что хотя численность переселенцев и составляла 400 с лишним человек, но «когда явились славяне, в крепости не насчиталось и сотни, ибо все остальные к этому моменту отправились на старое местожительства распорядиться насчет остававшейся там земли» (ceteris in patriam reversis propter ordinandum peculium illic relictum){448}. Расстояние было не столь велико: из Фризии можно было за неделю добраться до Балтики, — однако на этом примере, быть может, единственном в своем роде, мы видим, что переселенцы ездили туда-сюда, устраивались на новом месте, возвращались назад, чтобы уладить какие-то дела, а потом снова отправлялись на восток. В некоторых случаях, особенно если оставленный надел был солидным, такая связь между старым и новым домом могла быть регулярной. Так, фуэро (закон) Толедо XII века предусматривает для гражданина возможность поездок во Францию, Кастилию или Галисию, либо посещения им «своих земель по ту сторону гор» в зимнее время{449}.
Современные исследования миграционных процессов особый упор делают на два фактора, которым едва ли можно найти документальное подтверждение касательно XII–XIII веков. Один — это вопрос пересылки денег домой. В XII веке существовала широкая практика отсылки поселенцами значительных сумм своим семьям на родину. Однако, учитывая, что в те времена существовали только серебряные монеты, подобные трансферты были возможны, скорее всего, только для тех, кто непосредственно был связан с торговой сетью. Если итальянские купцы могли воспользоваться аккредитивами, а к сундукам с пенсами английских королей была приставлена вооруженная стража, то процветающим или предусмотрительным сынам Андалусии или Пруссии отсылать деньги родителям в Старую Кастилию или Саксонию было непросто. Однако, по всей видимости, для процесса миграции это не имело решающего значения. Другой важный момент, заметный в эмиграции сегодняшнего дня, — это реэмиграция, то есть возвращение части переселенцев домой. В Средние века, по-видимому, этот фактор играл существенную роль, особенно в тех случаях, когда переселенцу удавалось сколотить какое-то состояние на чужбине и хотелось вложить заработанное в том месте, какое имело для него настоящую ценность, то есть на родине. В другом случае возвращение домой могло означать полное крушение всех надежд и планов, и тогда это было возвращение для «зализывания ран». В Средние века, решившись на переселение в дальние края, люди возлагали свои главные надежды на обзаведение там своим хозяйством, и следовательно, возвращение назад было синонимом фиаско. В одном документе XIII века содержится некоторая информация, способная пролить свет на эту проблему.
В 1236 году епископ Гильдесгаймский заключил соглашение с графом Лауэнроде. Графство было разделено на две части. Так называемое «малое графство» отошло к епископу, а «большое» осталось у семьи графа. Жителям было предписано оставаться в своей части графства, а те, кто переселялся в другую, подлежали возвращению на место. «Однако тем, кто живет по ту сторону Эльбы либо в любом другом месте за пределами графства, разрешается при желании вернуться как в малое, так и в большое графство», говорилось далее в соглашении{450}. Этот документ несет большую информацию. Он показывает, что к 30-м годам XIII века миграция за Эльбу была уже абсолютно обычным явлением. Кроме того, он показывает, что возможность возврата переселенцев с той стороны Эльбы домой также не считалась чем-то из ряда вон выходящим. Возможно, не всякий переселенец получал на новом месте то, что ожидал. Не исключено, что реэмиграция вообще была распространена намного шире, чем мы можем себе представить.
Некоторые из уже приводившихся цитат рисуют переселенцев, покидающих родные поля или избавляющихся от своего надела, откуда ясно, что многие колонисты отнюдь не были безземельными. У себя на родине это были вполне состоявшиеся крестьяне-фермеры. Даже у тех, кто решался на переселение под влиянием безнадежных обстоятельств, порой имелась своя земля, которую они теперь продавали, как в случае с зависимыми крестьянами Гайнингена в Саксонии, которые, «разоренные грабежами и поджогами, под бременем крайней нищеты», отдали свои пять мансов господину и покинули родные края; либо «бедных скитальцев»{451} Рейнской области, вынужденных в 70-е годы XII века «продать родовые владения и переселиться в чужие края»{452}. В этих случаях доход, полученный от продажи старого участка земли, мог стать хорошим подспорьем переселенцам на переходном этапе, пока они еще не получили новой земли, а также на первые, самые трудные годы. Переселение в чужие края требует не только воли, но и ресурсов. Уже в наше время было замечено, что ядро эмиграции составляют люди, занимающие средние ступеньки общественно-экономической лестницы, то есть не самые богатые и не самые бедные. У них, следовательно, есть и мотив, и способность к тому, чтобы перебраться на новое место и начать с нуля. К тому же для феодалов более привлекательными кандидатами в новые поселенцы были опытные земледельцы, нежели безземельные и нуждающиеся крестьяне.
ЗАКЛАДКА ОСНОВ
Одной из первых задач при основании нового земледельческого поселения было установление границ между домами, дворами и полями. В лесистой местности эта задача порой оказывалась достаточно сложной. Так, размежевание земель цистерцианского монастыря в Генрихове (Heinrichau) в Силезии осуществлялась путем наблюдения с вершины сначала одного холма, затем другого, а также с помощью дымовых сигналов для ориентирования на поросшей лесом местности. После этого пограничные знаки высекались на стволах деревьев{453}. В более открытой местности могло хватить и межи, пропаханной плугом{454}. В землях, лежавших восточнее Эльбы, эта задача была сложна, поскольку требовался не только раздел, но и обмер. Единицей измерения в Остзидлунге служил манс, то есть земельный надел площадью 40 или около 60 акров (соответственно для участка фламандского или франкского типа){455}. Когда закладывалась новая деревня, требовалось сперва определить количество будущих участков и лишь затем проводить их разбивку на местности. Иногда деревни даже назывались по количеству мансов — например, в Силезии была «деревня семи наделов» — Зибенхуфен (Siebenhufen){456}, ныне — Семславице (Siemslawice). Делались и попытки к единообразию. Так, в некоторых областях, например, в Ноймарке в Бранденбурге, стандартным размером поселения стали 64 манса. Здесь половина всех новых деревень была именно такой величины{457}.
Порой в больших владениях число мансов служило только для ориентира, ибо трудно себе представить, чтобы во всех случаях проводились точные обмеры земли. Например, Владислав Одониж Великопольский в 1224 году жаловал Тевтонским рыцарям 500 мансов, а в 1233 году — цистерцианцам два участка по 2000 и 3000 мансов, при этом не надо забывать, что 3000 мансов — это порядка 200 квадратных миль{458}. Даже при менее значительных пожалованиях чаще всего размер устанавливался приблизительно. Одна герцогская грамота из Силезии XIII века регламентировала заселение двух деревень по немецкому закону и констатировала: «Поскольку число мансов, которые можно там разбить, точно установить пока невозможно, мы не в состоянии в точности предусмотреть объем прибыли, какую мы с этого получим»{459}. Самый ранний из дошедших до нас документов, имеющих отношение к основанию нового поселения в Силезии, был издан герцогом Генрихом Бородатым в 1221 году{460}. Речь в нем идет о деревне в составе пятидесяти мансов, однако делается следующее допущение: «если тамошний лес превышает по площади пятьдесят мансов, то мы все равно отдаем его деревне на тех же условиях»{461}. В самом деле, опасаясь, что впоследствии князь или сеньор проведут новый обмер и установят, что реально у крестьян оказалось земли больше, чем было рассчитано изначально, и деревне будут грозить более тяжкие поборы, поселенцы Остзидлунга подчас покупали себе иммунитет от такого перемера земли. Князь Рюгенский в 1255 году получил от каких-то поселенцев двадцать шесть марок, «с тем чтобы за их деревней навечно числилось столько мансов, сколько сейчас, и никакой новый обмер земли не проводился»{462}. Обследование земель Богемии в середине XIV века выявило, в частности, что участок, считавшийся равным шестидесяти одному мансу, на самом деле включал по меньшей мере шестьдесят четыре, и жители заплатили немалую мзду, чтобы только излишки ограничились этими тремя участками и больше никогда не перемерялись — их подати возросли в результате на пять процентов. Один цистерцианский монастырь с земельными владениями в Мекленбурге откровенно предписывал в своих бумагах: «Если господа [то есть герцоги Мекленбургские] спросят, сколько у нас мансов, надлежит по возможности это число занижать»{463}.
Однако в большинстве случаев обмеры земли все же проводились с достаточной точностью. Герцогская деревня Погель в Силезии, заселенная по фламандскому закону в 1259 году, была промерена и зарегистрирована как имеющая двадцать один манс плюс еще один заливной, который считался общинной собственностью{464}. Использовались специальные измерительные рейки и шнуры. Польское и чешское слово для обозначения последних (соответственно sznur и snurd) происходят от немецкого Schnur, что говорит о немецком влиянии и в этой сфере{465}. Измерение шнуром (per funiculi distinctionem или in funiculo distribucionis) упоминается летописцем Гельмольдом Босаусским{466}. Любопытно, что в ряде грамот об этом инструменте говорится с интонацией церковного текста: «И призвал он к себе язычников, и поделил между ними наследство шнуром» (divisit eis terram in funiculo distribucionis){467}. Однако существовали совершенно реальные шнуры и рейки, которые применялись при расчистке и обмере земли под пашню. Силезские герцоги имели собственных землемеров (mensurafores){468}, и когда граф Гольштейнский Адольф попытался обмануть епископа Ольденбургского, «он велел своим землемерам пользоваться при обмере шнуром короче обычного» и включил в расчет болото и лес{469}. В Генрихове «земледельцев собрали сразу, как только закончили обмер»{470}. Прусский документ 1254 года упоминает «135 стандартных шнуров, которыми измеряются земельные наделы в Пруссии»{471}. Самым же убедительным надо признать тот факт, что на планах и картах XVIII–XIX века деревни и земельные владения Остзидлунга имеют прямоугольные очертания, что можно объяснить только тем, что поля и поселения разбивались с помощью простейших измерительных инструментов, какими являлись шнур и рейка.
Процесс обмера земли воссоздает дарственная грамота, оформленная Тевтонскими рыцарями в Пруссии в пользу саксонского аристократа Дитриха Тифенауского в 1236 году. Они пожаловали ему замок «и 300 фламандских мансов, ныне не обрабатываемых, но пригодных для пахоты, количество которых он установит обмером»{472}. Фламандский манс был в Пруссии стандартным участком, как было определено еще в Хелминской грамоте 1233 года. Земли Дитриха были описаны приблизительно: от поместья, принадлежавшего Мариенвердеру (Квидцин), далее в одну сторону вниз по течению реки Ногат до границ соснового бора, а в другую — по прямой до обрабатываемых полей вокруг Ризенбурга (Прабуты). Если обозначенная столь приблизительно земля оказалась бы меньше 300 мансов, то рыцари были готовы прибавить к ней часть пашни в окрестностях Ризенбурга. Участки соснового леса, соизмеримые со стандартным маисом, в расчет не включались (тогда как граф Адольф Гольштейнский в свое время сделал именно так). Практическая тригонометрия, которую мы здесь видим, получила официальное оформление в Пруссии примерно в 1400 году в «книге практической геометрии» под названием Geometria Culmensis, которая предположительно была написана в ответ на обеспокоенность Великого магистра Тевтонских рыцарей ситуацией с «обмером полей»{473}.
Конечно, не всякая новая деревня закладывалась на месте дикого леса. В Восточной Европе зачастую уже имелись старые поселения или хотя бы название той местности, куда должны были «вписаться» новые поселенцы. На Сицилии нормандцы-завоеватели сохраняли «древние поселения сарацинов»{474}, а на Пиренеях прежняя топонимика имела еще более давние корни, ибо мусульманская Испания была населена достаточно плотно. Это касалось даже тех случаев, когда население сильно редело в результате войны и завоевания, как произошло с деревней и поместьем Арагоса, пожалованными епископу Сигуэнцы в 1143 году: их «границы были неизвестны, поскольку здесь долгое время никто не жил»{475}. Различие между присвоением уже заселенной территории и освоением пустующих земель видно из грамот, изданных практически в то же время в Арагоне{476}. В одной речь идет о домах прежнего владельца-мусульманина, «которые во времена мавров были самыми процветающими», другая касалась незаселенной земли и предполагала право «строить на этой пустой земле (еremo) дома, причем как можно лучше». Выражение «во времена мавров были самыми процветающими» говорит о топонимической преемственности, а слова «как можно лучше» равносильны карт-бланш, выданной поселенцам. Обе ситуации имели место во вновь колонизованных землях.
После обозначения границ новых владений им следовало дать хозяев. Судя по всему, участки в Остзидлунге выделялись не по одному. Сохранился силезский документ 1223 года, где идет речь о «предоставлении мансов целым лотом по немецкому образцу»{477}, что заставляет думать, что такая практика при освоении новых территорий была достаточно распространена. Естественно, делались попытки соблюсти справедливость. Когда монахи монастыря св. Клемента в Толедо заселяли в 1340 году Арганс, каждому поселенцу была выделена югада, состоящая из трех участков — одного хорошего, одного среднего и одного плохого{478}. В Испании процесс распределения завоеванной земельной собственности способствовал выработке определенных процедур и появлению своего рода экспертов в этой области. В XII веке в Сарагосе активно действовали партиторы (partitores — «делители»), а дома предоставлялись «королевским распорядителем-«дистрибьютером» в соответствии с правилами распределения» (a regis distributore distributiones iure){479}. Эта тенденция достигла своей кульминации в великих книгах (libros del repartimiento) XIII и XIV века — огромных регистрационных книгах, куда заносились данные о выделении той или иной земли завоевателям и переселенцам.
Самые крупные землевладельцы, короли, герцоги, епископы крупных епархий наподобие Толедо и Вроцлава, рыцарские ордена и монашеские братства, были заинтересованы в хозяйственном развитии своих владений, но для целей организации и надзора на уровне деревни им были необходимы люди из местных. В этом и состояла роль локатора. Такой человек, скорее всего, уже до организации нового поселения был достаточно зажиточным, к тому же уважаем своими согражданами, поскольку его функции предполагали наличие и определенного достатка, и связей. С другой стороны, в некоторых случаях его вполне мог выручить и феодал, как было, например, с локатором Петром Нисским, которому епископ Вроцлавский выделил двенадцать марок и 300 бушелей ржи «в качестве вспомоществования новому поселению» (in adiutorium locacionis){480}. Некоторые локаторы действительно были весьма уважаемыми людьми. Богемский король Пржемысл Оттокар II пожаловал Конраду Лёвендорфскому новое поселение, руководствуясь тем, что «мы слышали, будто он подходящий для этого человек и имеет надлежащий опыт»{481}. В Силезии локаторы подчас были рыцарского происхождения, они являлись вассалами герцогов и епископов{482}. Начиная с середины XIII века в этой области, судя по всему, активно проявляли себя и горожане; а в одном или двух случаях можно говорить об исполнении этих обязанностей простыми крестьянами.
В Богемии типичными локаторами были, к примеру, чеканщик денег и приближенный короля{483}. Аналогичного рода должности в Испании назывались популяторами (populatores), хотя этим же термином назывались и сами поселенцы. Однако, когда в 1139 году, как следует из документов, Альфонс VII Кастильский выделил землю под строительство замка «своему популятору и слуге», то смысл совершенно ясен{484}. Такие люди, как и их «коллеги» в Восточной Европе, получали вознаграждение в виде земельных владений в основанных и заселенных ими деревнях. Альфонс I пожаловал одному своему местному чиновнику «две югады земли, поскольку ты организовал это поселение»{485}. Успешное осуществление заселения еще более укрепляло позиции локатора. Не будучи землевладельцами, организаторы новых поселений в Остзидлунге имели в своем распоряжении от ста до двухсот акров земли и являлись промежуточным звеном между господином и поселенцами, а также исполняли функции местного старосты (Schulze). Они, разумеется, пользовались в деревне самым большим влиянием.
Не всякое запланированное поселение оказывалось успешным предприятием, как показал опыт польского графа XIII века Бронижа. Он пригласил «некоего немца по имени Франко» арендовать у него угол поместья и выяснить, «может ли он заселить его для меня немецкими поселенцами»{486}. Примерно в то же время служивший у Бронижа мельник-немец Вильгельм, арендовавший у графа мельницу, испросил позволения «с моего согласия вызвать сюда немцев и основать и заселить немецкую деревню». Ни Франко, ни Вильгельм, однако, ожиданий не оправдали. Первый «не сумел освоить должным образом полученную землю из-за нищеты». Второй же, вопреки обещанию построить немецкое селение, «не смог этого сделать и привлечь людей для заселения деревни». В конце концов Брониж предпочел духовное — а возможно, и материальное — удовлетворение и вместо этих бесплодных прожектов основал на своей земле цистерцианский монастырь.
Одно поселение городского типа потерпело фиаско сразу по нескольким причинам: «между локаторами возникли распри, кто-то умер, кто-то не выдержал нищеты и продал часть своей земли за наличные»{487}. Опасность неудачного заселения объясняет, почему феодалы могли вносить в текст своих договоров с локаторами пункты о штрафных санкциях. Когда каноники пражского Вышеграда выделили свои земли локатору Генриху из Гумполеца, то обусловили это тем, что «он в течение года должен поселить здесь земледельцев», а «если он не сумеет за год заселить землю держателями, то потеряет на нее всякое право, а его гаранты… должны будут уплатить нам тридцать марок серебра»{488}. Как показывают некоторые приведенные цитаты, одним из решающих факторов успешного заселения были средства, которые локатор мог вложить в осуществление проекта. Новые поселения требовали не только рабочих рук, но и капитала.
Среди наиболее крупных статей расходов при заселении новых земель было строительство мельницы — самого большого для Средних веков технического сооружения. Использование энергии воды для размола зерна в эпоху Высокого Средневековья было уже обычной практикой, хотя многие крестьяне по-прежнему предпочитали свои ручные мельницы. Водяные мельницы были сооружения дорогостоящие, но прибыльные, в особенности если строились феодалом или принадлежали ему. Тогда он мог принудить своих крестьян свозить туда зерно на обмолот и платить за работу. В самом деле, хозяйская мельница, строительство которой финансировалось из доходов господина от различных рент, судебных сборов, барской запашки, платы за конторские услуги и военной добычи, была в те времена очень распространенным явлением. Реже встречались мельницы в общинной или совместной собственности, как, например, та, что в 1012 году аббат Карденьи купил у двадцати одного свободного крестьянина{489}. Единоличный крестьянин, как правило, не мог осилить финансирование такого дорогостоящего предприятия{490}. Например, поселенцы Марсиллы получили от Петра I Арагонского разрешение «на строительство свободных мельниц» (molinos faceie ingenuos) в награду за участие в сооружении крепости{491}. В деревнях Остзидлунга право построить мельницу очень часто было привилегией локатора. Епископ Бруно Оломоуцкий (1245–1281), разработавший у себя в епархии фактически стандартную форму договора с локатором, обычно даровал локаторам право построить одноколесную мельницу, которая имела статус «свободной»{492}. Аналогичным образом, когда в 1289 году епископ Генрих Эрмландский доверил своему брату Джону Флемингу реализацию масштабного проекта заселения Пруссии, он выделил под него землю «с мельницами, которые там можно построить на правах свободных»{493}.
ВОПРОС МАСШТАБА
Поскольку, как говорилось в предыдущей главе, средневековых свидетельств демографического характера сохранилось и вообще существовало очень мало, не удивительно, что составить статистическую картину миграционных процессов крайне сложно. Нет ни списков пассажиров, ни переписей с указанием места рождения (хотя это как раз зачастую можно установить по фамилии), и даже отрывочные сведения об эмиграции редки, хотя и они встречаются. Некоторые такие примеры собраны в книге Зигфрида Эпперляйна, посвященной миграции в земли полабских славян и ее причинам{494}. Они проливают свет на некоторые аспекты этого процесса. В 1238 году сервы аббатства Ибург южнее Оснабрюка навлекли на себя неприятности, продав свою землю — как утверждалось, они держали ее в аренде и могли ею управлять, но не распоряжаться на правах собственников: «понимая, что совершили большое преступление против закона и своего господина, они отправились за Эльбу, чтобы уже никогда не возвращаться»{495}. В следующем десятилетии настоятель церкви Святого Креста в Гильдесгайме, «прослышав, что наш крестьянин Альвард предложил отправиться за Эльбу», призвал потенциального переселенца и взял с него клятву, что он не будет предпринимать на новом месте ничего, что шло бы во вред церкви{496}. Иногда свидетельства носят более общий характер. Летописец монастыря Растеде, стоявшего на равнине недалеко от устья Везера, сетовал, что местные аристократы «столь охочи до монастырской земли, что практически все держатели со своим имуществом перебрались за Эльбу»{497}.
Из приведенных фрагментов следует, что немецкие крестьяне порой отправлялись из обжитых районов Германии в новые земли за Эльбой. Однако в них нет никаких данных о масштабах переселения. Попытки вычислить их на основании имеющихся сведений уже делались. Один из самых скрупулезных исследователей этого вопроса Вальтер Кун рассчитал, что численность немецких селян-колонистов, расселившихся в XII веке к востоку от линии Эльба-Зале, составляла примерно 200 тысяч{498}. Свои расчеты он основывал на количестве мансов, или крестьянских хозяйств, в отношении которых точно или достаточно обоснованно можно сказать, что они были основаны именно в ходе первой волны немецкого заселения. Освоенные в это время районы — восточный Гольштейн, западный Бранденбург и саксонские марки — сами затем стали источником миграционных потоков в области, лежащие далее на восток, такие, как Мекленбург, Померания, Силезия, Судетская область и Пруссия, которые подверглись колонизации в XIII веке. Иными словами, у первопроходцев-отцов дети тоже были первопроходцы. Используя современные параллели, Кун также показал, насколько быстро росло иммигрантское население в новых землях, удваиваясь уже в следующем поколении.
При том, что точную цифру о немецких переселенцах на восток от Эльбы получить достаточно трудно, тем не менее на основании документальных свидетельств можно вполне обоснованно говорить о том, что миграция носила широкомасштабный характер. Сохранились сотни документов, регламентировавших создание новых поселений (Lokationsmkunden). Если вернуться к вопросу миграции из Англии в кельтские страны, то такая документация отсутствует, что весьма любопытно. Некоторые авторы считают, что и в Ирландии действовали свои локаторы, но в таком случае они не оставили по себе никакого следа. Отсутствие четких записей означает, что оценивать значение миграционных процессов в истории Ирландии можно по-разному. Джослин Отвей-Рутвен высказала мнение, что «нормандское заселение Ирландии было не просто военным вторжением, а частью крупномасштабного процесса крестьянской колонизации, которая имела первостепенное значение в экономической истории Европы XI–XIV веков». Она также попыталась наглядно показать факт существования в юго-восточной Ирландии к началу XIV века «переселенцев-земледельцев в виде мелких свободных держателей английского, а иногда валлийского происхождения, которые в отдельных районах превосходили по численности коренное ирландское население». Такая ситуация, заключает она, «могла единственно возникнуть в результате масштабной иммиграции, имевшей место в течение первых двух поколений после английского завоевания»{499}.
Позиция Отвей-Рутвен особых возражений не вызывает, однако совершенно иную теорию исповедует историк-географ Р.Э. Гласскок, написавший в своей «Новой истории Ирландии»: «Если на местном уровне эта новая колониальная прослойка и могла иметь какое-то значение, то в масштабах Ирландии в целом ее никак нельзя считать многочисленной». Некоторые аспекты перемещения людских масс в Ирландию из Англии и Уэльса (не говоря уже о Шотландии) в конце XII–XIII веках все же поддаются подсчету. Например, мы знаем, что английские и валлийские солдаты, переправившиеся через Ирландское море — следом за первыми 30 рыцарями, 60 тяжеловооруженными всадниками и 300 лучниками, что в 1169 году высадились с Робертом Фиц-Стивеном, — исчислялись тысячами. Уже на следующий год Стронгбоу предположительно привел с собой отряд численностью 1200 человек{500}. Конечно, не все эти люди остались в Ирландии жить — если вообще уцелели, но многие действительно скорее всего там осели. Корона сформировала по всей стране 400 рыцарских ленов, и даже если число ленов не обязательно равнялось числу аристократов-иммигрантов, эту цифру вполне можно использовать как ориентир. Возможно, более существен тот факт, что в стране было основано свыше 200 бургов (borough), то есть городов с правом самоуправления{501}. Совершенно очевидно, что многие из них не являлись городами в экономическом смысле, но в каждом из них было хотя бы несколько бюргеров, причем большинство сохранившихся свидетельств говорит о том, что это были иммигранты. Таков, несомненно, показательный случай с Дублином (см. следующую главу). Мы также знаем, что церковные институты на юго-востоке страны тоже подверглись англиканизации, и часто вплоть до самых низовых ступеней иерархической лестницы{502}.
Однако все эти свидетельства могут говорить лишь о ситуации «ливонского типа»: феодальная элита из числа землевладельцев, бюргеров и христианских сановников в этническом и культурном отношении стояла особняком от огромной массы коренного сельского населения. Прямых указаний на иммиграцию крестьян практически нет. Когда Гамон де Валонь, бывший юстициарий Ирландии, был пожалован «лицензией на право привозить откуда захочет своих людей для освоения своей земли»{503} или когда в тексте 1251 года идет речь о «невозделанных землях», которые юстициарию Ирландии предстоит «заселить»{504}, то это лишь самая общая картина участия лендлордов в колонизации и заселении. Иными словами, новыми поселенцами могли быть как иммигранты, так и ирландцы Гораздо более ясным — но в своем роде уникальным — является королевский мандат 1219 года, предписывающий коменданту графства Уотерфорд не препятствовать епископу Уотерфордскому в «сдаче в аренду своей земли и расселении на ней англичан»{505}.
Конечно, едва ли можно отрицать, что часть поселенцев направлялась из Англии в Ирландию и в XIII веке. Причины говорить о широкомасштабной иммиграции носят двоякий характер. Во-первых, до нас дошли списки крестьян-арендаторов начала XIV века в разных районах Ирландии, причем большая часть имен в этих списках — английские и валлийские. Во-вторых, есть довольно большое число свидетельств, говорящих о распространении английского языка в Ирландии на местном, то есть сельском уровне, а это было возможно только при наличии значительной крестьянской иммиграции.
Списки начала XIV века, на которых основывает свою аргументацию Отвей-Рутвен, вряд ли можно считать абсолютно безупречными источниками, поскольку они относятся не к началу колонизации, а к более позднему времени. Огвей-Рутвен сама приводит несколько примеров принятия ирландцами английских имен и фамилий. К началу XIV века, то есть через 150 лет после начала колонизации, этот процесс уже мог зайти достаточно далеко. Известно, к примеру, что через 150 лет после нормандского завоевания Англии английские крестьяне уже часто носили нормандские аристократические имена, хотя значительной миграции из северных районов самой Франции отмечено не было (см. Главу 11). Это, впрочем, касалось имен, ситуация же с фамилиями несколько иная. Фамилии, как правило, происходят из повседневного языка, как, например, Свифт, Арчер или Мэйсон. Некоторые (например, Девениш или Уолш) могут говорить о происхождении из конкретной местности и даже в случае простых патронимов несут по меньшей мере информацию о предыдущем поколении или двух.
Обширным и ценным сборником земельных реестров того периода является так называемая Красная книга Ормонда{506}, составленная по заданию Батлеров и относящаяся в основном к их земельным владениям. Порядка двадцати восьми отдельных землеобмеров относятся к периоду 1300–1314 годов. Из этих записей проступают самые разнообразные местные ситуации. Одну категорию представляет собой Кордуфф в графстве Дублин{507}. Это был небольшой манор, но довольно населенный. В 1311 году в нем имелся ветхий господский дом и голубятня, сад, использовавшийся под выпас скота, двор и амбар. Господская недвижимость включала 218 акров пашни, 20 акров луга и 15 акров пастбища. Держатели поместья четко делились на две группы. С одной стороны, были свободные держатели и хуторяне, их насчитывалось семнадцать, они арендовали пашню по восемь пенсов или по шиллингу за акр. Были еще двадцать семь коттариев, которые платили порядка шести пенсов за избу и по четыре пенса в погашение своего прежнего долга по отработкам. Нет никаких упоминаний о том, была ли у них земля. Поскольку имена их не приводятся, то составить представление об их национальной принадлежности невозможно. Однако в Красной книге приводятся данные по другим манорам, где имена коттариев называются, и они в подавляющем большинстве оказываются ирландскими. Другая группа — вольные держатели и хуторяне-фермеры — имели в собственности наделы от 1 до 45 акров, в среднем по 9 акров. Большая их часть носила фамилии, которые позволяют говорить об английском происхождении: Лоренс Годсвейн, Роберт Ньютонский, Стивен Английский. В то же время про пятерых на том же основании можно точно сказать, что они были ирландцы. Об этом также свидетельствуют их имена — Дональд Мьюнат, Гилмартин О'Даффган и т.п. Эти пятеро держали самые маленькие наделы: двое — по одному акру, остальные — соответственно полтора, два и три с половиной акра. Из арендаторов с английскими фамилиями только у двоих были такие же крошечные участки земли. Можно сделать вывод, что свободные держатели и хуторяне английского происхождения, составляя чуть меньше третьей части населения, образовывали своего рода крестьянскую элиту с высоким уровнем достатка и положением{508}.[14]
В других областях доля англичан в общей массе поселенцев была более значительна. Из примерно шестидесяти бюргеров города Моялифф в графстве Типперери только двое носили ирландские имена{509}. Был еще небольшой перечень фамилий, преобладавших у основной массы горожан (Уайт, Бич, Стоунбрейк). В целом Моялифф представляется компактной и густонаселенной общиной поселенцев. В Гоуране (графство Килкенни) также имелись свои бюргеры, хотя их имена в документах не фигурируют, а помимо этого — около девяноста вольных держателей, имевших в окрестностях наделы от 20 акров до целого лена (предположительно 1 200 акров). Более того, были еще 200 свободных держателей с малыми наделами, причем в Гоуране они практически поголовно носили английские имена и фамилии{510}. На самом деле, эта модель справедлива для всех поместий Батлеров, перечисленных в Красной книге. В тех случаях, когда в книге приведены имена военных поселенцев, свободных арендаторов и членов самоуправления, они в подавляющем большинстве английские. Хуторяне-фермеры и габлары (gablars), стоявшие на следующей ступеньке общественной иерархии, обычно тоже были английского происхождения. Коттарии носили ирландские имена. В отношении бетагов (bethags), то есть ирландских сервов, все ясно, хотя их имена упоминаются редко.
Данные Красной книги и другие аналогичные исследования подтверждают версию о том, что англо-валлийская иммиграция в южную и восточную Ирландию носила масштабный характер. К началу XIV века можно уже говорить о частичной англиканизации отдельных частей Ирландии, поскольку этот класс англоязычных землевладельцев, имевший прочные корни, уже начинал оставлять следы своего присутствия в культуре страны и в особенности в языке. Примером тому служат, в частности, названия полей. В 1306 году был заключен договор между Давидом Джерардом Гоуранским и Вильямом де Престоном о женитьбе их детей, сына Давида Роберта и дочери Вильяма Элис{511}. Элис получала землю как в качестве приданого, так и от будущего супруга. Вильям выделял ей 8 акров земли в Гоуране «в Шортеботтсе и Ботерфельде», а Роберту надлежало отдать ей 60 акров из числа земель, входивших в состав «поля Баликардиссана», а также «Бродфельд» и «Кросфельд», лежавшие вдоль дороги Гоуран-Килкенни. Таким образом, мы видим, что к началу XIV века поля юго-восточной Ирландии уже назывались на английский манер{512}.
В целом заселение Ирландии англичанами носило неравномерный характер, концентрировалось больше в городах, нежели в сельской местности, и на юге и востоке острова, нежели на севере и западе. Еще и в XVII веке в юго-восточном районе сельскохозяйственные угодья были английского типа, и по сей день названия той или иной местности здесь носят ярко выраженный английский характер. Региональные различия такого рода вполне объяснимы. Во-первых, колония носила черты пограничного поселения: поселенцы прибывали из английских и валлийских портовых городов, ближе всего расположенных к южным и восточным берегам Ирландии. С этими городами они зачастую поддерживали связь. Во-вторых, юго-восток Ирландии был зоной более плодородных почв. Таким образом, естественное тяготение иммигрантов к этой области Ирландии усиливалось раздачей вожделенной пахотной земли. В этих густо населенных районах среди иммигрантов была заметна и крестьянская прослойка.
НОВЫЕ ОРУДИЯ ТРУДА
Новые поселенцы представляли свежий приток людских ресурсов в осваиваемые регионы, а предоставляемые им льготы экономического и правового порядка создавали благоприятные условия для развития производства. В некоторых случаях — но только в некоторых — они также могли нести с собой и более передовую технику земледелия. Конечно, на Пиренеях поселенцы могли в той же мере учить, что и обучаться, и во многих областях Иберийского полуострова для них главной проблемой становилось поддержание эффективной системы орошаемого земледелия, а не замена ее чем-то более продуктивным. Когда Хайме I Арагонский издал указ о праве пользования водой из ирригационной системы Валенсии, он подчеркнул, что это должно и впредь делаться так, «как делалось в старину в соответствии с порядками, заведенными еще во времена сарацинов»{513}.
По поводу Восточной Европы горячие споры вызывает вопрос, несли ли с собой переселенцы более развитую технику сельскохозяйственного производства по сравнению с имевшейся у коренного населения или же их главным вкладом в экономику осваиваемых территорий были людские ресурсы. Верно, что колониальные поселения к востоку от Эльбы отличались удивительной правильностью и единообразием планировки, однако трудно усмотреть прямую связь между прямыми углами и урожайностью. Возможно, и это следует, в частности, из традиционной немецкой историографии, самым значительным вкладом переселенцев стал тяжелый плуг, но данные о таких существенных элементах, как орудия производства и земледельческая практика, скудны и противоречивы.
Плуг, это главное сельскохозяйственное орудие Средневековья, представляет собой достаточно сложный инструмент, который можно изготавливать и использовать различными способами. Есть существенное различие между симметричным движением арда (примитивного плуга, называемого по-французски araire, а по-немецки — Нaken), который прорезает борозду, выталкивая грунт в обе стороны, и так называемым тяжелым плугом (по-французски charrue, по-немецки — Pflug), который отваливает почву либо в правую, либо в левую сторону. Для этого необходим асимметричный лемех и отвал (которые, собственно, и являются его отличительными признаками — а вовсе не его «тяжесть»: по сути дела, арды могли быть тяжелее так называемых «тяжелых» плугов){514}.
Это фундаментальное различие в способе употребления и результате труда — не единственное, чем могли отличаться между собой плуги. Плуги могут тянуть кони либо быки. Это может быть одно тягловое животное, пара или несколько пар (в плуг, конечно, могут впрягаться и люди либо использовать для этого механизмы). Плуг может стоять на колесах или нет; может иметь или не иметь ножа — вертикального лезвия для разрезания земли впереди лемеха; и так далее и тому подобное. Для Средневековья этот, сам по себе непростой, вопрос осложняется еще и тем, что сохранившиеся источники на этот счет скудны и туманны. Внятную историю земледелия приходится восстанавливать на основании мельком оброненных ссылок в церковных хрониках, косвенных упоминаний в отчетах, в иллюстрациях к псалтырям и календарям.
Самое раннее письменное упоминание о немецких и славянских плугах содержится в «Славянской хронике» Гельмольда, датируемой 70-ми годами XJI века. В трех разрозненных местах он пишет о «славянском плуге» (Slavicum aratrum) как о единице обложения десятиной. В каждом случае он дает пояснение: «пара волов либо одна лошадь составляют славянский плуг»; это плуг, «состоящий из двух волов или одного коня»; «Славянский плуг тянут два вола либо столько же лошадей»{515}. Все эти упоминания не вполне ясны. Помимо того, что по-разному называется число коней, тянущих славянский плуг — хотя это могла быть и оговорка, — остается вопрос, что подразумевается под выражением «составляют славянский плуг». Если за ним кроется чисто фискальный смысл, то есть «славянский плуг» попросту выступал единицей обложения десятиной, то мы едва ли можем делать какой-либо вывод о том, что за сельскохозяйственное орудие имеется в виду. И все же что заставляет Гельмольда называть этот плуг «славянским»? (Ясно, что не сами славяне придумали этот термин.) Возможно, что физической разницы между плугом, используемым немцами и славянами, и не было, если не считать того, что славяне запрягали в плуг пару волов или одного (или двух) коней, в то время как немцы использовали больше тягловой силы. Есть также вероятность того, что такой разницы не было вовсе, но славяне использовали плуг как единицу налогообложения, а немцы — нет. Тогда получается, что «славянский плуг» был «обычным плугом с упряжкой, который облагался десятиной». Выходит, что Гельмольд не столько дает нам ответ на вопрос, сколько ставит очередную загадку. Для того, чтобы составить более или менее ясную картину, его свидетельство необходимо подтвердить другими материалами.
Документальные свидетельства конца XII–XIII века дают, с одной стороны, целый ряд синонимов к понятию «славянский плуг», а с другой — набор терминов, которые ему противопоставляются либо выступают антонимами. Среди наиболее часто употребляемых эквивалентов — термин ункус (uncus), латинское слово, первоначально означающее «крюк». Например, епархия Ратцебургская, восстановленная Генрихом Львом в середине XII века, существовала за счет податей, собираемых с ункуса{516}. Княжеские подати на острове Рюген также собирались с одного плуга (ункуса){517}. В Силезии тоже территориальной единицей измерения служил ункус{518}. То, что ункус является эквивалентом «славянского плуга», сомнений не вызывает: в 1230 году Тевтонские рыцари обязались платить епископу Пруссии бушель пшеницы в качестве десятины с каждого «славянского плуга» (aratrum Slavicum) в Хелминской земле{519}, а тридцать лет спустя соглашение о податях в Эрмланде специально предусматривало, что «подати надлежит платить тем же образом, как они платятся в Хелминской земле», то есть с ункуса{520}. Фискальный реестр Датского короля 1231 года облагал податями поселения исходя из манса или других единиц за исключением девяти «славянских деревень» на острове Феймарн, которые облагались налогом по количеству плугов (ункусов){521}. Плуг также именовался гакеном (Нaken), это был немецкий народный вариант. В одном померанском документе 1318 года так и значилось: «ункус, называемый гакеном»{522}. Круг завершает Хелминская грамота 1233 года, в которой снова устанавливаются условия уплаты податей — по бушелю пшеницы с «каждого польского плуга (Polonicale aratrum), который называется гакен (hake)». Таким образом, подтверждается, что слова «славянский плуг», «ункус», «гакен» и «польский плуг» обозначают одно и то же.
Как правило, это понятие (в разных вариантах) противопоставлялось другому. В документе 1230 года, фиксирующем соглашение между Тевтонскими рыцарями и епископом Пруссии, например, «славянскому плугу» противопоставляется «германский плуг» (aratrum Theutonicale). Это была стандартная единица взыскания податей, иногда она называется просто «плуг» (aratrum) в противоположность ункусу или гакену. Один прусский документ 1293 года определяет уплату десятины в размере бушеля ржи с каждого плуга (aratrum) и бушеля пшеницы с каждого ункуса (uncus). В 1258 году термин «немецкий плуг» был употреблен в противовес «прусскому ункусу»{523}. В Польше это противопоставление получило еще более яркое воплощение. Синод в Гнезно 1262 года регламентировал уплату десятины «с каждого малого плуга, называемого радло (radio)», и «с большого, называемого плуг (piug)»{524}. Во всех других случаях плуг (Pflug) противопоставляется гакену (Нaken), из чего следует, что «малый плуг» и гакен — это одно и то же, а значит, ункус — это и есть «славянский (или польский) плуг», а «большой плуг» — это «плуг немецкий»{525}.
В совокупности из этого документа можно сделать вывод об ощутимом различии между немецким и местным типом плуга. Однако еще предстоит выяснить, являлись ли эти плуги реальными сельскохозяйственными орудиями либо служили только единицей обложения. Если так, тогда надо уточнить, чем они между собой различались. Подтверждения реальных физических отличий германского, или большого, плуга от славянского, или малого, хотя и мимолетны, но достаточно убедительны. В одном документе XIII века говорится об уплате шести шиллингов «с каждого дома, откуда выходит плуг», и трех шиллингов «с каждого дома, откуда выходит гакен»{526}. Немногим позднее в одной прусской грамоте говорилось о плате поселенцев «из расчета плугов или ункусов, которыми они возделывают поля»{527}; и еще более недвусмысленно звучит реплика об «ункусе, которым пруссы и поляки привыкли обрабатывать землю»{528}. Таким образом, едва ли можно сомневаться в том, что различия, о которых мы говорили, относятся и к орудиям земледелия как таковым, и к фискальным расчетам.
Последний и решающий критерий этих различий носит количественный характер: немецкие, или большие плуги неизменно облагались вдвое большей десятиной, нежели славянские, или малые плуги. Например, уже цитированный документ 1230 года определяет десятину в размере двух бушелей зерна с каждого немецкого плуга и одного бушеля — с плуга славянского. Аналогичным образом различаются подати, взимавшиеся в соответствии с Хелминской грамотой с немецкого плуга и «польского плуга, именуемого гакеном». Из другого документа, относящегося в XIII веку, следует, что с каждого «гокена» (hoken) брали один скот (1/24 марки) и сноп льна, в то время как с плуга (рйиде) подать составляла два скота и два снопа льна. Еще в одном случае, как мы уже говорили, десятина с плуга и гакена устанавливалась в размере шести и трех шиллингов. В целом можно сказать, что дошедшие до нас документы свидетельствуют о том, что германский, или большой плуг считался более крупной единицей налогообложения по сравнению со славянским, или малым плугом{529}.
Если существовали различия терминологического, физического и фискального порядка, возникает вопрос, на чем они основывались. Плуг был большим и немецким, ункус или гакен — малым и славянским (либо прусским). Многие авторы уже предпринимали попытку отождествить плуг с тяжелым плугом, а гакен (ункус) — с сохой или ардом. Обоснованность такого отождествления заключается в следующем: главное ощутимое отличие двух типов плуга скорее всего соответствовало тому, как оно видится современным крестьянам и ученым; термин «гакен» (Haken) в современном немецком языке означает ард или соху; вытянутые в длину поля (наиболее удобные для обработки тяжелым плугом) были признаком поселения германского типа; «тяжелый» плуг является более производительным, откуда и более высокие налоги с него. Наконец, к этому набору аргументов, основанных на средневековых источниках, надо прибавить польский документ XIV века, где ведется речь о «двадцати больших плугах и двадцати малых, имея в виду под большим — лемех и резак, а под малым — радлицу»{530}. Радлица (radlicza) — это малый плуг, называемый еще «радло» (radlo). У большого плуга был лемех и резак. Был ли резак асимметричным, а отвал — деревянным (а следовательно дешевым и не играющим особой роли), из текста не следует. Однако главное значение этих документов, если отбросить всякий прогерманский пафос, заключается в том, что немцы действительно привнесли тяжелый, асимметричный плуг в славянский и прусский мир, прежде знавший только соху.
РАЗВИТИЕ ЗЕРНОВОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Новые поселенцы, новые плуги и новые мельницы означали «совершенствование пашни» (melioratio terrae), а следовательно, развитие зернового хозяйства. Значит, процесс заключался не только в окультуривании диких земель, но и в переходе к довольно специфическому виду землепользования. Во многих частях Европы перемены Высокого Средневековья заключались, в частности, в отходе от такого природопользования, которым можно было обеспечить лить незначительное население, вовлекая при этом в эксплуатацию широкий спектр природных ресурсов (таких, как рыба, мед, дичь, не говоря о домашнем скоте и культурных посевах), и переходе к более концентрированному по площади монокультурному типу хозяйства. Показательным в этом плане является обмен беличьих шкурок на зерно, который производил в начале XIII века Генрих Бородатый Силезский{531} Если опираться на свидетельства, касающиеся также других регионов, то можно сделать вывод, что результатом всех этих изменений, скорее всего, явилось увеличение численности населения при массовом ухудшении здоровья.
С точки зрения князя, прелата или предприимчивого локатора, здоровье переселенцев, конечно, определяющего значения не имело. Важным было то, что планомерное освоение новых земель способствовало превращению непродуктивных прежде природных ресурсов в источник зерна и серебра. Богатеющие феодалы и рост численности крестьянского населения — вот несомненный итог массового переселения людей в эпоху Высокого Средневековья. Хотя порой новые поселения оканчивались неудачей, в целом обстановка в приграничных районах была исполнена оптимизма и решимости двигаться дальше. Расширение обрабатываемых площадей и рост числа новых хозяйств непременно воспринимались как часть перспективы. «Фьючерсные» пожалования касались не только новых владений, но и доходов с них. Уже в 1175 году, когда герцог Болеслав Силезский и епископ Зырослав Вроцлавский пожаловали землю цистерцианцам Лубяжа (Lubiaz, Leubus), пришедшим из Германии и предположительно ведшим за собой поселенцев, то «все подати с новых деревень, которые уже сейчас имеются в районе Легницы (Legnica, Liegnitz) или будут основаны там позднее в любое время в будущем», также отдавались им{532}. В эпоху Остзидлунга по всей Восточной Европе встречаются документы, регламентирующие права на будущие доходы «от новых полей, недавно введенных в оборот или которые еще только будут обрабатываться в будущем», либо «со всех земель, недавно введенных в сельскохозяйственный оборот»{533}. Иногда планировалось на перспективу не только простое освоение земель. В источниках можно встретить упоминания доходов с деревень, «которые ныне населены славянами, если в будущем они будут принадлежать немцам»{534}. В воображении землевладельцев и прелатов Восточной Европы уже виделись картины будущего расширения пахотных земель и германизации всего общества.
Духовенству той эпохи, размышлявшего об экспансии латинской церкви, расширение зернового хозяйства виделось чем-то естественным. И собственные познания в области земледелия, и библейская риторика ложились в основу строк, подобных тем, что в 1220 году вывел папа Гонорий III в связи с крещением прибалтийских язычников:
«Жестокосердие ливонских язычников, подобно огромной пустынной земле, было размягчено потоками божественной милости и возделан лемехом плуга священной молитвы, и семя веры Христовой благословенно взошло урожаем, и земля уже готова к жатве»{535}.
Культ и земледелие распространялись бок о бок.
Во вновь освоенных областях Европы естественным для поселенцев было рисовать прошлое как период примитивного варварства, по контрасту с нынешним порядком. Мотив доземледельческого прошлого или прошлого со слаборазвитым земледелием, эпохи диких и непроходимых лесов, имеет особое значение: подчеркивая прежнее запустение осваиваемых территорий, можно было добиться большего эффекта в описании того, как «новые поля» поднимались в «местах, где некогда царили ужас и запустение»{536},[15] а соответственно и оправдать собственнические притязания переселенцев. «Генрихова хроника», появившаяся в цистерцианском монастыре в Силезии, описывает, как «первый аббат этого монастыря и его помощники… прибыли в эти места, тогда еще совсем дикие и покрытые густыми лесами; они вспахали землю мотыгой и плугом, питаясь смоченным в поту хлебом, чтобы только поддерживать силы»{537}. На ил. 7 представлено датируемое XIII веком изображение как раз такого героического цистерцианца, который входит в лес, вооруженный топором и мотыгой. В случае с Генриховом, однако, есть одно осложнение, ибо существуют свидетельства — в частности, в других разделах самой Хроники, — наводящие на мысль, что на тот момент поселения в районе монастыря уже существовали. Монахи смело предали забвению прежних поселенцев, создавая миф о себе как о первопроходцах в необитаемой глуши.
Точно так же настойчиво подчеркивают примитивность прошлой жизни, до колонизации, цистерцианцы Лубяжа, первого монастыря этого ордена в Силезии, которые в конце XII века привели с собой в Польшу немецких поселенцев. Оглядываясь назад на первые дни своего пребывания в новой земле, они подчеркивали, что до начала их активного освоения польский ландшафт был невозделанным и скудным. Один лубяжский монах так рисовал в стихах пейзаж доцистерцианского времени:
«Земля не знала землепашца и лежала покрытая лесом, И польский народ жил в бедности и праздности, Обрабатывая песчаную почву одним только деревянным плугом без железного наконечника, И умея запрячь в него только двух коров или быков. Во всей земле не было ни большого, ни малого города, Только сельские рынки, невозделанные поля да часовня возле замка. Ни соли, ни железа, ни монет, ни металла, Ни хорошей одежды, ни даже обуви Не знал этот народ, они лишь пасли свои стада. Вот что предстало взору первых братьев»{538}.Оценка, какую монах дает этому примитивному образу жизни, явно негативная. Он перечисляет то, чего недоставало полякам в те далекие времена. У них не было преимуществ, какие давали города, торговля, добыча и обработка металла. Земледелие у них было развито очень слабо. В целом впечатление от их образа жизни — это крайняя отсталость и нищета. Пассаж завершается такими же интонациями, какие мы наблюдаем в труде колониста значительно более поздних времен, епископа Юкатанского Диего де Ланда, когда он перечисляет достижения, которые испанцы принесли в Новый Свет. Среди этих новшеств были кони, домашние животные, железо, механизмы и деньги. Теперь, заключает он, «индейцы живут как люди»{539}. Как и в этой, относящейся к XVI веку, версии цивилизапионной миссии переселенцев, «прошлое», рисуемое в лубяжском и генриховском тексте, служит контрастным фоном для совершенно иного «настоящего». Если верить лубяжскому автору, то именно «пот» и «труд» цистерцианцев совершил чудо: «они совершенно преобразили (tota referta) эту землю»{540}. Не только современные историки создали образ цистерцианцев как первопроходцев и колонизаторов, уже в Высоком Средевековье это было частью их автопортрета.
Таким образом, авторы, подобные названным выше, рисовали себя как носителей продуктивного труда и передовой техники земледелия, которые они принесли праздным народам на слабо возделанную землю. Несомненно, именно Высокому Средневековью Европа обязана существенным расширением обрабатываемых площадей. Однако процесс распространения зернового хозяйства имел еще одно следствие — создание новой экологической ситуации. Осваиваемые районы прежде имели значительные лесные ресурсы. Необрабатываемая земля не была бесплодна: среди ее богатств были рыба, дичь, яйца, мед, орехи, ягоды, камыш, солома, дрова, торф, древесина и дикие пастбища. Леса не были просто потенциальной пашней. Как заметил в середине XIV века король Богемии, «плотность и потрясающая высота деревьев в наших лесах занимают не последнее место среди богатств нашего королевства Богемского»{541}. Необходимо было соблюдать некий баланс между возделанной и невозделанной землей, в противном случае результатом мог стать определенный ущерб. Когда архиепископ Гамбург-Бременский в 1149 году затеял расчистку и заселение расположенного в его владениях болотистого участка, ему пришлось компенсировать ущерб каноникам Бремена, которые добывали себе в этих местах дрова{542}. Они не собирались даром отдавать ценный источник топлива. Еще более красноречивый эпизод произошел сорока годами позже в английской местности Фенланд. В Линкольншире голландцы заняли соседний район Кроулэнд, желая «сделать общинным выпасом кроулэндское болото. Ибо их собственные болота высохли, и они превратили их в отменные и плодородные пашни. Вот почему они больше, чем кто-либо, испытывают недостаток общинных пастбищ»{543}. В действительности, тот факт, что монокультурное земледелие приводило к истощению земель, уже отмечался в научной литературе. Именно его считают причиной общего кризиса сельского хозяйства. Постан высказывал гипотезу, что «постоянное сокращение пастбищ могло представлять угрозу самому земледелию», и даже готов был говорить о «срыве всей системы естественного обмена» в конце Средних веков, поскольку чрезмерный упор на зерновое хозяйство привел к столь существенному снижению плодородия почв, что урожайность зерновых стала падать{544}. Свидетельства снижения урожайности, которыми мы располагаем, не настолько очевидны, чтобы безоговорочно принять позицию По-стана, однако нет сомнений в том, что в Средние века произошел переход к монокультурному злаковому земледелию{545}. Существует также предположение, что ощутимое, порядка двух дюймов, снижение среднего роста человека, отмеченное между Ранним и Поздним Средневековьем, тоже явилось следствием изменения рациона питания в результате перемен в структуре сельского хозяйства{546}. Земледелие, по сравнению с животноводством или охотой, производит продукты, более богатые калориями, и значит, благодаря ему можно прокормить более многочисленное население. Однако питающиеся таким образом люди зачастую оказываются менее здоровыми и развитыми физически, а кроме того рискуют оказаться зависимыми от одного источника питания.
НЕПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ
Картина крестьянской миграции и поселений, которую мы до сих пор рисовали, в значительной степени основывается на сохранившихся в той или иной форме письменных источниках Средневековья. Такого рода свидетельства небеспредельны. Расчистка земли под пашню и закладка новых деревень протекали постепенно, часто усилиями самих крестьян, и нет ничего удивительного в том, что средневековые монастырские и церковные хроники упоминают об этой работе довольно редко. Они больше внимания уделяют политической и церковной жизни: войне, церемониалу, борьбе за те или иные должности, строительству и оформлению церквей. Документальные свидетельства представляют намного более богатый источник информации, нежели повествования историков, и, как мы видели, соглашения между феодалами и локаторами либо переговоры по вопросам обложения десятиной новых земель иногда фиксировались в документах. В ряде случаев такие документы сохранились до наших дней. Даже если это так, то период XII–XIII веков представляет эпоху, когда значительная часть практических нововведений и организационных моментов могла регламентироваться без письменного оформления, и этот факт, в сочетании с бессистемным характером сохранившихся письменных свидетельств, означает, что документальные свидетельства той эпохи фрагментарны и редки.
В этих обстоятельствах естественно обратиться за помощью к свидетельствам другого рода. Они относительно многочисленны и позволяют составить более систематическое представление об исследуемом предмете. Однако и в них есть свои подводные камни. Говоря упрощенно, существует три основных типа неписьменных источников: 1) результаты археологических раскопок и исследований; 2) морфология деревень и полей; 3) топонимические названия.
Археология
Археология как метод исторического исследования имеет колоссальные перспективы, особенно в отношении тех эпох, которые еще относительно мало изучены археологами, как, в частности, и Средние века. Через сто лет, если археологическая наука будет развиваться теми же темпами, картина средневекового городского поселения станет намного богаче и точнее, чем сегодня. Сейчас же имеющиеся у нас сведения довольно скудны. Количество раскопок или районов интенсивного археологического изучения Средних веков хотя и возрастает, но все еще достаточно скромно. Особенно это касается сельских поселений, которые имеют меньшее общественное значение, а потому их финансирование зачастую представляет не менее сложную задачу, чем само их обнаружение. Даже ученые самой активной школы раннесредневековой археологии в бывшей Восточной Германии к 1983 году полностью раскопали лишь две лужицкие деревни. В недавнем исследовании, посвященном области Гавелланд к востоку от Эльбы, говорится: «Из 149 позднеславянских поселений нет ни одного, которое было бы подвергнуто систематическому изучению». В исследовании по средневековой ирландской археологии, опубликованном в 1987 году, сказано, что «к настоящему времени раскопки произведены только в отдельных частях четырех средневековых поселений сельского типа». Всего же к 1973 году в Центральной Европе широкомасштабные раскопки велись лишь в отношении примерно семидесяти средневековых сельских поселений, и это при том, что эпоха Средневековья охватывает целое тысячелетие{547}.
Необычный пример раскопок средневековой колониальной деревни, демонстрирующий, в частности, громадный потенциал археологических исследований вообще, представляет собой экспедиция, предпринятая чехословацким археологом Владимиром Некудой, который в 1960-х годах работал в Пфаффеншлаге в юго-западной части Моравии{548}. Он обнаружил деревню из шестнадцати домов, стоящих в линию по обоим берегам реки. Типичный дом имел размеры 60 на 30 футов, стоял на каменном фундаменте и был внутри поделен на три комнаты, в одной из которых стояла печь. Описываемое поселение относится к периоду интенсивной колонизации и расчистки лесов под пашню, которые достигли пика в XIII веке, и среди находок обнаружен асимметричный лемех плуга. Здесь мы имеем пример наиболее полно и досконально исследованного нового поселения колонистов эпохи Высокого Средневековья. По этому примеру можно составить представление о тысячах других поселений, еще не подвергшихся изучению.
Раскопки представляют собой наиболее достоверный и содержательный тип археологического исследования, но одновременно они требуют много времени и средств. Полезную информацию могут давать и многие менее трудоемкие способы. Некоторые чрезвычайно просты — например, методичное обследование полей, позволяющее обнаружить следы земляных работ, древних межей или борозд, фрагменты керамики и другие видимые глазу нити к разгадке истории поселения. Продуктивность даже этого, сравнительно простого типа исследования наглядно видна из работы, проведенной в заброшенных английских городских поселениях Питером Уэйд-Мартинсом, который пешком исходил всю Восточную Англию, собирая фрагменты керамики{549}. Ему удалось доказать, что англо-саксонские поселения концентрировались вокруг церквей (ныне заброшенных), а разбросанность строений в населенных пунктах появилась уже позднее. Конечно, подобные исследования в большой степени зависят от сохранности керамики — самых древних остатков человеческого жилья, и обобщенная интерпретация добытого таким способом материала требует достоверной хронологии самой этой керамики. Существует разработанная типология установления возраста керамики: датировка находок производится на основании формы (размера, толщины, крутизны изгибов и т.п.) и внешних признаков примененного материала. Хотя в будущем могут появиться более сложные химические и физические методы изучения керамики, мы пока живем в настоящем и во многих случаях археологические исследования опираются именно на типологию керамики. Однако в трудах археологов зачастую улавливается неуверенность самих авторов в надежности таких методов датировки. А сомнение среди экспертов, естественно, рождает и сомнение среди неспециалистов.
Морфология деревень и полей
Изучение морфологии населенных пунктов и полей — то есть размера, формы, планировки домов, сельскохозяйственных построек, дорог, обрабатываемых полей — является сложным процессом, даже если касается современного, сохранившегося до наших дней ландшафта. Куда сложнее анализировать ландшафт, оставленный далекими предками. Из Средневековья до нас не дошло практически никаких карт, а те, что сохранились, либо слишком крупномасштабны, либо схематичны (или и то и другое вместе), чтобы представлять серьезную ценность для изучения поселений и полей. Историки населенных пунктов вынуждены использовать более поздние планы и карты, относящиеся к XVIII–XIX векам, и проецировать их данные на Средние века. Такая методика таит свои опасности. Здравый смысл подсказывает, что за пять столетий, лежащих между 1250 и 1750 годами, произошло множество изменений, и этот вывод подтверждается сохранившимися записями об изменениях в застройке улиц и деревень, в планировке поселений и полей.
Одни ученые на первый план ставят возможности, открываемые этим методом, другие склонны подчеркивать его несовершенство. В этом плане четко прослеживаются различия в национальных научных школах. Если в Германии история подобных исследований насчитывает уже сто лет, то английские ученые проявляют в этом вопросе исключительную осторожность. Так, за 12 месяцев в 1977/78 году увидело свет сразу два издания: в Штутгарте вышел учебник, посвященный морфологии поселений в Центральной Европе, содержащий, в частности, диаграмму с отображением восьми возможных этапов развития девяти разных типов поселений{550}, а в Англии был издан исследовательский труд по экономике средневековой Англии, в котором, в частности, содержалось такое категоричное высказывание: «Классификация деревень по типам обречена на крайнее упрощение. Вероятно, лучше оставить их в их первозданном многообразии и пестроте»{551}. В Англии вообще очень мало ученых, занимающихся морфологическими исследованиями. К тому же экстравагантность используемой ими терминологии (например, не слишком изящное Green Village — «Зеленая деревня» — как прямая калька с немецкого Angeldof){552}, говорит о том, как английские ученые еще только пытаются усвоить те принципы исследований, которые для немецких историко-географов уже давно стали привычными. В то же время скептическое отношение к таким исследованиям нельзя считать чисто интуитивным, ведь хитроумные морфологические схемы работают тогда, когда исследователь исходит из наличия принципиальной преемственности между Средневековьем и современным периодом, а такую преемственность не всегда можно установить со всей обоснованностью. Один английский автор упоминает «постоянные изменения в плане застройки, которые видны из результатов раскопок средневековых деревень», опираясь на пример Хэнглтона в Сассексе, где на месте четырех домов XIII века столетием позже был воздвигнут единый хозяйственный комплекс из трех зданий, «причем их граница шла точно по одному из прежних домов»{553}.
Несмотря на известные допущения, попытки воссоздания сельского ландшафта средневековой Европы, безусловно, следует продолжать. Во всяком случае, планировка сельскохозяйственных угодий очень мало подвержена изменениям. Будучи раз определена, она не меняется без весомых на то причин, и выгоды от каких-либо крупных шагов по переустройству должны быть слишком очевидны. Более того, хотя хорошие карты местности для XIII–XVIII веков являются редкостью, сохранилась масса записей относительно конкретных поместий, взимания ренты, обмера земли, судебных и налоговых реестров и т.п., которые проливают свет на раннюю историю поселений и земельных наделов, даже тех, что впервые появились на картах лить в XVI или XVII веке. Например, Вольфганг Пранге сумел воссоздать вероятностную средневековую модель деревни Клинкраде в Лауэнбурге — два ряда по четыре полных манса вдоль довольно короткой улицы{554}. Для этого он взял карту 1770 года и удалил с нее те участки, которые появились только в XVI–XVII веках (что следовало из реестров поместья). Взаимосвязь между современной и средневековой моделью деревни и морфологии полей такая же, как в случае с распространением рукописи какого-нибудь средневекового автора тогда и сейчас. Нынешняя ситуация, то есть набор библиотек, в которых этот труд может находиться, не похожа на средневековую, но и не является по отношению к ней чем-то чуждым, бессмысленным или противоположным. Иными словами, она вполне может служить вспомогательным инструментом для воссоздания средневековой модели.
Один вопрос вызывает особые споры. Это вопрос существования взаимосвязи между морфологией поселения и типом земледелия, с одной стороны, и этническим происхождением жителей, с другой. Немецкие историки традиционно брали за аксиому существование чисто немецких и чисто славянских по типу деревень, в то время как исторические географы Британских островов часто исходят из существования несхожих кельтских и англо-саксонских поселений. В исследованиях последнего времени такой схематизм стараются избегать. «Размер и тип поселений, — пишут авторы одного из недавних исследований по сельской истории средневековой Англии, — определялись скорее топографией, нежели национальной принадлежностью их обитателей»{555}. Уже в 1915 году российский историк Егоров, явно руководствовавшийся своими мотивами (ибо перед ним стояла задача свести к минимуму масштабы Остзидлунга), писал, что «конфигурация местности, почвенные условия, внезапное изменение русла реки, даже проведение искусственных путей сообщения влияют на полевые и поселковые формы не менее, нежели национальные и расовые особенности». Далее он показывал, что в германизированной Дании поселения славянского типа в виде образующей подкову группы домов — так называемый Рундлинг (Rundling) — встречаются достаточно часто, тогда как в славянской Померании или Мекленбурге они, напротив, довольно редки{556}.
Разумеется, это тот случай, когда первоначальный «этнический» подход к объяснению типов поселений и пашни нарочито вписывается в общую концепцию национальной самобытности. Кельтские или славянские поселения, судя по всему, имели небольшие размеры, неправильную форму и были застроены бессистемно, тогда как английские и немецкие были крупные, с правильной планировкой и границами. Понятия порядка и силы оказываются тесно связаны с более нейтральными — формы и размера. В XIX — начале XX века эти понятия оказались символами политического национализма. Очевидная неспособность средневековых кельтов или славян строить большие деревни и разбивать прямоугольные в плане поля легли в основу представления о том, что они также были неспособны и на создание собственного передового государственного строя и нуждались в опеке и наставничестве со стороны более организованных соседей-германцев.
При рассмотрении вопроса о поселениях и национальной принадлежности полезно провести разграничение между Британскими островами и Европой к востоку от Эльбы. В первом случае предполагаемая взаимосвязь типа планировки с этнической принадлежностью поселенцев совпадает с таким выраженным отличием востока от запада, как количество годовых осадков, температуры, рельеф и тип почв, причем совпадение это простирается столь далеко, что поиски иных обоснований для базовых различий двух зон становятся излишними. В Восточной Европе, напротив, различия между предположительно немецкими и славянскими поселениями в меньшей степени совпадают с климатическими и природными. Правильные и прямоугольные в плане вальдхуфендорферы (Waldhufendorfer) перемежаются другими, менее правильными формами типа сакдорф (Sackdorf), или деревнями куль-де-сак (cul-de-sac), или рундлинг (Rundling){557}. Таким образом, здесь мы не имеем столь же убедительного объяснения морфологических различий с точки зрения природных условий. Больше того, то обстоятельство, что определенный вид застройки и планировки полей ассоциируется с немецким поселением, само по себе не означает, что в основе этих различий должна была лежать разная национальная принадлежность, поскольку немецкая колонизация земель полабских славян в XII–XIII веках по сути дела была не чисто немецкой, а протекала в порядке планомерного переселения. Логическая связь между геометрически правильной планировкой поселений и разбивкой новых полей с процессом планомерной колонизации представляется достаточно обоснованной. Тот факт, что многие колонисты говорили по-немецки, требуется, конечно, учитывать, но их национальная принадлежность еще не объясняет характер морфологии ландшафта. Вышло так, что новый, планомерно создаваемый ландшафт стал немецким, но ключевым в этом утверждении является слово «планомерно».
Таким образом, для Европы восточнее Эльбы справедлив вывод о реальной взаимосвязи между немецким типом поселения и конкретным видом застройки и разбивки полей. Этот вывод неоднократно получал наглядное подтверждение. Особенно разительным представляется разграничение вальдхуфендорфера, то есть такого типа деревни, где хозяйственные постройки отстоят друг от друга на равном расстоянии и расположены вдоль улицы, а поля, в виде широкой полосы земли, тянутся позади них. Вальдхуфендорф впервые появился в лесистой местности западной Германии, а впоследствии стал характерен для Остзидлунга. Эта форма поселения идеально подходила для освоения новых земель, поскольку поселенцы могли постепенно вводить в сельскохозяйственный оборот все новые площади, с каждым новым сезоном расчищая новые акры пашни. Многие хозяйства вальдхуфендорфов действительно упираются в нерасчищенные участки леса, наиболее удаленные от главной улицы поселка. Крестьянский надел в таком поселении — манс — зачастую имел стандартные размеры, порядка 300 футов в ширину и более мили в длину, и ширина этих наделов, а соответственно и расстояние между домами, говорит о том, что деревни были сильно вытянуты в длину и, случалось, плавно смыкались с соседним поселением{558}.
Топонимика
Изучение географических названий представляет собой достаточно увлекательное занятие, для медиевиста сродни филателии, но помимо этого оно еще является источником определенных исторических сведений. Названия населенных пунктов дают представление о том, на каком языке говорили жившие там люди, поскольку почти все они содержат или включают элементы обыденной, то есть неономастической лексики. Таким образом, даже в отсутствие каких-либо других свидетельств из самих географических названий ясно, что, например, Камберленд на северо-западе Англии некогда населяли люди бриттского происхождения, ибо иначе трудно было бы найти объяснение таким здешним названиям, как Бленкарн (от британского blaen, т.е. «вершина», и corn, т.е. пирамида из камней) или Кумдивок (от cwm — «долина» и dyfoc — «черный»){559}. По этой причине споры об относительной значимости, скажем, франкских поселений в Галлии или поселений викингов на Британских островах и в Нормандии в значительной степени основывались именно на географических названиях.
С другой стороны, даже простая операция определения языка жителей по названию места чревата неожиданностями. Ясно, что географические названия подчас используются и носителями других языков, которые берут старое название и переносят на другое место. Например, «Лондон» — название кельтское, но Лондон в провинции Онтарио вовсе не был основан носителями кельтского языка. В других случаях престижность того или иного населенного пункта в культурно-символическом плане может привести к заимствованию его названия вне зависимости от языковой принадлежности населения. Так, в Афинах в штате Джорджия греков крайне мало. Однако помимо этого, довольно специфического случая адаптации носителями одного языка названий, происходящих из другого, существует более существенная проблема — датировка названий. Пусть топонимика Камберленда свидетельствует о том, что некогда здесь жили кельты, — по ней мы никак не узнаем, когда именно это было.
Датировка географических названий проводится достаточно редко. В этой датировке подчас можно установить какие-то конкретные моменты — например, первое упоминание названия в каком-либо документе, которое дает достаточно верное представление о terminus ante quem. Однако после этого все умопостроения сводятся к догадкам. Порой делается попытка датировать географическое название исходя из историко-лингвистических критериев, путем установления конгениального этому названию языкового окружения, а соответственно и времени. Например, слово mar, означающее «трясину», встречается в немецких географических названиях западнее Эльбы, например — Веймар, но восточнее Эльбы их нет{560}. Логическое тому объяснение — что это слово во времена колонизации земель полабских славян, то есть в XII веке и позже, уже вышло из употребления. Из этого можно сделать вывод, что названия типа Веймар должны относиться к более раннему периоду. Аналогичным образом можно проанализировать имена людей, давших названия географическим пунктам, наподобие имени Цулис фон Ведель (Zulis von Vedel) в названии Цульсдорф (Zuhlsdorf), о чем уже говорилось в Главе 2. Другое крупное направление топонимических исследований предполагает отбор отдельных классов или групп географических названий, например, содержащих элемент -ing или -rode, и установление их сравнительной хронологии. Допустим, окончание -ing в названиях часто встречается в местности, характеризующейся плодородной, легкой в обработке почвой, где имеются ранние археологические свидетельства, посвящения старинным церквям и документальные записи. Отсюда резонно предположить, что эти названия датируются более ранним периодом, чем те, в которых такого окончания нет. Анализ, проведенный Адольфом Бахом в отношении области Таунус в восточной части среднего течения Рейна, показал, что поселения, в названиях которых был элемент -heim, обычно располагались на плодородных лессовых или глинистых почвах не выше 650 футов над уровнем моря. Те, чьи названия включали элемент -hausen, лежали за пределами этой плодородной зоны и, как правило, на высоте от 1000 до 1300 футов. А селения, названия которых оканчивались на -rod, -hain или -scheid, появились в письменных источниках позже (после 1100 года) и находились выше отметки 1300 футов{561}. Конечно, эти рассуждения нельзя считать чем-то непреложным, но надо согласиться, что имеющиеся свидетельства в большинстве случаев подтверждают вывод Баха о том, что «в общем и целом в истории тех или иных названий бывает период, когда они оказываются в моде»{562}.
Географические названия подвержены изменениям. В противном случае как исторические свидетельства они потеряли бы значительную часть своей ценности для исследователя. В то же время эта их особенность требует очень осторожного отношения. В районах новых поселений и колонизации новые названия населенных пунктов образовывались разными способами: для новых поселений придумывались новые названия, старые же могли быть переименованы или получить слегка видоизмененные имена. В тех областях, где бытовали не один, а два или несколько языков, один и тот же населенный пункт мог иметь два или много вариантов названия. Иногда встречаются случаи эквивалентов, зафиксированных в письменных источниках, как в случае с Ольденбургом в Гольштейне: «Ольденбург, именуемый на языке славян Стариград, то есть “старый город”»{563}. Свидетельством того, какие широкие масштабы принимали переименования, может служить документ Генриха IV Силезского, изданный в пользу госпитальеров в 1283 году. Этим актом Генрих восстанавливал прежние привилегии госпитальеров и перечислял поименно их владения:
«…Ибо мы знаем, что некоторые поместья были отчуждены госпитальерами и обменены на другие, которых не было в старом списке привилегий, отчасти из-за того, что эти поместья, носившие польские названия, впоследствии получили немецкие законы и заслужили немецкие названия, и из-за того также, что некоторые поместья, расположенные посреди лесов, невозможно было отнести к поселениям в составе одной деревни в силу их больших размеров, но многие деревни и поместья были там основаны и получили разнообразные имена»{564}.
Далее в грамоте приводится список, в котором упоминаются «Хозеновиц, называемый ныне Круцердорф, Левковиц, ныне называемый Дитмарсдорф, Кояковиц, впоследствии разделенный на две деревни, называемые Верхний и Нижний Концендорф». Здесь, судя по всему, мы имеем пример чисто лингвистической замены славянского названия немецким наряду с реальным перемещением или реорганизацией селения. Поглощение прежних деревень новыми поселениями нашло отражение еще в одном силезском источнике — «Генриховой хронике», в которой упоминается, как польский феодал Альберт Лыка получил в собственность две деревни из тридцати мансов и присовокупил их к уже имевшимся, «отчего названия этих деревень навсегда исчезли»{565}. Трудно сказать, подразумевало ли «присовокупление» этих поселений их фактическое разрушение или перемещение домов и людей, хотя археологические данные говорят о том, что такое случалось{566}.
Новым поселениям в осваиваемых колонистами областях требовались новые названия. Бывали случаи, когда документ фиксировал именно момент дачи имени. Так, Ратцебургский десятинный реестр 1229–1230 годов, содержащий список держателей фьефов в епархии Ратцебург, имевших право собирать десятину с определенных деревень, то и дело содержит такие формулировки: «Деревня Танкмара: Танкмар 1 (т.е. десятина с одного манса). Деревня Иоганна: Иоганн 1»{567}. Ясно, что Танкмар и Иоганн, давшие деревням свои имена, еще были живы — не исключено, что это было первое поколение иммиграции. Аналогичным образом Штурмистон в Гламоргане, по всей видимости, своим названием был обязан Готфриду Штурми, который «построил поселок в глуши, где никто до него не возделывал землю»{568}. Когда Випрехт Гройцшский привез поселенцев для расчистки лесов в землях полабских славян, он «повелел им дать свое имя деревне или земле, которую они возделали своим трудом»{569}.
По всей вероятности, чаще всего новые географические названия появлялись путем наименования поселения в честь первого человека, взявшего в руки плуг в этих местах. Однако существовали и другие формы ономастических нововведений и изобретений, и они тоже приоткрывают завесу над процессом заселения новых территорий. Земли полабских славян предоставляют в этом смысле наибольшее разнообразие вариантов. В некоторых местах появляются двоякие поселения. Так, в Ратцебургском десятинном реестре фигурируют «Немецкий Гаркензее» и «Славянский Гаркензее»: по-видимому, речь шла о соседних деревнях, где жили коренные жители и переселенцы. В других областях встречаются названия населенных пунктов в честь групп переселенцев. Флемдорф и Флемингшталь указывают на фламандское происхождение колонистов, Франкендорф или Франкенберг — на франкское{570}. Подчас названия просто переносились со старых территорий на новые, иногда с приставкой «Новый», иногда и без нее. Подобным примером служит Бранденбург, от которого пошли названия Ной-Бранденбург — город, основанный в 1248 году на спорной северной границе земель маркграфов, и еще один Бранденбург — в Пруссии.
Карта географических названий любой области непременно включает названия, разбросанные во времени от доисторического периода до самого недавнего прошлого. Области новых поселений эпохи Высокого Средневековья в этом отношении особенно наглядны. Так, в Новой Кастилии географические названия распадаются на три группы. Одни имеют очень давние корни, либо еще доримские, хотя чаще всего латинизированные по форме, либо римские (например, Сигуэнца, Орэха). Другая группа названий — результат арабского влияния, выразившегося прежде всего в наличии арабского артикля аль- (например, Алкалья, «крепость») либо приставок бен- — («благородный»), дар- — («дом»). Наконец, кастильские поселенцы дали названия многим населенным пунктам (как новым, так и старым, в порядке переименования) на своем же языке, зачастую образуя их от характерных примет конкретной местности, как в случае с Фуэнтельвьехо («старый ручей»), Вальдефлоресом («долина цветов»), и т.п.{571} Альфонс X Кастильский (1252–1284) проводил осознанную политику присвоения новых кастильских названий населенным пунктам во вновь отвоеванных областях. Об одном из его земельных дарений было сказано: «Он пожаловал ему деревушку, которая во времена мавров называлась Коркобина, а король Альфонс назвал ее Молина»{572}. Следы этой практики названий и переименований, существовавшей у средневековых поселенцев на периферии латинской Европы, сохранились до наших дней.
Ясно, что если сравнивать значение документальных и археологических свидетельств, а также морфологических или топонимических исследований, то лучшим способом осмысления истории сельского поселения будет комплексное применение всех вышеназванных методов исследования. Здесь особенно важное значение приобретает кумулятивный эффект свидетельств разного рода. Хорошим примером того, как могут быть прояснены некоторые моменты благодаря добросовестному и примененному с большой долей воображения методологическому плюрализму, служит исследование, проведенное Гербертом Гельбигом в отношении моделей поселений в регионе, населенном лужицкими сербами в Германии{573}.
Карта 6. Топонимика и типы полей в Крайс-Пирне (по Гельбигу 1960)
Он подошел к проблеме, сочетая результаты топонимического исследования, археологических раскопок, документальных свидетельств и анализа типов полей и деревень. Упрощенная карта, где отображены результаты его исследований одного региона — Крайс Пирне на Эльбе выше Дрездена, ясно показывает хоть и не абсолютную, но очень наглядную корреляцию между географическими названиями и типами полей и деревень (карта 6). Поселения, имеющие менее правильные очертания, и поля, составленные из ферлонгов, соответствуют областям с преобладанием славянских названий, тогда как вальдхуфендорфы (и некоторые другие геометрически правильные формы) соотносятся с названиями немецкого происхождения. Естественно предположить, что большая часть ранних славянских поселений концентрировались вдоль Эльбы, и там названия населенных пунктов и форма полей до сих пор носят отпечаток той самой, раннесредневековой модели. Немцы же расчищали для обработки землю на задах старых поселений, отвоевывая ее у лесов и формируя вальдхуфендорфы. Таким образом, планомерное переселение немцев, которое на основании письменных свидетельств можно отнести к XII веку, наглядно запечатлено и на карте. История сельского поселения — та тема, которая требует неспешного и трудоемкого накопления данных — фрагментов керамики, упоминаний в документах, картах полей и т.п. В то же время это та область научного исследования, где есть реальная перспектива получения обширной информации совершенно нового характера благодаря применению новых научных методов — таких, как химический анализ керамики или исследование растительных и животных остатков. В случае развития пограничных научных дисциплин и комплексной методологии исследования, результатом, без сомнения, станет более полная, яркая и наглядная картина новых ландшафтов Высокого Средневековья.
7. КОЛОНИАЛЬНЫЕ ГОРОДА И КОЛОНИАЛЬНЫЕ ТОРГОВЦЫ
«Свободный и защищенный город, который привлекает массу людей именно этой свободой…»{574}.
XII–XIII века были эпохой стремительного развития городов, которое имело место практически во всех областях Европы. Население старых городов росло, они выходили за рамки своих римских или раннесредневековых границ, а одновременно появлялись сотни новых городов, зачастую — в рамках осознанной политики освоения и развития новых территорий. Например, померанский князь Барним в 1234 году объявил, что «движимые стремлением удовлетворить свои потребности и нужды и упрочить свое могущество обычаями других областей, мы приняли решение о развитии в наших землях свободных городов»{575}. История процесса урбанизации является неотъемлемой составной частью рассказа об экспансии Высокого Средневековья.
Сложность, возникающая сразу, как принимаешься за историю средневековых городов, связана с тем, что в равной мере имеют право на существование два вполне обоснованных и полезных, но в корне различных определения города. Одно связано с экономическими параметрами: город — это поселение с численностью населения выше средней и с относительно высоким развитием товарообмена и разделения труда. Ясно, что по логике этой формулировки город является таковым только при его рассмотрении в историческом контексте. Численности населения и совокупности экономических показателей, которые позволяют отнести населенный пункт к городу в XIII веке, в XIX будет явно недостаточно. Города подобны пикам на графической кривой, и если изменяется весь масштаб этого графика, то и абсолютные показатели меняют свое относительное положение. Населенные пункты с такими размерами и населением, которые в Средние века позволяли относить их к городам, сегодня могут считаться не более чем деревнями. Такое же наблюдение будет верно, если мы станем рассматривать скорее географические, нежели хронологические различия. Возможно, валлийский город XIII века, если его мысленно перенести в Ломбардию, в сознании своих новых соседей уже мог и не заслуживать названия города.
Опираясь на это экономическое определение, мы имеем дело с целым спектром взаимосвязанных критериев. Изолированное поселение фермерского типа, то есть хутор, имеет меньше жителей и менее выраженное разделение труда, а также слабее вовлечено в товарообмен, нежели деревня, которая, в свою очередь, характеризуется меньшей численностью населения и менее развитым разделением труда по сравнению с небольшим городом. Где именно провести этот водораздел, с какого момента усматривать в населенном пункте черты города — это вопрос суждения, всегда с налетом субъективности. Невозможно доказать, было ли то или иное место городом в экономическом смысле, если заранее не договориться о том, где будет пролегать эта грань. Таким образом, средневековые города — это населенные пункты, которые историки выделяют из массы других по ряду параметров (население, степень коммерциализации, разделение труда), или, если говорить точнее, исходя из ощущения, что они превосходили другие поселения по этим параметрам, если бы мы имели возможность эти параметры измерить.
Совершенно иной характер носит юридический критерий определения города, который отражает другой подход к проблеме. Если экономическое определение является ретроспективным и относительным, то юридическое характеризует определенный момент времени и абсолютно по своей сути. В правовом смысле города имели иной статус, нежели остальные населенные пункты, и о существовании этого статуса люди той эпохи хорошо знали. На самом деле, этот статус город должен был в определенный момент получить, и именно эта дата чаще всего считается днем «основания» города. С юридической точки зрения феодал мог своей волей в одночасье обратить «негород» в город. Ясно, что с экономической точки зрения такое превращение было бы невозможно. Юридические привилегии городов могли даваться одномоментным росчерком пера, что было невозможно для города как новой экономической модели.
Учитывая эти два различия в подходах, надо сознавать возможность и даже высокую степень вероятности того, что города в экономическом смысле и населенные пункты, имевшие официальный статус городов, не всегда совпадали. Поселение относительно больших размеров, с развитой торговлей и разделением труда, могло не иметь статуса города. В то же время другие населенные пункты могли относиться к городам, несмотря на свои малые размеры и сельский по существу характер. Эта ситуация хорошо знакома всем, кто изучал парламентскую историю Англии, когда мелкие «гнилые местечки» (rotten boroughs) продолжали посылать своих представителей в парламент, в то время как многие крупные города с развитым производством были лишены этого права. И это несоответствие появляется задолго до индустриализации. Если положить рядом две карты, отражающие расчетное состояние финансов Англии в 1334 году (когда фискальные записи дают достаточно полную картину) и благосостояние фискальных единиц, какими являлись боро, на тот же период, то поражают два момента{576}. Во-первых, это отсутствие позитивной корреляции между благосостоянием какого-либо района и количеством в нем таких единиц, а во-вторых — большое число бедных городов. Так называемый Уэссекский регион (куда входили Девон, Сомерсет, Дорсет, Уилшир и Гэмпшир) имел огромное число боро, в то время как зажиточные графства Восточной Англии и Мидленда этим похвастать не могли. В самом деле, соотношение по этому параметру процветающих графств восточного побережья, от Норфолка до Кента, с юго-западным полуостровом (Сомерсет, Девон и Корнуолл) было один к пяти. Отсюда ясно, что количество населенных пунктов с правовым статусом города ни в коей мере не отражает уровня экономического развития.
Так же очевидно, что несовпадение понятия города в юридическом и экономическом смысле нельзя считать симметричным. Другими словами, куда больше мест, где поселения со статусом города не выполняли по сути городских функций, чем наоборот. Во многих случаях это объясняется тем, что процветающие общины, как правило, могли купить себе городские привилегии за деньги, а наделенные этими правами поселения, даже если их экономика еще не получила урбанистического развития, едва ли стали бы отказываться от своего статуса. Получается, что реальное несовпадение между юридической и экономической урбанизацией как раз и проистекало из большого количества мест с городским статусом, но сельскими по сути функциями.
В силу этой двойственности самого понятия города для того, чтобы понять значение урбанизации в процессе средневековой экспансии, приходится фактически опираться на две отдельных истории вместо одной. Первая — это рост центров с большой численностью населения, комплексной экономикой и развитой торговлей. Распространение городской свободы — вторая, отдельная тема, хотя и связанная с первой. Например, если говорить об урбанизации Восточной Европы, имея в виду только один правовой аспект, то правильно будет сказать, что она произошла в период между серединой XII и серединой XIV века и по немецкому образцу. Сохранившиеся с того времени городские хартии и законы представляют собой богатый источник информации о том переустройстве, которому подверглись поселения восточнее Эльбы по образу и подобию великих немецких городов типа Любека и Магдебурга. Кроме того, эти хартии и законы, в самых общих чертах, очень похожи на документы Франции или Англии или на испанские фуэрос, и следовательно, можно с полным основанием говорить о проникновении в Восточную Европу западноевропейских форм. Однако если рассматривать эту ситуацию с экономической точки зрения, то картина будет выглядеть совсем иначе. Города, то есть поселения с относительно большой численностью жителей и комплексной застройкой, существовали в Восточной Европе задолго до появления городских хартий вольности. Археологические исследования, особенно послевоенного периода, позволили установить средневековые торговые пути и процветающие торговые центры, которые существовали в Прибалтике и по берегам крупных рек уже в X веке. Практически нет сомнений, что предоставление статуса города лишь означало новую организацию уже существовавшего населенного пункта, а не основание или придание городского статуса новому поселению. В некоторых случаях, например, как с Щецином или Данцигом, город в экономическом смысле фактически существовал задолго до того, как получил законодательное оформление в качестве такового. С другой стороны, предоставление городу права самоуправления нельзя считать чисто формальным актом. Даже в тех случаях, когда поселения уже по сути жили городской жизнью, городской закон способствовал ее реструктуризации, усилению либо видоизменению отдельных ее аспектов. Надо также отметить, что во многих случаях предоставление статуса города действительно означало его основание и подразумевало трансформацию сельского поселения в городское либо появление совершенно нового населенного пункта на незаселенном месте. Основание самого Любека, матери городов Балтийского побережья (о нем пойдет речь ниже), показывает, насколько привлекательны были те привилегии, которые давала городская хартия, и как они порой стимулировали основание новых поселений.
Таким образом, ритм и модели урбанизации в юридическом, или конституционном смысле отличаются от экономического. Например, в Богемии или Моравии формы, институты и термины, употреблявшиеся в отношении самоуправляемых городов, были привнесены извне, причем за достаточно короткий период времени (начало XIII века) и по инициативе сверху, то есть князьями. Однако важные и относительно густонаселенные торговые центры уже существовали в этих регионах несколькими столетиями раньше. Прага, которая в X веке уже упоминается как «крупнейший торговый центр страны»{577}, другие важные в экономическом отношении города — Брно и Оломоуц, получили правовое оформление в виде города далеко не первыми, зато многие пункты, не имея такого экономического значения, стали именоваться городами задолго до них{578}. Таким образом, история развития городов в Богемии требует рассмотрения под разными углами зрения. Очень похожая ситуация наблюдалась в Ирландии, где города в экономическом смысле были основаны еще викингами либо стали появляться вокруг монастырей начиная с X–XI веков. Города же в юридическом смысле явились следствием англо-нормандского завоевания в конце XII века. Археологические раскопки 1970-х годов в Дублине показали, что он переживал бурный расцвет торговли и ремесленной жизни, то есть по сути являлся городом, еще задолго до появления англо-нормандцев. Что принесли с собой завоеватели и чего до них не существовало, так это законов и традиций письменной документации. Когда в конце XII века новые властители Ирландии, король Генрих II и его сын Иоанн, даровали Дублину городские хартии, то стали «основателями» города лишь в очень узком понимании{579}. Наиболее проработанным из названных документов является хартия, выданная Иоанном в 1192 году, и один взгляд на содержащиеся в нее положения обнаруживает ту смесь конституционных привилегий и экономических норм, которая вообще была характерна для городского законодательства в Европе Высокого Средневековья.
По условиям хартии 1192 года Дублин объявлялся территориальной единицей с установленными границами, которые описывались самым детальным образом, а также юридической единицей, городом и одновременно округом со своим судом, где раз в неделю вершились местные дела судебного и административного свойства. В хартии Иоанна особо подчеркивается ряд специальных привилегий гражданам Дублина в отношении судопроизводства. Их нельзя судить за пределами города, они освобождаются от судебных поединков и мэрдрэма (murdrum) — штрафа, которым облагались населенные пункты, на чьей территории обнаруживались неопознанные трупы. Их нельзя штрафовать за «невежество», то есть за неправильно употребленные слова и выражения в их прошениях в суд; в черте города запрещено всякое дознание; ограничиваются суммы денежных штрафов. Все эти правила означали особые привилегии жителей Дублина в низшем суде. Вдобавок они получали определенные свободы личности и имущественные права. Земля в черте города Дублина находится в свободной аренде — бегедже (burgage), застройку можно осуществлять по своему усмотрению, и все пространство в границах города находится в коллективном ведении. Никакой господин не вправе решать вопросы вступления в брак их детей или вдов. Они имеют право образовывать гильдии, «точно так же, как жители Бристоля» (Бристоль был для Дублина «материнским» городом).
Дополнительно ко всем этим правам провозглашались привилегии экономического порядка. Из них самым важным, вероятно, являлось освобождение от толла (то есть внутренних таможенных пошлин) на всей подвластной Иоанну территории. Предусматривались также гарантии в отношении долгов. С одной стороны, жителям Дублина позволялось накладывать арест на имущество должника, то есть завладевать собственностью того, кто не смог вовремя расплатиться по долгам. С другой стороны, сами они могли подвергаться такой мере воздействия только в случае, если лично являлись должником или поручителем должника. Иными словами, они освобождались от круговой поруки за других горожан, которая была типичной практикой в жизнеустройстве средневековых городов. Кроме того, в границах города они наделялись разнообразными торговыми монополиями. Иностранным купцам было запрещено покупать зерно, кожу или шерсть иначе, как у горожан. Они также не имели права продавать в розницу ткани, содержать таверны или торговать в городе дольше сорока дней. Ясно, что такие положения подразумевают наличие достаточно развитой системы торговли и городского органа регулирования купли и продажи. С другой стороны, законодательные привилегии должны были быть привлекательными для любой группы, которая стремилась освободиться от традиционно жесткой правовой регламентации либо хотя бы отчасти ограничить права господина. Городской закон как раз и выполнял эту двоякую функцию, и городская свобода всегда означала нечто большее, чем просто свобода торговать.
Ирландия также представляет хороший пример колониальной территории, где получила широкое распространение практика предоставления городских привилегий сельским районам — в целях привлечения новых поселенцев. Эти «сельские местечки-боро» (rural boroughs), как их принято называть, были очень многочисленны. Известны около 240 ирландских боро, что составляет приблизительно одно поселение со статусом города на тринадцать миль{580}. Это меньше, чем в Англии того времени, где один город приходился в среднем на десять миль, но Англия вообще имела более высокую плотность населения (примерно вдесятеро выше, чем Ирландия) и значительно более обширную площадь пашни. В демографическом отношении Ирландия схожа с территориями между Эльбой и Одером, где города, как, например, в Мекленбурге, Померании или Силезии, отстояли друг от друга в среднем на тринадцать миль{581}. Очевидно, что не все из 240 населенных пунктов, имевших права городского самоуправления, исполняли функции города в экономическом отношении. На самом деле, есть мнение, что из них менее четверти (а именно — пятьдесят-шестьдесят) являлись городами в этом смысле слова{582}. Многие же оставались сельскими поселениями, но наделенными городскими привилегиями, которые служили тем магнитом свободы для поселенцев, о котором мы говорили в предыдущей главе. Во всяком случае, в определенный момент в городской язык начинает вливаться лексика, связанная с получением крестьянами свободы — borough, burgess, burgage и их производные. Похожим образом на Сицилии католические колонисты назывались бюргерами и пользовались гражданскими свободами горожан, даже если по сути они оставались сельскими жителями, только с особым статусом{583}.
Таким образом, городская свобода, понимаемая как совокупность особых привилегий и вольностей, становилась мощным стимулом для новых поселений порой независимо от соображений коммерческого порядка. Иммигранты селились в городах в стремлении получить доступ не только к торговле, но и к свободе. Епископ Рижский заявлял, что «город Рига привлекает к себе правоверных в большей степени благодаря своей вольности, нежели плодородными окрестными землями»{584}. Многочисленные мелкие города, разбросанные по многим периферийным районам Европы, были призваны служить не только центрами торговли, но и стимулировать их заселение. Иногда, как было на Пиренеях, правовое оформление городов становилось следствием соображений военного порядка. После того, как в 1139 году Альфонс VII Кастильский отбил у мусульман Орэху, он даровал жителям города вольность от податей, свободное право отчуждения собственности и другие юридические привилегии и гарантии. «Я счел целесообразным, — объявил он, — чтобы те, кто придет в Орэху, имели границы и права, дабы мавры, коим она принадлежала в прошлом, не могли вернуть ее себе, воспользовавшись слабостью или беспечностью христиан»{585}. Права и свободы привлекали поселенцев, а поселенцы, в свою очередь, реально закрепляли свершившееся завоевание. Об экономической стороне вопроса речи не идет.
При всем схематизме и официальном характере, дошедшие до нас хартии и законы городов проливают свет на те мотивы и ограничения, которые лежали в основе формирования новых городов в Европе в эпоху Высокого Средневековья. Анализ этого процесса предполагает изучение устремлений, опасений и намерений людей, основывавших и развивавших эти города. В формулировках и положениях их документов можно видеть конечный результат переговоров, коллизий и взаимных уступок всех сторон, вовлеченных в создание новых городов, феодала, городских предпринимателей, духовенства и новых поселенцев. Городская хартия была документом большого символического значения, который знаменовал собой начало нового исторического этапа.
СЕМЕЙСТВА СРЕДНЕВЕКОВЫХ ГОРОДОВ
Западноевропейская модель города, которая сформировалась в XII–XIII веках, включала наделение определенными привилегиями как самого населенного пункта, так и его жителей. Процесс этот по определению требовал некоего автора, то есть господина. Это не означает, что в действительности содержание предоставляемых льгот всякий раз вырабатывалось заново и феодалом и его горожанами. К XII веку уже существовал стандартный набор нормативных положений. Если говорить в самом общем ключе, то имелись некие базовые принципы городских свобод, такие, как статус свободного города, освобождение от пошлин, наделение монопольными, до определенного предела, правами в экономической жизни. Все эти моменты были неотъемлемой составной частью понятия инкорпорированного города. Если говорить в более частном плане, то один город мог заимствовать у другого целые структуры, ведающие вопросами городского управления, гражданским и уголовным судопроизводством и регламентацией хозяйственной жизни. Результатом становилось рождение целых семейств городов, то есть групп городских поселений, чья жизнь регламентировалась законами по образу и подобию «матери городов», по крайней мере вначале.
Примером такой группы могут служить города, жившие по кодексу законов Куэнка-Теруэль. Эта достаточно разветвленная система законодательных актов насчитывала порядка тысячи статей, которыми регулировались всевозможные аспекты жизнеустройства — от порядка наследования, рассмотрения дел об убийстве, несения воинской повинности, отношений между иудеями и христианами до вопросов орошения полей и выпаса скота, функционирования общественных бань и даже наказания за кражу роз или лилий из чужого сада. Кодекс был пожалован Альфонсом VIII Кастильским жителям Куэнки вскоре после отвоевания города у мусульман в 1177 году. Примерно в то же время, но с другой стороны от границы Арагона, Альфонс II пожаловал фактически идентичный кодекс городу Теруэлю. От Куэнки и Теруэля этот свод законов распространился на юг на волне Реконкисты и к 1220-м годам достиг Андалусии. Получается, что эта конкретная модель города не была ограничена какими-то политическими рамками. Она устраивала как Кастилию, так и Арагон, и с равным успехом могла насаждаться на всей отвоеванной у мусульман территории. Можно без труда обнаружить и другие примеры семей городов, которые распространялись через границы королевства или феодального владения. Например, закон Бретейля в Нормандии, города, которому его лорд Вильгельм Фиц-Осберн около 1060 года даровал самоуправление, после нормандского завоевания Англии был пожалован новому владению Фиц-Осберна — Херефорду. К 1086 году североваллийский городок-боро Рудлан получил «законы и обычаи, которые есть в Герефорде и Бретейле»{586}. Среди англо-нормандцев, пришедших в Ирландию после 1169 года, было много подобных роду де Ласи, то есть выходцев из приграничных с Уэльсом областей, и когда они основывали города, как де Ласи — Дрогеду, то даровали им законы Бретейля{587}. Таким образом этот не слишком значительный нормандский город для многих новых боро в Уэльсе и Ирландии превратился, благодаря серии феодальных завоеваний, в модель для подражания. Еще более разительным было значение великих городских кодексов Остзидлунга — законов Любека и Магдебурга, ставших фундаментом правовой и административной системы сотен поселений в Восточной Европе, до Нарвы на Финском заливе и Киева на территории современной Украины.
Степень зависимости дочерних городов от материнских могла быть различной. Иногда новый город только получал обычаи «старшего», и на этом его зависимость заканчивалась. В других случаях «младший» город мог обращаться к «старшему» за разъяснениями, когда требовалось уточнить какие-либо аспекты управления или судебной практики. Еще более тесной была взаимосвязь внутри тех семейств городов, в которых, как в случае с Любеком, «старший» город рассматривал тяжбы, поданные в суды дочерних городов. Первым делом осуществлялась передача обычаев судопроизводства, часто это делалось в форме направления дочернему городу книги законов. Например, Геттингенский свод законов Любека содержит текст закона в том виде, как он был направлен в Данциг в ответ на просьбу тамошнего герцога и горожан. Он начинается словами:
«В год 1263 от рождества Христова, во имя чести и любви, а также по просьбе блистательного господина Самбора, герцога Померелии, и во имя любви и по просьбе жителей Данцига, консулы города Любека повелели оформить письменно закон, данный им славным господином Генрихом, герцогом Саксонским…, что подтверждено в его хартии. Сим начинается установленный закон города Данцига, переданный им надлежащим порядком консулами города Любека»{588}.
В 1282 году депутаты от чешского города Литомержице (Лайтмеритц) послали в Магдебург за экземпляром Магдебургского свода законов. Депутаты Магдебурга отправили им книгу, а в сопроводительном письме написали, в частности, что Литомержице, «как мы слышали, был заложен на основе наших законов»{589}. Распространение объемистого кодекса Куэнка-Теруэль было возможно только посредством книг. В Прибалтике и на Пиренеях практиковались переводы кодексов с латыни на местные языки, что лишний раз подтверждает тот факт, что передача правовых норм осуществлялась посредством письменных текстов.
Едва какой-нибудь новый свод законов переносился на новую территорию, как дочерние города сами становились «старшими» для новых семей городов или их подсемейств. В начале XIII века, к примеру, закон города Галле, который сам по себе являлся дочерним городом Магдебурга, стал моделью для новых поселений в Силезии. Промежуточное положение занимал герцогский город Шрода (Ноймаркт), община горожан, находившаяся в 180 милях (9 днях пути) на восток от Галле. До нас дошел документ, в котором члены городского управления Галле подробно разъясняют депутатам Шроды, что именно подразумевают «городские законы, соблюдавшиеся еще нашими отцами»{590}. Положения этого документа касаются тонкостей уголовного и наследственного права, определяют периодичность судебных заседаний, приводят требуемые формы доказательств и структуру главных гильдий. Это сжатое описание в основных чертах немецкого города, которое впоследствии получило хождение в восточных областях. Город Шрода вскоре превратился из прилежной «дочки» в плодовитую «мать». Когда в 1223 году епископ Лаврентий Вроцлавский позволил своему местному представителю Вальтеру поселить немцев в торговом (рыночном) городе и деревнях на верхнем Одере, он начертал, что они должны подчиняться «тому же закону, что применяет герцог Генрих в Ноймаркте, иначе именуемом Шродой». В одном из недавних исследований перечислено 132 населенных пункта (в большинстве — между Одером и Вислой), где в Позднем Средневековье применялось право Шроды-Ноймаркта{591}.
Понятно, что тот иной город становился тем более известен, чем лучшего «качества» были его вольности. Арагонский город Хака был тому примером, ив 1187 году Альфонс II Арагонский горделиво провозгласил: «Я знаю, что люди в Кастилии, Наварре и других землях привыкли приезжать в Хаку, чтобы изучать здешние обычаи и свободы и затем их перенимать»{592}. Однако подобное восхищение не всегда означало отсутствие критического взгляда, и примеров модификации и усовершенствования существующих кодексов тоже можно найти немало. Когда в 1261 году герцоги Силезии пожаловали Вроцлаву законы Магдебурга, они внесли в них ряд усовершенствований, в том числе уменьшили наполовину суммы штрафов, налагаемых судом{593}. Подобные модификации создавали внутри крупных типов правовых систем множество подсистем, и толкование взаимоотношений между ними превратилось практически в самостоятельную научную дисциплину. В частности, немецкая историческая школа изучает семейства сводов городских законов методами классификационной системы Линнея.
Некоторые города служили для других не просто моделью для воспроизведения, но и осуществляли постоянный законодательный контроль за «дочками». Например, городской совет Магдебурга (Schoffen, scabini) издавал регламентирующие инструкции для множества городов, членов обширной «Магдебургской семьи», которые раскинулись далеко на восток и на юг. В 1324 году они направляли в свой дочерний чешский город Литомержице письма, в которых отвечали на запросы, полученные от тамошних судьи, присяжных и членов совета, и давали рекомендации по таким разным предметам, как условия мирного договора между Литомержице и его недружественным соседом Усти (Аушиг), детали судебной процедуры и пределы юрисдикции, наказания за правонарушения; определяли порядок наследования и даже давали советы торговцам мануфактурой, как резать ткань. Таким образом осуществлялась верховная или надзорная юрисдикция, точно так же, как сам Литомержице применял Магдебургское право к многочисленным дочерним городам в своем регионе{594}. Аналогичную роль для немецких торговых городов в Прибалтике исполнял Любек. Консулы Любека издали свыше 3 тысяч апелляционных и разъяснительных документов, и это лишь небольшая часть оригинального материала{595}. Сходные правовые модели можно обнаружить и в Испании, где, например, в 1322 году Альфонс XI Кастильский повторно подтвердил апелляционную юрисдикцию Логроньо над «всеми местами, в которых действует закон Логроньо»{596}.
Такая трансрегиональная система городской судебной иерархии не всегда была по душе князьям, которые могли усмотреть в самом факте существования альтернативного и стороннего центра отправления правосудия угрозу собственному могуществу, и некоторые правители предпринимали попытки нарушить целостность этой системы. В 1286 году герцоги Ополе (Оппельна) распорядились, чтобы
«Все и каждый, кто селится в наших владениях по фламандскому закону, в случае если в отношении закона возникают сомнения, не должны искать никаких сведений о том законе за пределами нашей земли, а в пределах наших владений — нигде кроме как в городе Раци буже (Ратибор), невзирая ни на какие привилегии городов и деревень, которые могут на первый взгляд противоречить настоящему указу. Также отныне не должен означенный город Ратибор иметь какое-либо касательство, будь то от своего имени или от чужого, к любому населенному пункту извне, но должен решать все дела, кои возникают там или по обычаю приносятся туда на рассмотрение, на месте, со страхом Господа, как велит их вера, и никакие апелляции не следует адресовать ни нам, ни в любые другие места»{597}.
Целью герцогского указа было свести судебно-правовые отношения поселенцев к фламандскому праву с высшей инстанцией в городе Ратиборе, одному из главных в герцогстве. Эго означало бы действие на всей подвластной им территории единой судебно-правовой иерархии, с отсечением какого бы то ни было влияния внешних авторитетов. Здесь мы имеем классический пример той замкнутой и однородной судебно-законодательной системы, к какой стремится всякое суверенное государство. Однако в XIII веке и позднее это стремление имело мощную альтернативу в лице международной сети городов. Распространение единых судебно-правовых норм от родительских городов к дочерним по торговым путям и дорогам переселенцев шло более активно, нежели внутри узких границ монархических владений.
Города были нужны князьям как источник благосостояния, но в их вольности была заключена и своя опасность — они могли выйти из подчинения. Особый акцент на независимости города, характерный для закона Любека, пробуждал в некоторых правителях определенное недоверие, и, например, Тевтонские рыцари отвергли применение этого закона в своих землях, отдав предпочтение собственному, менее независимому кодексу — Хелминскому. Данциг и Мемель (Клайпеда), где вначале применялось право Любека, были принуждены отказаться от него под давлением Тевтонского ордена. Однако лишь к Позднему Средневековью наступление князей на городскую автономию приняло массированный и действенный характер. Между концом XV и серединой XVII веков апелляционной юрисдикции Любека был положен конец, поскольку окрестные города в судебно-правовом плане объединились с территориями соседних правителей либо оказались в непосредственной юрисдикции своих номинальных господ. И все же в эпоху Высокого Средневековья больше, чем в наложении каких-либо ограничений на города, князья были заинтересованы в их развитии, даже если это развитие шло на основе заимствования каких-то моделей извне.
Сеть межгородских контактов — будь то торговые связи, семейные узы или судебно-правовое соподчинение — имела сердцевиной ключевые районы центральной части Западной Европы и в географическом плане расходилась от центра к периферии. Раньше всего городских вольностей добились области вокруг Рейна, причем в самом полном и известном виде — в Юи-на-Маасе{598}. Во всех других областях города стали брать за образец модель Лотарингии и Рейнской области. Лучи этого влияния расходятся радиально во всех направлениях — от Нормандии до Англии, Уэльса и Ирландии, от Вестфалии — через Гольштейн в Эстонию, от Новой Кастилии — в Андалусию. Шотландское городское право изначально происходило от законов Ньюкасла-на-Тайне, а в Богемии первые городские конституции были созданы на базе саксонских моделей.
Аналогичная картина характеризует и распространение в языке связанной с городской жизнью лексики. Само слово «бюргер» (от латинского burqensis), которое, по-видимому, ведет начало из тех времен, служило обозначением человека, который получил новый юридический статус полноправного члена городской общины со всеми правами инкорпорированного города. Зародившись в центре Западной Европы, это слово распространилось на периферию. Впервые термин употребляется в XI веке в Лотарингии, Северной Франции и Фландрии. Слово burqenses встречается в хартии города Юи 1066 года. На Британских островах это слово фигурирует в Книге Страшного суда 1086 года для Англии и Рудлана в Уэльсе, в Шотландии — в первой половине XII века и в Ирландии — в 70-х годах XII века. Здесь мы встречаем его в хартии Генриха II в отношении Дублина. Это слово распространилось и в славянских областях Европы, причем в документах Богемии оно впервые появляется в 1233 году{599}. Имея германо-латинское происхождение, слово «бюргер» и его производные получают широкое распространение повсюду, где развивается средневековая экспансия: греческий текст «Морейской Хроники» использует термин bourgeses, в Румынии горожан называют burqar или pirgar — от Burger, а в Уэльсе новые жители городов из числа переселенцев именуются bwrdais{600}. Латинизированный вариант немецкой лексики, относящейся к правовому статусу городов и их граждан, оказался воспринят носителями кельтских, славянских и других языков благодаря тому, что формализованная модель города как такового (с определенными правовыми особенностями) была привнесена сюда из романо-германского мира.
ИММИГРАЦИЯ ГОРОЖАН
Зародившись в XI веке в ходе экспериментов в Лотарингии, Фландрии, Вестфалии или Северной Испании, новые конституционные модели и лексика оказались в последующие столетия перенесены или заимствованы в качестве образца городскими поселениями Северной и Восточной Европы и Испании эпохи Реконкисты. Однако надо ясно представлять, что это распространение правовых основ не было чем-то бесплотным. Для того, чтобы стать городами не только в юридическом, но и в экономическом смысле, новым и растущим городским поселениям в эпоху Высокого Средневековья явно требовался ощутимый приток иммигрантов для формирования и поддержания на определенном уровне их населения. В центральных областях Западной Европы эта иммиграция часто носила сугубо локальный характер, когда в города устремлялись многочисленные сыновья и дочери крестьян из соседних деревень. Например, из 47 горожан Стратфорд-на-Эйвоне, чьи имена известны по документам 1252 года, 42 (то есть 89 процентов) были родом из деревень в радиусе 16 миль от города{601}. В пограничных областях латино-христианского мира, таких, как Восточная Европа, Испания Реконкисты или кельтские земли, напротив, население городов тоже было иммигрантским по сути, но происходило из более отдаленных областей.
Как явствует из хартий «франкам», подобным той, что Альфонс VI пожаловал поселенцам Логроньо в 1095 году, уже ко второй половине XI века малые города, лежавшие по окраинам Пиренейского полуострова либо на традиционных паломнических путях в Сантьяго, насчитывали большое число горожан, прибывших издалека, в первую очередь из Франции{602}. «Саагунская хроника», составленная, по-видимому, в начале XII века, рассказывает, как тот же король
«издал указ о том, что там надлежит основать город, собрав со всех сторон света горожан, представителей разных ремесел… гасконцев, бретонцев, германцев, англичан, бургундцев, нормандцев, тулузцев, провансальцев и ломбардцев, и многих других торговцев разных наций и языков; и таким образом он заселил и образовал город немалых размеров»{603}.
В арагонский город Уэска, который в 1096 году был отвоеван у мусульман, поселенцы из Северной Франции прибывали на протяжении целого поколения: есть документ 1135 года, в котором упоминается собственник по имени Гумфред из Фалеза, жена и дети которого носили чисто французские имена — Оделина, Вильгельм, Иоанн, Гуго, Одетта и Аррамборж{604}.
В тех областях Пиренейского полуострова, которые были отвоеваны у мусульман в XII–XIII веках, развитие городов происходило на фоне уже достаточно густой сети поселений городского типа. В X–XI веках исламская Испания была несомненно наиболее урбанизированным регионом Западной Европы. Неудивительно, что здесь не наблюдалось того бурного роста числа новых городов, каким характеризовались, например, области Восточной Европы или Британских островов. Конечно, определенное число осознанно спланированных новых поселений или колоний имело место. Главным образом они основывались на новом месте либо на месте населенных пунктов сугубо сельского типа. Примером служит Сьюдад Реал, основанный Альфонсом X в 1255 году:
«Он повелел, чтобы люди из его владений пришли сюда, начертал, как надлежит заложить новый город, и приказал назвать его Вилла Реал; указал, как спланировать улицы, определил места, где должна пройти городская стена, и повелел установить каменные ворота в том месте, где в город входит дорога из Толедо»{605}.
Затем король даровал новому городу законы Куэнки{606}. План города Сьюдад Реал, с его простой симметрией, дорогами, идущими через шесть ворот («Пуэрта де Толедо», «Пуэрта де Калатрава» и т.п.) и сходящимися на центральном рынке, к которому примыкает собор св. Марии, говорит не о случайном, а о спланированном характере его застройки. Однако в целом для Испании такие города были исключением{607}.
С другой стороны, многие города для своего возрождения нуждались в притоке новых жителей после долгого периода приграничных войн и завоевательных походов. Когда в начале XII века Таррагона была взята христианами, граф Барселоны даровал ее Таррагонской епархии, описывая ее при этом как «город Таррагона, который оставался разрушен и покинут на протяжении многих лет, не имея ни землепашца, ни жителей. Я жалую его вам… для восстановления… Я даю вам свободу… собирать людей где только возможно и какого угодно ранга для заселения этой земли»{608}. Когда Фердинанд III взял Хаэн, «он послал за поселенцами во все края, пообещав большие свободы всем, кто придет сюда жить»{609}.
В других случаях христианское войско завоевателей могло встретить город с уже значительным населением, как было с великими южными столицами — Валенсией, Кордовой и Севильей. Севилья в 1248 году отошла к королю Кастилии. Большая часть мусульманского населения была изгнана. На протяжении последующего десятилетия королевские комиссары занимались распределением земельной собственности в городе и окрестностях: 43 крупных земельных владения получили князья, феодалы, епископы и военные ордена; 200 малых поместий были пожалованы рыцарям, и даже рядовые воины получили небольшие имения. Свою долю получили также король, вновь назначенный архиепископ и городской совет. Новые землевладельцы привлекали новое население. Иммиграция в Севилью эпохи Реконкисты затронула практически каждую часть Пиренейского полуострова, и поселенцы в большом количестве прибывали даже из таких отдаленных областей, как Галисия и Старая Каталония. Большинство переселенцев были из Старой Кастилии, многие также прибывали из Леона и Новой Кастилии. Эти три региона образовывали большой массив земли в северной части центральной Испании, от реки Тахо до северных горных хребтов, и служили мощным источником людских ресурсов, поставляя городу новых жителей-христиан{610}.
Такими путями протекало масштабное переселение, в ходе которого в XI–XII веках в Испанию переместилось множество французов, а испанцы с севера переселились в центр и на юг полуострова, в новые, оставленные или отвоеванные у мусульман города. В то же самое время иммиграционные процессы преображали и Восточную Европу. Здесь развитие городов часто сопровождалось массированной немецкой иммиграцией. Когда в 1228 году королева Богемии Констанца даровала южноморавскому городу Годонин (Гединг) права города, она в своей хартии объявила: «мы призвали к себе достойных немцев и поселили их в нашем городе»{611}. Краков представляет собой хороший пример польского города, преображенного как немецкой иммиграцией, так и заимствованной у немцев системой городского права. Эта древняя польская крепость получила новую жизнь в 1257 году, когда герцог Болеслав, местный правитель из династии Пястов, установил в городе порядок по образу и подобию магдебургского: «город Краков был преобразован на основе германского права, и герцогские сановники изменили облик рыночной площади, домов и дворов»{612}. Он намеревался «собрать здесь людей из многих краев», но особо оговаривал, что польское сельское население не может пользоваться правами граждан нового города{613}. Основанием для такого ограничения был не национальный признак как таковой, а опасение, что это приведет к оттоку жителей из его владений или земель других сеньоров. В результате уже и без того достаточно немецкий по духу Краков стал еще более германским городом. Его бюргеры были немцы по имени, языку, культуре и происхождению, а правовой моделью для них также служил старонемецкий город. Таким же образом оказались германизированы многие крупные торговые города Восточной Европы, другие же (как, например, описанная ниже Рига) и вовсе целиком представляли собой поселения немецких иммигрантов.
Города типа Кракова и Риги специализировались на дальней торговле. Во внутренних же районах Восточной Европы того времени получил развитие еще один вариант урбанизации по немецкому типу — создание сети небольших рынков и торговых центров локального масштаба. Хороший пример тому дают города Мекленбурга. Помимо двух балтийских портов, Ростока и Висмара, города Мекленбурга были вызваны к жизни главным образом потребностями близлежащих районов, и изучать их надо именно с точки зрения их локального значения. Великие торговые пути, сыгравшие столь важную роль для роста торговых городов на балтийском побережье и в устьях рек, не могут служить объяснением образованию многочисленных мелких городов в материковом Мекленбурге.
Первые города этой области, получившие самоуправление, были основаны в середине XII века немецкими завоевателями: Любек — графом Адольфом Гольштейнским, Шверин — Генрихом Львом Саксонским. Однако развитие городов под эгидой местной династии началось только после 1218 года. Именно в тот год Генрих Борвин Мекленбургский даровал Любеку закон города Ростока. В хартии перечисляются десять консулов Ростока, все — с немецкими фамилиями, что заставляет думать о том, что иммигрантская олигархия пользовалась благосклонностью местных правителей. Ростокская хартия сыграла роль стартового пистолета: в последующие шестьдесят лет по всему Мекленбургу была создана целая сеть малых городов, в среднем по городу в каждые два года. Наиболее активными проводниками политики создания этих городов выступали как раз правители Мекленбурга, которые щедро издавали в отношении новых поселений хартию за хартией. Например, Николас Мекленбург-Верльский (1227–1277), внук Генриха Борвина, наделил законом города Шверина — через посредство мекленбургского города Гадебуша — восемь населенных пунктов. Они составили одну из трех доминирующих семей городов в этом регионе, наряду с семейством Любека, чья система права передавалась малым городам через юрисдикцию Ростока и Висмара, и Пархима. Последний получил статус города в 1225/26 году из рук Генриха Борвина:
«Мы отдали землю Пархима — неприютную, пустынную и лишен ную дорог — христианским колонистам, которых пригласили издалека и из окрестных областей. Мы также построили в этой земле город и наделили его надлежащими правами и юрисдикцией, благоприятной и полезной для жителей и самого города.
И прежде всего мы даровали этому свободному городу и всем его гражданам все права»{614}.
Собственно, суть городского закона Мекленбурга в общем и целом мало отличалась от того, что мы видели в таких, к примеру, документах, как дублинская хартия 1192 года: освобождение от дорожной пошлины, льготные суммы штрафов, свобода наследования и тому подобное. Здесь опять-таки за основу была взята конкретная модель, привлекательность которой отчасти и заключалась в легкости воспроизведения.
Таким образом обрел новый облик ландшафт Мекленбурга, рас кинувшегося на площади в 4,5 тысяч квадратных миль. К XIV веку, в противоположность тому, что было столетием раньше, повсюду стояли небольшие города, каждый со своей приходской церковью, рынком, тюрьмой и, возможно, зачатками оборонительных сооружений. В конце XIII–XIV веках некоторые из этих центров уже имели свои монастыри, как, например, Рёбель, где был доминиканский монастырь и дом кающихся грешниц (в процессе развития городов появлялась новая специализация){615}. Городская культура была по преимуществу немецкой, при том, что многие города были созданы на месте славянских деревень и даже имели славянские названия. Хороший пример тому дает Крёпелин: в этом городе со славянским названием члены городского совета поместили на своей печати изображение калеки, поскольку слово «калека» по-немецки (Kruppel) созвучно старому названию города{616}. Но и независимо от этимологии городов важно то, что их жители ощущали себя немецкими гражданами. Германское колониальное заселение Восточной Европы в корне отличалось от мощной сети торговых центров Высокого Средневековья в лице итальянских городов Восточного Средиземноморья именно в силу существования населенных пунктов типа Гадебуша, Пархима и Крёпелина, то есть небольших, тесно связанных с окрестными селениями торговых центров, жители которых были купцами и ремесленниками немецкого происхождения со своим, достаточно узким кругом интересов. Именно малые торговые города стали проводниками необратимого культурного преобразования обширных областей Европы.
Карта 7. Граждане Дублина ок. 1200 г.: происхождение, установленное по топониму
Точно так же, как в Восточной Европе урбанизация шла рядом с германизацией, в кельтских областях она сопровождалась англиканизацией. Инкорпорированные города, появлявшиеся в Шотландии, Ирландии и Уэльсе в XII и XIII веках, характеризовались прежде всего иммигрантским населением, по преимуществу английского происхождения. Свет на состав населения Дублина на рубеже XII и XIII веков отчасти проливает дошедший до нас документ — реестр купеческой гильдии, обнаруженный в архивах дублинской корпорации, где перечислены члены гильдии этого англо-нормандского города{617}. Самая ранняя часть списка (приблизительно 1175–1205 гг.) включает около 2800 имен и фамилий, из которых около 40 процентов имеют составной частью указание на происхождение из той или иной местности, не говоря о более общих вещах (например, Ричард из Корнуола, Пьер Француз и т.п.). На карте 7 отмечены те родные места дублинских купцов (в пределах Британских островов), на которые приходится не менее трех членов гильдии. Сразу видно, насколько прочная связь существовала по линии Дублин-Бристоль, по которой в город переместилось большое число жителей из бассейна реки Северн, глубинной области Бристоля. Большинство эмигрантов прибыло из южного Уэльса, из пограничных графств так называемой Западной Страны и из городов центральных графств. Существенный контингент поставляли также Лондон и Винчестер, давнишние городские центры юго-востока. Менее значительным, но также заметным был приток переселенцев с северо-запада, в особенности из Карлайла, а также из Шотландии и других ирландских городов англо-нормандского происхождения. Поразительным является также факт, что большинство этих горожан носили фамилии, которые происходили от названий населенных пунктов городского типа. Иными словами, это были не селяне, а горожане, перебравшиеся в новый город.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТОРГОВЛИ
Экспорт западноевропейских моделей города и рост городского населения были тесно связаны с торговой экспансией, начавшейся в XI веке и взорвавшей Старый Свет в последующие два столетия. Колониальные города явились творением колониальных торговцев. В самом деле, одним из наиболее наглядных примеров экспансии Высокого Средневековья служит распространение западноевропейской морской торговли, которая в X веке была ограничена узкими рамками, а в XIV превратилась в широкую сферу деловой активности итальянских и немецких ганзейских купцов. Эта трансформация протекала постепенно, но в XI веке ее темпы заметно ускорились.
Деятельность итальянских купцов
Торговые связи, осуществляемые по Средиземному морю, для Средних веков не были чем-то необычным. Уже в X веке, и даже ранее, купцы из Амальфи и Венеции плавали в морские города Византии и исламского мира. Так, известно, что во время беспорядков в Каире 996 года были убиты и ограблены более сотни итальянских купцов{618}. Тем не менее в XI веке свидетельств этой торговли заметно прибавляется и в игру вступают все новые города, в первую очередь Пиза и Генуя. Ко второй половине столетия агрессивно настроенные отряды купцов, пиратов и крестоносцев из этих городов высаживались по всему средиземноморскому побережью, вели торговлю в больших портовых городах типа Константинополя и Александрии, грабили, как в 1087 году произошло с Аль-Махдия на севере Африки, предпринимали попытки создания крестоносных государств, как в 1097–1098 гг. в Антиохии и в 1099 г. — в Латакии. Итальянцы прочно захватили инициативу в средиземноморской торговле, и отныне до конца средневековья алчный, а порой и опасный итальянский купец стал вездесущей фигурой в этом регионе.
Создание государств крестоносцев в последнее десятилетие XI и в первой четверти XII века открывало итальянским купцам новые возможности. Молодые государства были своего рода аванпостами, Утремерами, и сильно зависели от снабжения товарами по морю. Однако своего флота у них не было, и они оказывались один на один с могущественными морскими силами соседнего Египта и Византии. В этих условиях государства крестоносцев быстро попадали в зависимость от итальянцев: галеры западных городов давали им защиту. Классический пример торга, который наглядно показывает, что могли предложить итальянцы и чего они хотели взамен, мы имеем в лице так называемого «Пакта Вармунди» (Pactum War-mundi) 1123 года{619}. Это соглашение, заключенное между венецианским дожем, только что завершившим весьма успешную экспедицию против египетского флота, и представителями Иерусалимского королевства (сам король находился в плену). Документ был заключен непосредственно перед нападением крестоносцев на Тир, прибрежный город, остававшийся в руках мусульман. По сути дела венецианцам была предложена четверть всей торговли в любом городе королевства, самостоятельность во всех судебных тяжбах, где они выступали ответчиками, и льготы по налогам и пошлинам. В дополнение они получали третью часть городов Аскалон и Тир после их завоевания, «чтобы владеть ими свободно и полновластно… до скончания веков». По прошествии шести месяцев, благодаря венецианской блокаде, Тир пал.
Предусматривавшееся «Пактом Вармунди» торговое поселение венецианцев в Палестине должно было представлять собой небольшую часть города, где те могли создать себе «Венецию в миниатюре». Им полагалось иметь собственную церковь, улицу, площадь, баню и пекарню; они могли торговать друг с другом, используя венецианские меры. Для урегулирования внутренних тяжб у них был «суд венецианцев». Характерной приметой времени стали такие культурные и правовые анклавы, которые итальянские купцы стремились создавать повсюду, где оказывались. Например, город Акра, в XIII веке — столица Иерусалимского королевства, имел генуэзский, венецианский и пизанский кварталы площадью соответственно 16, 11 и 7 акров{620}. В венецианском квартале была церковь, посвященная покровителю Венеции — св. Марку, фондако (fondaco) — комплекс деловых зданий включая склады, лавки и контору, где заседали венецианские официальные лица, осуществлявшие управление кварталом; дома и магазины, сдававшиеся в аренду, иногда на год, иногда на пассагии (passagium), то есть период, когда в порту стояли венецианские караваны; гавань и набережная. Наконец, весь район был обнесен стеной. Помимо странствующих купцов существовало постоянное население из числа эмигрантов, как, например, упомянутый в одном документе Никола Морозини, чей отец жил на побережье в Триполи, а дед, Пьетро Морозини, в XII веке переселился из Венеции в Святую землю.
Венецианцы, пизанцы и генуэзцы вели торговлю по всему Средиземноморью, независимо от того, кто стоял у власти в том или ином государстве — латиняне, греки или мусульмане. В 1082 году венецианцы создали свой особый квартал в Константинополе, а в следующем столетии их примеру последовали соперники. В 1173 году пизанцы заключили договор с египтянами о создании фондако в Александрии{621}. Со временем эти торговые форпосты итальянских купцов на Средиземноморье превратились в полновесные колонии. Это уже не были привилегированные анклавы в приморских городах под эгидой крестоносных королей, греческих императоров или мусульманских султанов, а автономные территориальные образования, крупные и не очень, привязанные к основным торговым путям. Налицо были все социальные признаки колонии — узкая эмигрантская элита, поддерживавшая тесные связи с метрополией, и многочисленное недовольное население другой этнической группы и иной веры. В этом процессе участвовали все крупные торговые города Запада, как правило — в кровавом соперничестве друг с другом.
Перед Венецией большие возможности для территориальной экспансии открылись в 1204 году. До этого город какое-то время довольствовался влиянием на далматинском побережье. В 1204 году разорившиеся франкские рыцари-крестоносцы были наконец вынуждены реализовать идею, на протяжении ста лет подспудно зревшую в лагерях крестоносцев — штурмовать и захватить Константинополь. Опираясь на поддержку венецианского флота, они обязаны были щедро поделиться с Венецией. Заключенное соглашение предусматривало, что венецианцы получат три четверти добычи, право назначить половину членов комиссии для избрания нового императора Латинской империи и три восьмых от завоеванных земель. Отныне дож Венеции носил титул «господина трех четвертей всея Римской империи». Военная и политическая реальность сложилась таким образом, что венецианцы так и не получили обещанного сполна, но территории в Эгейском море к ним отошли, отчасти в качестве прямых доминионов, отчасти — как владения венецианских вассалов.
Крупнейшим из территориальных владений Венеции, приобретенных в результате падения Константинополя, в период, когда равновесие между латинянами и греками удерживалось посредством переговоров и военных действий, был Крит{622}.[16] Потребовалось несколько лет войны против Генуи, прежде чем венецианцы сумели утвердить на острове свое господство, но к 1212 году наконец сломили латинскую оппозицию и приступили к созданию на острове венецианской колонии. Крит был поделен на «шестые доли», каждая из которых была названа в честь одного из шести районов самой Венеции (Каннареджио, Сан Марко, Санта Кроче и т.д.). То был зримый отпечаток географии метрополии на завоеванной земле. На Крит были набраны поселенцы из рыцарей и пехотинцев, и первая группа в количестве 132 рыцарей и 48 пеших воинов прибыла на остров в 1211 году. За ней последовали другие партии переселенцев — в 1222, 1233 и 1252 годах. Была создана латинская церковная иерархия, с архиепископским престолом в Кандии и десятью викарными епархиями, в которых получили престолы венецианцы и другие итальянцы, в том числе множество монашеского сана. В 1264 году Крит можно было описать как «оплот и мощь сегодняшней империи латинян»{623}, и на то были все основания: лишь в 1669 году, после ожесточенной борьбы, венецианцы лишились острова.
Карта 8. Капиталовложения генуэзских торговцев в Средиземном регионе, 1115–1164 (по Баларду 1978)
Самым заклятым соперником Венеции был Лигурийский город Генуя, который уже в X веке начал снаряжать морские экспедиции в западную часть Средиземноморья, а в 958 году получил городские вольности, которые принято считать «древнейшими в Европе»{624}. Как и венецианцы, генуэзцы извлекали выгоду из своей причастности к крестовым походам. В 1098 году Боэмунд Тарентский из Антиохии пожаловал им церковь, рынок, фонтан и тридцать жилых домов{625}. Как явствует из нотариальных документов 1155–1164 годов, генуэзские купцы вели торговлю в Александрии, по Левантийскому побережью, на Сицилии. Их торговые пути простирались также на юг Франции, север Африки и в Константинополь (см. карту 8). В 1147–1149 годах генуэзские корабли участвовали в захвате испанских городов Альмерия и Тортоса у мусульман, а к концу XII века они экспортировали фламандские ткани на Сицилию.{626}
Экспансия генуэзских купцов в Восточное Средиземноморье немедленно привела к конфликту с Венецией. Так, в 1170 году генуэзский торговый квартал в Константинополе был разграблен венецианцами. Казалось бы, триумф венецианцев в четвертом крестовом походе должен привести со временем к полному вытеснению генуэзцев с Эгейского и Черного морей. В сирийском крестовом походе территориальный конфликт в Акре, вошедший в историю под названием Войны св. Саввы, окончился поражением генуэзцев. Поворотный пункт в их судьбе наступил в 1261 году, когда община вступила в союз с византийским императором, который в том же году отвоевал у латинян свою столицу Константинополь. Начался период, когда генуэзцы «не только вытеснили греков из морских перевозок и торговли, но и венецианцев превзошли по богатству и ресурсам»{627}. В последующие пятьдесят лет они заполучили крупное поселение в Пере, напротив Константинополя, и остров Хиос, не считая ряда коммерческих монополий и доступа к черноморской торговле.
Вокруг Черного моря, на окраинах татаро-монгольского мира, генуэзцы основали торговые форпосты и колонии в качестве перевалочных пунктов на торговых путях, ведущих в Китай. Повсюду на этих берегах можно было встретить выходцев из Генуи и ее внутренних районов. Когда Эдуард I Английский в порядке одного из тех невероятных дипломатических обменов, какие имели место во второй половине XIII века, направил своего эмиссара Готфрида де Лэнгли ко двору ильхана Персидского, верный рыцарь отправился через Геную, Константинополь и Трапезунд и лишь затем углубился дальше в материковые районы{628}. В Трапезунде английские посланники купили коня у «генуэзского купца Бенедикта», а сам посол хранил свой багаж в доме Никола Дориа, представителя благородного генуэзского рода, который в то время руководил монетным двором правителя Трапезунда из династии Комнинов.
На северном побережье Черного мора существовали другие генуэзские колонии, в частности, Тана на Азовском море, где примерно в 1360 году стояли церкви, посвященные св. Марку, св. Марии (францисканская), св. Доминику (доминиканская) и св. Якобу, религиозные братства св. Антония и св. Марии, кладбища монахов нищенствующего ордена и других католиков{629}. Именно здесь пожелал быть погребен Андало Бассон, и «чтобы тело его везли четыре верблюда». Едва ли можно найти более яркий пример сохранения религиозных и культурных традиций в чуждой среде, чем в этом случае исполнения погребальных католических обрядов с помощью четырех животных пустыни.
Недалеко от Таны, на южном берегу Крыма, лежала Кафа (нынешняя Феодосия), самая значительная из черноморских колоний Генуи. Генуэзцы заполучили ее в награду за поддержку мятежных византийцев и к 1281 году посадили там своего консула. С того времени и вплоть до 1475 года, если не считать одного непродолжительного перерыва, Кафа играла роль центра черноморской торговли, «еще одной Генуи»{630}, рынка шелка, специй и рабов, крупного узла, куда сходились торговые пути из самых отдаленных районов Старого Света. Нотариальные записи Ламберто ди Самбученто 1289–1290 годов позволяют составить достаточно детальную картину этой колонии в XIII веке. В те времена город, по всей видимости, не был обнесен стеной, имелось лишь какое-то ограждение, за которым находилась бойня. Город делился на «кварталы» (contrade), по образу и подобию самой Генуи, однако свидетельств четкой этнической сегрегации у нас нет. Итальянцы, греки, армяне и сирийцы жили в тесном соседстве. В городе был целый ряд районов-фондако, францисканская церковь, лечебница св. Иоанна и большое здание консульской администрации на главной площади, где консул вершил судебные дела и нотариусы трудились над деловыми бумагами. Из 1600 имен и фамилий, встречающихся в записях Ламберто, почти 600 носят явно выраженный топонимический характер. Три четверти этой группы происходили из городов и деревень Лигурии, главным образом прибрежных, и еще 16 процентов — из бассейна реки По. Большинство этих людей были несемейные, настроенные в конечном итоге на возвращение домой. Примером может служить Буонсиньоре Каффараино, который в 70–80-е годы XIII века, как явствует из сохранившихся документов, занимался торговлей на Майорке и Корсике, в Константинополе и в Причерноморье{631}. Он вел дела с влиятельным родом Дориа и со многими людьми из Сан-Ремо. Этот город, находившийся под юрисдикцией Генуи, по-видимому, и был его родиной. Он покупал и продавал корабли, например, «Святого Франциска», который, как мы узнаем из бумаг той эпохи, фрахтовал на перевозку рыбы из Таны в Константинополь, и имел земельную собственность и временное жилище в Кафе. В Тане сходились торговые пути, которые шли через все Черноморье, в первую очередь его восточную часть, и вели далее в Константинополь и Геную. (См. карту 9.)
После разрушительной осады Кафы татаро-монголами в 1307–1308 годах генуэзцы покинули город, но вскоре отторговали свое возвращение. Магистрат города Генуи, отвечавший за заморские дела, выступил в 1316 году с планом реконструкции Кафы, которая вскоре вновь расцвела. Была возведена и продлена крепостная стена. К 1352 году она имела протяженность более 2 000 футов, а в конце XIV века уже свыше 16 000 футов. Была воздвигнута цитадель с часовой башней. В городе действовали двадцать семь латинских церквей, тринадцать греческих и одна армянская, не считая мечетей и синагоги. В 1322 году Кафа стала центром епархии и обрела плеяду францисканских и доминиканских епископов, среди которых были Конрад Брегенский (1358–1376) и Иероним Генуэзский (ок. 1404 г.). Епархия просуществовала вплоть до ее подчинения Османской империи. Сохранился документ 1386 года, в котором называется свыше тысячи латинян-жителей Кафы. Самой крупной статьей торговли являлись рабы, их продавалось порядка полутора тысяч в год, они вывозились в города Италии, Испании или Египта, находившегося под властью мамлюков. Однако наиболее заметную статью экспорта из Кафы, скорее всего, представляла «черная смерть». Именно отсюда на одном из генуэзских кораблей чума была завезена в Западную Европу в 1347 году. Такова была «Кафа, генуэзский город на одной из окраин Европы»{632}.
Карта 9. Генуэзская торговля на Черном море, 1290 (по Баларду 1978)
Модель, по которой происходило становление и развитие итальянских колоний, обнаруживает определенное сходство с колониями Британской империи на рубеже XX века. Это тоже были группы островов и отдаленные форпосты, разбросанные по магистральным торговым путям, соединявшим метрополию с далекими рынками. На самом деле, уже было замечено, что схожим для этих двух колониальных держав была даже протяженность пути до их колоний: «месяц требовался на плавание от Венеции до Кании (Крит) — ровно столько же, сколько уходило на путешествие из Лондона в Бомбей; путь из Венеции в Константинополь равнялся плаванию из Лондона в Гонконг и составлял семь-восемь недель; и около трех месяцев отделяли Венецию от Трапезунда или Таны — точно так же, как Лондон от Новой Зеландии». Конечно, в эпоху паровых судов масштабы этих плаваний были намного больше, нежели во времена галер, но общая схема географических взаимоотношений между метрополией и островами оставалась той же. Продолжительность пути из Италии на Восток определялась особенностями навигации того времени, тяготевшей к береговой линии, с частыми заходами в порты. Это означало, что круговое плавание по Черному морю могло растянуться месяцев на девять, особенно если учесть, что в зимнее время навигация, как правило, прекращалась вовсе. И только после появления в XIV веке большой галеры стало возможно делать два похода на Восток за навигацию{633}.
Итальянские суда, в эпоху Высокого Средневековья главенствовавшие на Средиземном и Черном море, были двух основных типов. Первый — так называемый «круглый корабль» с небольшой осадкой и скругленнымм килем, придававшим ему фактически полукруглые очертания. «Круглое судно» передвигалось силой ветра, было оснащено треугольным (латинским) парусом и направлялось рулевыми веслами на корме. Среди этих судов встречались очень крупные, двух- и трехпалубные, с двумя или тремя мачтами, что в XIII веке уже не являлось редкостью. Второй крупной разновидностью морского торгового транспорта той эпохи была галера. Она приводилась в движение двумя способами — посредством паруса и весел, а следовательно, имела гораздо более низкую по сравнению с «круглым судном» осадку. Весла были незаменимы при входе и выходе из гавани либо плавании вблизи берега, однако долго заменять собою парус они не могли.
Главенствующее положение итальянского флота на Средиземноморье в эпоху Высокого Средневековья подтверждается не только его монополией на транссредиземноморские пути, соединявшие латинский Запад с восточным и южным побережьем, но также его участием в перевозках мусульманских паломников между северо-западом Африки и Египтом. Без превосходства западноевропейцев на море было бы невозможно создание колониальных форпостов и бастионов, происходившее на протяжении XI–XIII веков. Морское господство вновь и вновь обеспечивало поддержку предприятиям крестоносцев, а подчас спасало их от фиаско. Самому Саладину приписывается такое высказывание: «До тех пор, пока ситуация на море остается в пользу противника… наша страна будет томиться в их руках»{634}. Точно так же осознавали свое спасение и жители узкой прибрежной полосы, какую представляло собой в XIII веке Иерусалимское королевство:
«Город, называемый ныне Акра… является прибежищем христиан в Святой земле благодаря омывающему его с запада морю, по которому прибывают корабли, полные людей, еды и оружия. Те, кто там живет, получают от островов, стоящих в море, большое подспорье»{635}.
Даже в последние, отчаянные дни государств крестоносцев в Леванте какой-нибудь морской форт христиан был в силах остановить продвижение мусульман, поскольку у тех «не было флота, достаточно сильного для того, чтобы отсечь пути снабжения форта и оставить его в изоляции»{636}, в 1291 году последние из христиан сумели покинуть осажденную Акру морем: подобно вертолетной авиации нашего времени, превосходство на море в XIII веке послужило для них спасением в абсолютно безнадежной ситуации.
Наибольшей активностью итальянская торговля, пиратские вылазки и создание новых поселений характеризовались в восточной части Средиземноморья. Именно здесь произведенные в Евразии товары поступали в европейскую торговую систему. Свою роль, однако, играло и западное Средиземноморье. Итальянцы приезжали и осваивали большие острова, крупные города Северной Африки, небольшие прибрежные города Пиренейского полуострова. Со временем они вышли за пределы Средиземноморья. Первое зафиксированное в письменных источниках плавание генуэзских кораблей через Атлантику в порты Северной Европы относится к 1277–1278 годам. Венецианцы последовали их примеру лишь в начале XIV века, но после 1325 года их караваны ежегодно проходили через проливы Гибралтара. Едва ли этот маршрут представлял собой какую-то особую ценность в коммерческом отношении, но он важен с точки зрения развития экспансионистских проектов итальянских купцов и понимания того, как их деятельность объединяла совершенно несхожие и далекие друг от друга регионы. Генуэзский купец Антонио ди Негро, сетовавший в 1317 году, что его груз соли оказался захвачен пиратами между Саутгемптоном и Ньюкаслом, принадлежал к богатому купеческому роду, представителей которого можно было встретить и в морских городах Восточного Средиземноморья, и на Черном море{637}. По возвращении в родную Лигурию эти купцы, возможно, обменивались информацией об условиях торговли, сравнивали политическое устройство и природные ресурсы Англии, Греции и Крыма. Итальянцы не только поддерживали систему обращения товаров и капитала, но и наладили своего рода информационный обмен. Радикальное расширение их горизонтов в XI–XIV веках превратило латинское христианство в интегрированную систему с развитой и разветвленной сетью внутренних связей, чего прежде Европа не знала.
Деятельность немецких купцов
В XI веке, одновременно с выходом итальянских купцов и моряков за пределы Средиземного моря, на северных морях началась бурная активизация немецкого купечества. Уже около 1000 года немцы посещали с торговыми целями Лондон, а в последующие столетия их активность все более ширилась в западном направлении, так что в Лондоне и Брюгге они даже создали постоянные оптовые склады. Вместе с тем в наиболее новаторском плане их роль проявилась на востоке, куда немцы попадали по Балтике. Решающим шагом в этой торговой экспансии стало основание в 1159 году Любека в качестве немецких «ворот» на Балтике{638}. Старый Любек, укрепленная столица славянских царей Абодритов, со своей церковью, кварталом ремесленников и «значительной колонией купцов», в начале XII века достиг расцвета, но в 1138 году оказался захвачен враждебными славянскими племенами. Спустя всего несколько лет, в 1143 году, в ходе немецкой оккупации восточного Гольштейна, граф Адольф
«пришел на место, называемое Буку, и нашел там вал оставленной крепости… и очень большой остров, окруженный двумя реками. С одной стороны течет Траве, с другой — Вакениц, и у каждой реки болотистый и непроходимый берег. Однако с той стороны, где идет дорога, есть небольшой холм, на котором и стоит крепость. Поэтому, когда прозорливый граф увидел преимущества этого местоположения и удобную гавань, он начал строить там город и назвал его Любек, по скольку это место было недалеко от старого порта и города, который некогда воздвиг еще князь Генрих».
Археологи обнаружили несколько ранних зачатков поселений на острове, который фактически образует сердце Любека: одно поселение находилось вокруг старинной славянской крепости в северной части острова, другое — возле гавани на реке Траве, а третье — на южной оконечности острова, где впоследствии был возведен собор. Новый город графа Адольфа вобрал в себя эти поселения и почти сразу стал стремительно развиваться и процветать: «мир царил в земле вагрийской, и милостью Божьей новое поселение постепенно развивалось. Рынок в Любеке также рос день ото дня, и число купеческих судов все возрастало». Однако, несмотря на стремительное развитие торговли, по-прежнему ощущалась угроза безопасности Любека. В первую очередь она исходила от набегов славян, наподобие тех, что имели место во время так называемого «крестового похода против славян» 1147 года, разрушительных пожаров и — что было опаснее пожаров — враждебности со стороны Саксонского герцога Генриха Льва, жаждавшего заполучить многообещающий город себе, а при каждой новой неудаче объявлявшего Любеку эмбарго и устраивавшего в пику ему конкурирующий рынок выше по течению. В конце концов граф Адольф был вынужден уступить, и Генрих Лев завладел городом:
«Немедленно после сделки купцы с радостью возвратились в город и… принялись восстанавливать церкви и стены города. Герцог разослал гонцов по городам и королевствам севера, в Данию, Швецию, Норвегию и Русь, с предложением мира, с тем чтобы они имели свободный доступ в его город Любек. Еще он распорядился насчет монетного двора и податей, а также самых почетных гражданских прав (iura civitatis honestissima). С тех пор дела города процветали, а число его жителей множилось»{639}.
Это было в 1159 году. На следующий год город стал центром епархии, туда был переведен епископский престол из старинного славянского города Ольденбург. Епископальная церковь была освящена в 1163 году, а в 1173 году начал свою историю двухбашенный собор в романском стиле. Одновременно «самые почетные гражданские права» — по-видимому, по образу и подобию города Зёст в Вестфалии — получили оформление в виде кодекса законов, которому суждено было стать господствующим в Прибалтике{640}.
Из этого нового города во всех направлениях шло развитие оживленной торговли. В 1161 году германцы были в Готланде — великом балтийском пакгаузе, а четырьмя годами позже появилось упоминание о вестфалийских купцах, ведущих торговлю в Дании и на Руси. Они стали регулярно бывать в Прибалтике, торгуя в устье Двины солью и тканями и добираясь до Новгорода. К 1300 году торговля с Русью была уже обычным делом{641} (см. карту 10). Германские купцы, которые в XII–XIII веках стали господствовать на Балтике, совершали плавания на судах, именуемых когами. Ког был идеальным транспортным средством для перевозки оптовых партий товара, хотя и не отличался внешним изяществом и маневренностью длинных драккаров викингов. Ког был большим судном — существует даже версия, что большой ког Высокого Средневековья появился в результате надстройки одного корабля поверх другого. В 1960-х годах на дне реки Везер, недалеко от Бремена, был обнаружен такой корабль. Его подняли со дна и восстановили (см. рис. 8){642}. Он имел длину 76 футов, максимальную ширину — 25 футов и поднимался над килем почти на 14 футов. Ког был построен из дубовых досок шириной по 2 фута и толщиной 2 дюйма, имел плоское днище, прямой киль и квадратный парус. Доски были сколочены 3 тысячами гвоздей и проконопачены мхом, который крепился 8 тысячами железных скоб. Такое судно могло перевозить груз весом 80 тонн. В 1368 году гавань Любека принимала в год почти 700 таких кораблей, многие из которых совершали по несколько плаваний в сезон{643}. Среди них должно было быть много крупных торговых когов именно такого типа, как найденный в Бремене. Это был инструмент, которым немецкие купцы осуществляли свою экспансию.
Карта 10. Германская торговля на Балтике и на Руси в XIII в.
Если итальянские купцы на Средиземноморье ходили на своих судах вдоль берегов с уже развитой сетью городов, насчитывавших в ряде случаев тысячелетнюю историю, и лишь основывали в таких городах свои кварталы, то немцы, оказавшись в Восточной Прибалтике, обнаружили там обратную картину. Здесь города еще не получили широкого распространения. Здесь, вдоль своих торговых путей, они заложили города по образу и подобию Любека или Зёста — как с точки зрения топографии, так и в правовом смысле. Это были города колониальные — в средневековом значении слова «колония», то есть скорее новые поселения, нежели политически зависимые территории.
Хорошим примером может служить Рига. Приход первых немецких купцов в устье Двины описывается в летописи прибл. 1290 года под названием «Лифляндская хроника» в XIII веке (Livlandische Reimchronik). Этому источнику, более позднему и не лишенному украшательств, нельзя, однако, отказать в достоверности. (Речь о нем уже шла в Главе 4.) «Купцы, известные своим выдающимся богатством и благородством, решив снискать еще большей прибыли, подобно многим другим», прибывали в эти места и сталкивались первоначально с враждебной реакцией со стороны местных язычни-ковливонцев. «У них был богатый запас товара, который они продали здесь немного выгоднее, чем в других местах, и сердце их возрадовалось. Язычники предложили заключить мир и чтобы купцы приходили снова». Мир был подкреплен клятвой и ритуальным возлиянием, и купцы в самом деле вернулись и были приняты «как желанные гости». Они проникли в глубь материка, «где жило множество язычников, с которыми они стали торговать и оставались там так долго, что, с разрешения местных, построили себе укрепленное жилье на холме близ Двины»{644}. Это был Укскюлл, первый центр католической епархии в Ливонии.
Однако место было крайне уязвимо для набегов язычников, и кроме того, не самое удачное с точки зрения приема больших немецких когов. Альберт, третий по счету епископ Ливонский и бывший каноник торгового города Бремен, решил основать новый город, который одновременно выполнял бы функцию епископского престола и естественным образом притягивал купцов из Любека и Готланда. Место было выбрано в 1200 году, а на следующее лето «был построен город Рига в широком поле, выходившем к удобной бухте для обустройства гавани»{645}. Вскоре город был обнесен стеной, в нем появились церковные здания, в том числе штаб-квартира нового крестоносного военного братства, Ордена меченосцев, и предположительно — купеческие здания{646}. В документе 1209 года наряду с кафедральным собором упоминается уже и вторая церковь, посвященная св. Петру. За городской стеной в собственном селении жила местная коммуна. В 1211 году купцы, торговавшие в самой Риге и за ее пределами и поначалу жившие в городе лишь временно, получили от епископа Альберта особые льготы: они были освобождены от дорожной пошлины и от «Божьего суда» (ордалий), получили гарантии от разграбления на случай крушения, гарантии от односторонних финансовых притязаний епископа и от выплаты вергельда (компенсации за убийство свободного человека). Примечательно, что преступления, совершенные купцами, подлежали суду по законам их родного города, и им было запрещено создавать «общую гильдию». Позднее эти правила были сведены воедино в так называемом «Законе Готланда», то есть кодексе немецких купцов, в Висбю, главном городе Готланда. В 1255 году граждане получили возможность дополнять этот кодекс правом назначения собственного судьи{647}. В том же году город уже имел свою печать. На ней было изображение городской стены, креста и двух ключей (по всей видимости — св. Петра), а текст гласил: «Печать горожан, проживающих в Риге»{648}. В начале следующего года появилось первое письменное упоминание городского совета — консулов Риги (consules Rigenses){649}. Цитадель епископа и рыцарей-крестоносцев одновременно являлась и торговой коммуной, обладавшей правом самоуправления. В тот же период, и главным образом — после разрушительного пожара 1215 года, Рига была отстроена заново и расширила свои границы. Город отныне занимал всю территорию от Двины до речки Риге (см. карту 11). К 1230 году численность населения, благодаря притоку иммигрантов из Вестфалии и других областей Саксонии, достигла 2 или 3 тысяч человек{650}. Топонимический характер фамилий XIV–XV веков позволяет делать вывод, что рижские бюргеры — выходцы из Северной Германии, главным образом Вестфалии — составляли почти пятую часть общего числа жителей, если судить по их фамилиям{651}.
Карта 11. План г. Риги первой трети XIII века (по Беннинховену 1961)
Следовательно, к 30-м годам XIII века, то есть спустя поколение после основания Риги в чистом поле, этот город, с увенчанными башнями стенами, выступающими силуэтами собора св. Марии и церквей св. Петра и св. Иакова, стоящими у берега под погрузкой и разгрузкой тяжелыми когами, звуками нижненемецкой речи на улицах, на первый взгляд был типичным северонемецким торговым городом. И во многих отношениях первое впечатление было бы справедливым. Тем не менее всего в нескольких днях пути от этого города жили язычники, которые охотно принесли бы любого христианина в жертву своим богам. Этот город был центром крупной миссионерской епархии и штаб-квартирой военного ордена, посвятившего себя священной войне. Фактически каждый год здесь высаживались на берег новые группы крестоносцев. Таким образом, Рига все же была типично колониальным, миссионерским городом, или, если выразиться иначе, «городом Божьим»{652}.
Особенность Риги заключалась в ее местоположении на дальних торговых путях, напротив Висбю и Любека, а по реке — в досягаемости не только от своих сельских окрестностей, но и от русских центров. Крупные поморские города являлись богатыми космополитическими центрами, связывавшими в единое целое дальние уголки северных и южных морей, так что известиями из Лондона и Риги, Валенсии и Трапезунда люди могли обмениваться и сопоставлять услышанное. Единство средневекового Запада отчасти строилось на единстве купеческом.
8. МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ НА ГРАНИЦАХ ЛАТИНСКОЙ ЕВРОПЫ.
1) ЯЗЫК И ПРАВО
«Их следует судить по обычаю их народа и судом арбитра, избранного среди них самих»{653}.
Завоевание и колонизация привели к формированию на границах католического мира обществ, в которых жили бок о бок представители разных этнических групп, и повсюду в приграничных районах латинской Европы одной из центральных проблем были межнациональные отношения. Прежде всего надо подчеркнуть, что вопрос принадлежности к той или иной национальности в Средние века лежал в плоскости не биологической (как следовало бы из соответствующей лексики: gens, natio, кровь, племя и т.п.), а прежде всего культурной. Если взять классическую средневековую формулировку этнической принадлежности, данную канонистом Регино Прюмским примерно в 900 году, то мы увидим, что он предлагает для классификации этнических различий четыре критерия. «Разные нации, — пишет он, — отличаются друг от друга происхождением, нравами, языком и законом» (diversae nationes populomm inter se discrepant genere, moribus, lingua, legibus){654}. Первый из его критериев — «происхождение» — лежит в основе современных расистских теорий. Наиболее оголтелые расистские учения XX века либо основываются на внешних (как в первом случае) признаках различий — как цветной расизм в США, либо, в отсутствии явных внешних признаков, на невидимых биологических несовпадениях — как нацистский антисемитизм. В Средние века расизм такого рода встречался относительно редко. В этом смысле более важное значение приобретают другие обозначенные Регино критерии — «нравы, язык и закон». Именно они становятся главными признаками этнической принадлежности. В отличие от происхождения, эти признаки имеют одну общую особенность — они изменчивы. В самом деле, в разной степени они могут меняться не только от поколения к поколению, но и на протяжении жизни одного человека. Человек может овладеть новыми языками, оказаться в условиях иной системы права, приобщиться к новой культуре. Таким образом, в каком-то смысле этническая принадлежность в условиях Средневековья была скорее порождением социальным, нежели биологической данностью. Если, скажем, дать определение «немцу» или «славянину» исходя не из происхождения, а из нравов, языка и юстиции, то внуками славян могли быть немцы, а внуками немцев — славяне.
Когда мы рассматриваем межэтнические отношения в средневековой Европе, то ведем речь о контактах различных в языковом и культурном отношении групп, а не разных по крови народов.
Термин «нравы, или обычаи» (mores) касался одежды, домашних устоев, привычек в еде, причесок и массы других повседневных особенностей, которые отличали одних людей от других. Порой это своеобразие имело решающее значение для различения этнических групп. В Ирландии, например, английские правители законодательно выступили против ирландских причесок: «вырождающиеся англичане нашего времени, которые носят ирландскую одежду, выбривают до половины головы, а сзади оставляют длинный хвост… беря пример с ирландских одежд и внешности»{655}. В ответ ирландцы лишь укрепились в своем отношении к национальной прическе как одному из способов самоидентификации, и в одной ирландской поэме XVI века критиковались «вы, кто следует примеру англичан и коротко стрижет свои курчавые волосы». Примечательно: чтобы показать свою принадлежность к другой нации, достаточно было перенять соответствующую прическу. В начале XII века язычники-славяне скальпировали поверженных немцев, после чего «маскировались с помощью их скальпов и вторгались в христианские земли, выдавая себя за христиан». Аналогичным образом мусульмане в 1190 году, пытаясь просочиться через блокаду Акры, сбрили бороды (а также обрядились в франкские одежды и выставили на палубу свиней).
ЯЗЫК
В определении национальной принадлежности особенно важное значение принадлежит языку. Средневековое духовенство и ученые, с их библейской верой в общее происхождение всего человечества и теорией первоначального единства языка, считали естественным вести отсчет национальным различиям от «вавилонского столпотворения». «Разные народы появились из-за различий в языке, а не языки появились у разных народов», — так сформулировал это средневековый педагог Исидор Севильский{656}. Еще более ясно эта точка зрения высказана другим латинским автором: «язык формирует расу» (gentem lingua facit){657}. Было признано значение языковой общности. Как писал хронист XIV века, «тех, кто говорит на одном языке, объединяют тесные узы любви»{658}. Эти «узы любви», как мы увидим, зачастую обратной своей стороной имели горячую ненависть к тем, кто говорил на чужом языке, ибо, как и сегодня, «войны и всевозможные несчастья проистекают из различий в языке»{659}.
Из проникших в литературные и официальные тексты Высокого Средневековья диалектизмов можно составить представление о тех крупных пространствах на территории Европы, которые характеризовались относительно высокой степенью языковой и культурной однородности с преобладанием в каком-то смысле стандартных языков: примером служит английский в Англии, лангедойль и лангедок соответственно на север и на юг от Луары, нижненемецкий на севере Германии, верхненемецкий — на юге. Естественно, существовали вариации в диалектах и примеры частичного наложения языков, но все же можно отчетливо проследить различия между этими ключевыми областями и завоеванной и заселенной периферией, где повсеместным явлением было смешение и взаимопроникновение языков и культуры. Конечно, в центральных областях наблюдалось взаимное приспособление и интеграция языков разных народов, но на окраинах имел место более выраженный языковой плюрализм, определявшийся и национальными, и классовыми различиями. То языковое разнообразие, которое подчас могло наблюдаться в пределах зоны распространения одного языка, скажем, верхненемецкого или лангедока, чаще всего принимало форму диалектных различий. Средневековый путешественник, проезжая из Трира в Вену или из Беарна в Прованс, легко мог заметить переход от одного диалекта к другому. Полной противоположностью была языковая ситуация в завоеванных и освоенных поселенцами периферийных землях, где внутри одного и того же населенного пункта и даже на одной и той же улице уживались носители совершенно разных языков. Таким образом, взаимодействие языков было типичным и характерным признаком пограничных областей латинской Европы. Здесь никого не удивляли наблюдения такого свойства, что «многие наши люди говорят теперь на улицах на разных языках», как подметил чешский хронист Петр Циттауский{660}. Когда папа Иоанн XXII в 1329 году отлучил от церкви главу францисканского братства Михаила Чезенского, его послания в Кракове были сначала зачитаны на латыни, а затем «растолкованы народу на просторечии, как на польском, так и на немецком, с тем чтобы они были лучше поняты и стали ясны всем»{661}. Двойную принадлежность словно получали реки, горы и населенные пункты. Они начинали именоваться на двух языках: как разъясняет один померанский документ, «это место славяне называют woyces, а немцы — enge water»{662}. Аналогичную лингвистическую трансформацию претерпевали и названия поселений. Например, ирландское поселение Эллах в Мите стало называться Скурлокстаун по имени его новых владельцев из рода Скурлаг (английский суффикс «таун» — town к тому времени стал непременным элементом географических названий в областях восточной и южной Ирландии, подвергшихся колонизации и частичной англиканизации){663}. В Новой Кастилии называвшееся арабским именем поселение Альгарива получило новое, латинское название — Виллафранка{664}.
Для многих слоев общества двуязычие было обычным делом. Уже в X веке Отгон I Германский говорил как на немецком, так и на славянском языке{665}. Во франкской Морее преуспевающие правители владели французским, греческим, а возможно и турецким{666}.
Характерно, что до сих пор ученые спорят о том, на каком языке первоначально была составлена главная летопись франкской Греции — либо на французском с последующим переводом на греческий, либо наоборот. К XIV веку потомки англо-нормандских завоевателей в Ирландии сочиняли стихи по-ирландски{667}. Порой такое двуязычие имело большое практическое значение. В 1085 году на Сицилии граф Роджер, возглавлявший разведывательный поход в Сиракузы, послал сына благородного греческого рода Филиппа следить за мусульманским флотом: «он передвигался на своем корабле среди сарацинских так, словно был одним из них, ибо и он, и все его матросы владели языком неверных, как родным греческим»{668}. Примкнувшие к нормандцам итальянские разбойники тоже пытались выучить французский{669}.
Естественно, что в таком лингвистически пестром обществе исключительно важную роль играли переводчики. Иногда они занимали и официальные посты. Например, в Валенсии существовали официальные переводчики, они носили титул торсимана (torciтапа) — от арабского tarjuman. На границе Уэльса существовала практика земельных пожалований «в уплату за услуги переводчика между англичанами и валлийцами»{670}. Как будет видно дальше, особенно важна была роль переводчика в суде. В некотором смысле области, где сосуществовали разные языки и где получило распространение двуязычие и практика перевода, оказали свое влияние на всю культуру Европы. Например, именно из Испании и Сицилии в латинские университеты пришли многочисленные переводы греческих и арабских научных и философских трудов. Многие положения латинского аристотелизма Фомы Аквинского были выношены в недрах разноликих в этническом отношении обществ Кастилии времен Реконкисты и южной Италии.
Эти двуязычные и многоязычные регионы также представляли собой каналы для взаимных языковых заимствований. Так, именно в поморских областях Балтии поляки переняли от купцов и ремесленников Ганзы элементы нижненемецкого торгового и городского языка. Таким путем в польский язык из немецкого пришли, к примеру, единицы измерения (польское laszt и punt — от немецкого Last — «груз» — и Pfund — «фунт»), морские термины (balast и кода — от Ballast — «балласт» и Kogge — «крупное торговое судно»), названия орудий наказания преступников (praga — от Pranger — «позорный столб»). Аналогичным образом в Уэльсе эпохи Позднего Средневековья английские и французские термины, относящиеся к феодальной и городской жизни — такие, как «барон», «парламент», «бюргер», проникли и в валлийский язык (barwn, parlmant, bwrdais). Эмигранты не только привносили в местное наречие свои слова, но и сами с готовностью заимствовали слова исконного языка, особенно касающиеся местных реалий. Так, на Пиренеях носители романских языков усвоили арабские слова со значением «рис», «ячмень, «сборщик налогов», равно как и обозначения косметических средств, водопроводных труб, диванных подушек, караванов и ядов{671}.
Лингвистическая пестрота пограничных областей нашла отражение и в практике наречения. Процесс взаимовлияния означал, что к XIV веку крестьянин-славянин мог носить имя Бернара или Ричарда, английские переселенцы в Ирландии — ирландские имена, а потомок правителей валлийских горных племен мог скрываться под именем какого-нибудь сэра Томаса де Авена. Еще более наглядным свидетельством языкового и культурного плюрализма приграничных областей являлась практика биноминализма, то есть параллельного существования двух имен{672}. Так, в X веке в дружине Отгона II в походе на Кап-Колон был «рыцарь по имени Генрих, называемый также на языке славян Золутна»{673}. Немецкие и славянские имена одновременно носили несколько славянских князей XII и XIII веков, в частности, правитель Богемии Пржемысл Отгокар I, Пржемысл Отгокар II и Генрих Владислав Моравский. У Пржемысла Огтокара II даже были две печати — одна для использования в областях, говоривших по-чешски, и на ней стояло имя Пржемысл, а другая — для немецких земель, с именем Отгокар{674}. Среди мосарабов Толедо получили распространение двойные романо-арабские имена. «Именем Господа, — начинался один документ 1115 года, — я, Доминико Петрис, называемый так на латинском языке (in latinitate), а по-арабски — Абельфакам Абенбако; а также я, Доминикис, как называюсь я по-романски, и Абельфакам Абенцелема по-арабски…»{675}.
Было бы наивно рисовать культурную ситуацию в приграничных районах только с позиций плюрализма, несхожести или смешения. Разные языки имели неодинаковый статус. Одни были более престижны, в силу политического или экономического превосходства тех, кто на них говорил. Понятно, в частности, что все более широкое распространение получали романо-германские языки, носители которых осуществляли активную экспансию и отвоевывали все новые территории, тогда как кельтские, славянские, балтийские и арабские языки и наречия постепенно отступали. Этот характерный для Средневековья процесс непрестанно отражался на лингвистической карте Европы. Языковая экспансия имела отчетливый колониальный оттенок: немецкий язык в Ливонии или французский в Сирии были языками завоевателей, что само по себе могло ставить в привилегированное положение тех, кто ими владел. Однако процесс этот протекал непросто. Местные наречия оказывали сопротивление и могли возрождаться. Языковые изменения не были односторонним процессом, и противостояние языков имело подчас самые разные последствия.
Новый всплеск национализма на почве языка или роста политизированного языкового самосознания имел место в Позднем Средневековье. Показателем появившегося в тот период отождествления понятий «язык» и «народ» может служить частое употребление первого из этих двух слов в таком контекте, где оно явно обозначает второе{676}. Западнославянское слово «язык» (jazyk) одновременно означало и язык, и народ и когда чешский автор-националист XIV века Далимил использует термин jazyk cesky, не всегда можно установить, какое из двух значений в данном конкретном случае превалирует{677}. В немецком переводе труда Далимила использовано слово zung, то есть «язык», и характерно, что оно тоже имеет эти два значения. Похожим образом валлийское слово iaith со значением «язык» применялось в то время в гораздо более широком смысле, нежели только лингвистическом{678}. Показательно, что валлийское обозначение «тех, кто не говорит по-валлийски»{679}, фактически было синонимом слову «чужак». Такую же полисемию имеет слово lingua в латинских документах. Поэтому, когда граждане Корка пишут о Hybemica lingua как о врагах короля, то речь просто-напросто идет об «ирландском народе»{680}. Госпитальеры в Леванте делились на группы, называемые tongues («языки») в соответствии со своим происхождением, то есть тем западноевропейским языком, который был для них родным{681}. Во всех приведенных примерах полисемия говорит об одном явлении принципиального значения: грань между этнической и языковой принадлежностью все больше размывалась.
Осознание своей принадлежности к определенному языковому сообществу могло стать основанием не только для дружеского расположения, но и для политических претензий. Когда в 1278 году Пржемысл Оттокар II Богемский обратился к полякам за поддержкой в момент кризиса власти, он (а точнее, его нотарий-итальянец) апеллировал к родству чехов и поляков, мотивируя территориальной близостью, узами крови и тем, что «польская нация родственна нам по языку»{682}. Аналогичное языковое родство еще раз послужило политическим целям в 1300 году, когда преемник Оттокара Венцеслав II получил предложение занять польский престол. Польские посланники заявили: «У нас и у чехов будет один король, и мы будем жить в мире по общему закону. Ибо справедливо, когда те, кто говорят на похожем языке, живут под властью одного государя»{683}. Польские притязания на Померелию, вспыхнувшие в знак сопротивления Тевтонским рыцарям, подкреплялись тем аргументом, что «в Польше и в Померелии один и тот же язык, и все, кто там постоянно живут, говорят по-польски»{684}. Приблизительно в то же время, в 1315–1318 годах, только в тысяче миль на запад, вторжение Роберта Брюса в Ирландию также мотивировалось, в частности, языковым родством. Планируя свой поход, король Роберт написал ирландцам письмо, начинавшееся словами: «Поелику и мы и вы, и наш, и ваш народ с древних времен живем свободно, имеем общие национальные корни, то наш общий язык и общие нравы побуждают нас к объединению в радости и дружбе…»{685}. В оправдание своего признания Эдуарда Брюса королем в грамоте 1317–1318 года Донал О'Нил сообщал папе Иоанну XXII, что «короли малой Скоттии [Шотландии] все ведут происхождение от нашей большой Скоттии [Ирландии] и сохраняют до некоторой степени наш язык и нравы»{686}.
Противовесом этих агрессивных притязаний, в пропагандистских целях использовавших аргумент языкового родства, стали распространенные в Позднем Средневековье утверждения, что враг вознамерился уничтожить национальный язык. Такого рода обвинения звучали не только на границах католической Европы. В 1295 году, когда Эдуард I Английский пытался заручиться поддержкой в своей борьбе с Филиппом IV Французским, он обвинил французского монарха в том, что тот намеревается вторгнуться в Англию и «стереть с лица земли английский язык»{687}. Эти обвинения, однако, в большой степени походили на слухи, которые были совершенно естественны для приграничного, этнически неоднородного государства. Если верить одному польскому хронисту, Тевтонские рыцари намеревались «истребить польский язык» (ydyoma Polonicum){688}. И такого рода обвинения не были плодом больного воображения, ибо попытки насильственного насаждения языка имели место. Помимо правил, регламентирующих употребление того или иного языка в судопроизводстве (о чем речь пойдет ниже), предпринимались и другие попытки общего характера, направленные на упорядочение лингвистической практики. Например, в 1495 году епископ Вроцлавский Иоанн IV распорядился, чтобы жители его деревни Войчице (Woitz) за пять лет овладели немецким языком под угрозой выселения{689}. Более систематический и настойчивый характер носили правила, которые насаждали в отношении ирландского языка колониальные английские власти и переселенцы. С одной стороны, они неоднократно в законодательном порядке запрещали эмигрантам использовать местный язык. «Мы повелеваем, — сказано в одном эдикте Эдуарда III от 1359–1360 года, — чтобы ни один человек английского происхождения не должен был говорить с другим англичанином на ирландском языке»{690}. Зато делались попытки обратного свойства — насаждения среди местного населения английского языка. В 80-е годы XIV века английские эмиссары пытались побудить папу римского издать распоряжение в адрес прелатов Ирландии, предписывающее им «заставить своих подданых изучать английский язык»{691}. Попытки насаждения этих порядков действительно предпринимались. В Уотерфорде некий Вильям Пауэр в 1371 году был заключен в тюрьму «за то, что он не говорит по-английски», и выпущен только после того, как нашел поручителей, что он этот язык выучит{692}. В XV веке в том же городе подмастерья получали городские свободы только в том случае, если они были «англичане по происхождению, нравам и языку»{693}. Однако такие ограничения были редки и, как нетрудно предположить, малоэффективны. Законодательное регулирование в сфере культуры, даже в современном государстве, неизбежно встречает сильный отпор. В условиях Средневековья, скорее всего, насильно сделать это было бы невозможно. Безусловно, определенные изменения в сфере языка происходили, но они становились следствием массовой миграции населения и культурной адаптации, но не административных предписаний.
Самым крайним проявлением языковых изменений является полное исчезновение того или иного языка. Те языки, которые бытовали больше на селе и среди простонародья, нежели в городе и в высших слоях общества, которые не употреблялись в письменном виде в документах и литературе, могли стать малоупотребительными и со временем отмереть. Таких примеров, имевших место на окраинах латинского христианского мира, можно привести несколько. Например, прусский — язык балтийской группы, родственный литовскому и латышскому, на котором говорило коренное население Пруссии, к XVII веку совершенно вымер, оказавшись поглощен немецким, на котором говорили эмигранты и правители. После Реформации предпринимались попытки издавать на прусском языке простые церковные тексты, но это было слишком мало и слишком поздно. Надпись на обложке одного сохранившегося текста на прусском языке гласит: «Этот старый прусский язык полностью исчез. В 1677 году умер последний носитель этого языка, старик, который жил на Куршской косе»{694}. Таким образом, едва успев оказаться в списке языков, имеющих письменность, прусский тут же попал в число мертвых. Вендский, или сорбский — славянский язык лужицких сербов, населявших область к западу от Одера, также вымер в Позднем Средневековье. И только в Лаузитце лужицкие сербы, или венды, сохранились по сей день (сейчас они имеют особый статус и свои учебные заведения для изучения лужицкой словесности). Во всех других областях различные ветви вендского языка медленно отмерли. В 1725 году один полабский владелец постоялого двора и хутора Иоханнес Парум Шульце, живший в так называемой Ганноверской Вендландии в окрестностях Люшова и Данненберга, писал: «Я человек сорока семи лет от роду. Когда умру я и еще три человека из нашей деревни, не останется никого, кто бы знал, как по-сорбски будет “собака”»{695}.
В Испании под триумфальным натиском романских языков отступил арабский{696}. График рис. 3, на котором отмечены сохранившиеся письменные источники Толедо, созданные на протяжении 140 лет после христианского завоевания 1085 года, показывает, что в первые сто лет правления христиан арабский в документах использовался чаще латинского или романских языков, а в конце
XII века арабский по сути дела стал даже еще более употребительным в официальных бумагах. Возможно, это произошло вследствие притока мосарабов из мусульманской Испании, вынужденных бежать от теократического режима Альмохадов. Однако в начале XIII века происходят ощутимые сдвиги, когда латинские и романские документы впервые начинают встречаться чаще арабских (131 против 111 за период 1201–1225 гг.). Эта тенденция нарастала стремительно. К 90-м годам XIII века мы имеем в среднем только два арабоязычных документа в год и это при том, что суммарно количество дошедших до нас источников возрастает. В XIV веке ручеек арабских письменных источников иссякает вовсе. Произошла фундаментальная трансформация в языке.
Рис 3. Арабские и латинские/романские документы Толедо (по книге: Gonzalez 1976, р. 89)
ЮСТИЦИЯ
Этническая принадлежность определялась не только нравами и языком, но и системой права. Принцип «персонифицированного права», когда независимо от области проживания и подчинения конкретному господину или правителю люди руководствовались теми или иными законами, готскими, франкскими или римскими, по принципу этнической принадлежности, был характерен не только для Раннего Средневековья. Он продолжал действовать на протяжении всего Высокого Средневековья и в первую очередь, конечно, в этнически неоднородных регионах. Четко детерминированный правовой статус был одним из способов осознания или формирования этнической самобытности. Когда Собеслав II Чешский в 70-х годах XII века установил в специальной хартии особые права немецких жителей Праги, он мотивировал это обособление рассуждениями такого рода: «Точно так же, как немцы отличаются от чехов по национальности, так же они должны отличаться от чехов и законами своими и обычаями»{697}. На границах Пруссии, Польши и Померании было заведено правило, что «если приезжающие сюда надолго либо проездом подлежат суду за любое преступление либо в связи с заключенным здесь договором, то они должны быть судимы по польскому обычаю, если поляки, и по немецкому обычаю — если немцы, в соответствии с практикой, существующей на земле Пруссии»{698}.
В регионах, где соседствовали разные этнические группы, отправление правосудия было деликатным моментом. В эпоху Высокого Средневековья в большинстве областей латинской Европы существовало по меньшей мере одно этническое меньшинство с обособленным правовым режимом — иудеи{699}. Имелись специальные положения в отношении права иудеев возбуждать иски или давать в суде показания, точно оговаривавшие характер свидетельских показаний, необходимых для доказательства их обвинений либо для осуждения их самих, и форму присяги, которую они должны приносить в суде. Такие порядки не всегда носили дискриминационный характер, но неизменно исходили из разного подхода к представителям разных религиозно-этнических групп. На границах латинского мира, где различные этнические общности повсеместно образовывали не замкнутые меньшинства, а многочисленные группы, можно было встретить еще более выраженный этно-правовой плюрализм. В завоеванных и заселенных регионах наподобие Испании или кельтских областей реальными были опасения, что господствующая этническая группа изменит на свой лад и в свою пользу механизмы правосудия. В королевствах Восточной Европы коренное население опасалось, что находящиеся в привилегированном положении колонисты могут уклоняться от строгих местных законов. И даже тогда, когда в общественном устройстве наблюдалось фактическое равновесие разных этнических групп, в унаследованном ими материальном и процессуальном праве сохранялись ощутимые различия.
Решение этих проблем определялось местными особенностями и конкретными историческими условиями, а значит, несмотря на то важное значение, какое национальный фактор всегда имел для правовых режимов в периферийных районах Европы, конкретная его роль могла быть очень различна. Иногда законы были равны для представителей любой национальности, что было прямо зафиксировано в документах. Так, в хартии, сопровождавшей основание нового города Зальцведеля в 1247 году, владетели города провозглашали: «мы желаем, чтобы кто бы ни пришел жить в этот новый город, будь то немецкие крестьяне или славяне, наши или чьи-либо еще держатели, по всем выдвинутым против них обвинениям являлись и держали ответ перед городским судьей»{700}. В арагонском городе Дароке местные порядки предусматривали, что «христиане, иудеи и мусульмане руководствуются единым законом в делах, касающихся телесных повреждений и исков»{701}. Однако чаще случалось так, что правовая система колоний на окраинах Европы исходила из признания различий между людьми по их национальной принадлежности, а соответственно, строилась с учетом проблемы межнациональных отношений. Иногда общая система судопроизводства и материального права предусматривала в отношении представителей разных национальностей различные процедуры. Так, например, единая юстициарная система, с общей концепцией свидетельских показаний, могла тем не менее лишать некоторых граждан права выступать свидетелями в суде на основании их национальной принадлежности. Примером могли бы служить те версии закона Любека, которые запрещали славянам быть в суде свидетелями по делам, связанным с физическим насилием или нарушением общественного порядка{702}, или существовавшее во французской Морее правило, что «сервы-греки не могут свидетельствовать против вассала по уголовному делу об убийстве или увечьях»{703}. В последнем случае налицо сочетание этнической и социальной дискриминации. С другой стороны, мог иметь место и более широкий дуализм, когда для каждой этнической группы действовала своя система судопроизводства и материального права.
Такой тип юстиции существовал, например, в городе Толедо, отвоеванном у мусульман в 1085 году. После этого Толедо имел самостоятельные правовые режимы в отношении всех трех основных этнических групп христиан, отныне населявших город. Мосарабы, арабоязычные христиане, которые либо жили в Толедо при мусульманах, либо пришли туда из других исламских государств Пиренейского полуострова, в 1101 году получили хартию прав от Альфонса VI Кастильского. Этот документ был адресован «всем мосарабам Толедо». Тот же король жаловал права кастильским переселенцам и франкам, то есть иммигрантам из-за Пиренейского хребта. Правда, эти документы известны только по более поздним ссылкам и ратификациям. Адресовались они «всем кастильцам города Толедо» и «вам, всем франкам Толедо». Таким образом, судебно-правовая жизнь великого города Реконкисты была несомненно отмечена наличием трех этнически четко очерченных групп, каждая из которых имела свой закон{704}.
Поводом для издания Альфонсом VI хартии 1101 года в отношении мосарабов стала прокатившаяся по городу волна имущественных тяжб. Они, повелел монарх, подлежали четкому разрешению в судебной комиссии, в которую входили как мосарабы, так и кастильцы. Значение этого документа, однако, состоит в том, что в нем сформулированы также некоторые положения фундаментального и непреложного характера. Мосарабам гарантировалась их земельная собственность, которая отныне могла свободно отчуждаться; их педитам (pedites), то есть беднякам, служившим в пешем войске, гарантировалась социальная мобильность и освобождение от всех податей кроме королевских. Режим судопроизводства регламентировался двумя статьями, касавшимися судебных исков и прошений. Первая, особенно важная, не оставляет места для двусмысленных толкований: «если между ними возникают судебные разбирательства, дело подлежит рассмотрению в соответствии с древней Книгой Судей»{705}. Речь идет о книге Liber iudiciorum, или Fuero Iuzgo, кодексе законов, датируемом еще временами независимого вестготского королевства в Испании и содержавшем своего рода комбинацию римского и германского права. Довольно необычным здесь является и то обстоятельство, что различия в судопроизводстве в отношении разных этнических групп регламентировались ссылкой на письменный кодекс. Признавая, что законы мосарабов — это законы Книги Судей, Альфонс VI одновременно устанавливал для мосарабов равные с «проживающими в Толедо кастильцами» размеры денежных штрафов, которые надлежало взимать в соответствии с «положениями хартии кастильцев». Судя по всему, льготный порядок взимания штрафов и податей в равной степени распространялся и на романское, и на арабоязычное население, при том, что у последнего был свой, специфический для данной этнической группы кодекс материального и процессуального права.
Три этнических группы христиан в Толедо XII века имели также своих судей. «Вам надлежит иметь мосарабского и кастильского алькальда (судью)», — гласила хартия Сайта Олальи, изданная по образу и подобию хартии Толедо{706}. В документах самого Толедо, относящихся к 70-м годам XII века, упоминаются «алькальд кастильцев» и «алькальд мосарабов»{707}.[17] Первая статья документа Альфонса VII 1136 года, подтверждавшего права франков Толедо, гласила: «Вам надлежит иметь своих merino и saion»{708}, то есть магистрат. Таким образом, разные этнические группы имели отдельные законы, которые к тому же исполнялись отдельными органами юстиции. Уже в XIV веке были зафиксированы на бумаге правила, определявшие порядок разграничения юрисдикции между алькальдами, осуществлявшими исполнение Fuero Iuzgo, и кастильскими алькальдами.
Ни одна из этих этнических групп — ни мосарабы, ни кастильцы и ни франки — не являлись покоренными народами. Все они были христианской веры, хотя духовенство из числа эмигрантов и папские должностные лица могли выражать недовольство по поводу отклонений от канонической церковной практики со стороны мосарабов. Нет никакого сомнения, что между этими тремя группами существовало социальное и экономическое неравенство, и в XIII веке произошла необратимая «кастилианизация» всей культурной жизни{709}. В то же время действовавшая в Толедо в эпоху Реконкисты тройственная система юстиции сама по себе являла собой некую идеальную модель в виде самостоятельных, но равнозначных этнических и правовых общностей. В то же время правовой дуализм или плюрализм мог иметь место и в совершенно иной ситуации, когда этнические группы состояли в отношениях завоевателя и покоренного. Признание правовой самостоятельности завоеванной этнической группы было единственным способом примирить ее с постигшей ее участью. Такими гарантиями первоначально характеризовался правовой статус мудехар, мусульман, оставшихся на Пиренейском полуострове после его завоевания христианами и находившихся в подданстве у христианских королей. Многие мусульманские сообщества в Испании переходили в подданство к христианским королям по соглашению, условия которого, как правило, предусматривали особые законодательные и судебные порядки в отношении этой категории населения. Одним из первых примеров такого документа является хартия, выданная Альфонсом I Арагонским мусульманам Туделы в 1115 году. Соответствующий ее параграф гласил: «В судебных исках и защите они должны руководствоваться решениями своего судьи и заседателей (qadi и alquaciles), как это было заведено во времена мавров»{710}. Неоднократно подчеркивалось, что урегулирование их споров должно осуществляться по исламскому, и ни по какому другому закону (то есть по Сунне){711}. В целом предполагалось, что мусульмане живут среди христиан, сохраняя, по словам Альфонса X Кастильского, «свой собственный закон и не порицая наш»{712}. Аналогичным образом в Уэльсе специальные суды и судьи ведали исполнением валлийского закона в нескольких приграничных графствах. В 1356 году герцог Ланкастерский подтвердил, что валлийцы Кидвелли подлежат суду и наказаниям в виде штрафов в соответствии с законом Гоуэлла Доброго, то есть по исконному закону валлийцев. В рассматриваемом документе признавались даже наследные права незаконнорожденных детей, которые на протяжении уже двух столетий английские короли и отцы церкви осуждали и отвергали{713}. В Кидвелли, как и в других графствах, параллельно существовали английская и валлийская судебные системы; в Денбиге и Дифрине Клуиде валлийские судьи получали от феодала годовое жалование{714}. Такой параллелизм был характерен и для положения эмигрантского меньшинства в Восточной Европе. Немцы в Праге XII века и в Венгрии XIII века гарантированно имели собственного судью. Например, в 1244 году венгерский король Бела IV повелел, что немцы, проживающие в Карпфене (нынешняя Крупина в Словакии), «не обязаны представать перед любым другим судьей кроме своего»{715}.
Из наличия двух или нескольких отдельных судебных систем немедленно возникала проблема отправления правосудия в случаях, когда дело касалось представителей разных этнических групп. В ранний период Реконкисты, если судить по хартиям привилегий, жалованным мусульманам, эта проблема чаще всего решалась таким образом, что христианская сторона, участвующая в процессе, подлежала суду христианского судьи, а мусульманская — мусульманского. «Если мавр подает в суд на христианина или христианин на мавра, — провозглашал Альфонс I в своей хартии в отношении Туделы, — то судья мавров должен будет судить их по закону ислама (Сунне), а судья христиан будет судить христиан по их закону»{716}. Такие права христианские короли и другие правители Иберии предоставляли мусульманским общинам очень часто. «Если возбуждается дело между христианином и сарацином, то сарацина должен судить амин (amin), а христианина — судья христиан», — гласила хартия, изданная магистром Ордена госпитальеров в Арагоне в 1258 году{717}. В ней слово в слово повторяются положения хартии Альфонса I полуторавековой давности. Как на практике работало это правило, сказать трудно, и можно представить, выражаясь словами историка Фернандес-и-Гонсалеса, какие большие сложности практического плана оно порождало{718}. В Пруссии, где правители территорий, например, Тевтонские рыцари или епископы, часто сохраняли свою юрисдикцию над местным населением, смешанные судебные дела иногда слушались в той же инстанции, что и дела коренного населения, хотя известны случаи, когда они рассматривались и местным городским судом{719}.
Другим вариантом было предоставить судебные привилегии ответчику. Например, для мусульман Хатибы даже более благоприятным, нежели просто автономия в делах правосудия, стало предоставленное им Хайме I Арагонским право, сформулированное следующим образом: «Ежели христианин возбудит тяжбу против сарацина, то он получит от вашего сальмедина (“сагиб аль-мадина”, то есть магистрата) полное исполнение правосудия в соответствии с законом сарацинов»{720}. В Праге среди особых привилегий немецкого населения было правило, по которому дела, где ответчиком выступает немец, должны были рассматриваться немецким судом{721}. Соблюдать этот канонический принцип римского права предписывала и хартия нового города Кракова, основанного в 1257 году немецкими бюргерами:
«Поскольку справедливо, что истец должен обращаться в суд ответчика (actor forum rei sequi debeat), мы повелеваем, что в случае, если гражданин означенного города обращается в епархию Кракова с иском против поляка, то дело должно рассматриваться польским судьей; и на против, если поляк вносит иск против горожанина, то слушать дело и выносить по нему решение надлежит [городским] поверенным»{722}.
На самом деле, не так существенно, означала ли та или иная система юстиции действие параллельных законов и судебных процедур или же определенные положения просто фиксировались в интересах конкретной этнической группы, как то, чьи показания в суде принимались в качестве свидетельств. Разные этнические группы подчас жили в атмосфере хронического взаимного недоверия. Красноречивым в этом плане является положение документа герцога Собеслава, касающегося привилегий немецких поселенцев в Праге: немцы должны были нести ответственность за фальшивые монеты, найденные в их сундуках, но не в случае обнаружения таких денег в любом другом месте дома или двора, «поскольку злые и коварные люди могут подбрасывать такие вещи во дворы и дома»{723}. Подобные опасения оказаться подставленным достигали высшей точки при слушании дела в суде, и именно в этом контексте следует рассматривать предоставляемые феодалами гарантии, а в ряде случаев традиционную практику, отказа от судебного преследования или осуждения лиц, обвинение против которых строится исключительно на свидетельских показаниях представителей другой этнической группы. Ниже в качестве примера приводится фрагмент из «Саксонского Зерцала», краткого кодекса саксонских законов, составленного в 1220 году:
«Когда какой-либо суд вершится всей властью королевского банна (Bann), то слуги закона и судьи… должны выносить справедливое решение независимо от того, будь то немец или венд, серф или свободный человек… Если же суд вершится не властью банна, то любому человеку позволено выносить решение, а также давать показания против другого, если только он сам не совершил ничего противозаконного, кроме как венду судить саксонца или саксонцу — венда. Однако, если венд или саксонец пойман с поличным на месте преступления и на глазах у всех приведен в суд, то саксонец может свидетельствовать против венда или венд против саксонца, и любой из них должен подчиняться суду другого, если его поймали таким образом»{724}.
Здесь мы имеем дело с разграничением двух типов судов — вершимого и не вершимого властью королевского банна (то есть высшей юрисдикцией), и разграничение это, по-видимому, проходило как раз по границе между графствами давно заселенной части Германии и восточными марками. Подразумевается, что в последних практиковалось судопроизводство с четко разделенной по национальному признаку схемой: саксонцы не имели права судить или выступать свидетелями по делам против славян, и наоборот, за исключением случаев поимки с поличным (подобная сцена изображена на ил. 9). Мусульмане Кастилии и Арагона также были единственными, кто допускались свидетельствовать в суде по делам своих соплеменников: «если мавр подозревается в воровстве или блуде, либо еще в чем-либо противоправном, то свидетельствовать против него могут только заслуживающие доверия мавры; христиан в такой суд не допускают»{725}. Вполне логично усмотреть в этих положениях своего рода гарантии от ложных обвинений на национальной почве, которые вписываются в единую систему судопроизводства.
Все эти правила необходимо рассматривать в историческом контексте. Они существовали параллельно с огромным количеством ограничений в правах, которые применялись в отношении местного населения во вновь колонизованных областях. Ибо если коренное население образовывало достаточно влиятельную группу и было в состоянии отстоять свою независимость в делах юстиции, то более слабые общины становились жертвами дискриминации, возведенной в ранг политики. Процедурные вопросы, такие, как судопроизводство в смешанных делах, надлежащая форма судебной присяги или доказательства, вопрос приемлемого свидетельства или языка судебного иска, решались не по принципу справедливости, а исходя из реального соотношения сил между этническими группами.
Классическим образчиком такого этнического неравенства служит шкала вергельдов. Вергельдом назывался штраф, который убийца или его родственники выплачивали семье убитого. Он мог быть различен в зависимости от социального статуса, а на границах Европы — и от национальной принадлежности. Например, в соответствии с кодексом законов «Юра Прутенорум» (Iura Prutenorum), в отношении местного прусского населения Помезании действовала следующая градация наказаний: если «прусс убьет свободного немца»{726}, компенсация назначалась по скользящей шкале и составляла от 8 марок в случае неимущего немца, 12 марок в случае мелкого держателя земли и 30 марок — в случае полноправного владельца земельного надела. Вергельды, налагавшиеся в отношении местных представителей прусской национальности, составляли 60 марок в случае убийства королевских особ (reges), 30 марок — знати (nobiles) и 16 марок — простых людей (communis populus). Таким образом, немецкие колонисты, имевшие землю и иную собственность в городе, приравнивались к местной знати. В эстонском Ревеле (нынешний Таллинн) штраф за причинение ранения эстонцу составлял около трети от компенсации, выплачиваемой в случае аналогичного телесного повреждения, нанесенного немецкому поселенцу{727}. Еще более явное неравенство, вовсе выходящее за рамки какой-либо системы компенсаций, имело место в уложении города Сепульведы, в котором предусматривался штраф в 100 мараведи и ссылка в наказание христианину, убившему мусульманина, и конфискацию имущества и смертную казнь мусульманину — убийце христианина{728}. Иногда неравенство прав по национальному признаку нивелировалось соображениями имущественного и социального статуса, как было, например, в прибалтийском городе Виз-маре, где местный совет настоял на том, чтобы люди «любого языка», признаваемые гражданами города, могли давать показания «в соответствии с качеством их товара»{729} — наглядный пример критерия, сформированного на основе положения в местном обществе и материального благосостояния в противоположность дискриминационным правилам выступления свидетелем в судебном заседании, применявшимся зачастую в отношении сорбов. Социальная и национальная дискриминация тесно переплетались. Тем не менее практика судопроизводства, основанная на этническом принципе, как в зеркале отражает соотношение сил между разными национальными группами общества.
ЯЗЫКИ СУДОПРОИЗВОДСТВА
Разные этнические группы различались своим языком, и потому судопроизводство в пограничных областях Европы, естественно, осуществлялось на двух или нескольких языках. Здесь отводилась особенно важная роль переводчикам. Из источников известен персонаж с весьма красноречивым именем — Ришар ле Латимер (то есть «переводчик»), который владел землей недалеко от Дублина «в уплату за услуги переводчика в суде графства Дублина». А свод законов Пруссии XIV века содержит упоминание об участии в судебных слушаниях толкена (Tolcken), то есть переводчика{730}. Когда рассматривались смешанные дела, то одним из первых решался вопрос о выборе языка заседания. Если славянин выступал против немца или валлиец против англичанина, то решить, на каком языке вести дело, можно было только исходя из установленных норм. Право давать показания на родном языке, конечно, было ключевым вопросом. Наличие этого права у той или иной этнической группы отражало ее влияние в обществе, а в равной степени и укрепляло его. Когда Фердинанд III Кастильский даровал баскам своего королевства право выступать перед местным судьей королевского суда на родном языке, он тем самым отдавал им дань уважения и признавал их в качестве влиятельной этнической общности{731}. И наоборот, наступлением на позиции ирландского языка следует считать принятое магистратами города Уотерфорда в XV веке распоряжение, чтобы ни один житель города «не выступал истцом или ответчиком в суде на ирландском языке, а во всех случаях в суд должен быть приведен человек, который мог бы по-английски изложить требования такого истца или ответчика»{732}.
Взаимоотношение разных языков в судебной практике нашли также отражение в «Саксонском Зерцале». В этом документе содержится небольшой раздел, посвященный судебным делам между саксонцами и славянами. В нем как раз шла речь о том, может ли человек одной национальности свидетельствовать против представителя другой, а в том же XIII веке, но несколько позднее, было внесено дополнение, касающееся детей от смешанных браков. Можно сделать вывод, что в обществе взаимоотношения между саксами и славянами считались данностью, но такой, которая требует законодательного регулирования. О проблеме языка судебного заседания в документе говорится следующим образом: «Всякий, против кого выдвинуто обвинение, имеет право отказаться отвечать, если обвинение сформулировано не на его родном языке». Мы видим тут ясную позицию: человек не обязан отвечать по иску, если он выдвинут на чужом языке. Во втором, переработанном варианте «Саксонского Зерцала» этот пункт, однако, звучал иначе:
«Всякий, против кого выдвинуто обвинение, может отказаться отвечать, если обвинение сформулировано не на его родном языке, если он не владеет немецким и утверждает это под присягой. Если после этого обвинение предъявляется ему на родном языке, он обязан по нему нести ответ либо за него должен отвечать его представитель, причем таким образом, чтобы и судья и обвинитель его понимали. Если он выдвинул обвинение, либо сам ответил на обвинение против него, либо давал показания в суде на немецком языке и это может быть доказано, то он обязан отвечать по-немецки; за исключением ответа перед королем, ибо в таком случае все имеют те права, какие даны им по рождению»{733}.
В первой редакции текста мы видим провозглашение простого равенства носителей разных языков перед законом. Во второй — налицо последовательное оформление привилегированного положения немецкого языка путем целого набора условий и требований. Ответчику вменяется в обязанность доказать в суде, что он не владеет немецким, а всякий факт применения им когда-либо в прошлом немецкого языка может стать основанием для того, чтобы принудить его отвечать по-немецки. И даже если он не владеет никаким другим языком кроме славянского, он обязан привести в суд своего представителя, знающего немецкий. (Едва ли можно сомневаться, что формулировка «чтобы и судья и обвинитель его понимали» означает «по-немецки».) Речь идет о судах, где могли столкнуться интересы славян и саксонцев. Однако саксонцы несомненно представляют в этих разбирательствах привилегированную группу, а в отношении славян наблюдается откровенная языковая дискриминация.
Конкретным и наглядным примером замены славянского языка немецким в судопроизводстве является эпизод, имевший место на территории восточносасконского аббатства Нойнбург в 1293 году. Из него к тому же ясно, насколько нелегко могло даваться овладение чужим языком. Документ, изданный графами Анхальтскими, заслуживает пространного цитирования:
«Хотя известно, что вначале весь мир говорил на одном языке, а разные языки возникли в ходе самонадеянного строительства гигантской башни, когда те, кто предпринял эту самонадеянную попытку, были разбросаны волею Господа по разным землям и областям света, так что в одной области оказались люди, которые с трудом могут понимать друг друга либо нуждаются для этого в переводчике, мы тем не менее повелеваем тем говорящим по-славянски жителям, кои являются подданными монастыря Нойнбурга и находятся в нашей юрисдикции и среди которых есть немало пострадавших от ошибок (varas) в силу неопытности и незнания их языка в наших судах, в результате чего многие поля лишились землепашца, что отныне славянский язык совершенно изгоняется из наших судов и из практики наших адвокатов и им надлежит довольствоваться немецким языком»{734}.
Фрагмент довольно загадочен, но из него ясно, что арендаторы-славяне рисуются как жертвы недостаточного владения славянским языком. Vara — это оговорка или ошибка, допущенная в устных показаниях. Судя по всему, речь в документе идет о том, что некие неназванные стороны используют в свою пользу недостаточное владение языком со стороны (онемечившихся?) славян, чтобы в судебном порядке лишить их земли. Конечно, попытки сторон в суде, равно как и судей, извлечь для себя максимум выгоды из формальных требований закона, были достаточно распространены во многих юстициарных системах. В то же самое время, как графы Анхальтские решали эту проблему, королевская юстиция в Южном Уэльсе настаивала на том, чтобы судопроизводство осуществлялось в соответствии с валлийскими законами: «Причиной был финансовый расчет: ответчиков с легкостью признавали виновными даже по формально-процессуальным основаниям, в случае малейшей оговорки, вступающей в противоречие с валлийским законом» (gwall-gair){735}. Из Анхальтского случая совершенно ясно, что в этом регионе славянский язык перестал использоваться в суде.
Статус отдельных восточноевропейских языков в судопроизводстве на том или ином отрезке времени сыграл в их судьбе важнейшую роль. Вот два противоположных примера: в 1327 году герцог Силезии Генрих VI освободил бюргеров города Вроцлава от обязательного применения в суде польского языка{736}. Примерно 20 годами позже Карл IV повелел, чтобы все судьи в Богемии владели беглым чешским{737}. Первый пример вписывается в процесс постепенной германизации Силезии, который со временем привел к превращению этой области из польского герцогства в неотъемлемую составную часть монархии Фридриха Великого и Бисмарка. Второй служит проявлением характерного для Позднего Средневековья усиления чешского культурного национализма, послужившего залогом того, что Богемия и в будущем сохранила за собой двоякое значение — славянской и германской области одновременно. Отчасти роль, какую играл тот или иной язык в сфере судопроизводства, могла отражаться и на формировании национального самосознания.
ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ ИРЛАНДИИ
Наиболее выраженные формы дискриминация периферийных колоний Европы в сфере отправления правосудия приняла в Ирландии. Здесь имела место весьма своеобразная форма судебно-правового дуализма. После перехода Ирландии в 1171 году под юрисдикцию английской короны короли Англии постановили, что она должна управляться по единым законам со всем королевством. Судя по дошедшим до нас свидетельствам, в 90-е годы XII века в Ирландии уже действовали институты и органы обычного права, а в 1210 году король Иоанн «повелел установить здесь английские законы и обычаи»{738}. Впоследствии предпринимались настойчивые попытки добиться единообразия в юстиции. Об этом свидетельствует, в частности, письмо 1246 года, в котором говорилось, что король «повелевает, дабы все указы, основанные на обычном праве, какие действуют в настоящее время в Англии, имели равную силу и в Ирландии»{739}. Этот процесс контролировался самым тщательным образом. Так, в 1223 году королевские министры направили юстициарию Ирландии письмо с выражением недовольства: «До нас доходят сведения, что возбужденные в Ирландии тяжбы на основе указа de divisis faciendis, рассматриваются иначе, нежели в нашем королевстве Английском»{740}. Указав на процессуальные различия в этих двух подходах, письмо далее содержит указание: «Дела о de divisis вам в Ирландии надлежит решать в полном соответствии с тем, как они обычно рассматриваются и решаются в нашем королевстве Английском, ибо вам отлично известно, что законы нашей земли Ирландии и самой Англии являются идентичными и всегда должны оставаться таковыми». В XIII веке в Ирландии была создана судебная модель по образу и подобию английской, включая суды графств, окружную систему судопроизводства, суд общих тяжб, казначейство и канцлерский суд, не говоря уже о парламенте. Судя по всему, можно с полным основанием расценить этот процесс как «осознанное, продуктивное и настойчивое насаждение в Ирландии английской системы права»{741}.
Однако английское право распространялось не на всех. В основном это было право эмигрантов, а коренное ирландское население имело весьма ограниченный доступ к его процедурам и защитным функциям. Основные дискриминационные моменты в отношении ирландского населения перечислены в документе под названием «Ремонстрация» — пространном послании, направленном несколькими ирландскими правителями папе римскому в 1317 или 1318 году с объяснением мотивов их вступления в союз с Брюсами в борьбе против короля Англии. Одним из таких мотивов называлась дискриминационная система права. «Любому неирландцу, — писали они, — позволено возбуждать иск против любого ирландца, но ирландец, будь то клирик или мирянин, лишен права, на одном только этом основании, возбуждать ответную тяжбу, если только он не прелат»{742}. Тот факт, что простой ирландец не имел возможности обращаться в суд обычного права подтверждается и судебными книгами конца XIII–XIV века. С некоторой долей вероятности можно сказать, что в начале XIII века ситуация несколько отличалась{743}. В любом случае с середины века иски от ирландцев в судах не рассматривались, что подтверждается всеми источниками. Ответчик в таких случаях заявлял, «что он не обязан нести ответственность по этому делу, поскольку истец — ирландец, а не человек свободной крови»{744}. Из этой фразы видно, что ирландское происхождение считалось равносильным несвободному.
Насколько важное значение имело это разграничение по этническому признаку, видно из дела, попавшего в руки юстициария Ирландии в 1297 году{745}. Некто Гилберт ле Пломе, королевский сержант, был обвинен в присвоении земли, принадлежавшей до этого покойному Филиппу Бене, ирландцу, подданному короля, жившему возле замка Дермот в графстве Килдар. Утверждалось, что по закону эта земля должна была после смерти Филиппа вернуться в собственность короля: поскольку Филипп был ирландец, то есть человек подневольный, то сын его права наследования не имел. В свое оправдание Гилберт в суде заявил, что еще при жизни Филиппа жюри присяжных установило, что он на самом деле не был ирландцем. Произошло это в связи с тем, что означенное поместье было у него отобрано неким Ричардом де Гейтоном, когда же он обратился за справедливостью в суд, то Ричард отмел иск на том основании, что истец — ирландец. Жюри, однако, установило, что Филипп англичанин, земля ему была возвращена. Следовательно, на основании этого прецедента, сын и наследник Филиппа Адам имел право наследования собственности, которое он и взыскал по суду. Случилось так, что, отстояв в суде свое право наследника, Адам пожаловал свою землю Гилберту, королевскому сержанту. Следовательно, заявил Гилберт, хотя изначально он действительно захватил эту землю именем короля, а не являлся ее держателем по праву, он не присвоил себе никаких прав монарха. В деле интересы короля представлял некий Джон из Дрогеды. Он заявил, что «несмотря на утверждение, будто Филипп доказал свое английское происхождение, на самом деле он ирландец и носит фамилию Макенаббит, а родом из горного округа, принадлежащего О'Тулам». Было достигнуто временное соглашение, по которому земля возвращалась королю и оставалась в его собственности, пока не будет проведено дополнительное расследование. Король повелел юстициарию провести необходимое дознание:
«Выходит, что Ричард де Гейтон… утверждает, будто Филипп был ирландец и руководствовался ирландскими законами и обычаями… и коварно лишил его собственности… Филипп же возбудил против Ричарда иск в королевском суде… и на основании проведенного тогда расследования было установлено, что Филипп был англичанин и действовал в соответствии с английскими законами и обычаями… Вы… теперь утверждаете, что Филип был ирландец, а Адам не мог ему наследовать как сын и наследник… Все записи… надо отыскать и изучить документы дела».
В ходе проведенного расследования была обнаружена запись, из которой следовало, что Филипп действительно заявил в суде, что он «свободный от рождения человек, англичанин и сын англичанина», и жюри это подтвердило. В результате Гилберт в конце концов получил эту землю. То, что доказательства на этих слушаниях строились на факте национальной принадлежности, совершенно очевидно и лишних подтверждений не требует.
Таким образом, ограничение в правах ирландцев означало, что в случаях, когда истец был ирландец, с ответчика на одном этом основании снималась обязанность отвечать по иску, поскольку ирландец не имел права «подавать иски… и получать на них решение суда»{746}. Все это лишало потерявших земельную собственность ирландцев возможности когда-либо вернуть ее по суду. Кроме того, имелись и другие поражения в правах. Вдовы-ирландки не имели права на вдовью часть наследства, какую обычно получали англичанки в объеме третьей части имущества, которым они обладали при жизни мужа. Ирландцам запрещалось составлять завещания. В 50-х годах XIV века архиепископ Армагскии в своих проповедях порицал «тех, кто попирает права ирландцев на свободное изъявление своей последней воли»{747}.
Еще более разительными, даже по сравнению с этим неравенством в гражданских правах, были нормы уголовного права, касавшиеся убийства. Они различались в зависимости от того, к какой национальности, английской или ирландской, принадлежали убийца и его жертва. Этот принцип в 1297 году четко сформулировал Ирландский парламент: «убийство англичанина или ирландца требует разной меры наказания»{748}, в уже упоминавшейся Ремонстрации 1317–1318 года критике был подвергнут и этот момент: «когда англичанин предательским или обманным путем убивает ирландца, будь то аристократ или бедный, клирик или мирянин, монах или нет, даже будь он ирландский прелат, никакого наказания или возмещения ущерба упомянутый (т.е королевский) суд в отношении такого нечестивого убийцы не применяет»{749}. Это утверждение производит впечатление более или менее близкого к действительности. В сохранившихся судебных записях упоминаются обвиняемые в убийстве, которые «явились и не сумели отмести обвинение, но заявили, что умерший был ирландец и не свободен по крови»{750}. Однако нельзя сказать, чтобы неприкосновенность такого убийцы была абсолютной. Хотя убийство ирландца по законам обычного права не считалось тяжким преступлением, лорд, чьим подданным являлся убитый, мог востребовать компенсации. Размер такой компенсации обычно составлял 70 шиллингов. В качестве примера можно привести дело между Петром ле Пети и Ричардом, сыном Мориса де Крё, имевшее место в 1297 году. Петр обвинил Ричарда в убийстве двух его ирландцев, а попытка Ричарда оправдаться тем, что эти двое были известные разбойники, была отметена присяжными. Они заявили, что «упомянутые ирландцы, в момент, когда их убил Ричард, общественный порядок не нарушали»{751}. Петру был возмещен ущерб в объеме 10,5 марок (то есть дважды по 70 шиллингов).
Представляется вполне логичным трактовать такие процедуры взыскания лордом компенсации за убийство своих подданных-ирландцев как своего рода систему вергельда. Кодексы, в которых убийство или причинение телесных повреждений не считались преступлением по отношению к обществу, а скорее рассматривались как вред, причиненный одним индивидуумом другому, были очень широко распространены. Все раннекельтские и германские своды законов основывались на этом принципе. Исконно ирландские законы, которые продолжали действовать в областях Ирландии, не попавших под власть англичан, признавали возможность выплаты за убийство компенсации, называемой eraic. Следовательно, вполне можно считать закон, применявшийся королевскими судами в Ирландии за убийство ирландца, своего рода отражением местных норм или созвучным им. Время от времени англичан-эмигрантов начинала беспокоить перспектива распространения этого принципа и на убийство англичан. Баронские суды англо-нормандских магнатов в первой половине XIII века, несомненно, допускали возможность «выкупа за смерть англичанина»{752}. Сохранилась жалоба 1316 года, поданная на то, что «штрафы и выкупы берутся за все тяжкие преступления, даже за убийство англичанина»{753}. Таким образом, поселенцы опасались искажения своей судебно-процессуальной системы в части, касающейся убийств, в силу проникновения в нее чуждой компенсационной системы наказаний.
РАЗНООБРАЗИЕ И ЕДИНООБРАЗИЕ СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ
Естественно, что сосуществование двух или более судебных систем в одном регионе приводило к взаимовлиянию и взаимозаимствованиям. Иногда это процесс носил неформальный и частичный характер, как, по-видимому, было в случае с проникновением в исконное ирландское право института и самого термина «поручитель» (baronta){754}. Помимо этого есть явные примеры осознанной политики, имевшей целью перестроить одну правовую систему по образу и подобию другой. Например, и в Уэльсе, и в Пруссии новые колониальные правители в XIII веке внедрили в местную систему права женское право наследования, тогда как раньше в исконных системах обоих этих государств признавалось наследование только по мужской линии. Уэльский статут Эдуарда I, изданный в 1284 году, гласит:
«Отныне, если по причине отсутствия мужского наследника наследство переходит к женщине, являющейся законной наследницей умершего, владевшего имуществом, мы милостиво повелеваем, чтобы этим женщинам в судебном порядке давалось подтверждение их права на эту долю, хотя это и может вступать в противоречие с валлийским обычаем, практиковавшимся прежде»{755}.
Здесь ничего не говорится о том, кто был инициатором таких изменений. Однако из прусских документов явствует, что либерализация законов о наследстве была в интересах местных землевладельцев. Кристбургскии Договор 1249 года, заключенный между Тевтонскими рыцарями и их новообращенными прусскими подданными, объявлял наследниками, в порядке очередности, сыновей, незамужних дочерей, родителей (если они были живы), братьев и племянников по линии братьев. «Новообращенные восприняли это с благодарностью, — говорится в тексте договора, — ибо во времена язычества у них, как они говорили, наследовать имущество могли только сыновья»{756}. Этот случай является наглядным (а валлийский — вероятным) примером того, как подвергшимся колонизации народам внедрение иной системы права могло пойти на пользу, поскольку у них появлялась возможность модифицировать некоторые из наиболее консервативных элементов их собственных законов. Появление колониального правления способствовало расширению имущественных прав женской части местного населения.
Помимо того, что одна система права могла заимствовать что-то из другой, имелись случаи, когда люди, жившие по одним законам, перенимали законы другой нации в результате пожалования или купли. Во многих приграничных областях обретение таким способом законов другой этнической группы было распространенным явлением. Например, прусская система права в Помезании для таких случаев предусматривала единый порядок: «Если человек живет по прусскому закону и причиняет другому ранение, а потом переходит под действие немецкого закона и обвиняется в содеянном на основании немецкого закона, и признает себя виновным, и дело рассматривается по немецкому закону, то к нему уже не может быть применено прусское право»{757}. Переход под действие немецких правовых норм в индивидуальном порядке предусматривался также и в своде законов Богемии середины XIV века. В этом кодексе, известном под названием «Майестас Каролина» (Majestas Carolina), были такие слова: «если кто-то из жителей покупает себе бессрочный или германский закон…»{758}. Упоминание в различных восточногерманских сводах законов сторон судебного разбирательства, которые «обе по происхождению принадлежат к вендам, но таковыми не являются»{759}, показывает, насколько могли не совпадать понятия этнической общности в правовом и биологическом смысле. В таких случаях применялось правило, что «тяжбы, возбужденные по законам вендов», не должны приниматься к рассмотрению, а должны к ним применяться законы немецкие. Абсолютно такие же положения применялись к тем сторонам судебного разбирательства, которые «являются пруссами по происхождению, но в то же время не совсем пруссы». (Скорее всего, речь идет о местных жителях, перенявших немецкий язык и систему права.)
Законы одной нации могли также быть отменены, приобретены или переданы целой общине или населению какого-либо района, то есть на групповой основе. В Восточной Европе именно такое распространение немецких законов в славянских деревнях стало одним из факторов, способствовавших германизации культуры этого региона. В 1220 году граф Шверина даровал славянам, живущим в деревне Брюзевиц, «германский закон» (ius Teutonicale), подчеркнув, что отныне штрафы за правонарушения надлежит взимать «в соответствии с требованиями германского закона»{760}. Иногда универсальное применение германских законов становилось условием для создания новых поселений, как было в случае с Бржегом (Brieg) в Силезии в 1250 году, когда правитель города повелел, чтобы «всякий поляк или свободный гражданин любого языка, имеющий там дом, должен подчиняться германскому закону»{761}.
Аналогичные попытки распространения английской системы права предпринимались в отношении ирландцев. Иногда инициатива принадлежала самим ирландцам, добивавшихся для себя английских законов как в индивидуальном, так и в коллективном порядке. Так было, например, в конце 70-х годов XIII века, когда «все ирландцы» предложили королю 10 000 марок «с тем, чтобы иметь и применять в Ирландии обычное право, каким руководствуются англичане, и пользоваться в судебных делах теми же правами, что и англичане»{762}. Эти попытки добиться для ирландцев одинаковых с англичанами судебных прав и норм не увенчались успехом, несмотря даже на то, что в начале XIV века английские поселенцы и сами власти пришли к убеждению, что «расхождение в законах» влечет за собой пагубные последствия{763}. В 1328 году Джон Дарси, рассматривая вопрос о назначении юстициара Ирландии, составил список предложений, которые включали рекомендацию распространить действие английского права на ирландское население{764}. По сути дела, соответствующий закон был издан в 1330–1331 году, однако он оказался «мертвой буквой»{765}. Вплоть до эпохи Тюдоров ирландцы могли пользоваться правами и защитой со стороны английского закона только на основании индивидуального пожалования.
Ясно, что в жизни общества в периферийных областях Европы Высокого Средневековья ключевую роль играло конкретная разновидность права данной этнической, национальной или религиозной группы. Поллок и Мейтланд писали об Англии 1066 года: «для системы индивидуализированного, то есть национально-обособленного права, было уже слишком поздно»{766}. В отношении крупных централизованных государств, какими являлись Франция или Англия, эта позиция, быть может, и оправдана. Однако в случае окраинных областей Восточной Европы имеет мало общего с действительностью. Национальные системы права в этих регионах в значительной мере складывались в ходе колонизации, которая только началась в середине XI века. В этом смысле Европе 1050 года еще предстояло вступить в великую эпоху национального права.
Плюрализм юстиции был материализован в правовых институтах и процедурах в трех основных формах. Во-первых, существовали гарантии, как юридические, так и процессуальные, для уязвимых этнических групп — либо завоеванных (как мудехары), либо составлявших иммигрантское меньшинство, находившееся под покровительством князя (например, немцы-горожане в восточноевропейских монархиях). Обычной моделью были законодательные анклавы, островки особого юридического статуса в отношении какой-то национальной группы внутри более обширного, иного и зачастую враждебного окружения. В другой форме правовой плюрализм проявлялся в наличии определенных правовых ограничений в отношении подвластных народов (например, тех же мудехар или славян на востоке Германии). Примечательно, что наиболее резкая форма правового неравенства существовала не в тех областях, где имели место религиозные конфликты или обращение в другую веру, как было в Испании или Прибалтике, а в Ирландии. И в-третьих, имелись случаи сосуществования несхожих принципов правовой системы, как, например, в Уэльсе, где для валлийцев и англичан действовал разный порядок наследования.
Ясно также, что постепенно совершался отход от правового плюрализма, который был характерен для начального периода завоевательного движения и колонизации, и шло продвижение в сторону новой, однородной правовой системы. Иногда этот процесс сводился в основном к исправлению имеющихся перекосов и потому не мог вызывать больших возражений со стороны той этнической группы, чьи интересы он затрагивал. В частности, мы уже рассматривали ту тройственную ситуацию с отправлением судопроизводства, какая наблюдалась в Толедо эпохи Реконкисты. Аналогичные системы с параллельным существованием разной юстиции имелись первоначально и в соседней Талавере. Тем не менее общая тенденция в Новой Кастилии также складывалась в сторону постепенного формирования правового единообразия. В 1290 году король Санчо IV в своем указе отметил «многие ущемления, которые испытывают мосарабы и кастильцы с точки зрения права», и повелел, чтобы отныне «не должно быть между ними никаких различий на том основании, что одни говорят, что они мосарабы, а другие — что они кастильцы, но они будут одним целым (que sean todos unos) и называться талаверцами, без различий; и все должны руководствоваться кодексом законов Леона»{767}. Однако чаще бывало так, что на смену плюрализму шло господство юстиции завоевателей. Например, в Уэльсе местные валлийские законы на протяжении Позднего Средневековья постепенно модифицировались в направлении утверждения все более широкой роли жюри присяжных и замены компенсационной системы более жестким «законом Лондона», то есть введением смертной казни и принципа персональной ответственности{768}. Апогей наступил в 1536 году, когда Английский парламент постановил, что «законы, указы и статуты сего Королевства Английского… надлежит исполнять, претворять и воплощать в означенной стране, или владении Уэльс», и объявил о своем намерении «искоренить любую и всякую дурную практику и обычаи, отличные от указанных». Все судебные процедуры должны были впредь осуществляться «на английском языке», владение английским языком становилось условием для занятия официальных постов в Уэльсе, а валлийский язык был отвергнут, как «не имеющий ничего общего и не созвучный с родным языком, имеющим хождение в этом королевстве»{769}. Аналогичным образом на Пиренеях испанская христианская система права сменила мусульманские законы, а в землях полабских славян господствующим стал немецкий закон. Если говорить о долгосрочной тенденции развития на протяжении XII–XVI веков, то ее вектор лежал в направлении от индивидуализированного права к территориальному, от плюрализма к единообразию. Путь к единому королю, единому закону и единой вере (un roi, une loi, une foi) был долог, но одной из его составляющих несомненно была трансформация правовой системы.
9. МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ НА ГРАНИЦАХ ХРИСТИАНСКОЙ ЕВРОПЫ.
2) ВЛАСТЬ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ
«Человеческая натура такова, что любому, откуда бы он ни был родом, милее его собственный народ, чем чужаки»{770}.
В каждом этнически неоднородном обществе политические противники стремятся манипулировать чувствами национальной солидарности или вражды, используя их в своих целях, и то, насколько они в этом преуспевают, выражается впоследствии не только в относительной численности или благосостоянии той или иной этнической группы, но и в общей модели социально-политической жизни общества. Зоны конфликта могут быть различны по времени и месту. В эпоху Высокого Средневековья на перифериях латинской Европы такими особо важными аренами противоречий служили Церковь, двор правителя и городское общество.
ЦЕРКОВЬ
Смешение народов, ставшее следствием перемещения больших людских масс в ходе колониального освоения европейской периферии в эпоху Высокого Средневековья, не всегда означало смешение христиан и нехристиан. Зачастую его результатом становилось общество, в котором тесно соседствовали разные этнические группы, исповедовавшие одну веру — христианскую. Остзидлунг, где немцы расселились на исконно славянских землях, а также кельтские районы Британских островов, которые в эту эпоху населили англичане и другие эмигранты из Западной Европы, представляют собой те два региона, где этническая пестрота сочеталась с религиозной однородностью общества. Здесь межнациональные противоречия не усугублялись расхождениями в вере и церковной практике.
В тех районах, где в тесном соседстве жили христиане, говорившие на разных языках и имевшие разные правовые устои, ареной межэтнического соперничества становилась сама Церковь. Здесь поистине разыгрывалось самое драматическое противостояние, и причины тому налицо. Церковные должности были весьма доходны, означали реальную власть и представляли несомненное поле для осуществления амбиций. Еще более значительным был тот факт, что духовенство, являясь авторитетом в сфере отправления культа, морали и образования, фактически получало право говорить от имени всей общины или группы. Отдать место своих проповедников и пасторов чужакам, говорящим на иностранном языке, было равносильно тому, чтобы лишиться голоса и твердого национального самоопределения. Кроме того, специфические условия подбора клерикальных кадров придавали необычайную нестабильность всему процессу церковной колонизации. Поскольку в принципе такие назначения осуществлялись по заслугам, а не по наследству, то церковная иерархия оказывалась открыта для кандидатов нового типа. Войти в круг светской знати можно было посредством купли-продажи, брака или бенефиция, но во всех случаях на это требовалось время. Что касается постоянно пополнявшегося бюрократического аппарата, каковым, по сути, являлась церковь, то тут при определенных обстоятельствах этнический состав должностных лиц мог меняться намного быстрее.
Церковь была растущим образованием, ей требовалось расширять свой штат и определять, пригоден ли каждый потенциальный кандидат на тот или иной пост. Ежегодно выносились тысячи решений по поводу новых назначений в конкретную епархию, пребенду, аббатство или приход. Здесь должны были учитываться несовпадающие интересы местных религиозных общин и знатных родов, монашеских орденов и отдельных прелатов, королей и папства. Был выработан целый набор критериев, по которым кандидат мог допускаться на церковную должность. Учитывались такие аспекты, как личная свобода, легитимность, физическое здоровье и возраст. В областях, о которых мы сейчас ведем речь, то есть в подвергшихся колонизации окраинных районах католического мира, к этому набору критериев добавлялась еще и этническая принадлежность кандидата.
Церковь была не обычным институтом, а открыто претендующим на особое предназначение. Вот почему всякая борьба за кресло в церковной иерархии сопровождалась рассуждениями о долге духовенства, особенно той его части, которой вверялась забота о душах верующих. (Подчас, впрочем, такие декларации преследовали исключительно тактические цели.) Поскольку долг пастора подразумевал чтение проповедей, исповедь, утешение, совет и порицание, то исполнить его эффективно было под силу лишь священнику, способному общаться с паствой на ее родном языке. Как правило, этот принцип не подвергался сомнению. Хронист Герлах Мюльхаузенский сетовал, что в 1170 году руководить Пражской епархией был поставлен немец, «абсолютно не владеющий чешским языком». Автор относит факт его назначения за счет родственных связей кандидата с королевой Богемии, ибо «сами они [выборщики] по своей воле ни за что бы не избрали иностранца, не знающего их языка»{771}. Напротив, Козьма Пражский обращал особое внимание на то, что немцы, избираемые на епископский престол в X веке, «владели славянским языком в совершенстве» либо «были ему в совершенстве обучены»{772}. Когда Геральд Валлийский примерно в 1200 году предложил свою кандидатуру в епархию св. Давида, он заявил, что «собрание каноников св. Давида ни за что не утвердит того [кандидата], кто не владеет языком их народа и не сможет читать проповедь или исповедовать без переводчика»{773}. Известный астролог Майкл Скот, которого папа римский выдвинул на престол ирландского архиепископства Кэшел, нашел благовидный предлог, чтобы отказаться от предложения: он заявил, «что не знает языка этой страны»{774}.
В тех регионах, где жили бок о бок носители двух или более языков, идеальным вариантом становились двуязычные священники и проповедники, как «брат Петр, он же Нарр, проповедующий на всех наших языках», чья деятельность в Богемии пришлась на XIV век{775}. В отдельных случаях владение двумя языками и вовсе становилось условием получения той или иной церковной должности. Так, в 1293 году, когда принималось решение о строительстве церкви св. Марии в предместье Баутцена (Верхний Лаузитц), было специально оговорено, что священник «станет в вечернее время ухаживать за теми, кто болен или лежит на смертном одре за пределами города или в окрестных деревнях. Следовательно, приходский священник должен владеть как немецким, так и славянским языком. Если окажется, что он не знает славянского, то при нем должен быть помощник-славянин»{776}. Далее документ регламентировал распределение пожертвований.
Попытка найти иное решение проблемы лингвистически пестрой общины была предпринята в начале XIII века в Щецине, где немецкие купцы и ремесленники жили вперемежку с местным поморянским населением. Было установлено правило, что «все немцы, живущие внутри крепостной стены… должны принадлежать к приходу св. Якоба… но славянам внутри крепостной стены надлежит ходить в церковь св. Петра»{777}. Разделение не было абсолютным, поскольку сельское население было предписано и к тому, и к другому приходу, и договор не имел долгой жизни. Для нас существенна сама попытка деления паствы не по территориальному, а по этническому принципу, что должно было способствовать формированию моноязычной общины прихожан, по крайней мере в случае славянского прихода св. Петра. Аналогичный пример деления жителей на разные приходы по языковому признаку имел место в чешском городе Чески-Крумлов (Крумау), где в XIV веке служили «Иоганн, проповедник немцев», и «Николай, проповедник чехов»{778}.
Как мы видим, двуязычные священники были наилучшим решением вопроса, но имелись и случаи деления паствы по национальному принципу. Чаще же встречались более конфликтные ситуации. В этнически пестрых приграничных областях католической Европы именно соперничество между разными этническими группами играло решающую роль в формировании церковного аппарата. Завоеватели могли навязывать своих представителей, влиятельные группы иммигрантов — продвигать собственных пасторов. Типичным примером первого случая служит частичная англиканизация епископата Уэльса и Ирландии; второго — право немецких поселенцев в Трасильвании избирать пасторов из своей среды. Местные жители могли сопротивляться навязыванию им чужих прелатов, равно как и постепенному выдвижению иноязычного духовенства из среды эмигрантов. Таким образом, в приграничных районах сама Церковь становилась ареной этнического конфликта.
Польская церковь появилась в конце X века и черпала примеры для подражания, культурные модели и кадры у своих западных соседей, в первую очередь Германии. Сам по себе этот факт еще не являлся основанием для беспокойства или противоречий. Однако в XIII веке достигшая Польшу новая волна сельской и городской немецкой колонизации изменила ситуацию с пополнением церковных кадров. Теперь население внутри исторических границ Польши четко делилось на две языковые и культурные группы, следствием чего стало соперничество из-за влияния на кадровую политику церкви. Особенно яркой и показательной фигурой в этой борьбе был архиепископ Гнезно Якуб I Шинка, занимавший это кресло в 1283–1314 годах. Его правление пришлось на то время, когда одни районы подведомственной ему территории, в частности Силезия, переживали стремительную германизацию, другие, например, Данциг, оказались захвачены немцами, а весь регион в целом претерпевал массированную немецкую колонизацию и усиление немецкого влияния в сфере культуры. В этих условиях Швинка занял позицию активного национализма. «Он был таким ярым врагом немцев, — отмечает хронист того времени Петр Циттауский,
«что называл их не иначе как “собачьими головами”. Однажды, когда Иоганн, епископ Бриксенский, в присутствии короля произнес в храме красноречивую молитву по-латыни, архиепископ обратился к королю со словами: “Прекрасный был бы проповедник, если б не был собачьей головой и немцем”»{779}.
Такая же позиция, но выраженная в более корректной форме, прослеживается в местных статутах, изданных Швинкой в 1285 году. Отчасти они были вызваны к жизни неприкрытым желанием «защитить и укрепить позиции польского языка» (ad conservacionem et promocionem lingwe Polonice). Священникам надлежало в воскресной службе на польском языке читать Символ веры, «Отче наш» и «Аве Мария». Исповедь также должна была проходить на родном языке. Учителей можно было принять на работу только при условии, «что они владеют польским языком и могут читать с детьми авторов на польском языке». Заключительное положение более общего плана предусматривало, что «никто не может быть допущен к сану и исцелять души, если не является уроженцем этой земли и не владеет ее языком»{780}. Эта бескомпромиссная позиция, которую в 1326 году подтвердил на провинциальном синоде и преемник Швинки, давала польскому языку статус единственного языка церкви и школы. Кандидаты в священники или учителя были обязаны сдать языковой экзамен.
Межнациональные трения отчетливо проявились и в разногласиях между архиепископом Швинкой и епископом Иоанном Краковским, приведших в 1308 году к смещению последнего. Среди выдвинутых против него обвинений (в частности, и от имени его собственных прихожан), значились «попытки выслать за пределы Кракова господина Владислава, герцога Краковского и полноправного наследника, стремление изгнать польский народ и отдать их ремесленные мастерские и имущество чужеземцам». Ему даже предписывалась такая клятва: «Если мне не удастся завершить начатое дело и изгнать с этой земли польский народ, то я скорее умру, чем останусь жить!» Во время дознания показаниями по меньшей мере десяти свидетелей было подтверждено обвинение его в отказе назначать поляков на какие бы то ни было церковные должности в Кракове: «он не выдвигает поляков, а все больше иностранцев и немцев»; «он не выдвигает достойных поляков, утверждая, что они не годятся для сана»; «он не выдвигает поляков, уроженцев этой земли, а только иностранцев — немцев». Пожалуй, самым важным из всех было обвинение в «клятвопреступлении.., поскольку при посвящении в сан он поклялся прелатам, что никогда не допустит и не облечет ни одного немца саном в церкви Кракова, но, поступая вразрез с собственной клятвой, он набрал в церковь Кракова фактически одних только немцев»{781}. Если при посвящении Иоанна в епископский сан такая договоренность действительно существовала, то она свидетельствует о реальных попытках претворения в жизнь решений синода 1285 года, касавшихся исключительного права на духовную карьеру представителей одной национальной группы. Однако вероятнее всего, что этнический состав духовенства в целом соответствовал составу населения, и немецкая иммиграция во владения польской короны неизбежно вела к возрастанию числа церковных должностных лиц из числа немцев. Это, впрочем, не означает, что процесс протекал гладко, направляемый лишь невидимым демографическим перстом. В решениях синода 1285 года, как и в тексте клятвы посвящения епископа Краковского и в последующем его отстранении, усматриваются черты политической кампании с целью остановить германизацию польской церкви.
В Польше и Богемии иммигранты из Германии селились в тех областях, где у власти, по крайней мере вплоть до XIV века, стояли представители местных западнославянских династий. В кельтских же областях ситуация была обратной. Там появление английских и других иноземных поселенцев происходило одновременно или следом за свержением местных правителей и их заменой иностранными. Однако эта замена была лишь частичной, и политическая ситуация в Уэльсе вплоть до его окончательного завоевания в 1282 году характеризовалась борьбой «своих» и «чужих» правителей за влияние в церковной иерархии. В Ирландии такая борьба проходила непрерывно.
Ключевым моментом этого противостояния было назначение епископов. Судя по всему, с начала XIII века английская корона и ее должностные лица в Ирландии всеми силами проводили политику отстранения коренных национальностей от церковных должностей. В 1217 году в послании правительства английского короля к юстициарию Ирландии было сказано:
«Поскольку избрание ирландцев в нашей земле Ирландия в прошлом часто становилось причиной беспокойства и нарушения мира в этой земле, то мы повелеваем, дабы вы, повинуясь нам по закону вассальной преданности, отныне не допускали избрания ни одного ирландца на церковную должность в наших владениях, равно как и ни в один собор. По велению нашего преподобного отца, лорда Генриха, архиепископа Дублинского, и по вашему собственному разумению вам надлежит всеми силами обеспечивать избрание и продвижение на вакантные должности в епархиях и других церковных инстанциях наших должностных лиц и иных добропорядочных англичан, столь незаменимых для нас и нашего королевства»{782}.
Архиепископ Дублинский Генрих оказался самой подходящей фигурой для осуществления этой политики. Он был сыном лондонского олдермена, по меньшей мере трое его братьев занимали в Лондоне пост шерифа. Генрих готовился к духовной карьере, к 1192 году имел сан архидьякона Стаффорда и при короле Иоанне служил королевским судьей, администратором и дипломатом. После назначения архиепископом Дублина он провел в епархии преобразования англо-французского толка, видоизменил ее архитектурный облик, реформировал структуру управления, создал капитул по образу и подобию Солсбери, а первым деканом в нем сделал одного из своих лондонских племянников. Архиепископ исполнял и некоторые светские обязанности в масштабах Ирландии, в частности, королевского юстициария и руководителя работ по реконструкции Дублинского замка. Генрих был истинный колониалист, и неудивительно, что грамота, сопровождавшая выделение ему земли в Стаффордшире, называла адресатом пожалования «архиепископа и его преемников, которые также не являются ирландцами»{783}.
Политика отстранения коренных ирландцев от церковных постов в епархии навлекла критику со стороны папы{784}. Впрочем, претворить ее со всей строгостью едва ли было возможно. Однако отголоски этой политики можно найти в действиях английских властей и в последующие столетия. В 20-х годах XIII века собраниям каноников давалось право выбора новых членов с тем условием, что «они будут избирать из англичан»{785}, а назначенная Эдуардом I комиссия сформулировала такую рекомендацию: «В интересах короля, чтобы ни один ирландец никогда не становился архиепископом… поскольку их проповеди всегда направлены против короля, и в своих ирландских церквях они всегда призывают к тому, чтобы ирландцы могли избираться епископами для сохранения их нации»{786}.
В последующее столетие были разработаны правила, согласно которым «никто не может быть посвящен в церковный сан и исцелять души смертных, если он не говорит и не понимает по-английски надлежащим образом»{787}. Как и в Польше, язык религиозного обряда приобрел ключевое значение для сохранения этнополитической целостности и власти.
Если обратиться к черному духовенству, то здесь этнические конфликты носили иной характер. С одной стороны, здесь не было такого упора на исцеление душ, хотя полностью исключать его тоже было нельзя. С другой стороны, факт существования к XII веку международных монашеских орденов означал, что круги от разногласий внутри обители расходились далеко за ее пределами. Иннокентий III не считал чем-то «новым или нелепым то, что братья разных национальностей служат одному общему Господу»{788}. Однако внутри таких монашеских общин наблюдалась естественная тенденция к формированию своего рода этнических фракций. Поскольку в XII, XIII и XIV веках монашеские братства редко были самостоятельными единицами местного значения, а чаще входили составной частью в достаточно сложные и разветвленные конгрегации в лице международных религиозных орденов, то и национальные фракции внутри братств тоже оказывались вовлечены в борьбу за влияние, формирование или противостояние этим орденам.
Организационно новые ордена строились строго по территориальному принципу, но они также имели важное национальное и политическое значение. Их вышестоящие инстанции находились во Франции и Италии; кроме того, могущественные административные центры второго порядка имелись в Англии и Германии. Аббатство Сито и четыре его «старших дочери», то есть самые ранние из цистерцианских монастырей, были расположены в королевстве Французском. Крупнейшие соборы доминиканского генерального капитула в XIII веке в 40 процентах случаев проводились в Италии (но никогда — южнее Рима), в 35 процентах — во Франции и в 10 процентах — в Рейнской области{789}. Стоит ли говорить, что они никогда не собирались в кельтских или славянских странах. Новые ордена XII–XIII веков пришли в кельтский и славянский мир из Англии и Германии, и их натурализация в новых краях так и не стала окончательной. На их религиозной «географии» явно отражалось взаимодействие политических и духовных аспектов. Например, степень независимости шотландских францисканцев менялась в зависимости от побед и поражений в шотландских войнах за независимость: в 1329 году, после успехов Роберта Брюса, они «были полностью отделены от английского братства», однако снова попали в их подчинение в XIV веке, когда верх в англо-шотландском противостоянии одержал Эдуард III{790}. В Восточной Европе маркграф Бранденбургский был против того, чтобы доминиканский монастырь, который он надумал организовать в своих владениях, находился в польской провинции ордена, поскольку «это может породить между нашими наследниками и польскими правителями территориальный спор»{791}. Вот как комментирует это событие Джон Фрид: «Если нищенствующий монашеский орден оказывался приписан к той или иной провинции, то становился потенциальной базой для территориальных или феодальных притязаний на весь регион»{792}. Одним из последствий германского заселения и колонизации Силезии, Пруссии и других областей за Одером была их передача францисканской провинции Саксония{793}.
В конце XIII века немецкие нищенствующие монашеские ордена стали рассматриваться некоторыми славянскими прелатами и правителями как инструмент культурной колонизации. «Братьев, говорящих на немецком языке, — гласил текст одной жалобы, поданной в Богемии,
«намного большей численности, чем требуется, направляют в отдельные францисканские обители нашего королевства и в польские герцогства, в то время как братья из числа славян рассеяны среди иноземцев, где пользы от них быть не может. В результате души славян пребывают в большой опасности»{794}.
Неудивительно, что Якуб Швинка занял твердую позицию в отношении проникновения и распространения немецких монастырей. «Отдельные монахи, — негодовал он, — отказываются принимать в свои ордена наших коренных поляков, а напротив, отдают предпочтение иноземцам». Он повелел епископам лишать такие монастыри их владений. В конце концов, подчеркивал он, монастыри создавались «для спасения здешнего народа»{795}. В ряде случаев национальная исключительность даже провозглашалась в письменной форме, фиксировалась в уставах религиозных братств и богоугодных заведений. Например, в 1313 году Владислав Локитек Польский основал в Бресте (область Куявия) лечебницу, оговорив, что «в эту обитель и больницу братья не допустят ни одного немца, будь то клирик или мирянин». Двадцатью годами позже, основывая в Рауднице августинский монастырь, националистически настроенный епископ Пражский Ян Дражицкий сформулировал такое условие: «Мы не должны допускать в это братство или обитель ни одного представителя какой-либо другой нации кроме богемской [то есть чешской] и рожденного от двух родителей-чехов».
В Ирландии цистерцианский орден, ставший «первой эффективной международной организацией в Европе»{796}, расцвел пышным цветом задолго до вторжения и покорения ее англо-нормандцами. Первых монахов белого братства привез в страну св. Малахий, друг св. Бернара, ив 1142 году был основан первый в Ирландии цистерцианский монастырь — Меллифонт. Он «расплодился» множеством дочерних обителей, от него произошло большинство ирландских цистерцианских монастырей. После того как в конце XII века началась английская колонизация Ирландии, местные ирландские короли и вожди продолжали оказывать ордену покровительство. К 1228 году в Ирландии насчитывалось тридцать четыре цистерцианских братства, из которых только десять были основаны англо-нормандцами{797}.
Однако напряженность в отношениях между интернациональным орденом и ирландскими братствами в первой четверти XIII века вылилась в кровопролитие и скандал, получивший название «Меллифонтского заговора»{798}. Заморских эмиссаров, направленных цистерцианцами для устранения злоупотреблений, допускаемых в ирландских обителях, игнорировали, подвергали оскорблениям и нападениям. В монастырях возводились укрепления. Все громче слышался ропот, что в дочерних монастырях Меллифонта признаки монастырской жизни совершенно исчезли. В конце концов Генеральный капитул поручил Стефану Лексингтонскому, аббату английского цистерцианского братства Стэнли, совершить поездку с официальной инспекцией этих обителей, с тем чтобы подавить очаги оппозиции, добиться неукоснительного соблюдения правил монастырской жизни и полного послушания вышестоящим организациям ордена, причем в случае необходимости было предписано не отказываться и от содействия светских властей. В 1228 году Стефан исполнил это поручение. Меры дисциплинарного воздействия носили самый решительный характер. В результате его поездки (а также инспекции, предпринятой его предшественником годом раньше) были подавлены два непокорных братства, смещены со своих постов полдюжины аббатов, монахи из ирландских братств разосланы в разные заморские обители цистерцианцев и вся структура цистерцианских монастырей подверглась пересмотру. Место головных братств во многих случаях заняли английские монастыри, причем в первую очередь это касалось самого Меллифонта.
С одной стороны, подавление «Меллифонтского заговора» представляется примером успешного восстановления контроля со стороны центральных властей международного ордена над его местными и заблудшими членами. Но с другой стороны, очевидно, что конфликт носил и этническую окраску. Сам Стефан Лексиштонский о проделанной в Ирландии работе писал: «Мы назначили туда множество аббатов разных языков и национальностей». Вот как он наставлял новых должностных лиц в главной английской администрации в Лейнстере, владении эрла-маршала: «Как следует заботьтесь о наших новых аббатах, на каком бы языке они ни говорили, по всему Лейнстеру, во имя блага лорда эрла, вашего собственного блага и мира на нашей земле»{799}. Как мы только что видели, одним из способов усмирения ирландских цистерцианских монастырей была передача их дочерних обителей в подчинение английским или французским головным монастырям. Более того, в наказание за заговор он на три года наложил запрет на назначение любого ирландца аббатом в цистерцианских обителях Ирландии. Наконец, он ввел свои ограничения на монастырскую жизнь и в отношении языка. В отчете, направленном аббату Клерво, он писал:
«Мы издали неукоснительное предписание, дабы отныне никто не допускался к монашескому сану, ежели не может проповедовать по-французски либо по-латыни. Писание толкуется и впредь будет толковаться в Меллифонте… и многих других ирландских обителях только по-французски, так что когда вы лично посетите их или направите туда своих представителей, они смогут понимать службу, а братья, в свою очередь, смогут понимать их, а кроме того, теперь, когда нет более прикрытия в виде чужого языка, ни у кого не останется ширмы для не послушания. Ибо как может человек, владеющий только ирландским языком, по-настоящему любить обитель или Писание?»
Откровенный галлоцентризм подкрепляется таким наставлением:
«Мы предписали ирландцам, что ежели в будущем они пожелают принять кого-либо из своих соплеменников в ряды братства, то должны озаботиться тем, чтобы прежде послать их в Париж или Оксфорд, либо в какой-нибудь другой славный город, где они смогут научиться грамоте, красноречию и приличному поведению. Мы особо подчеркнули, что орден не имеет намерения отлучать какую-либо нацию, за исключением неподходящей, негодной или той, что не умеет вести себя надлежащим образом»{800}.
Это приравнивание норм поведения и культуры, определенных национальными факторами, к нормам международного монашеского ордена наглядно характеризует ситуацию на колониальных окраинах Европы. Когда в Ирландии белые братья, казалось, принялись за создание независимой конфедерации монастырей, похожей в чем-то на раннеирландскую монастырскую парухию (paruchia), и угроза радикальной адаптации к местным условиям стала казаться особенно близкой, то Генеральный собор цистерцианских каноников выслал на его усмирение Стефана Лексингтонского, то есть англичанина, прошедшего парижскую школу. Его задачей, по собственному выражению, было «добиться единообразия в ордене»; а методами ее осуществления были насаждение английских аббатов, подчинение ирландских братств английским и наступление на позиции национального языка.
КНЯЖЕСКИЙ ДВОР
Другой ареной этнических противоречий был двор правителя, и для этого также имелись глубинные причины. Даже в самых благоприятных условиях княжеский двор разительно отличался от окружающего общества развитием культуры в широком понимании, был средоточием протекционизма, зоной более высокого уровня потребления, космополитизма и моды, и все эти проявления легко вызывали на себя огонь критики со стороны церковников, пуритан и ретроградов. Если вдобавок господствующая часть двора, или даже сам правитель, принадлежали к нации и культуре иммигрантов, то этот потенциальный антагонизм мог приобрести еще более острый характер с выраженным этническим оттенком. По самой своей природе княжеский двор тяготел к тому, чтобы стать приютом для чужестранных элементов. Это был эпицентр династийной политики, что подразумевало передачу политической власти на основе не национальных, а семейных приоритетов. Соответственно, он то и дело испытывал на себе удары в виде сватовства к заморским невестам и появления чужестранных наследников. Само устройство правящего двора эпохи Средневековья, как затем и начала Нового времени, создавало условия, когда шотландцам приходилось вновь и вновь дожидаться своей Маргареты Норвежской, а испанцам — своего неведомого Карла Пятого.
Официальная политика Церкви, поощрявшей экзогамию, и настороженность в отношении браков с представителями местной знати, чреватых политической поляризацией, вели к тому, что многие правящие династии стремились к установлению внешних междинастийных связей через браки. Если молодая невеста, а значит, и ее многочисленные фрейлины, капелланы, слуги, а возможно, и братья, племянники, кузены и даже родители принадлежали к другой национальности, то следствием такого брака непременно становилась стремительная и кардинальная культурная переориентация двора. Например, после женитьбы Эдуарда I Английского на кастильской принцессе в его гардеробе появился испанский костюм с беретом, а старшего сына короля нарекли Альфонсом. В приграничных областях католического мира появление при дворе группы чужестранцев и приток переселенцев той же национальности создавали крайне нестабильную политическую ситуацию.
Неприязненное отношение местных аристократов к принцессе-иностранке нашло, например, свое яркое выражение в так называемой «Хронике Далимила», стихотворной летописи на чешском языке начала XIV века. Событием, давшим повод для выражения таких взглядов на брак правителя, стала женитьба герцога Удальриха (XI век) на чешской девушке-крестьянке. Герцог объясняет своим сподвижникам, почему он предпочел жениться скорее на простой крестьянке, чем на «дочери иностранного короля». Как явствует из самого текста, намек сделан на немецкую принцессу:
«Такая женщина предана своему языку; Вот почему иностранка никогда не будет мне мила; Она не была бы лояльна к моему народу. Иностранка окружила бы себя иноземными приближенными. Она стала бы учить моих детей немецкому языку И переиначила бы все их обычаи. И тогда в языке началось бы раздвоение, А для страны Это была бы гибель. Мужи… Кто хочет говорить с женою-немкой Через переводчика?»{801}Таким образом, появление королевы-иностранки означало опасность насаждения чужой культуры, а кроме того, трения между молодыми принцами смешанной крови и исконной местной знатью. То была извечная проблема династийной политики. Например, в XI веке византийцы, по-видимому, воспротивились женитьбе сына императора на нормандской принцессе, ибо появление при дворе принцев смешанного происхождения могло открыть двери нормандской экспансии{802}. Опасения, звучащие в «Хронике Далимила», были высказаны от лица чешской знати как монолитной группы. Именно по их настоянию французская и люксембургская свита молодой Бланш Валуа, прибывшей в 1334 году в Богемию для бракосочетания с наследником чешского престола, была отправлена домой и заменена придворными-чехами. И все же опасения Далимила, похоже, оправдались. Бланш и ее свекровь, королева Беатриса, не слишком преуспели в изучении чужого языка: отмечалось, что «тот, кто не говорит по-французски, не может с ними общаться свободно»{803}.
Иностранные короли появлялись реже, чем королевы, зато в таких случаях осложнений в отношениях с местной правящей элитой бывало больше. В последующем фигура иностранного правителя в государствах средневековой Восточной Европы стала играть исключительно важную роль, поскольку национальные правящие фамилии фактически исчезли с исторической арены. В XIV веке местные королевские династии в Богемии, Польше и Венгрии вымерли. Пржемысловичи, Пясты и Арпады, то есть династии, которые в X и XI веках принесли своим народам христианство и тем обеспечили себе политическое выживание, в конце концов выродились. Последний представитель рода Арпадов, Андрей II, умер в 1301 году, последний Пржемыслович, Венцеслав III, — в 1306, а Пясты, сумев в 1320 году возродить единое Польское королевство, в 1370 остались без наследника престола по мужской линии. В результате короны Восточной Европы оказались доступны претендентам как из самого региона, так и из-за его пределов. На протяжении Позднего Средневековья Богемия и Венгрия управлялись последовательно французскими династиями, германскими, а затем местными аристократами, прежде чем перешли под власть Габсбургов. Польша пережила два более кратких по времени, но аналогичных по сути смутных периода в XIV веке, сначала — накануне возрождения королевства в 1320 году, а затем — между 1370 и 1386 годами, когда языческая литовская династия Ягеллонов (в лице великого князя Ягайло) приняла христианство и одновременно польскую корону.
Появление правителей-иностранцев было удачным моментом для местной знати заявить о своих условиях. Когда граф Люксембургский Иоганн в 1310 году стал королем Богемии, ему пришлось дать обещание не назначать на высокие государственные посты лиц «иностранного происхождения» (alienigena){804}. Теоретически даже приобретение недвижимости было им заказано. Однако король, судя по всему, допускал отступления от буквы, ибо уже через несколько лет, как явствует из источников, «в его окружении было множество графов и дворян из Германии, которые выдвинулись благодаря не столько своему положению, сколько государственной мудрости, без их совета практически не вершилось никакое дело в его королевстве, и он жаловал им королевские земли и высокие посты». В 1315 году чешские бароны сетовали: «У всех народов вызывает недовольство, когда иммигранты из чужой стороны так обогащаются и важничают». Иоганну пришлось отослать своих немцев. Спустя несколько лет королю-иностранцу по-прежнему приходилось клясться, что он «не поставит иноземца командовать ни одной королевской крепостью либо замком, будь то в официальной должности или как-либо еще, как и не сделает никого из чужеземцев бургграфом, а будет назначать одних чехов».
Иногда этнические противоречия проистекали не из-за иностранного происхождения короля или королевы, а в силу того, что король, принадлежащий к коренной национальности, начинал привечать иноземцев и поощрять создание целого слоя иностранных воинов, номенклатуры и придворных. Примеров тому множество в истории польской династии Пястов, хотя были случаи, когда эти правители-космополиты наталкивались на опасную оппозицию со стороны националистически настроенных местных кругов. Тем не менее, согласно одному источнику, Болеслав II Силезский (1242–1278), довольно слабо владея немецким, «стал предпринимать крутые действия против поляков, самым безобразным образом отдавал предпочтение немцам и во множестве раздаривал им поместья. На этом основании поляки перестали признавать его своим королем и низвергли»{805}. Автор приведенной цитаты объясняет последующее пленение королем епископа Вроцлавского его «одержимостью дьяволом и давлением немцев, под чью диктовку он действовал»{806}. Неприятие космополитизма проявила и коренная польская знать в области Куявия, когда отказала в доверии своему герцогу на том основании, что он слишком благоволил к Тевтонским рыцарям{807}. Познанский летописец жаловался, что молодые силезские герцоги, пришедшие к власти в 1309 году, «окружены немцами, которые навязывают им свои советы, так что они могут делать только то, что на руку немцам»{808}.
ГОРОДСКОЕ СООБЩЕСТВО
Население средневековых городов было по существу эмигрантским. Такая картина наблюдалась повсеместно, приобретая особенно важное значение в приграничных районах, где горожане или значительная их часть в этническом отношении нередко отличались от окрестного сельского населения. Переселение в далекие края зачастую имело конечной целью именно город, и в областях наподобие Восточной Европы или кельтских земель противоречия между городом и деревней сопровождались и усугублялись этническими противоречиями, ибо многие городские поселения, целиком или большей частью, были населены иммигрантами. То обстоятельство, что понятия немец и чех были фактически равнозначны соответственно понятиям горожанин и крестьянин, наглядно иллюстрируется рассказом о чуде, происшедшем в Праге в 1338 году. Ремесленники разных специальностей обсуждали, как праздновать день св. Вацлава, когда один из них, немец, заявил, что «он не намерен отмечать праздник этого крестьянина». И только когда его разбил паралич, а исцеление наступило от мощей Вацлава, «немцы стали относиться к нашему покровителю с большим почтением»{809}. Здесь мы имеем пример того, как межэтническая рознь оказалась облечена в форму взаимной неприязни между городом и деревней.
В Восточной Европе немецкий язык был преимущественно языком городов и правящих дворов. Список новых бюргеров, допущенных жить в старую Прагу в XIV веке, показывает, что от 63 до 80 процентов тех, чью национальную принадлежность можно установить по именам и фамилиям, были немцы. Эта статистика еще более убедительна, если рассматривать состав городского совета{810}. Француженка по происхождению, королева Богемии Бланш, стремясь достичь большего взаимопонимания со своими подданными, стала учить не чешский, а немецкий язык, «ибо почти во всех городах королевства и повсюду в присутствии короля немецкий язык употреблялся чаще чешского»{811}. Аналогичная ситуация имела место в Польше. Когда будущий архиепископ Львовский (Лембергский) в середине XV века приехал из сельской местности в Краков, «он обнаружил, что все общественные и частные дела вершатся на немецком языке» (Filippo Buonaccorsi, alias Callimachus, Vita et mores Gregarii Sanocei, ed. Ludwik Finkel, MPH 6 (Cracow, 1893, repr. Warsaw, 1961), pp. 163–216, at p. 179){812}, что побудило его впоследствии отправиться в Германию для совершенствования в языке. По мере продвижения на восток, в те районы, где немецкие сельские поселения становились реже, города все больше напоминали острова немецкой культуры среди морей культуры славянской, прибалтийской, эстонской или мадьярской.
Так же четко могли быть охарактеризованы с точки зрения языка и города Британских островов. Здесь значительно чаще, чем в окрестных селах, звучала французская речь. После нормандского завоевания французские переселенцы закрепились во многих городах Британии — Книга Страшного суда, в частности, упоминает о сорока трех бюргерах-французах в Шрусбери{813}, — и процесс развития культуры в последующие столетия шел по пути дальнейшей галлизации. В начале XIV века горожане в пять раз чаще владели французским по сравнению с сельскими жителями{814}. В землях кельтов французский также являлся языком городов и переселенцев. Одним из главных памятников старофранцузской литературы ирландского происхождения является поэма о возведении в XIII веке стен Нью-Росса, нового города, ставшего вскоре самым оживленным портом Ирландии{815}. Примечательно, что сам город, колонизаторы и торговля были воспеты в поэтической форме на французском языке. В то же время в Уэльсе и Ирландии к французскому как языку престижа и привилегий присоединился и английский. Не будучи престижным на родине, английский язык стал таковым в колонизованных западных землях. В XII веке переселенцы прибывали в новые города Уэльса и Ирландии из разных краев: в одном источнике начала XII века упоминаются «все горожане, французы, англичане и фламандцы» города Кидвелли{816}. Однако на протяжении XIII и последующих столетий городское население колонизованных кельтских областей стало все в большей степени самоидентифицироваться в качестве английского. Сохранилась петиция XIV века, составленная от имени «английских горожан английских боро в Северном Уэльсе» (характерно, что она при этом написана на французском языке). В другом документе утверждалось, что «ни один валлиец не должен жить в свободных городах Уэльса»{817}. Часто города Уэльса и Ирландии оставались в языковом отношении изолированными анклавами, как города польской Галиции или Ливонии.
Будучи языковыми анклавами, города тем не менее редко характеризовались полной этнической однородностью. Внутри городских стен жило и местное население, иногда — на самой тяжелой физической работе, а иногда — в роли ремесленников или даже купцов. Рост городской экономики в XII–XIII веков, по-видимому, вполне позволял процветать и эмигрантскому, и коренному населению. Картина приобретает более мрачные оттенки с началом экономического спада Позднего Средневековья. Еда в «кормушке» начала убывать, и припавшие к ней смотрели друг на друга все более недоверчивыми глазами.
Кризис восточноевропейских династий в Позднем Средневековье привел в частности, к тому, что немецкое население городов оказалось перед лицом куда более сложных и острых политических проблем. В XII–XIII веках эмигранты-немцы находились под могучим покровительством местных правителей, которые, в свою очередь, имели достаточно устойчивые позиции. В новых условиях XIV и XV веков немецкие переселенцы часто оказывались перед нелегким выбором и порой в этом выборе ошибались. Случалось, что местные правители видели в немцах «пятую колонну», как было в Померелии в 1290 году, когда местный славянский правитель обвинил «немцев, живущих в Померелии», в сговоре с его немецким недругом, маркграфом Бранденбургским{818}. По-видимому, бывали случаи, когда немецкое население действительно пыталось привести к трону немецкого короля{819}). Например, в ходе династийных маневров начала XIV века, которые привели к возрождению королевства Польского под властью Владислава Локитека, немецкие бюргеры Кракова допустили серьезный просчет. Они сначала поддержали не Локитека, а люксембургского претендента, затем силезского, в результате лишились союзников и навлекли на себя жестокие репрессии, принявшие форму преследований по национальному признаку. Крайне недружественно настроенная летопись под названием Annates capituli Cracoviensis описывает, как
«в год от рождества Господа нашего Христа 1312-й, бюргеры города Кракова, объятые безумной германской яростью, будучи приспешника ми мошенников, тайных и замаскированных врагов мира, предложили принести клятву верности, точно так, как Иуда поцеловал Иисуса, но потом забыли о страхе перед Господом и оказали открытое неповиновение Владиславу, герцогу Кракова и Сандомира и правителю всего королевства Польского»{820}.
Восстановив контроль над городом, Владислав повелел некоторых горожан протащить по улицам, привязав к лошадям, после чего они были повешены за городской чертой и провисели так, «пока не сгнили сухожилия и не истлели кости». В летописи Krasiński Annals добавляется такая деталь: «всякий, кто не мог произнести слов soczewic (“чечевица”), kolo (“колесо”), miele (“жернов”) и mlyn (“мельница”), был предан казни». Применение такого критерия придает событиям несомненный этнолингвистический характер. Языковой шовинизм проявился и в другом нововведении того же года. С 18 ноября 1312 года официальные бумаги города Кракова стали писаться по-латыни, тогда как прежде они составлялись на немецком языке. «Отсюда начинаются акты города Кракова и документы о передаче собственности, записанные на латинском языке», — гласит относящийся к этому моменту текст{821}. Исключение немецкого языка из официальной документации служит продолжением антинемецкого погрома того года. В то же время факт замены его не польским, а латынью говорит о еще недостаточной развитости письменного польского языка. (Похожая история случилась с английским: когда после завоевания Англии франкоязычной знатью в 1066 году староанглийский язык исчез из бумаг типа завещаний и другой судебной документации, на его место пришла латынь, а не французский. Французский язык XI века, как и польский XIV-ro, еще не «заслужил» статуса языка официального делопроизводства.) На протяжении ста лет после краковского восстания 1311–1312 годов город постепенно полонизировался. По всей вероятности, сам Владислав Локитек настоял на том, чтобы полякам было позволено владеть престижными участками земли, прилегающими к рыночной площади, что само по себе причисляло их к рингбюргерам (ринг, Ring — «рынок»), а за период 1390–1470 годов доля в городском населении новых горожан польского происхождения возросла с 25 до 60 процентов. Краков стал скорее польским городом с немецким меньшинством, нежели немецким городом в Польше{822}.
НАРАСТАНИЕ НАЦИОНАЛИЗМА В ПЕРИОД ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Многие ученые отмечают проявившуюся в Позднее Средневековье тенденцию к обострению межнациональной розни и установлению более выраженных национальных границ{823}. Нарастание антиеврейских настроений в период между XI и XIV веками — факт, признаваемый всеми исследователями этой темы, и расходятся они только в одном — в датировке того момента, который можно считать поворотным в крутых переменах к худшему: были ли это погромы, связанные с Первым крестовым походом, суды над талмудистами середины XIII века, высылки и расправы 1290 года или же зловещая резня в космополитической Испании 1391 года. В любом случае нет сомнения, что христианская Европа 1492 года, когда произошло изгнание иудеев из Испании, была значительно нетерпимее к этническим меньшинствам, чем 400 годами раньше.
Такая же тенденция наблюдалась и на перифериях католической Европы. Атмосферу колониальных немецких городов Прибалтики можно было охарактеризовать как «постепенный переход от первоначальной терпимости ко все более негативному отношению к негерманцам». До XV века у Тевтонских рыцарей немецкое происхождение не считалось обязательным условием вступления в орден. Изменение характера взаимоотношений между Уэльсом и Англией уже получило в исторической литературе определение как «обострение противоречий между Уэльсом и Англией на неприкрытой национальной почве… и ужесточение и нарастание этих противоречий», и решающий поворот в этом процессе произошел в XIII веке.
Резкость по отношению к представителям другой этнической группы не была присуща исключительно эмигрантам или колониальным группам населения. Расовую ненависть нередко проявляли и коренные жители колонизованных территорий. «Хроника Дали-мила» насквозь пронизана враждебностью и подозрительностью к немецким переселенцам в Богемии{824}. Содержащийся в ней рассказ об истории Богемии, организованный в основном по принципу правления конкретных, сменяющих друг друга князей, всякий раз, когда заходит речь о германо-чешских противоречиях, приобретает особенно яркие краски. Рассказывается, например, как один антинемецки настроенный князь платил 100 марок серебром «каждому, кто принесет ему 100 носов, отрезанных у немцев».
Острая неприязнь к немцам, сквозящая в «Хронике Далимила», нашла еще более яркое отражение в труде другого чешского автора XIV века, кратком латинском трактате под названием De Theutonicis bonum dictamen{825}. Вероятнее всего, его автор был образованный горожанин-чех, возможно, нотарий или какой-то другой чиновник. Когда после строительства Вавилонской башни по земле расселились разные народы, пишет автор, то немцы были причислены к рабской расе, не имеющей своей земли и обреченной служить другим народам. Это и объясняет, почему «нет такой области, которая не была бы полна немцев». Постепенно, однако, немцы захватили себе и землю, и все привилегии свободной нации. Это удалось им благодаря тому, что их превосходство в торговых делах позволило аккумулировать капитал и тем самым «скупить землю многих свободных и благородных людей». Ныне, сетует автор, немцы в каждой бочке имеют свою затычку:
«Мудрый заметит, а благоразумный рассудит, каким образом эта ловкая и лживая раса проникла в самые плодородные угодья, лучшие фьефы, богатейшие владения и даже в княжеский совет… Сыновья этой расы приходят на чужие земли… Потом оказываются избраны в советники, тонким вымогательством присваивают общинную собственность и тайно отправляют к себе на старую родину золото, серебро… и иное имущество из тех краев, где они стали поселенцами; так они грабят и разоряют все земли; обогатившись, начинают притеснять своих соседей и восставать против князей и других полноправных правителей. Так поступал Иуда, так вел себя Пилат. Ни один сколь-нибудь искушенный человек не усомнится в том, что немцы — это волки в овечьем стаде, мухи на блюде с едой, змеи на груди, распутницы в доме».
Далее в трактате обвинения конкретизируются в том духе, что немцы господствуют в городских советах и плетут «заговоры» ремесленников, то есть формируют гильдии, с тем чтобы держать высокие цены. Автор вопрошает у князей и других правителей государства, зачем они терпят эту нацию. В его представлении, идеальным решением проблемы было бы такое, выраженное в эпизоде из событий недавнего прошлого:
«О Боже! Иностранцу во всем отдается предпочтение, а местный люд у него под пятой. Было бы полезно, справедливо и нормально, если бы медведь оставался в лесу, лиса — в пещере, рыба — в воде, а немец — в Германии. Мир был здоров, когда немцы служили мишенью для стрел: тут вырывали им глаза, там — вешали вниз головой, в другом месте они отдавали нос в уплату налога, здесь убивали их безжалостно на глазах у князей, там — заставляли пожирать собственные уши, в одном месте подвергали одной каре, в другом — другой».
По сути этот фрагмент — отчасти прикрытый псевдоисторической аллюзией призыв к погрому.
Обострение межнациональной розни в Позднее Средневековье включало и нарастание новой разновидности расизма — биологической. В частности, это видно из откровенно дискриминационного городского законодательства Позднего Средневековья, в котором из всех сохранившихся письменных свидетельств этническая рознь находит самое неприкрытое выражение. Начиная с XIV века городские советы и руководство гильдий стало издавать статуты или декреты, запрещающие представителям отдельных национальностей членство в некоторых привилегированных группах либо занятие ими определенных должностей. Одним из самых распространенных проявлений такого ценза служит применявшийся в Восточной Европе так называемый дойчтумспараграф (Deutschtumsparagraph), согласно которому на членство в гильдии могли претендовать только лица немецкого происхождения, причем в некоторых случаях это еще требовалось доказывать{826}. Судя по сохранившимся источникам, впервые такой случай произошел в брауншвейгской гильдии портных в 1323 году, и скоро дойчтумс-параграф стал достаточно обычным делом в практике гильдий. В Бранденбурге из 120 сохранившихся серий статутов за период между серединой XIII и серединой XVII века в 28 случаях (то есть в 23 процентах) этот критерий фигурирует. Два примера XIV века из истории города Беескова, лежавшего менее чем в 20 милях от Одера и вблизи крупных славянских поселений Лаузитца, наглядно показывают, как именно применялся этот ценз.
«Ученик, который приходит обучаться ремеслу сапожника, должен быть представлен мастеру и членам гильдии. Если он принадлежит к тем, кто по рождению и по крови имеет право работать, то его берут в обучение, в противном случае — нет. Ибо мы запрещаем сыновьям брадобреев, ткачей, пастухов, славян, детям священников и всем незаконнорожденным заниматься ремеслом в нашем городе».
Примерно так же настроены и пекари города Беескова: «Кто бы ни пожелал стать членом гильдии, он должен представить советникам и членам гильдии доказательства того, что он рожден законно, в добропорядочной немецкой семье… Никто из вендского племени в гильдию не допускается»{827}. Претенденты на членство в гильдии, чтобы доказать, что они «праведные и честные немцы, а не венды» (echte und rechte dudesch und nicht wendisch){828}, зачастую обязаны были представить свидетельство о рождении (Geburtsbhef), с указанием имен родителей и прародителей и подтверждением того, что податель принадлежит к «добропорядочному немецкому племени» либо является «немцем по крови и языку»{829}. Некоторые такие бумаги сохранились в восточноевропейских архивах.
Естественным следствием этого дискриминационного законодательства был запрет на смешанные браки. Например, в 1392 году рижская гильдия пекарей издала распоряжение: «Кто бы ни пожелал удостоиться чести членства в нашей компании, он ни за что не должен брать в жены ни одну женщину с дурной репутацией, либо незаконнорожденную, либо не немецкого происхождения (un-teutsch); ежели же он женится на такой женщине, то должен будет оставить компанию и должность»{830}. Иногда подобные ограничения налагались и на кандидатов в городской совет. В начале XV века, например, претенденту на кресло городского судьи немецкого городского поселения в Венгрии Офена (Пешта) вменялось наличие четырех прародителей-немцев{831}. Биологический критерий национальной принадлежности заменил собой фактор культурного самоопределения.
В Позднее Средневековье аналогичную расовую нетерпимость демонстрировали и бюргеры Ирландии. Городские статуты в ряде англо-ирландских городов не допускали гражданства представителей коренного населения либо их членства в гильдиях. В середине XIV века архиепископ Армагский в своих проповедях порицал горожан Дрогиды англо-нормандского происхождения за исключение ирландцев из их гильдий{832}. В городе Лимерике в XV веке «ни один человек, кто по крови и по рождению ирландец», не должен был допускаться к официальным должностям либо к ученичеству у ремесленников{833}. Аналогичным образом ремесленники Дублина обязывались «не брать в ученики никого, кроме лиц английского происхождения»{834}. Можно привести еще множество примеров из истории других ирландских и валлийских городов. Тот факт, что в ирландских документах дискриминационного характера в XV веке начинает активно использоваться выражение «по рождению», означает, что и тут произошла смена критериев национальной принадлежности. Как и в Восточной Европе, колониальное население и этнически обособленные группы горожан стремились окружить себя защитными барьерами перед лицом экономического спада и притязаний коренного населения.
Одновременно имело место стремление оградить культурную чистоту эмигрантской части населения. Практически сразу после первого вторжения англо-нормандцев в Ирландию новые власти стали предпринимать усилия не только по дискриминации коренного населения, но и недопущению ассимиляции переселенцев. Кульминация этой политики пришлась на XJV век. В наиболее детально проработанном виде меры такого рода зафиксированы в Статутах Килкенни 1366 года, которые суммируют и развивают прежние законодательные нормы{835}. В этих статутах запрещались браки между коренными и новыми жителями; предусматривалось использование англичанами — жителями Ирландии только английского языка и ношение исключительно английских имен. Даже скакать верхом они должны были на английский лад, то есть в седле, равно как и носить английскую одежду. Ни один ирландец не мог быть допущен к духовному сану либо в монастырь в английских областях Ирландии. В свою очередь, английским поселенцам запрещалось играть в ирландскую игру гэрлинг (прообраз хоккея на траве) или содержать ирландских менестрелей. Здесь, на границах Европы, завоевание и колонизация уже начали выдыхаться. Отсюда — осознание реальной угрозы того, что сами колонизаторы могут подвергнуться ассимиляции со стороны коренного населения. Выражаясь словами Статутов Килкенни, колониальное население усваивало «манеры, моды и язык своих ирландских врагов». Не сумев ассимилироваться в культурном плане с большинством населения, англичане в Ирландии создали небольшую колонию в границах Пэйла, которая жила по английским порядкам, имея в ближайшем соседстве, с одной стороны, прошотландски настроенных эмигрантов, а с другой — враждебных шотландских горцев. Результатом такого сосуществования явилось обострение расизма в его агрессивно-оборонительной форме.
Этнически пестрые социумы на европейских окраинах существовали в контексте более широкой европейской культуры, которая на протяжении всего Средневековья эволюционировала в сторону все большей однородности. В XI или XII веке один венгерский церковный автор записал такое наблюдение: «По мере того, как иммигранты приходят сюда с разных концов земли, они несут с собой разные языки и обычаи, разнообразные умения и виды вооружения, которые украшают и множат славу королевского двора и подавляют гордыню внешних держав. Королевство одной нации и одного обычая — слабое и хрупкое королевство»{836}. Спустя несколько столетий расистское по сути законодательство некоторых колониальных государств убеждает нас в том, что от этого плюрализма не осталось и следа. На всех вновь освоенных, завоеванных либо обращенных в христианство окраинах Европы мы имеем примеры ущемления в правах коренного населения, стремления усугубить сегрегацию общества, когда коренные жители высылались на окраины, наподобие «ирландских городов» («айриштаунов») в колониальной Ирландии, и политики объявления вне закона определенных культурных институтов коренного общества. Последние столетия Средневековья отмечены созданием гетто и расовой дискриминацией.
Со временем в текстах, отражающих состояние межнациональных отношений в пограничных областях Европы, идеи естественной и извечной вражды стали доминировать. Французский доминиканец с легкостью писал о «естественной ненависти» между поляками и немцами, а комментатор «Саксонского Зерцала» в XIV веке объяснял его положения, запрещавшие саксонцам и вендам свидетельствовать друг против друга либо выступать судьей, тем обстоятельством, что «они издавна были врагами». Аналогичная тенденция укоренилась и в Ирландии. Для характеристики отношений между англичанами и ирландцами в «Ремонстрации» исконно ирландских князей 1317 года использовано такое выражение: «непримиримая вражда и вечные войны». Поколение спустя Ричард Фиц-Ральф, архиепископ Армагский, объяснял папе римскому, что «эти две нации всегда настроены друг против друга в силу традиционной ненависти, поскольку ирландцы и скотты испокон веков имели разногласия с англичанами»{837}.
История мудехар, испанских мусульман, оказавшихся под христианским владычеством, служит еще одним подтверждением этой тенденции. Ясно, что в Позднее Средневековье их положение постепенно ухудшалось. По первоначальным условиям их покорения в XII и XIII веке испанские мусульмане обычно сохраняли за собой свою землю, судей и законы, а также право совершать молитву в мечетях. «У меня в стране много сарацинов, — писал Хайме I Арагонский. — И все они сохраняют свои законы, как если бы жили в стране сарацинов»{838}. Однако, несмотря на то, что преемники Хайме и другие короли христианского мира подтверждали их основные права, вымывание судебно-правовой автономии мусульман было налицо и приобретало все более необратимый характер. Тот принцип, что свидетельствовать против мусульман в суде могли только представители их национальности, в Валенсии был нарушен в 1301 году, когда Хайме II издал распоряжение, что «только два добропорядочных свидетеля-христианина могут свидетельствовать против иудея или сарацина, независимо от тех привилегий, какие мы или наши предки даровали иудеям и сарацинам»{839}. Позднее тот же монарх повелел, дабы во всех его владениях преступления, совершенные мусульманами против христиан, подлежали суду христианских судей и по христианскому закону, хотя тяжбы между мусульманами либо гражданские иски христиан против мусульман по-прежнему могли слушаться судом в составе мусульманских судей и по законам мусульман. В XIV–XV веках наступление на юридическую независимость мусульман продолжалось. Один кастильский документ 1412 года гласил: «Отныне общины мусульман в моем королевстве не должны иметь своих судей… судебные дела между мусульманами, как уголовные, так и гражданские, отныне надлежит слушать в городском суде»{840}.
Одновременно с ослаблением самостоятельности в судопроизводстве мудехары расставались и с арабским языком. Яркий пример вымывания языка предков являет изданный на кастильском наречии «Компендиум Главных распоряжений и запретов Закона и Сунны (Краткое изложение Сунны)», который был составлен имамом Сеговии Исой Джедди в 1462 году{841}. В предисловии он объясняет, что специалисты обязаны разъяснять закон «всем существам на свете на том языке, который они понимают». Он пишет на кастильском, «поскольку мавры Кастилии, в результате больших притеснений, большого принуждения, непосильной дани, трудов и невзгод, лишились своего благосостояния и своего арабского языка». Только в Валенсии и Гренаде еще сохранялись достаточно крупные группы носителей арабского языка.
После завоевания в 1492 году последнего мусульманского государства на Пиренеях — Гренады перед завоевателями уже, казалось, замаячило единое в религиозном отношении государственное образование. За изгнанием иудеев последовало насильственное обращение в христианскую веру мусульман. В Гренаде это произошло после 1499 года, в нарушение договора 1492 года; за нею последовала Кастилия в 1502 году и Арагон в 1526. Однако испанские христиане сочли разрушение закона и веры их врагов недостаточным для своего удовлетворения. Мориски, как стали называть новоообращенных христиан исламского происхождения, сохраняли определенные черты неассимилированной общности. Как и в случае с насильственно обращенными иудеями, власти уже не довольствовались одной только внешней принадлежностью к господствующей вере, и за объявлением ислама вне закона последовало наступление на повседневные обычаи и обряды морисков. Был поставлен под запрет мавританский костюм, женщинам было предписано открывать на улице лицо, арабский язык был запрещен в районах, где он еще имел хождение, и силой насаждались испанские имена. Ответом на эту политику культурного геноцида стало восстание морисков в 1568 году. И даже его подавления с точки зрения нового витка расистской политики завоевателей оказалось мало. В 1609–1614 годах мориски были изгнаны в буквальном смысле. Не исключено, что число навсегда покинувших Пиренеи в те годы составило треть миллиона{842}.
Как уже упоминалось в предыдущей главе, на пороге X века Регино Прюмский идентифицировал национальность по признакам происхождения, обычаев, языка и законов. В Позднем Средневековье мусульмане Испании лишились своего закона, а постепенно и языка. Высшая точка этого наступления на носителей ислама пришлась на рубеж XVI века, когда в ходе насильственного крещения они были лишены своего закона в самом глубинном понимании, то есть религии. В XVI веке неприемлемыми с точки зрения христианского большинства стали уже их обычаи. В первые годы XVII века оказалось невозможно терпеть дольше и сам народ. В начале Нового времени в Испании решающим критерием для продвижения по служебной и иерархической лестнице была «чистота крови», то есть происхождение, не запятнанное ни еврейской, ни мавританской кровью. Появился расизм крови в его современном виде.
10. РИМСКАЯ ЦЕРКОВЬ И ХРИСТИАНСКИЙ НАРОД
«Кто намеревается выступить в поход за христианскую веру, должен пометить свою одежду знаком креста»{843}.
РОЛЬ ПАПСТВА
Определение латинского христианства, как отмечалось в Главе 1, носит двоякий характер: оно означает определенный обряд и послушание, причем оба аспекта тесно взаимосвязаны. На протяжении Высокого Средневековья эта взаимосвязь все более укреплялась. Прочие религии и разновидности самого христианства зачастую допускали большее обрядовое разнообразие в рамках одной и той же структуры. В других случаях, напротив, единство литургического цикла сохранялось вне зависимости от какой-то конкретной организационной иерархии. Латинская же церковь не просто делала упор на единообразии общественного отправления культа, но и практически отождествляла ритуальный цикл с лояльностью церковным властям. В этом и заключалось фактическое (хотя и не абсолютное) единство обрядовой и организационной стороны.
Послушание и тип обрядового культа, о которых идет речь, были, естественно, римскими. Надо всеми епископами стоял папа римский. Образцом для всех церквей был конкретный, установленный Римом порядок совершения службы. «Рим — … глава мира», а «Римская церковь обладает высшей властью и направляет весь христианский мир»{844}. Признававшие эти претензии Рима на церковное верховенство территории и народы и включал римско-католический мир — мир латинского христианства. Если говорить о различиях между Ранним и Высоким средневековьем, то отчасти они состояли в том, какое значение придавалось этим притязаниям Рима и насколько успешно они реализовались. Папство с самого начала возведения христианства в ранг официальной религии, то есть со времен Константина, неизменно сохраняло положение идейного центра и высшей церковной инстанции, однако с XI века средства и методы поддержания этого положения претерпевали существенные изменения. Начиная с реформаторского движения середины и конца XI века власть римского папы крепла, решения Рима претворялись с большей настойчивостью, а единообразие обрядового цикла проявлялось все сильнее. Одним из последствий этого явился рост католического самосознания. Поклонение св. Петру, подчинение власти папы и неукоснительное соблюдение определенных форм культа и церковной организации усиливались и переплетались все теснее. Самоопределение людей Высокого Средневековья неотделимо от постулатов и организационных структур Римской церкви. Тот, кто стоял у руля «Святой римской церкви» (Sancta Romana ecclesia), мог на законном основании требовать послушания от «народа христианского» (populus christianus){845}, который, в свою очередь, все чаще осознавал себя таковым. Одним из наиболее тонких вопросов рассматриваемой нами экспансии является соотношение между этим самоопределением и особенностями социального, экономического и военного положения людей средневековой Европы, которое мы можем восстановить на основе сохранившихся источников.
Джон Манди точно подметил, что «с григорианской эпохи и вплоть до кризиса XIV–XV веков развитие Европы проходило под воздействием бессистемного, в редких случаях осознанного, но вполне реального альянса европейской знати с престолом св. Петра»{846}. В этом заключается если не вся правда, то ее часть. Любой читатель «Регистра» папы Григория VII (1073–1085), основателя папской монархии Высокого Средневековья, убедится, что концепция Манди имеет под собой все основания. В этом документе, вышедшем из самого сердца реформированного папства, сохранились послания, свидетельствующие об установлении и развитии связей между папой римским и знатью Италии и других стран Европы. «Регистр» открывается триумфальными словами: «Regnante domino nostro Iesu Christo…» Через 200 с лишним томов целостность реестра нарушается, в документах начинает угадываться сумятица и запустение, отражающие хаос последних лет правления папы Григория. В промежутке же неоднократно встречаются распоряжения, увещания и уговоры, обращенные к существующим или потенциальным союзникам в лице знати.
Некоторые из таких альянсов уходили корнями во времена, предшествующие понтификату Григория. Из его послания «к князьям, желающим предпринять экспедицию в Испанию», например, ясно, что между папством и аристократией северной Франции уже при предшественнике Григория были заключены официальные соглашения, в которых детально оговаривались условия завоевания Пиренейского полуострова у мусульман. Союз между Римом и великими итальянскими аристократками Беатрисой и Матильдой Тосканскими, «возлюбленными дочерьми св. Петра», а также узы вассальной верности, связывавшие нормандского князя Ричарда Капуанского с Римской церковью, тоже были политическим наследием предшествующих пап. Но и здесь, как и во многом другом, реформатор Григорий не просто взял уже имеющееся, но придал ему новую энергию и преобразовал.
Инициативы по установлению контактов между Римом и знатными правителями христианского мира могли исходить от разных сторон. Любой альянс предполагает наличие взаимных интересов.
Например, в датированном сентябрем 1073 года письме Григория герцогу Швабскому Рудольфу после похвалы за «любовь и почет в отношении Святой Римской церкви» идет ссылка на послания герцога Григорию по поводу надлежащих отношений между церковными и королевскими властями. Получается, что Рудольф и прежде поддерживал с папой контакт и, возможно, рассчитывал извлечь для себя какую-то выгоду из прямых связей с Римом. Природа взаимного интереса между немецким герцогом и папой-реформатором угадывается из намеков, содержащихся во второй части послания Григория. Папа не только сообщает Рудольфу, что не держит зла на немецкого короля Генриха IV, но и пишет, что вообще хотел бы ни к кому не испытывать зла. Такое несколько зловещее выражение доброй воли он завершает словами о том, что намерен обсудить вопрос гармонии между церковной и королевской властью с Рудольфом, Беатрисой Тосканской и «другими богобоязненными правителями»: «Засим взываем к Вашему Благоразумию, дабы Вы всегда стремились ко все большей верности св. Петру и без промедления припадали к его святыням, как для молитвы, так и для того, чтобы обдумать этот крайне важный вопрос». Через четыре года Рудольф был избран на царство, одержав победу над Генрихом IV, а Григорий всячески подчеркивал, что он «не оказывал поддержку ни одной из сторон, и только справедливость решила исход дела», то есть, по его мнению, справедливость оказалась на стороне Рудольфа. В марте 1080 года он признал Рудольфа королем и пожаловал его сподвижникам отпущение всех грехов. Некогда весьма туманно очерченная дружба вылилась в продвижение на трон и священную войну.
Связи между феодалами к северу и югу от Альп, оппозиционно настроенными по отношению к империи, реформированным папством и сторонниками священной войны как внутри, так и вне границ христианского мира порой носили достаточно тесный и близкий характер. Один из примеров тому приведен в генеалогическом древе на рис. 4. В нескольких поколениях одного и того же рода и в пределах его брачных связей мы видим здесь лидера оппозиционной лотарингской знати; папу-новатора; главных сторонников папы Григория VII из числа итальянских аристократов и человека, которого войско Первого крестового похода избрало своим предводителем после победы в Иерусалиме. Далеко не всякий персонаж этого генеалогического древа приходился другом или союзником всем остальным, но существовавшие между ними узы символизируют собой сам мир той эпохи. Его можно лаконично назвать миром всеобщих связей. В этой среде обычной темой разговоров и слухов были походы против мусульман, надлежащие отношения между церковной и светской властью и заветы св. Петра. Эта среда взрастила реформированное папство, вызвала на бой Салическую монархию и повела за собой облаченных в доспехи христиан в Святую землю. Это и был упомянутый Манди «альянс между европейской знатью и престолом Петра». (Рис. 4 и Табл. 3.)
Таблица 3.
Адресаты посланий папы Григория VII
Регион Духовенство Правители Прочие светские персоналии Всего Франция[18] 138 2 22 162 Италия 68 0 33 101 Германия 62 8 8 78 Богемия 4 10 0 14 Англия 5 9 0 14 Испания 3 9 0 12 Венгрия 1 7 0 8 Дания 0 6 0 6 Другие 5 9 2 16 Всего 286 60 65 411Переписка Григория VII может также быть полезна для воссоздания географических горизонтов реформированного папства. Сохранилось свыше 400 его писем, и в Табл. 3 показаны страны, в которых жили его адресаты. Подавляющее большинство писем, почти 65 процентов, направлялись епископам и другим прелатам Франции, Италии и Германии, что вовсе не удивительно. В то же время достаточно много посланий адресовано и уже упомянутым светским магнатам, герцогам и графам посткаролингского мира. Григорий намного чаще обращался с буллами к этим феодалам, нежели к королям Франции или Германии. За рубежами старой Каролингской империи переписка папы резко шла на убыль: в эти регионы направлялась от силы пятая часть всей корреспонденции за подписью папы Григория. В то же время отдельные регионы, например, Богемия или Англия, явно были неплохо знакомы с эпистолярным стилем Григория. Что поразительно — в этих «внешних зонах» письма папы чаще всего были адресованы королям и их семьям. Не намного меньше был объем переписки с правящей верхушкой — королями и князьями Ирландии, Англии, Дании, Норвегии, Швеции, Польши, Богемии, Руси, Венгрии, Византии, Сербии, Арагона, Наварры, Леона. Даже мусульмане северной Африки получали от папы Григория советы, слова ободрения либо порицания. А вот во Франции, Германии и Италии письма к членам королевских фамилий составляют ничтожно малый процент — всего три на сотню. За пределами же этого региона на них, наоборот, приходится почти три четверти общего числа сохранившихся эпистолярных свидетельств{847}.
Рис. 4. Лотарингский правящий дом и его родственные связи
Причин такой неравномерности было две. Первая, очевидная, заключалась в том, что папа Григорий и члены папского двора были намного лучше знакомы с Францией, Италией и Германией, нежели с более дальними регионами. Они и сами были родом из Италии или Лотарингии. Опыт, обретенный реформированным папством после 1046 года, привел к установлению прочных связей с крупными монастырями Клюни и Монте-Кассино во Франции и Италии. Интенсивные пасторские поездки папы Льва IX, без сомнения, ввели в папскую орбиту и Северную Францию, а собственная дипломатическая и легатская активность папы Григория охватывала обширную территорию от Альп до Северного моря. В то же время преобладание королей и прочих правителей среди его адресатов за пределами означенного региона не только связано с отсутствием детального знания местной жизни и сложностями в установлении прямого контакта с местной знатью или церковной элитой. Немаловажно и то, что, уже имея естественного союзника в лице военной аристократии Италии, Франции и Германии, папство в большей степени было заинтересовано в поддержке со стороны правителей более отдаленных земель. Иногда это происходило оттого, что христианизация (как было в Швеции) или борьба с мусульманами (как в Испании) нуждалась в мощной руководящей руке в лице королевской власти. В некоторых странах, например, в Польше или Венгрии, эти соображения еще более подкреплялись фактом реального могущества правящего монарха. Если менее централизованные государства наподобие Италии и Франции подвигали папу искать союзников среди крупных феодалов, то в новых христианских монархиях Северной и Восточной Европы большую ценность представляло союзничество именно с верховным правителем. К этому, разумеется, надо прибавить то обстоятельство, что владыки отдаленных королевств не предъявляли претензий на высшее господство в Италии.
Письма Григория этим правителям сочетали пасторские наставления с обеспокоенностью по поводу имущественных прав св. Петра, то есть папства. Одним из направлений программы папы Григория был постулат, что отдельные крупные части христианского мира по сути являются собственностью св. Петра и его земного наместника — папы. Королевство Венгрия, писал он, «издавна передано во владение Святой Римской Церкви». Русское государство он вручил сыну Изяслава Ярополку, объявив его «исполняющим обязанности наместника св. Петра» (ex parte beati Petri). В 1079 году в письме представителю знатного славянского рода Везелину он выражал удивление в связи с тем, что тот, «недавно поклявшийся в верности св. Петру и нам, восстал против человека, которого апостольская власть сделала королем Далмации». Правителям пиренейских государств папа сообщал, что «королевство Испания… было передано св. Петру и Святой Римской Церкви в качестве законного владения». В конечном счете имущественные притязания папства не играли главной роли в тщательно разработанной идеологии папской монархии, но можно сказать, что они явились тем импульсом, который сдвинул машину с места.
Одним из признаков верности папству было соблюдение культового и ритуального единообразия, ярым сторонником которого выступал Григорий VII. Он, в частности, настаивал на том, чтобы духовенство Сардинии «следовало обычаю Римской церкви» и брило бороды. Эта практика, заявлял он, существовала «во всей западной Церкви с первых ее дней», и тот сардинский церковник, кто откажется выполнять это требование, должен быть лишен его владений. Усилия Григория были также направлены на решение более общих вопросов, в первую очередь соблюдение обрядового цикла. В Богемии он ввел запрет на богослужение на чешском языке. Особенно убедительную победу он одержал в Испании, где его политика романизации вылилась в замену мосарабской литургии римским обрядом. Правитель королевства Леон и Кастилия Альфонс VI, неоднократно женатый на француженках и имевший тесные связи с самым авторитетным французским аббатством Клюни, был, в общем-то, склонен перенять французскую церковную практику, и тем не менее «католический порядок пришел в Испанию»{848} не без трудностей. В 1074 году папа Григорий много времени и усилий посвятил претворению этих преобразований, направляя Альфонсу и его другу королю Наваррскому Санчо IV буллы такого содержания: «Я призываю Вас признать Римскую церковь действительно своей матерью… получить из ее рук порядок и высший пост, какие положены Вам наравне со всеми другими королевствами Запада и Севера»{849}. Спустя семь лет его послания исполнены торжества: «Ваше превосходительство, столь любимое Нами, знает, что одно радует Нас необычайно — или, точнее, ублажает милосердие Господне — это то, что в Вашем королевстве Вы установили в церквях порядок, предписанный матерью всех церквей, Святой Римской церковью, для соблюдения и исполнения в том виде, какой существует с древних времен»{850}.
Переписка папы Григория, достигавшая Руси, Африки, Армении, Польши и Ирландии, показывает, как расширялись границы влияния папства по мере того, как церковь пересматривала свою природу и ширила сферу своих интересов. Влияние нового папства, преисполненного интервенционистских настроений, чаще всего рассматривается через призму развития и расширения таких каналов и проводников взаимных связей и влияний, как папские легаты, соборы и послания{851}. Самым первым легатом, совершившим в 1064 году по поручению Рима поездку на Пиренейский полуостров, стал кардинал Гуго Кандид. Поручая ему эту миссию, папа исходил из убеждения, что «в Испании единство католической веры пошатнулось и почти повсеместно наблюдается отход от церковной дисциплины и культа святых таинств»{852}. Как мы уже видели, Григорий VII написал испанским правителям двенадцать посланий{853}. Его преемники продолжили регулярные контакты с этим регионом. Однако только в следующем дошедшем до нас сборнике папских документов, «Регистре» Иннокентия III (1198–1216), мы видим, насколько обычным явлением стали для Испании буллы реформированного папства: за 16 лет своего пребывания на папском престоле Иннокентий направил в Испанию свыше 400 посланий.
И в кельтских государствах, и в Восточной Европе конец XI — начало XII века ознаменовали собой новый этап регулярных контактов с католическим Римом. Послание Григория VII, адресованное Тэрлу О'Брайену, «королю Ирландии», было первым документом такого рода, сохранившимся до нашего времени после VII века{854}. Первым папским легатом, посетившим Уэльс и Шотландию, стал Иоанн Кремский, который прибыл в Британию в 1125 году{855}. В 1073 году Григорий VII направил герцогу Богемии буллу, в которой выражалась благодарность за уважение, какое тот выказал папским легатам, и одновременно угроза тем, кто, подобно епископу Пражскому, выступил против папских посланников. «Ибо, по небрежению Наших предшественников, — писал он, — и невниманию со стороны Ваших предков… посланники апостольского престола редко направлялись в Вашу страну, в силу чего кому-то из Вас это кажется новшеством»{856}. Надо признать, что в эпоху Высокого Средневековья присутствие папских легатов уже мало для кого являлось «новшеством». К первой четверти XIII века, когда объем исходящей из Рима переписки ежегодно исчислялся сотнями писем, когда на Латеранский собор 1215 года съехались свыше 400 епископов, а папские легаты на правах регентов правили Англией, предпринимали попытки создания церковного государства в Ливонии и вели армии наемников в бой против императора Священной Римской империи, уже действительно были все основания считать, что папство осуществило мечту Григория VII и показало, «сколь велико могущество этой епархии»{857}.
ПОНЯТИЕ ХРИСТИАНСТВА
Так, начиная с середины XI века, Рим утвердил новую, единую в организационном и культурном отношении западную церковь. Параллельно с развитием этого механизма власти и взаимных контактов можно видеть, как происходило укрепление того, что труднее поддается определению или датировке, а именно — самоопределения. Конечно, самоопределение христиан для народов Средиземноморья и Западной Европы еще со времени обращения имело важное значение, однако именно в Высокое Средневековье оно окончательно утвердилось и приняло конкретные формы.
Понятие христианства заключает в себе много значений и в том числе номинативное. В самом деле, уже само имя христианина в Римской империи служило основанием для преследования: как писал Тертуллиан, «предмет закона — это имя» (nomen in causa est){858}. В эпоху Высокого Средневековья сочетание «христианское имя» было весьма употребительным. Так, хронист Малатерра после описания победы мусульман над христианами на Сицилии повествует о том, как победители-неверные «безмерно радовались этому обесчещению христианского имени»{859}. В послании из Антиохии предводители первого крестового похода описывали его как «главный и крупнейший город христианского имени»{860} (имея в виду, что здесь христиане впервые получили свое название). Когда в 1124 году объединенное войско венецианцев и Иерусалимского королевства взяло Тир, летописец Вильгельм Тирский охарактеризовал это событие как «возвращение ему христианского имени»{861}. Одним из признаков принадлежности к иной вере было враждебное отношение к самому этому понятию. Первый крестовый поход был направлен против «врагов имени христианина»{862}. Такой же ярлык мог быть навешен и на иудеев. Имя «христианин» имело врагов, а следовательно, нуждалось и в защитниках. Граф Сицилийский Роджер, прославившийся своими победами над мусульманами, заслужил приветствие как «бесстрашный сокрушитель врагов имени христианского»{863}, а испанский военный Орден св. Иакова провозглашал своей целью «борьбу в защиту христианского имени»{864}.
В случаях, подобных описанным, понятие «имя» несомненно наполнено более широким смыслом, чем просто обращение. И все же выражение «христианское имя» обладает силой именно в той мере, в какой используется как ярлык. Будучи инструментом обозначения и различения, оно служило для прелатов, князей и летописцев христианского мира средством самоидентификации. Когда великие отцы Римской церкви эпохи Высокого Средневековья очерчивали степень своих правопритязаний, они подчас формулировали это так: «Все королевства, в коих почитается имя христианина, уважают Римскую церковь как мать»{865}. Парафраз «все королевства, в коих почитается имя христианина», весьма точно характеризует сферу папского влияния. И естественно, оно также подразумевает вполне определенные народы и территории.
Латинский термин «номен», то есть имя, можно еще перевести как «семья» или «племя», и в каком-то смысле понятие «христианин» также приобрело квазиэтническое значение. Верно, что христианами не рождаются, а становятся — путем крещения, но для огромного большинства рожденных в христианской Европе в Высокое Средневековье крещение было актом, само собой разумеющимся. Они вполне могли считать себя не добровольными членами определенного сообщества единоверцев, а членами христианской «нации» или «народа». Как сказал Монтень, «Мы христиане в силу тех же причин, по каким мы являемся перигорцами или немцами»{866}. Этническое наполнение понятия «христианин» в эпоху Высокого Средневековья прослеживается во всем, и, по-видимому, этот оттенок его значения неуклонно возрастал. Термин «христианский народ» (populus christinus), вполне расхожий, означает не более чем «общину христиан». Однако когда на рубеже VIII–IX веков саксонцы были насильно обращены в христианскую веру франкским оружием, принятие новой религии сделало их «по сути одной расой (quasi una gens) с самими франками»{867}. Экспансия нового тысячелетия привела христиан туда, «где прежде христиане никогда не бывали»{868}, и эти новые сопоставления лишь усилили осознание того, что христиане — это народ, племя или раса. Они столкнулись с населением с совершенно другими традициями, речью, законами и во многих случаях поставили себя в положение привилегированного меньшинства. Разница вероучения оказалась неразрывно связана с различием в этнической принадлежности.
Один источник описывает, как в 1098 году, во время первого крестового похода, после взятия крестоносцами Антиохии, Иисус явился армейскому священнику и вопросил: «Человек, что это за раса (quaenam est hec gens) вошла в город?» — и получил ответ: «Христиане»{869}. Григорий VII также использовал понятие «христианская раса» (Christiana gens). Выражение «святой народ христианский» (gens sancta, videlicet Christianorum){870} встречается у немецкого летописца Арнольда Любекского. Французские героические песни и стихотворные хроники повествуют о «христианском народе» (la gent cristiane){871} и в одном таком эпосе крестоносцев, «Песни об Антиохии» (La chanson d'Antioche), Иисус изображается висящим на кресте, разъясняющим добросердечному вору на соседнем распятии, что «из-за моря придет новый народ (novele gent) и отмстит за смерть Отца своего»{872}. Особенно отчетливо наполнение понятия христианин этническим содержанием прослеживается у французского прелата Бодри Бургейльского, труды которого относятся к началу XII века. В предисловии к своей истории первого крестового похода он объясняет, что стремится быть справедливым и к христианам, и к язычникам, хотя «сам я христианин и произошел от предков-христиан, так что ныне, можно сказать, владею святостью Господней по наследству и для себя избрал наследственную профессию христианскую»{873}. Далее он пишет, что умаление военного искусства язычников не есть метод прославления христиан, ибо это будет означать, что «наша раса» (genus nostrum) сражалась с «невоинственным народом» (gens imbellis).
Эти примеры показывают, как христиане, сталкиваясь в ходе средневековой экспансии с чуждыми народами, все больше придавали своему групповому самосознанию этнический смысл. Некоторые из тех, кому они противостояли, проводили такое же тождество. «Имя христианина, — писал францисканский миссионер Вильгельм Рубрукский, — кажется им [монголам] обозначением конкретной расы»{874}. Параллельно с этой тенденцией к «этнизации» наблюдалась другая, делающая упор не на происхождении, а на территориальных корнях. Христиане были народом или расой; они имели свои земли или области расселения, которые можно было описать географически. Наиболее часто употреблявшимся термином для обозначения зоны христианского влияния является выражение «христианский мир». Здесь примечательны два момента: первый — что в конце XI века употребление этого термина резко участилось, а второй — что он все больше наполнялся вполне конкретным территориальным звучанием.
Понятие христианства прошло длительную историю{875}. Обычное его значение в период Раннего Средневековья было «люди христианской веры», но постепенно его толкование все больше привязывалось к определенной территории. Когда Григорий VII писал немецким епископам об опасностях, которые могут грозить «не только Вашему народу и королевству немцев, но и всему миру в христианских границах (fines Christianitatis)»{876}, то ясно, что «христианство» (или «христианский мир») в его представлении носит отчетливо географический оттенок. Аналогичным образом щедрость Людовика VII к духовенству влекла клириков в Париж «со всех концов христианского мира». Волна всеобщего воодушевления идеей третьего крестового похода прокатилась «по Нормандии, Франции и всему христианству». Лионский Собор 1245 года собрал прелатов «практически со всех концов христианства»{877}. Эти и подобные им примеры показывают, что христианство рассматривалось как особая часть мира, регион, определяемый по его религиозной принадлежности. Это были «все королевства, где почитается имя христианин».
В наибольшей степени этот термин наполнялся территориальным смыслом, когда применялся для обозначения области, границы которой расширялись за счет чужих земель. Конечно, значительный рост римско-католического мира, происходивший в Высокое Средневековье, можно было определять различным образом, например, как «рост числа и славы христианского народа»{878}, однако преобладающими были образы физического расширения границ и увеличения размеров (dilatio). На каждом фронте (лексика великой стратегии представляется тут как никогда уместной) с пера авторов писем, хартий и хроник с одинаковой легкостью срывались те же самые существительные и глаголы. На Сицилии граф Роджер «значительно расширил (dilatavit) границы Церкви Господней в сарацинских землях». На христиано-мусульманской границе в центре Пиренейского полуострова набожный кастильский аристократ трудился на ниве «расширения (dilatio) рубежей христианской веры». В Пруссии Тевтонские рыцари выступили с кампанией «расширения (ad dilatandum) границ христианского мира». Естественно, в полном смысле фокусом этой терминологии служили крестовые походы. Великие крестоносные идеологи говорили о крестоносцах, которые истово сражались «за распространение (dilatare) имени христианина в тех областях», а папские легаты перед битвой молились о том, чтобы Господь сумел «расширить (dilataret) царство Христово и церкви Его от моря и до моря»{879}.
Причина, почему экспансия приобрела такое значение для самоопределения христиан, заключалась в противостоянии двух квазиэтнических территориальных общностей. Для тех, кто ощущал свою принадлежность к христианскому миру, весь остальной мир был нехристианским. Это явствует из той дуалистической вспомогательной лексики, с помощью которой христиане и христианский мир противопоставлялись их идеологическим противникам. Молодые воины нормандской Сицилии, воодушевленные перспективой крестового похода на Иерусалим в 1096 году, «поклялись, что больше не будут нападать на земли христианские (fines christiani nominis), пока не проникнут в земли язычников (paganorum fines)»{880}. Здесь мы имеем прямой случай территориальной дихотомии, господствовавшей в восприятии географических понятий людьми эпохи XI–XIII веков. Абстрактное понятие «христианский мир» способствовало формированию противоположного понятия — «языческий мир»{881}. Незавоеванная Хайфа в Святой земле была «главой и гордостью язычества (paganismus)». Неуловимый император Византии Мануил Комнин был подвергнут осуждению за «укрепление язычества» (paganismus). Нормандский менестрель Амбруаз по поводу третьего крестового похода пишет о «лучшем из турок, которых можно встретить в языческом мире (paenie)». Мир виделся ареной столкновения великих религиозно-территориальных общностей. Например, падение Иерусалима в 1099 году представало не моментом триумфа западных лидеров или исключительно реабилитацией франков в качестве избранной расы, а прежде всего «днем, когда язычество было посрамлено, а христианство укрепилось»{882}. Значимость этого события определялась тем широким контекстом, в котором происходила битва империй добра и зла. Таким образом, жители христианской Европы все больше осознавали свою принадлежность к части мира под названием «христианство», а окружающий враждебный мир язычества рисовали и воспринимали как достойную цель для экспансии или расширения границ христианского мира. Иисус был не только «автором христианского имени», но и «идеологом расширения границ христианства»{883}.
Христианский мир, который начал осознавать себя таковым в XI, XII и XIII веках, был не христианский мир Константина, а явно западный, то есть латинский мир. Конечно, греческие и римские церкви Высокого Средневековья имели общего предка в лице церкви апостольских времен и Раннего Средневековья. В средиземноморском регионе первоначально отчетливого барьера между ними не существовало, и хотя между восточными патриархатами и Римом юрисдикция была поделена, это деление не всегда совпадало с географией распространения латинского ритуала и не являлось непреложным. В первую очередь Балканы и юг Италии характеризовались исключительно запутанной и изменчивой системой церковной власти и культа, где суть латинской литургии и папского владычества терялся за разнообразными обрядами и туманной иерархией Восточного Средиземноморья. Однако за время, прошедшее между последними Вселенскими соборами (680, 787, 869 гг.) и взаимными отлучениями 1054 года (эта дата традиционно считается моментом окончательного раскола между двумя церквями, хотя с недавних пор некоторые ученые ее оспаривают), проблемы между восточной и западной церковью неуклонно обострялись. Одной из зон сражения за власть и форму культа стало Средиземноморье, где папы, патриархи и императоры проводили соборы, обменивались посланиями и произносили свои вердикты. Другой такой ареной был новый миссионерский мир Северной и Восточной Европы. И если в Средиземноморье нарастающая вражда и противоречия до некоторой степени сглаживались многовековыми связями и общими традициями, то в регионах евангелизации противостояние проявлялось ярче и сильнее. Здесь христианские общины были поставлены перед выбором формы отправления культа и церковной организации — греческой либо латинской. Вопросы, которые в греко-римских городах могли многие годы оставаться нерешенными, перед князьями варваров были поставлены ребром.
Начиная с IX века нередки стали контакты, а подчас и конфликты между латинскими и греческими миссионерами на Балканах и в Восточной Европе. События, подобные истории с Кириллом и Мефодием (упомянутой в Главе 1), всегда развивались вокруг двух стержневых моментов — литургического единообразия и руководства церковью. Контуры будущей европейской цивилизации определялись тем, какую церковь, римскую или греческую, изберет для себя тот или правитель или народ. Русские выбрали для себя Восток, поляки и мадьяры — Запад. В европейском христианском мире медленно образовывалась трещина. Завершающие этапы этого процесса в Прибалтике пришлись на XIII–XIV века. По мере того, как немецкие и скандинавские христиане завоевывали позиции в Восточной Прибалтике, они вступали в контакт с русскими, которые, как мы знаем, «следовали греческому обряду, осуждали ненавистное латинское крещение, не соблюдали церковных праздников и установленных постов и расторгали браки, заключенные между новообращенными». С такой «наглостью» и «ересью» мириться было нельзя. «Мы повелеваем, — писал в 1222 году папа Гонорий III, — чтобы там, где русские, пойдя наперекор главе христианского мира, то есть Римской церкви, переняли греческие обряды, они были принуждены соблюдать латинский ритуал»{884}. Противостояние греческой и римской церкви в бассейне Средиземного моря тянулось многие века. Теперь, вследствие экспансии католицизма, происшедшей в Высокое Средневековье, граница между греческой и латинской церковью переместилась. Постепенно две разновидности культа вступили в конфликт по всей границе зон своего влияния с севера на юг. К середине XIII века последователи римской и греческой церквей оказались втянуты в военное противостояние от Константинополя, где «люди закона римского»{885} установили собственную Латинскую империю, до обледенелого Чудского озера на Новгородском тракте. С официальным крещением Литвы в 1386 году линия этого противостояния замкнулась: противники стояли теперь рука об руку и живот к животу. Отныне степень соприкосновения и новый накал ненависти и подозрительности сделали латинян еще большими латинянами, а греков — еще большими греками.
РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРДЕНА
Становым хребтом, на котором держалось латинское самосознание, было не только реформированное папство, но и совершенно новый тип организации, каким стал интернациональный монашеский орден, появившийся в XII веке и получивший развитие в XIII. В рассматриваемый нами период (950–1350 гг.) можно выделить четыре стадии в развитии монашеских орденов, которые условно соотносятся с четырьмя столетними отрезками времени. На первом этапе, в X веке, большая часть монастырей следовала единому уставному порядку, бенедиктинскому, в котором были детально прописаны правила повседневной монастырской жизни, а также сформулирована философия этой жизни или ее восприятие. Каждое братство жило независимо от других, аббат воплощал верховную власть, и монахи пожизненно оставались в обители, поскольку официально избрали себе духовное поприще. Бенедиктинцы поддерживали существование благодаря солидным земельным владениям, деревням и хуторам, служившим источником сельскохозяйственной продукции, а также ренты. Таким образом монахи были не только обеспечены едой и одеждой, но и могли оплачивать свои роскошные здания, облачения, книги и богатую церковную утварь. Самые крупные из бенедиктинских монастырей были богатейшими организациями в Европе.
Следующий этап в организации европейской монастырской жизни ознаменовался серьезными нововведениями, начало которых пришлось на X век, а расцвет — лишь на конец XI века. Этот этап был связан с аббатством Клюни в Бургундии. Клюнийская система предполагала наличие связей между отдельными братствами, причем связи эти были двоякого рода. Наиболее тесные взаимоотношения существовали между аббатством Клюни и дочерними обителями. Настоятели этих монастырей назначались и могли быть смещены решением аббата Клюни, а монахи дочерних братств считались святыми отцами головного монастыря Клюни и именно в его единой системе делали духовную карьеру. Менее тесными были контакты между Клюни и теми аббатствами, которые хотя и следовали клюнийской модели монастырской жизни, формально ему подчинены не были. Многие из них объединялись в «общества» (societas), особую форму братства, которая предполагала совместное отправление культа. Таким образом, взаимные узы монашеских братств в рамках клюнийской системы монастырей, если речь шла о головном аббатстве и дочерних обителях, по сути ограничивались личной зависимостью от аббата Клюни и не подкреплялись каким-то представительством, делегированием полномочий или внутренней регламентацией соподчинения. Что касается независимых аббатств, формально входивших в клюнийскую систему, то их роднило лишь литургическое и обрядовое единство без какой-либо формальной субординации. Подобно независимым бенедиктинским монастырям, клюнийские братства для поддержания жизнедеятельности нуждались в существенных земельных владениях.
Если сравнить клюнийскую систему монастырей, пережившую подъем в XI веке, и цистерцианскии орден, чей расцвет пришелся на XII век, то можно увидеть целый ряд различий. Система монастырей Клюни была ограничена довольно узкими географическими рамками, и, например, в Германии таких братств практически не было. Зато цистерцианская система в течение первых же пятидесяти лет после основания распространилась из своего родительского бургундского монастыря Сито и первых его дочерних обителей (Ла Ферте, Понтиньи, Клерво и Моримон) в такие отдаленные страны, как Ирландия, Норвегия и северо-западная Испания: «Из этих четырех ветвей, проросших от корней Сито, вырос целый орден, который Господь своею волею приумножал как числом аббатств, так и славой их добродетелей, во всех четырех сторонах света»{886}.
Структура клюнийских братств была относительно бесхитростна и опиралась на простую субординацию по отношению к аббату Клюни. Цистерцианцы же разработали сложную систему подчинения, делегирования и представительства, что способствовало четкой передаче информации и внутренних распоряжений по всей иерархии ордена. Стержневым принципом организации было аффилирование, то есть подчинение всех братств головному на правах филиалов. Каждый цистерцианскии монастырь был отделением другого монастыря и подчинялся ему, а вся цепочка вела наверх, в головное аббатство Сито. В противоположность независимым бенедиктинским братствам здесь существовала четкая структура управления, причем, опять-таки в отличие от клюнийской, эта система предполагала делегирование определенных полномочий, так что головная организация была освобождена от управления каждым филиалом в отдельности: руководство каждым филиалом осуществлялось из соответствующего центра. Наряду с этим имелись и центральные институты управления, в частности, проводились ежегодные капитулы всех аббатов и действовали единый для всех устав. Если клюнийские монастыри были по преимуществу молитвенным союзом, то цистерцианская сеть монастырей скорее зиждилась на административной системе управления. Благодаря этим особенностям Цистерцианскии орден широко распространился по Европе и имел развитую организационную структуру, представляя ясную административную модель для всякого, кто желал бы создать новое братство. Развитие цистерцианских монастырей приобрело поразительный размах. С другой стороны, цистерцианцы придерживались определенной замкнутости. Цистерцианские монахи обязаны были оставаться в одной и той же обители (то есть соблюдался принцип закрепления кадров), и для обеспечения жизнедеятельности им, естественно, тоже требовалась немалая собственность, в первую очередь земельная. Соответственно, им приходилось делать и существенные вложения.
На четвертом этапе развития монастырей, падающем на XIII век, сложная цистерцианская организационная система сохранялась и развивалась, но произошел отход от принципа закрепления кадров на одном месте и крупных материальных вложений. Новые монашеские ордена, стремительно распространявшиеся в этот период по всей Европе и за ее пределами, имели сложную, четко определенную и интернациональную по масштабам организационную структуру с элементами выборности и законотворчества. В силу этого доктрина этих нищенствующих орденов и их преимущественная концентрация в городах означали, что первоначально они могли существовать и без земельных владений. Разумеется, по прошествии времени они нажили определенное состояние, но чаще — в форме ренты или других доходов с горожан, нежели доходов с обрабатываемой земли. Отсутствие замкнутости означало, что подающие надежды монахи могли переходить в любой орден, который считали для себя более перспективным. К середине XIII века они уже претендовали на господствующее влияние в Парижском университете, где трудились некоторые из видных интеллектуалов церкви, например, доминиканец Фома Аквинский. Один доминиканский автор рассказывает историю, как цистерцианцы, пораженные свободой передвижения, какую имели братья нищенствующих орденов, принялись шпионить за молодыми монахами, выискивая их грехи. По преданию, св. Доминик их упрекнул: «Зачем вы шпионите за моими учениками?… Я знаю наверняка, что мои молодые последователи выйдут за ворота с тем, чтобы непременно вернуться… Зато ваши молодые братья будут сидеть взаперти и все равно уйдут»{887}. Это противопоставление недовольных своим заточением монахов, ищущих запретных ночных утех, и свободных в передвижениях, но исполненных ответственности молодых доминиканцев хотя и носит откровенно пропагандистский характер, но тем не менее правдиво отражает те сдвиги, которые произошли в XIII веке в представлениях об идеале религиозной жизни.
Четыре стадии развития западного монашества представляют движение в направлении усложнения административной системы и расширения свободы личного передвижения, от местной замкнутости ранних монастырей ко все более расширяющимся горизонтам международных религиозных братств. На смену независимым орденам раннего периода, сильно привязанным к своему региону, пришла система, в которой действовали гораздо более дальние межмонастырские связи. Новые монашеские ордена XII века, цистерцианцы и тамплиеры, или XIII века — францисканцы или доминиканцы, имели такие структурно-организационные особенности, которые позволяли им быстро распространяться вширь, не теряя при этом своей специфики. Они сочетали скорость размножения кроликов с самоизоляцией рака-отшельника. Новые братства закладывались на основе глубокого убеждения, что они в той же мере будут приспосабливаться к своему окружению, сколь и воздействовать на него. В первом столетии своей истории цистерцианцы основали 500 с лишним монашеских братств, францисканцы же — свыше 1400.
На карте 12 показано распространение Цистерцианского ордена в северо-восточных областях Европы, где со временем были основаны такие отдаленные общины, как Тутерё (в 200 милях от полярного круга) и Фалькенау (на границах Руси). Направление экспансии явно шло с юга и запада на север и восток, и важную роль в этом процессе играли колонии монахов из прилегающих областей, таких, как Англия для Норвегии или Германия — для некоторых районов Полыни. Цепочка субординации и взаимосвязей соединяла эти братства с великими головными аббатствами Франции, в особенности с аббатством Моримон, которое стояло над подавляющим большинством цистерцианских монастырей Северо-восточной Европы. Так, монастырь Могила, основанный в 1222 году в окрестностях Кракова, являлся дочерней обителью по отношению к Лубенжскому монастырю в Силезии, который, в свою очередь, подчинялся монастырю Пфорта в Тюрингии, а тот — Валькенриду в Гарце. Валькенрид же был филиалом монастыря Альтенкамп в Нижнем Райнланде, основанного в 1123 году на правах дочернего монастыря самого Моримона. На протяжении столетия была создана цепочка из шести монастырей, разбросанных на территории в 500 с лишним миль на восток, считая от колыбели ордена в восточной части Франции. Братства Португалии, Греции или Сирии являются еще более ярким примером широты географических горизонтов новых религиозных братств.
Такой стремительный и высокоорганизованный рост стал возможен благодаря новому уровню правовой регламентации и международной организации, основанного на письменных уложениях. Одним из способствовавших этому факторов было развитие легко тиражируемой модели, зачастую зафиксированной в письменных документах. Ее воспроизводство предполагало возможность переноса либо самой модели братства, либо монастырских кадров. Особенности организационной структуры международных орденов, сформулированные в соответствующих статутах и уложениях, были тесно связаны с их мобильностью. Сочетание четкой организационной структуры и мобильности делало ордена действенным инструментом распространения культуры общества вообще. Более поздние религиозные ордена, наподобие цистерцианского, военных орденов или нищенствующих братств, в XII и XIII веке имели все возможности максимально использовать преимущества католической экспансии. По сути дела, некоторые из них, например, ордена крестоносцев и миссионерские францисканские ордена, и создавались с целью осуществления этой экспансии. Более старые монашеские общины на новых приграничных территориях были относительно менее заметны. Так, на севере Испании братства бенедиктинцев не много выиграли от Реконкисты, а главенство на отвоеванных у арабов территориях захватили кафедральные соборы, военные ордена и нищенствующие братства. В Прибалтике могущество и богатство обрели ордена крестоносцев, цистерцианцев и доминиканцев. К примеру, в 1236 году папа Григорий IX выдвинул план назначения трех доминиканцев на епископские должности в Пруссии{888}. Новые черты религиозных орденов позволяли им распространяться на необычайно далекие расстояния, сохраняя при этом свою роль носителей общей культуры. Неудивительно, что в 1254 году перед Великим ханом, при его дворе в Монголии, именно францисканский монах вел дебаты с мусульманами, буддистами и язычниками. Столь же естественно воспринимается и тот факт, что в такой дали от дома у него был с собой обычный учебник теологии, написанный парижским теологом Петром Ломбардским, а также резное изображение Мадонны «во французском стиле»{889}.
Карта 12. Цистерцианские монастыри на северо-востоке Европы
КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ
Одна из любимых библейских цитат папы Григория VII была из книги пророка Иеремии (48:10): «Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч Его от крови!» Именно в правление Григория VII и его последователей концепция и практика священной войны получила распространение как важнейший элемент жизни западных христиан. Папство являлось направляющей силой, понятие христианства — вдохновляющей идеей, монашеские ордена — организационной структурой, а крестовые походы — той общей целью, которая объединяла людей средневекового Запада.
Крестовый поход был «обычным для христиан предприятием»{890}, политической и военной кампанией, которую одобрял и поддерживал весь католический мир — аристократы, клирики и простые люди. Именно это имеет в виду хронист XIII века Мэтью Пэрис, когда объясняет, почему он посвятил крестовым походам столько страниц своей ((Истории англичан»: «Мне не кажется неуместным в летописи и истории Английского государства… кратко описать ту славную войну, и в особенности потому, что от нее в те времена целиком и полностью зависело положение и состояние всей Церкви, а может, и самой католической веры»{891}. Аналогичный универсальный подход обнаруживаем в словах предводителей первого крестового похода, описывавших свой триумф в Иерусалиме и призывавших разделить свое ликование «весь латинский народ» (gens latina){892}. Наднациональный характер крестового похода поразил самих его участников. «Кто слышал когда-либо, — вопрошал крестоносец Фульхерий Шартрский, —
о том, чтобы воины одного войска говорили на стольких языках?… Если бретонец или немец желали задать мне вопрос, я был совершенно не в силах им ответить. Но хотя мы были разобщены разными языками, мы были как братья в любви своей к Господу и как близкие соседи-единомышленники»{893}.
Интернациональный характер крестового похода проистекал из его божественного предназначения. Участники похода шли под христианским знаменем — крестом, а не под династийным или национальным флагом. Армия крестоносцев, будь то в Палестине или Испании, являлась «воинством Господним» (exercitus Dei){894}. Во французском эпосе XII века войско первого крестового похода именовалось «войском божьим», «воинством Иисуса», «отрядом Господа», «святой армией», «дружиной Иисуса», «кавалерией Господней»{895}. Королевство Иерусалим было не просто еще одним династийным владением, а «новой колонией Святого Христианского мира»{896}. Несмотря на реальные этнические и политические разногласия, проявлявшиеся между крестоносцами с самого начала, язык, символика и в значительной степени сам факт борьбы за христианские святыни были тем, что объединяло всех католиков.
Свидетели событий 1090-х годов отчетливо сознавали их неординарность. «В наше время, — писал Гвиберт Ножанский, — Господь учредил священную войну»{897}. А Ордерик Виталий употреблял в отношении крестового похода выражение «неожиданная трансформация, случившаяся в наши дни»{898}. Эти необычайные события 1095–1099 годов могли затем получить широкую известность и стать моделью для применения в новых ситуациях. Урбан II, стоявший у истоков первого крестового похода, не мог заранее знать, что именно случится. Однако люди XII века знали о том, как повернулись события, и следовательно, могли рассчитывать на их повторение. Предводители второго крестового похода 1147–1149 годов постоянно оглядывались назад, на первый поход. Даже после того, как его войско потерпело жестокое поражение в Анатолии, Людовик VII Французский крайне неохотно обратил свой взор на простую, казалось бы, альтернативу — избрать для дальнейшего продвижения морской путь: «Пусть пройдем мы дорогой наших предков, чья беспримерная доблесть снискала им славу на земле и Небесах»{899}. Во время четвертого крестового похода, споря о том, кому быть новым латинским правителем Константинополя, Балдуину Фландрскому или Бонифацию Монферратскому, крестоносцы рассуждали: «Ежели мы изберем одного из этих двух великих мужей, то второго охватит такая зависть, что он уведет всех своих людей. И тогда земля эта будет для нас потеряна, точно так же, как был почти потерян Иерусалим, когда после его завоевания избрали Готфрида Бульонского»{900}. Мы видим, что французские рыцари, завоевавшие в 1204 году Константинополь, ощущали себя прямыми продолжателями дела французских рыцарей, которые летом 1099 года шагали по залитому кровью Иерусалиму. Участие в крестовых походах в самом деле могло стать гордостью фамилии или национальной традицией. Николай Сент-Омер, правитель города Фивы в франкской Греции и в прошлом супруг Марии Антиохийской, построил в Фивах замок и «внутри расписал его стены фресками, изображающими, как франки покоряли Сирию»{901}. Точно так же Элеонора, с 1236 года королева Английская, имела в Вестминстерском дворце «Антиохийские покои», декорированные сценами осады Антиохии во время первого крестового похода{902}. Ее супруг, Генрих III, повелел развесить на стенах своих покоев и замков картины с изображением его дяди, Ричарда Львиное Сердце, в битве с Саладином. Всякий раз, проходя по этим комнатам, придворные и слуги должны были созерцать наглядное напоминание о центральном событии крестового похода и о славе великого крестоносца.
Даже на неблагодарной почве Восточной Европы идея крестового похода могла наполниться мощным объединительным звучанием. В год 1108 был составлен документ, содержащий призыв епископов провинции Магдебург и других восточносаксонских лидеров к вождям остальной части Саксонии, Лотарингии и Фландрии присоединиться к кампании против язычников-славян{903}. Подлинное авторство письма точно неизвестно, но общий смысл вполне ясен. После перечисления тех жестокостей, какие терпят христиане от язычников, автор призывает клириков и монахов Саксонии, Франконии, Лотарингии и Фландрии «последовать примеру мужей Галлии (Gallorum imitatores… estote)… и объявить у себя в церквях: “Да грянет священная война, поднимайтесь все, кто в силе!”» Он призывает воинов-христиан:
«Собирайтесь все и приходите, все, кто любит Христа и Церковь, и готовьтесь, как мужи галльские, освободить Иерусалим! Наш Иерусалим… повергнут в рабство… пусть Он, кто своей могучей десницей дал силу победить врагов мужам Галлии, кои пришли с самого дальнего Запада на самый дальний Восток, даст и вам волю и силу подавить бесчеловечных язычников, с которыми мы соседствуем».
Мы видим здесь прямое обращение к памяти первого крестового похода и попытку направить эти воспоминания на решение совершенно новых задач — на войну против полабских славян-язычников. Провинция Магдебург становится «нашим Иерусалимом»; к воинам восточной Германии и Фландрии обращен призыв превзойти в доблести «мужей галльских», которые добились победы «на дальнем Востоке». Риторическая, образная и историческая память становится инструментом, обращенным в новом направлении.
Призыв 1108 года не принес немедленных плодов. Однако из него видно, что спустя десятилетие после падения Иерусалима под ударами крестоносцев события и образы первого крестового похода служили основой для выработки идеологических установок войны в совсем иной части христианского мира. В полной мере последствия этого проявились в 1147 году, когда прозвучал призыв ко второму крестовому походу и идея священной войны приобрела обобщенное звучание. «Каждая католическая провинция, — писал датский летописец Саксон Грамматик, — получила приказ двинуться на ту часть мира варваров, которая была к ней ближе всего».{904} Военные кампании проводились в Восточном Средиземноморье, на Пиренеях и в Восточной Европе, где в ходе так называемого крестового похода против славян терминологию, организацию и практику военных действий крестоносцев впервые ощутили на себе лужичане. С военной точки зрения кампания дала скромные результаты, но прецедент был создан. «Армия воинов со знаком (креста)» впервые вторглась в земли полабских славян{905}.
Следующая попытка применения сложной организационной структуры и идеологии крестового похода в Прибалтике имела место в 1171 году в связи с планами создания в Эстонии епархии под патронажем Дании. Папа Александр III издал буллу, адресованную христианским правителям и народам Скандинавии, в которой искусно сочетал восхваление их религиозной верности, утверждение авторитета папства, призыв поддержать местную церковь и предпринять крестовый поход. Он в самом деле сокрушался по поводу «дикости [язычников] — эстонцев… по отношению к верным сынам Господа», одновременно вознося хвалу Господу за то, что его адресаты «целеустремленно и твердо держатся католической веры и хранят верность святой Римской церкви, которая стоит надо всеми церквями, как помазанница Господа и правительница всех других церквей Божественной волею». Папа призывал скандинавов не терять упорства в своей верности и послушании, воздерживаться от грабительских набегов, слушаться и почитать прелатов Церкви и платить им церковную десятину и другие положенные подати. В конце шло обещание крестоносцам:
«Полагаясь на милость Божию и милосердие апостолов Петра и Павла, Мы даруем тем, кто со всей силой и искренностью будет ера жаться с язычниками, на один год отпущение всех грехов, в которых они исповедались и за которые им была наложена епитимья, так же, как Мы поступаем с теми, кто посещает гробницу Господню; тем же, кто падет на поле брани, Мы даруем отпущение всех грехов их, если они получали за них епитимью»{906}.
Отпущение грехов сражавшимся в защиту христианской веры против язычников и полное отпущение грехов погибшим — вот в точности формула крестового похода во Святую землю. И все же применение реформированным папством на театре военных действий за 1250 миль от Рима инструмента, который в предыдущее столетие получил распространение главным образом в контексте Средиземноморья, не было просто механическим перемещением. Насаждение идей крестового похода в Прибалтике означало попытку установления более тесных связей с Римом, утверждения папской власти, а также оказания материальной и психологической поддержки местным церквям. Освящение войны было равносильно принятию на себя в полной мере обязанностей народа, причисляющего себя к христианскому миру.
Судя по всему, призыв Александра ничем не увенчался, и языческая Эстония оставалась непокоренной вплоть до следующего столетия. Тем не менее машину крестового похода, единожды занесенную в Прибалтику, ожидало блестящее, но и кровавое будущее. Создание миссионерских епархий в Ливонии в 80-х годах XII века и обращение в христианскую веру части коренного населения означало, что теперь в самом сердце прибалтийского региона появилась новая и пока еще уязвимая церковь, которая больше всего нуждалась в защите и обороне со стороны христианского воинства. В 1199 году папа Иннокентий III, в полном смысле слова папа-крестоносец, пользовавшийся инструментом крестового похода со всем разнообразием и изобретательностью, призывал саксонцев «во искупление грехов своих… со всей мощью и мужеством восстать именем Господа и выступить на защиту христиан в этих землях [т.е. в Ливонии]»{907}. Войско крестоносцев действительно двинулось в Ливонию, но там его ждало полное военное фиаско. Был убит и сам епископ Ливонский. Только при его преемнике Альберте Букетехудском христианство в Ливонии утвердилось окончательно, причем одним из своих главных инструментов Альберт избрал ту организационную структуру, которая была самым непосредственным порождением крестоносного движения, военный орден.
Ордена крестоносцев, такие, как тамплиеры, госпитальеры и Тевтонские рыцари, отчасти имели успех в силу своей кажущейся невероятности. Идея, вызвавшая их к жизни, представляла собой сплав противоположностей. Рыцарь XI века был необуздан, алчен, неуправляем и похотлив, монах XI века — миролюбив, беден, покорен и целомудрен. На этих противоречивых корнях вырос орден крестоносцев XII века: бедные, чистые и послушные рыцари — и воинственные монахи. Такая комбинация агрессии и самоотречения оказалась необычайно привлекательной, и вскоре крестоносные ордена стали в ряд самых богатых и престижных организацией в христианском мире. Они были наиболее мощным и жизнеспособным организмом, появившимся вследствие милитаризации христианского мира в XI и XII веках.
Первым орденом, ставшим для других моделью, был Орден тамплиеров, основанный около 1118 года рыцарем из Шампани по имени Гуго де Пэйн, взявшим на себя охрану паломников на пути в Иерусалим из средиземноморского порта Яффа. В Иерусалиме им дал приют король Балдуин II. Пристанище располагалось на территории храма, откуда они получили прозвание «бедных рыцарей Христовых и Храма Соломона»{908}, каковое и было зафиксировано в их уставе. Оглядываясь назад из середины XII века, один средневековый западный хронист описывает их такими словами: «примерно в это время в Иерусалиме появилась новая разновидность рыцарства… они жили как монахи, хранили непорочность, соблюдали дисциплину дома и в походе, вкушали пищу в молчании, и все у них было общее, но против язычников они выступили с оружием в руках и намного расширили свои владения»{909}. Одной из причин, почему «новая разновидность рыцарства… расширила свои владения», заключается в том, что все это происходило под патронажем тогдашнего религиозного гения Бернара Клервоского. Вскоре после подтверждения устава тамплиеров на соборе в Труа 1128 года Бернар составил трактат, где восхвалял это «новое рыцарство»:
«Прошел слух, что родилось рыцарство нового толка.. Это действительно новое рыцарство, говорю я, неведомое в веках, ибо оно ведет нескончаемую двойную битву, против плоти и крови и против духовно го коварства в высших сферах…
Рыцари Христовы сражаются в битве за своего Господа со светлым разумом, не страшась ни греха смертоубийства врага, ни опасности собственной смерти, поскольку нет ни вины, ни особой заслуги в том, чтобы принять смерть или причинить ее другому во имя Христа… Ры царь Христа, говорю я, убивает со спокойным рассудком, а умирает еще более спокойно… Слава христианина — в смерти язычника, ибо этим он прославляет Христа»{910}.
Движение тамплиеров имело необычайный успех — не только в смысле роста численности и приращении богатства самого ордена, но и в качестве модели для других крестоносных орденов. Так, госпитальеры (они же иоанниты), которые вели свою историю от группы рыцарей, еще со времен первого крестового похода занимавшихся уходом за больными, под влиянием тамплиеров в XII веке претерпели существенную милитаризацию. Тевтонский орден, основанный в 90-х годах XII века, в точности перенял устав тамплиеров. Рождение первого из испанских орденов — Ордена Калатравы показывает, что влияние тамплиеров ощущалось даже в том, как именно проходило создание новых организаций. В 1147 году Альфонс VII Кастильский отвоевал Калатраву у мусульман и вверил ее тамплиерам. Когда же возникла новая угроза и рыцари сочли ее непреодолимой, они вернули город короне. Глава цистерцианского аббатства Фитеро по имени Раймонд и его монах Диего Веласкес (в прошлом — рыцарь) попросили у короля защиты. Архиепископ Толедо совершил молитву об отпущении грехов во имя спасения Калатравы и братства цистерцианского толка. В 1164 году новая ассоциация заслужила папское одобрение:
«Мы берем под свою защиту и защиту св. Петра место под назва нием Калатрава… Мы подтверждаем договоренности Наших возлюбленных сынов, аббата и цистерцианских братьев этого места о том, что вам надлежит служить этому ордену верой и правдой и с рыцарским оружием в руках биться, защищая город от сарацинов»{911}.
Так цистерцианец, бывший рыцарь, вдохновленный примером тамплиеров, чья организация выросла по примеру цистерцианской, создал на местном уровне ее копию, изначально миниатюрную.
К началу XIII века военные ордена были более чем богаты и имели земельную собственность по всему католическому миру: такие географические названия, как Храм Учения («Тич-Темпл» в Коннахте, Ирландия, «Темпльгоф» на востоке Германии, «Темло де Уэска» в Испании), наглядно показывают, насколько широко по миру распространились тамплиерские обители. Крупнейшими финансовыми центрами Ордена храмовников стали Лондон и Париж. В Святой земле на плечи рыцарско-монашеских орденов в значительной мере были возложены задачи обороны. Мрачный знак уважения был оказан тамплиерам и госпитальерам со стороны Саладина после сокрушительного разгрома христиан при Хатгине в 1187 году: их взяли в окружение и обезглавили. «Он казнил именно этих мужей, — объяснял Ибн аль-Атхир, — потому что они были самыми бесстрашными из воинов франков»{912}.
Вот почему, принимая решение о создании ордена крестоносцев в Ливонии, епископ Альберт опирался на традицию почти вековой давности. Новизна же заключалась в том, что он выступил повивальной бабкой первого удачного «государства крестоносцев», политического образования под властью крестоносного ордена. Некоторые признаки такого хода событий угадывались еще и раньше. В 1131 году король Арагонский по завещанию оставил свое государство тамплиерам, однако завещание так и не было исполнено{913}. В конце столетия, в начале 90-х годов, в руках тамплиеров ненадолго оказался Кипр. Однако первым государством ордена, которое просуществовало достаточно продолжительное время, стала Ливония. Орден меченосцев, созданный епископом Альбертом в 1202 году, в 1207 году получил в свое владение третью часть новой колонии — «так возникло первое в истории орденское государство»{914}. Меченосцы, с уставом по образу и подобию тамплиерского, символами креста и меча, были воплощенными профессиональными воинами Христовыми. Теперь же они стали еще и хозяевами земли. В 1210 году территориальные отношения между епископом Рижским и меченосцами стали предметом специального договора. Епископ отдавал рыцарям в распоряжение третью часть Ливонии и Летгии, взамен от них не требовалось никакой временной службы, зато в постоянные обязанности вменялась оборона региона от набегов язычников. Рыцари и их духовные отцы не платили епископу десятины, несмотря на то, что крестьяне-арендаторы с подведомственной им территории регулярно вносили десятину местным церквям и четверть податей уходила епископу. В свою очередь, и орден мог делать церквям подношения{915}.
Принцип совместного проживания — вот на чем основывались отношения между епископским престолом и рыцарским орденом в захваченных государствах Прибалтики на всем протяжении их истории. Однако после появления на исторической сцене Тевтонских рыцарей равновесие заметно сдвинулось в сторону ордена. Для подавления язычников в Пруссии им была выделена база в Польше, и с 1230 года, опираясь на свои центры в Торуни и Хелминской области, они постепенно образовали новую территорию — так называемую Христианскую Пруссию. В 1237 году в Прибалтике произошло слияние Тевтонского ордена с орденом меченосцев. Отныне все восточное побережье Балтийского моря находилось в руках одного из главных орденов крестоносцев. В фарватере священной войны родилась мощная военно-политическая структура, которая стала вполне закономерным детищем агрессивного католического мира эпохи Высокого Средневековья. Примечательно и то, что процесс его формирования носил нединастийную форму. Подобно другим интернациональным монашеским орденам, ордена крестоносцев имели своих выборных должностных лиц и установленный бюрократический порядок. Жуанвиль сообщает, что экстремистские группы мусульман, ассасины, чья политическая задача полностью соответствовала их названию, не утруждали себя физическим устранением магистров ордена тамплиеров или госпитальеров, ибо им немедленно была бы найдена замена. Если убийство короля или князя могло повергнуть целое войско или царство в полный хаос, то за смертью высокого должностного лица в орденах крестоносцев следовал продуманный, четко регламентированный процесс по замене одного компетентного опытного воина другим.
Крестовый поход способствовал объединению христианского мира, и возможно, самым интернациональным по характеру плодом этого процесса стали духовно-рыцарские ордена. Вопреки некоторой национальной окраске (особенно заметной в испанских орденах) рыцари-монахи имели весьма широкий кругозор. Орден Калатравы получил земельное владение в Тимау (Тымава) в нижнем течении Вислы; Тевтонские рыцари владели землей в Хигаресе (на Тахо){916}. Следствием их распространения, в частности, было нарастание и ускорение движения капитала в масштабах всего христианского мира. Пожалования, подобные тому, что герцог Генрих Бор-вин II Мекленбургский сделал госпитальерам (60 мансов в окрестностях озера Миров){917}, показывают, что доходы от мекленбургских имений начинали перекачиваться в панкатолические институты, какими являлись ордена крестоносцев, и со временем могли быть использованы на цели, подобные походу в Святую землю. Другой мекленбургский документ еще более проливает свет на степень интеграции регионов в международную латинскую систему. На францисканском соборе 1289 года в Эрфурте правитель Мекленбурга в письменном виде признал факт получения от великого магистра Тевтонского ордена 296 марок, которые его отец, Генрих Мекленбургский, отдал на хранение рыцарям в Акре перед тем, как был захвачен в плен сарацинами{918}. В данном случае ордена крестоносцев предстают в роли международных банкиров, регулировавших движение денежных средств в масштабах всего христианского мира. Факт передачи этих денег приобретает еще большее значение, если вспомнить, что Генрих Мекленбургскии был потомком славянских князей-язычников, которые еще в середине XII века были не крестоносцами, а их мишенями. Рискнем предположить, что его праотцы едва ли поверили бы, что их потомок, с крестом на груди, может оказаться в сарацинском плену. Эти примеры показывают необычайные масштабы перераспределения людских и материальных ресурсов в ту эпоху — эпоху, когда люди и богатства самых отдаленных языческих окраин Европы перетекали в центральные области латинского мира. Так, к 1219 году духовенство Риги, провинции Римской церкви, которой одним поколением раньше даже не было на карте, делали пожертвования на кампанию против Дамьетты. Международная арена, на которой действовало папство и латинская церковь в целом, в XI, XII и XIII веках неуклонно расширяла свои границы, самым неожиданным образом объединяя прежде никак не связанные между собой регионы. Одним из примеров такого союза может служить финансирование похода против Египта за счет доходов от ливонской торговли и сельского хозяйства.
11. ЕВРОПЕИЗАЦИЯ ЕВРОПЫ
«Мы избегаем многих неудобств, когда придаем деяниям нашего времени бессмертие силой пера»{919}.
Выражение «европеизация Европы» на первый взгляд может показаться парадоксальным. Однако при ближайшем рассмотрении становится ясно, что такие термины служат удобным, стенографически кратким обозначением весьма разноплановых и комплексных процессов. Если взять похожий термин — «американизация» — применительно к послевоенной Европе, то очевиден масштаб таких взаимосвязанных тенденций: от вполне ясного, но ограниченного воздействия военной оккупации к более расплывчатому, но и более широкому процессу сначала культурной и социальной имитации, а уже от него — глобальной конвергенции. Из этого следует (и лишний раз подтверждается приведенной аналогией), что такие термины, как «американизация» и «европеизация», не всегда имеют в виду строгую географическую привязку к Европе или Америке. «Америка», подразумеваемая в термине «американизация», не есть строгое географическое понятие; это система. Точно так же и «Европа» — это система, составной образ ряда государств, из которого что-то заимствуется. Выражение «европеизация Европы» должно означать, что Высокое Средневековье принесло разительные перемены в сам объект заимствования и масштабы его распространения.
Когда мы говорим, что Европа — это система, это не просто метафора. Европеизация Европы, в том смысле, в каком она означала распространение конкретной цивилизационной модели путем завоевания и влияния, имела своим истоком и вполне определенные области континента, а именно Францию, Германию к западу от Эльбы и северную Италию, то есть регионы, имевшие общее историческое прошлое в составе франкской империи Каролингов. Таким образом, культурная гомогенизация Европы отчасти являлась производной от военной гегемонии, о которой шла речь в предыдущих главах книги. Именно из этой части Западной Европы во всех направлениях снаряжались захватнические походы, результатом которых к 1300 году стало целое кольцо покоренных государств на периферии латинохристианского мира. Казалось бы, легче всего рассматривать эту экспансию под чисто военным углом зрения, однако не менее важным является процесс культурной трансформации, протекавший параллельно с военной экспансией и заимствованием, не будучи их прямой производной.
Примечательно, что историки Средних веков используют термин «европеизация» чаще всего тогда, когда пишут о регионах, где культурная и социальная трансформация во времена Высокого Средневековья протекала вне зависимости от иноземного вторжения или завоевания. Венгерский историк Фюгеди пишет: «Мы исходим из того, что европеизация Венгрии совершилась в XII–XIII веках»{920}. Альфонса VI, правителя королевства Леон и Кастилия, известного своей активной политикой на другом фланге посткаролингской Европы — Пиренейском полуострове, рисуют как исполненного «стремления к европеизации своего королевства», проводящего политику, частью которой являлась «европеизация церковного обряда»{921}. Этот термин появляется и тогда, когда заходит речь об ирландских королях-«реформаторах» XII века{922}. В строго географическом смысле употребление этого термина, конечно, неверно, если не сказать бессмысленно, поскольку Ирландия, Испания и Венгрия и без того входят в состав Европейского континента. Значимость этого понятия в большей степени проистекает из того, что имелась определенная культура или тип социума (скорее всего, на данном уровне обобщения различиями между этими двумя категориями можно пренебречь) с ядром в лице старых областей расселения франков, и, являясь латинской и христианской, эта культурно-социальная модель не была, однако, равнозначна римско-католическому миру. Этот тип цивилизации характеризовался определенными социально-культурными особенностями и распространялся на протяжении Высокого Средневековья в прилегающие регионы, одновременно видоизменяясь сам. Некоторые из его характерных черт мы и рассмотрим в данной главе.
СВЯТЫЕ И ИМЕНА
Святые и имена — два тесно связанных предмета. Родители или другие взрослые, на ком лежала ответственность за выбор для ребенка имени, часто отдавали предпочтение именам святых, которых считали для себя самыми важными. У чехов в Средние века, по-видимому, существовал обычай «давать детям имена святых, чей день был днем их появления на свет»{923}. Таким образом, географические и временные колебания в популярности тех или иных святых и имен часто совпадали.
В Раннем Средневековье в большинстве регионов Европы частота наречения теми или иными именами в высшей степени зависела от той или иной местности. Имея данные о распространенности всего нескольких имен, можно довольно легко установить, о каком регионе или этнической группе идет речь. В случае с немецкой знатью можно даже с большой вероятностью определить принадлежность к тому или иному роду, настолько отчетливы и характерны их предпочтения в выборе имен для своих отпрысков. Люди, вынужденные постоянно менять языковую или культурную среду, зачастую принимали новое имя, стремясь быстрее «слиться» со своим новым окружением. Так, в 1085 году, прибыв в Нормандию, малолетний послушник Ордерик получил новое имя: «взамен моего английского имени, звучавшего грубовато для нормандских ушей, мне было дано имя Виталий»{924}. Когда знатные дамы выходили замуж за представителей иностранных королевских фамилий, говоривших на другом языке, обычным явлением было принять новое имя. Чешские принцессы Сватава и Маркета стали соответственно немецкой графиней Лиутгард и королевой Дании Дагмар{925}. Женой Генриха I Английского была «Матильда, прежде носившая имя Эдит»{926}. Необходимость такого «дипломатического» переименования диктовалась тем, что имена были тесно привязаны к определенной этнической или региональной общности.
Подобная привязка к местности была характерна и для святых. Как правило, культ какого-то святого имел один или два центра, где хранились главные реликвии, и распространялся на прилегающий район с относительно высокой культовой плотностью, то есть с большим количеством посвященных этому святому церквей, иногда с реликвиями меньшего значения. Соответственно, здесь было большое число людей, названных в честь этого святого. Район одного культа плавно переходил в районы поклонения другим святым. Если мы видим город, в котором большинство церквей посвящено святым Чаду, Марии и Алькмунду, то сразу можем сказать, что это английский Мидленд (наглядный пример — город Шрусбери{927}). Такая региональная концентрация характерна и для более массовых культов. Например, общее число храмов, посвященных св. Ремигию Реймскому, превышало 700, 80 процентов из них находились в радиусе 200 миль от центра этого региона — Реймса{928}. Историк Шарль Гигуне нанес на карту места, названные в честь святых Аквитании эпохи Меровингов, и обнаружил, что они резко обрываются на Луаре, Роне и Жиронде{929}.
В XI и XII веках картина начала меняться, и четкие региональные границы поклонения тем или иным святым стали размываться. Начался «круговорот» имен и святых в разных системах. Иногда это было следствием завоевания. Такого рода перемены происходили в Англии. В 1066 году страна была завоевана армией франкоязычных выходцев с севера Франции. За несколько лет эта армия превратилась в феодальную знать — франкоязычных аристократов, стоящих над англоязычным крестьянством. Представители этих двух социальных групп не только говорили на разных языках, но и носили разные имена. Хотя изначально и нормандские, и англо-саксонские имена имели общие германские корни, в ходе развития языков сформировались два совершенно различных набора наиболее употребительных имен. У англичан были популярны Этельреды, Альфреды и Эдуарды, а у нормандцев — Вильгельмы, Генрихи и Роберты. В XI веке эти различия приобрели настолько явственный характер, что по имени можно было безошибочно установить происхождение. В XII веке ситуация претерпела изменения. Конечно, среди всех элементов языковой культуры имена стоят в ряду наиболее подверженных изменениям, поскольку в предпочтениях такого рода у людей всегда есть и был выбор. И судя по всему, довольно скоро английское население Англии стало перенимать имена у своих завоевателей. Показательна в этом плане история некоего мальчика, родившегося около 1110 года в районе Уитби: при крещении родители нарекли его Тостиг, но, «когда приятели стали дразнить его за это имя», его назвали более респектабельно — Норман Вильям{930}. Начался этот процесс в среде высшего духовенства и горожан. Например, в Лондоне уже в начале XII века среди каноников церкви св. Павла (общим числом около тридцати человек) насчитывались только один или двое с английскими именами{931}. Со временем моду подхватили и крестьяне. Список крестьян епископа Линкольнского за 1225 год, то есть спустя полтора столетия после нормандского завоевания Англии, показывает, в какой степени низшие слои сельского населения переняли имена своих господ. В списке значится свыше 600 человек; у трех четвертей из них — несколько самых расхожих имен: очевидно, что популярны были полтора их десятка. Из этой группы опять-таки три четверти имеют имена нормандского происхождения. В списке значатся 86 Вильямов, 59 Робертов и так далее. И лишь менее 6 процентов носили имена англосаксонского или англо-скандинавского происхождения{932}.
Святые, коим поклонялись в Англии, оказались не столь податливы, как английские имена, и их история в период после завоевания представляет противоположность тому, что происходило в антропонимике. Сразу после 1066 года нормандцы, похоже, с недоверием и насмешкой воспринимали местных святых. Завоевательный поход привел их из местности, где царил один пантеон хорошо знакомых им святых, в страну с совершенно иными, чуждыми и раздражающими святыми и непривычными именами. Первый нормандский архиепископ Кентерберийский Ланфранк пишет: «Эти англичане, среди которых мы живем, воздвигли себе святых, которым поклоняются. Но иногда, когда я перебираю в памяти их собственные рассказы о том, кем раньше были эти святые, я не могу не усомниться в качестве их святости»{933}. Частично он опирался на свои сомнения, когда изъял из кентерберийских обрядов поклонение св. Эльфги и св. Дунстану{934}. В аббатстве св. Альбана произошло повальное разрушение гробниц донормандских святых, это было сделано при первом нормандском аббате, который счел своих англосаксонских предшественников «неотесанными и неграмотными» (rudes et idiotas){935}. Последовавшее соперничество между культами и вызванная им напряженность в обществе ярко описаны в следующем рассказе, взятом из жития и чудес англо-саксонского святого Этельберта:
«По соседству с местом, где была построена церковь мученика [Этельберта], жил человек по имени Виталий, который был нормандского происхождения. Из-за великой извечной ненависти между англичанами и нормандцами он считал нашего святого недостойным чести и почитания. В один из дней, когда жена его всегда ходила в церковь, он заставил ее пойти в другую церковь и принять там торжественный обряд очищения. Она исполнила службу и вернулась. Виталию же случилось войти в дом некоего рыцаря великого благочестия по имени Годискальк, и хозяйка дома, Лесельма, обругала его за то, что он осмелился с таким непочтением отнестись к церкви святого Этельберта. Он, однако, раздираемый душевной болезнью и полубезумный, сказал: “Я бы скорее заставил свою жену молиться на ясли моих коров, чем на того, кого называете вы Этельбертом”. Сказав это, несчастный тотчас пал на землю и умер на глазах у всех»{936}.
Однако не всегда культовые симпатии завоевателей имели столь ограниченные рамки. Крупные церкви, вложившие в своих святых большие средства, сохранились. Приезжая знать постепенно становилась знатью местной. К концу XII века в гробницах старых святых можно было встретить прихожан как английского, так и нормандского происхождения. Символический апогей наступил в эпоху правления Генриха III. Выходец из французского аристократического рода, Генрих повелел захоронить свое сердце в Фонтевро в долине Луары, одновременно оставаясь горячим сторонником св. Эдуарда Исповедника, последнего короля из династии Уэссекс, скончавшегося в 1066 году. Генрих пожертвовал тысячи фунтов на возведение в Вестминстерском аббатстве подобающего последнего пристанища этому англосаксонскому правителю, причисленному к лику святых. Позднее гробница была перестроена на французский манер. В 1239 году Генрих окрестил в честь св. Эдуарда своего первого сына и таким образом стал первым королем после нормандского завоевания, избравшим для своих детей англо-саксонские имена. История Генриха показывает, что зеркальным отражением нормализации английских имен стало заимствование местных культов эмигрантскими французскими правящими и аристократическими фамилиями.
Из этого английского эпизода видно, как завоевание влекло за собой распространение одного из элементов языковой культуры завоевателей — антропонимики, одновременно открывая эти языковые элементы влиянию чужих культов. В эпоху Высокого Средневековья процессы миграции и новые территориальные завоевания имели много схожего. Когда англичане и валлийцы переселялись в Ирландию, они приносили с собой свои культы{937}. Жители Дублина в XIII веке при свете 800 свечей отмечали праздник св. Эдуарда, а День св. Давида в ирландском Манстере в начале XIV века стал традиционным сроком для договоров аренды. На такого рода заимствования особенно сильное воздействие оказали крестовые походы. С одной стороны, странствующие крестоносцы собирали в пути новые реликвии. Граф Роберт Фландрский, направляясь в войско во время первого крестового похода и проходя через Апулию, прихватил «часть волос благословенной Божьей Матери… и реликвии св. Апостола Матфея и Николая, исповедника Христова, чьи тела, несомненно, хранились в Апулии»; он отослал их своей жене во Фландрию. Через три с лишним года, возвратившись из Иерусалима, «он привез с собой руку св. Георгия Мученика и передал ее церкви Анхина»{938}. В результате разграбления Константинополя в 1204 году по всей Европе в последующие годы было разнесено огромное количество реликвий и их фрагментов. С другой стороны, крестоносцы несли на Восток святых Запада. В 90-е годы XII века в Антиохии разгорелся конфликт между франкским и армянским населением по поводу того, должна ли одна часовня быть посвящена армянскому святому Саркису или св. Иларию из Пуатье — пример еще одного заимствованного культа{939}. Спустя поколение, дабы воздать должное заслугами англичан, участвовавшим в захвате в 1219 году Дамьетты, две городские мечети были преобразованы в церкви и посвящены английским национальным святым — Эдмунду Мученику и Томасу Бекету{940}. Сооружение святилища в честь саффолкского святого в крупном египетском портовом городе наглядно демонстрирует новый, международный характер, который приобрело поклонение святым.
Однако нарисованную нами картину осложняет еще один фактор. Дело в том, что перенос некоторых имен и культов святых из одной части Европы в другую, будь то путем завоевания или иначе, еще не есть самое главное, что происходило в XII и XIII веках. Одновременно по всему католическому миру менялась сама модель наречения и отправления культов. Повсюду все большее распространение получали «универсальные» святые и культ Христа. В средневековой Европе святые апостолы, в первую очередь Петр и Иоанн, Богоматерь, сам Господь в лице Святой Троицы, Спасителя или Тела Христова оттесняли на второй план старых местных святых. Так, в XII веке для валлийских церквей «универсальные» святые — такие, как Пресвятая Богородица или Петр, — служили дополнительными покровителями, как бы подкреплявшими своим авторитетом безвестных местных святых{941}. В XIII веке, после прихода религиозных братств, «культы универсальных святых и их реликвий в Британии стали приобретать большое влияние»{942}. Вслед за этим начали меняться и европейские традиции наречения детей, поскольку родители, близкие и священники стали выбирать детям имена в честь этих, общепризнанных святых. Если в Раннем Средневековье практика наречения носила в высшей степени локальный характер, то теперь ей на смену пришла более стандартизированная модель, в которой детей все чаще нарекали именами универсальных святых.
Трансформация и конвергенция — вот два термина, которыми можно описать эволюцию антропонимической традиции в средневековой Европе. Для иллюстрации этих процессов возьмем примеры двух конкретных семей (см. генеалогическое древо на рис. 5 и 6){943}. Первый пример — это династия шотландских королей, второй — правителей Мекленбурга (которые ранее правили язычниками-славянами ободритами). В первом случае мы имеем детальную генеалогию, уходящую в глубь Раннего Средневековья; во втором вынуждены довольствоваться именем основателя рода, жившего приблизительно в середине XII века (его связь с ранними правителями ободритов вероятна, но не доказуема). Таким образом, абсолютная хронология двух родов различна, но в относительном выражении она поразительно похожа. Наример, Дункан, Малькольм и Дональд — имена, которые в Европе XI века можно было встретить только в Шотландии. Точно так же Никлот, Пржибислав и Вартислав однозначно говорят о славянском происхождении своих владельцев. Однако в истории обеих династий угадывается момент — в шотландском случае это конец XI века, в мекленбургском — конец XII, — когда в ономастике произошли решительные перемены. Шотландцы минуют короткий период увлечения англо-саксонскими именами и быстро приходят к довольно синкретической модели, в которой гэльские имена становятся редкостью. В пятом колене после Дункана I только два из двенадцати имен имеют гэльское происхождение (причем единственное гэльское мужское имя принадлежит боковой ветви). Так же отчетливо эти изменения можно видеть и в роду правителей Мекленбурга. После 1200 года в выборе имен для своих отпрысков они испытывали сильное влияние немецких заимствований. В колене конца XIII века есть только одно славянское имя из шестнадцати.
Отчасти эти перемены, как в Шотландии, так и в Мекленбурге, были следствием культурной эмуляции со стороны могущественного соседа. Скотты называли своих детей Вильгельмами и Генрихами, то есть именами нормандских королей Англии; славяне переняли имена Генрих и Гедвиг, то есть имена влиятельных немецких правителей и святых. Если учесть, что нормандские и германские традиции использования имени Генрих, в свою очередь, тоже имели общие корни в позднекаролингской эпохе, то на этом небольшом примере можно лишний раз видеть, как каролинги постепенно вовлекали в орбиту своего культурного влияния окраинные области империи — это влияние осталось даже в антропонимике. Другой важный момент, вытекающий из рассматриваемых нами шотландской и мекленбургской династий, — это рост влияния общепризнанных святых. Имена Иоанн (Джон, Иоганн) и Маргарита (Маргарет) входят в широкое употребление приблизительно после 1200 года, тогда как ранее они практически не встречаются. Первой дочерью шотландского королевского рода, получившей при крещении имя Маргарет, стала дочь короля Вильгельма Льва, родившаяся между 1186 и 1195 годами, хотя в младшей ветви Матада Атолского это имя появляется несколько раньше. Очевидно, что дочь Вильгельма была наречена в честь своей царственной прародительницы, жены Малькольма Канмора, но само по себе имя Маргарет уже означало отход от старых предпочтений в пользу общепризнанных святых. Первый Иоганн в роду Мекленбургов родился примерно в 1211 году. Как раз в это время английское и немецкое население все больше перенимало имена святых, что стало еще одним проявлением конвергенции с соседними народами. Окончательным итогом явился переход от изначально отчетливого шотландского и мекленбургского набора имен в сторону такого «репертуара», в котором можно усмотреть совпадения не только с соседними народами, но и между самими этими династиями. Вплоть до конца XII века в роду правителей Шотландии и славянской династии Мекленбурга не было совпадающих имен; после этого момента таких имен уже несколько — иногда германского происхождения (типа Генрих), иногда — в честь святых (наподобие Иоганна-Джона и Маргариты).
Рис 5. Род Дункана I Шотландского (1034–1040)
Рис 6. Род Никлота, правителя ободритов (Мекленбург) (ум. 1160)
К эпохе Позднего Средневековья процесс гомогенизации в антропонимке зашел уже достаточно далеко. Например, в составе городских советов Дрездена в XIV веке было около 30% Иоганнов, почти 24% Николаев, свыше 15% Петров{944}. Тот факт, что почти 70 процентов состава советов носили эти три имени, ясно свидетельствует о сжатии всего ономастического репертуара. А на основании того факта, что это были в основном не германские имена, а имена общепризнанных святых, можно сделать вывод о характерном для той эпохи нарастании культурной унификации. Повсюду ономастическая история конкретных семей носит отпечаток некоего переломного момента, когда в местную традиционную практику «врывались» новые, занесенные извне или осознанно даваемые в христианском духе имена. В Толедо периода Реконкисты можно было встретить Доминика и Иоанна, чей дед звался Сулейманом. В одном валлийском документе XII века упоминается «сын Кадогана из Блэддина, рожденный от француженки и крещенный именем Генрих». В Мекленбурге многие из носителей вполне немецкого имени Генрих оказывались сыновьями какого-нибудь Пржибислава или Плохимира{945}. Порой на каком-то этапе две ономастические тенденции держались в некоем равновесии, как было в случае с двумя сыновьями графов Барских по имени Генрих-Иаков и Теобальд-Иоганн: «Таким образом имена у них были, с одной стороны, дворянские, а с другой — христианские»{946}.
Свидетельства не всегда бывают однозначны. Конкретным примером могут служить имена в религиозных текстах. Когда чехи Радим и Милиц, получив епископский сан в Гнезно (1000 г.) и Праге (1197 г.), взяли себе имена Гауденций и Даниэль{947}, то принятие христианского или библейского имени в связи с посвящением представляется вполне логичным. Труднее объяснить случай с епископом Оломоуцким, посвященным в высокий сан в 1126 году: «Посвящен в сан был Здик, и, будучи посвящен, он отринул свое варварское имя и принял имя Генрих»{948}. Здесь мы имеем имя не библейское, хотя можно возразить, что это имя святого. Зато очевидно, что «варварское» имя было заменено на немецкое. Ономастическая экспансия господствующей этнической группы подчас протекала параллельно и оказывалась тесно переплетена с распространением имен определенных святых.
Таблица 4.
Частота распространения мужских имен в династии Хаготов
Колено 1 2 3 4 5 Мужчин в роду 1 2 12 20 11 Немецких имен 1 2 7 5 1 Венгерских имен 0 0 2 2 1Такие имена, как Мария, Екатерина, Иоанн и Николай, которые мы встречаем в более поздних поколениях династий шотландских и мекленбургских правителей, тоже играли свою роль в процессе этнической интеграции. Принятие общепринятых библейских имен или имен святых вместо имеющих отчетливую национальную принадлежность было для переселенцев способом ослабления своей культурной изоляции без копирования традиций коренного населения. Например, аристократы из Штирии (современная Австрия), оказавшиеся на службе при дворе венгерского короля в XII веке и впоследствии известные под названием династии Хаготов (Hahot), первоначально, конечно, носили немецкие имена{949}. Спустя несколько поколений ситуация изменилась (см. Табл. 4). Все трое мужчин из первых двух колен Хаготов носили немецкие имена; примерно половина третьего поколения — тоже; в четвертом поколении это справедливо в отношении четверти; а в пятом немецкое имя было только у одного из 11 членов фамилии. Однако в целом переход от немецких к венгерским именам был незначителен: в младших поколениях Хаготов венгерские имена носили только 5 мужчин из 43 (то есть 11,6%). Преобладали же имена христианские, типа Иоганна или Николая. Выбор подобных имен был способом не причислять себя ни к иностранцам, ни к коренным жителям.
Процесс сужения используемого набора имен и распространения имен и культов святых панхристианского характера в наиболее выраженной форме можно видеть в тех областях Европы, где в этот период происходило отвоевание земель у мусульман и язычников. В регионах, где отсутствовал устоявшийся культ местных святых либо был выражен слабо, нишу заняли общехристианские святые. Постепенно завоевывая языческую Пруссию и Ливонию, крестоносцы принимали в качестве духовного покровителя своих новых территорий из всех святых наименее привязанную к какой-то местности Деву Марию. Если проанализировать, кому из святых чаще всего посвящались церкви и часовни в Пруссии до 1350 года, то окажется, что 56 процентов от общего числа приходилось на св. Марию в разных ипостасях. Оставшиеся 44 процента выпадали на таких широко распространенных в географическом плане святых, как Николай, Георгий, Екатерина и Лаврентий. Очень мало церквей были посвящены местным святым{950}. Справедливо, что в Прибалтике относительно большое число культовых сооружений было воздвигнуто в честь св. Николая (8 из 83), а несколько святых имели особую привязку к Пруссии, например Адальберт, принявший мученичество именно в этой области в X веке, или св. Варвара, чья голова попала в руки Тевтонских рыцарей в XIII веке. Однако в общем и целом те святые, которым посвящались церковные сооружения в Пруссии, не носили региональных особенностей. Сами названия мест в Пруссии — Мариенвердер, Мариенбург, Кристбург — воплощали новый, менее конкретизированный тип христианства, который по окраинам впитывал в себя мир язычества.
Еще одним регионом, где непревзойденным оставался культ Девы Марии, оказалась Испания эпохи Реконкисты. Пресвятой Марии посвящались не только соборы в крупнейших городах Реконкисты, но и десятки церквей в новых поселениях. Рыцарские ордена и цистерцианцы играли самую активную роль в этом «полном триумфе культа Святой Девы Марии»{951}. Аналогичным образом расцветали на Пиренеях и культы святых апостолов и других общехристианских мучеников, оттесняя на второй план вестготских святых великомучеников. В Валенсии, павшей под ударами христиан в 1238 году, первые десять новых церквей были посвящены: Христу Спасителю, св. Стефану, св. Фоме, св. Андрею, св. Мартину, св. Екатерине, св. Николаю, св. Варфоломею, св. Лаврентию и св. Петру. Ни в одном случае нет ничего сугубо испанского{952}. Если же мы обратимся к именам первых настоятелей этих десяти церквей, то тоже не увидим ничего, что разительно отличалось бы от других областей Европы: три Петра, два Иоанна, два Вильгельма, один Томас, один Доминик и один (предательски затесавшийся) Раймонд.
Культурная гомогенизация антропонимических моделей и культов святых, имевшая место в эпоху Высокого Средневековья, не была абсолютной. В XIV веке в разных регионах еще можно было встретить различные модели как в выборе имен, так и в культах святых. В каком-нибудь немецком городе в Прибалтике мы нашли бы Иоганна, Генриха, Германа и Николая, а на юге Франции — Петра, Иоанна, Вильгельма или Раймона. Имена Герман и Николай сразу наводят на мысль о севере Германии, так же, как имя Раймон — о юге Франции{953}. И все же ни одно из этих имен не является строго привязанным к какой-то конкретной местности, большинство из них бытовало по всей Европе. Таким образом, происшедшая за период между X и XIII веками трансформация культа и антропонимики не была лишь процессом распространения определенных имен и святых вследствие завоевания и колонизации. Разумеется, и то и другое имело место, но параллельно развивалась другая тенденция — переход к более универсальной ономастической модели и культу, что означало нечто большее, чем просто расширение сферы распространения. Точно так же, как английские крестьяне XII–XIII веков перенимали имена своих господ, так и простые европейцы в целом, выбирая имена своим детям, отдавали предпочтение именам Марии и апостолов, как наиболее почитаемых из всех святых — аристократов в своем роде.
МОНЕТЫ И ХАРТИИ
Более наглядная картина смешения — при менее выраженной роли вооруженного завоевания — предстанет, если обратиться от святых и имен к монетам и хартиям, двум ярким составляющим того культурного ансамбля, который и способствовал формированию Европы. Представляя собой дело рук, а не слов человеческих, эти два феномена не могли распространяться с той же легкостью, что имена или молитвы. Для их изготовления требовались определенные навыки, которые надо было сначала освоить. Но научиться этим навыкам было можно, и за период между серединой X и серединой XIV века число их создателей росло неустанно, равно как и число тех, кто был. знаком с монетами и рукописями.
Технология чеканки серебряных монет распространялась по Европе медленно{954}. Чеканка монет не была открыта самостоятельно в разных областях Европы, она имела общее, вполне определенное происхождение, и ход ее распространения можно проследить без труда. Производство серебряных пфеннигов — стандартных монет весом около 1,7 г, выпущенных Карлом Великим и сразу же скопированных англосаксонскими королями, было подхвачено разными народами в разное время. Так, до 900 года восточнее Рейна монетных дворов не существовало, однако вскоре после начала X века чеканка пенсов в больших количествах была налажена в Саксонии. По крайней мере с середины X века чешские герцоги тоже чеканили серебряные монеты по образу и подобию английских, только весили они около 1,2 г. Немного позднее, около 980 года, эту практику переняли и польские герцоги. Судя по всему, в большинстве случаев чеканка денег начиналась вскоре после обращения в христианство. Установление в Венгрии первой христианской иерархии и начало чеканки венгерских монет практически произошли одновременно — в 1000–1001 гг. В Дании, хотя там уже в IX–X веках выпускались легкие монеты в крупном торговом городе Хедебю, первая королевская валюта в Скандинавии была выпущена Харальдом Синезубом (ум. ок. 985 г.), короле, который, говоря его собственными словами, «завоевал всю Данию и Норвегию и сделал датчан христианами»{955}, а чеканка тяжелых пенсов началась в Дании при его сыне Свейне Вилобородом (ок. 985–1014). Одновременно со Свейном начали чеканку серебряных монет Олаф Трюгвасон в Норвегии и Олаф Скоттконунг в Швеции. Таким образом, начало второго тысячелетия было ознаменовано появлением монетных дворов на обширном пространстве от среднего течения Дуная до побережья Балтийского и Северного морей.
Не все новые валюты христианских правителей просуществовали долго. В Польше имеется пробел в полстолетия (1020–1070), перед тем как Болеслав II возобновил чеканку национальной валюты, а в Швеции чеканка денег была прекращена на еще более длительный период — более чем на сто лет, начиная приблизительно с 1030 года. В других регионах, однако, «монетная революция» X века приняла бесповоротный характер. Канут Великий чеканил огромное количество пфеннигов на пяти монетных дворах в Дании, в первую очередь, в Лунде, и на многих стояли цитаты из христианских текстов. Даже в Польше после столетнего перерыва чеканка денег возобновилась, и весьма энергично. В 70-х годах XI века Болеслав II выпустил порядка 2 миллионов серебряных монет (по 0,8 грамма).
Несколько неустойчивым было вступление в число стран, чеканящих свои деньги, Ирландии. Это произошло на пороге тысячелетия. В 997 году скандинавские короли Дублина начали чеканку серебряных монет, по образу и подобию английских и даже с использованием краденых английских матриц. Их примеру в 30-х годах XI века последовали правители Мэна. Однако традиция оказалась нестойкой и не имела широкого распространения, и эффективно чеканка денег в кельтском мире началась только после англо-нормандской экспансии в конце XI и в XII веке. В Уэльсе к 1087 году нормандские завоеватели организовали монетные дворы в Рудлане, Кардиффе и, возможно, в Сент-Дэвиде, за ними последовали другие. В Ирландии начало широкомасштабного печатания денег пришлось на 1185 год. Именно тогда в Дублине были выпущены серебряные полупенсовики в честь правителя Ирландии Иоанна, сына короля Генриха II{956}. Вполне вероятно, что короли Коннахта или Лейнстера выпускали свои брактеаты (тонкие односторонние монеты) в середине XII века, но в целом можно сказать, что местные правители Уэльса и Ирландии так и не создали собственных монетных дворов, а их вассалы и подданные в качестве денег довольство вались серебряными монетами, которые производили англо-нормандские поселенцы или королевство английское.
Совершенно иная история предстает перед нами в Шотландии, хотя в начале XII века там так же, как в Ирландии и Уэльсе, тоже не существовало своей валюты и для всех денежных операций использовались английские монеты. Однако примерно в 40-х годах XII века Давид I Шотландский начал чеканку собственных серебряных пенсов{957}. Это был период, когда сразу несколько феодальных правителей стали посягать на денежную монополию английского двора, но только шотландские правители сохранили собственную монету и после восстановления в 50-х годах XII века власти английской короны. При том, что английские монеты оставались в Шотландии вполне повседневным предметом, а шотландские пенсы явно были не более чем имитацией английских, важно то, что отныне здесь существовали деньги, на которых стояло имя короля скоттов.
В этом отношении, как и в некоторых других, Шотландия отличалась от других регионов, сохранявших целиком или частично приверженность кельтской традиции. По сути дела, Шотландия в этом смысле больше похожа на западно-славянские области между Эльбой и Одером, чьи правители в XII–XIII веках тоже целенаправленно укрепляли свою государственность, привлекая иммигрантов, одаривая крупными поместьями иностранных рыцарей и во многом копируя их организационные модели (что в случае с западными славянами включало и обращение в христианскую веру). Примерно в середине XII века эти западнославянские племена, известные обычно под обобщенным названием вендов, еще не имели собственных денег. Летописец Гельмольд описывал, что рани, обитатели острова Рюген, «не имеют денег и обычно не используют монеты в купле и продаже, а на рынке вы за все платите льняным полотном»{958}. Западнославянский обычай использовать отрез холста в качестве универсального платежного средства подметил еще в X веке еврейский купец Ибрагим ибн Якуб{959}. Во второй четверти XII века, то есть одновременно со скоттами, полабские славяне начали чеканку серебра{960}. Западнославянские князья в Старом Любеке, Бранденурге и Кёпенике выпускали монеты по образу и подобию немецких или чешских (см. на рис. 10 изображение монет Генриха Пржибислава Бранденбургского и Яжи Кёпеницкого). Начиная примерно с 1170 года князья Померании, Мекленбурга и Рюге-на начали чеканить монету в городах южного побережья Балтики. В конце концов в XIII веке с образованием немецких колониальных городов в юго-восточной и восточной Прибалтике технология и идеология чеканки денег была привнесена на все балтийское побережье.
Едва начавшись, чеканка монеты стала развиваться стремительно. В 1100 году в Шотландии не было ни одного монетного двора; к 1300 году было выпущено уже 40 миллионов шотландских серебряных пенсов{961}. Как и в случае с заимствованием ономастических моделей, перемены в монетном деле тоже сочетались с конвергенцией: монеты Северной и Восточной Европы были скопированы с английских или немецких, которые, в свою очередь, восходили к общим каролингским образцам, вот почему серебряные монеты Европы в целом (за исключением Средиземноморья) составляли легко узнаваемую родственную группу. Если рассматривать монеты как физические артефакты, то пенсы, скажем, начала XII века, выпущенные в Шотландии, Скандинавии или Восточной Европе, были несомненно похожи. Даже в государствах крестоносцев с 40-х годов XII века чеканились серебряные монеты франкского типа, «крайне необычные для той части мира»{962}, появление которых можно объяснить только западноевропейской колониальной экспансией.
Параллельно с серебряными монетами по Европе шло распространение и другого артефакта. Таковым были хартии, то есть официальные письменные дарственные, обычно исполненные на пергаменте и заверенные печатью. У этих документов имелись разные предшественники, но наиболее значительными из них опять-таки были документы каролингские. Письменная документация, как и пфенниг, постепенно проникала в Восточную и Северную Европу.
История развития письменных документов в разных районах удивительно похожа. Ее можно представить в виде нескольких последовательных этапов.
1) Самые ранние документальные материалы, имеющие отношение к данной конкретной местности, обычно представляли собой пожалования земли или каких-либо прав в границах этой области от лица правителей других территорий. Типичным примером является папская булла.
2) Затем появляются документы о пожаловании земли или прав в этой области от лица местного духовенства.
3) Еще позднее издаются пожалования от имени местных церковных правителей, при этом документы составлялись реципиентами, в качестве которых неизменно выступают церкви либо религиозные ордена и братства.
4) Наконец, мы видим рождение местных церковных канцелярий, которые берут на себя рутинную работу по изданию документов от имени правителя или феодала.
Наглядным примером этой последовательности служит славянская область Померания{963}. В этом случае первый этап датируется 30-ми годами XII века{964}, когда папство и Священная римская империя начали высказывать свои притязания на Померанию или ее отдельные районы. Крутой перелом наступил с созданием в 1140 году независимой епархии Померанской{965}. Это была предпосылка для начала второго этапа, ознаменовавшегося изданием официального документа от лица местного церковного органа. Подготовку такого документа инициировал где-то между 1155 и 1164 годами епископ Адальберт, первый предстоятель здешнего престола. Таким документом стало письменное подтверждение земельного пожалования бенедиктинскому монастырю в городе Столпе на Пеене, основанному монахами из Берга близ Магдебурга. Документ начинается словами: «In nomine sancte et individue Trinitatis. Adelbertus dei gratia primus Pomeranorum episcopus» («Именем святой и неделимой Троицы, Адальберт, милостью Божией первый епископ Померанский») — и воплощает формой, языком и содержанием начало новой эры в истории Померании, а равно и рождение новой формы документальных свидетельств этой истории{966}. Для немецких монахов, скрепивших своими свидетельствами эту бумагу, это была достаточно обыденная процедура, но для «благородных мирян», также поставивших под документом свои подписи, скрип пера, изгиб пергамента и запах горячего воска могли быть и чем-то необычным.
50-е и 60-е годы XII века стали свидетелями целой череды папских и королевских документов, имеющих отношение к Померании, и еще несколько бумаг были изданы епископами Померанскими. Хартия 1159 года{967}, изданная епископом Адальбертом, оригинал которой сохранился в Щецине (по крайней мере до Второй мировой войны), является — если еще существует — самым старым документом такого рода, изданным в отношении Померании. Спустя несколько лет — в 1174 году — наступил третий этап, начало которого ознаменовалось изданием хартии герцога Казимира I в отношении цистерцианского монастыря в Даргуне{968}. В этом документе померанский князь впервые говорит от первого лица, хотя, конечно, прибегает к заимствованным стилистичеким приемам: «Ego Kazi-marus Diminensium et Pomeranorum princeps» («Я, Казимир, князь народа демминского и померанского»). К этому документу приложена самая старая из дошедших до нас герцогских печатей Померании{969}. С 70-х годов XII века издание хартий от имени герцогов Померании становится регулярным, как и продолжающийся поток документов, исходящих от папства, императора и епископов Померанских. Например, сохранились хартии Богислава II (ум. 1220), которые датируются следующим образом: одна — 1187, одна — между 1191 и 1194 (обе эти грамоты были изданы Богиславом еще до совершеннолетия), две — между 1200 и 1208, одна — 1208, две — 1212–1213, две — 1214, одна — 1216, две — 1218 и две — 1219{970}. Таким образом, получается двенадцать хартий примерно за двадцать лет правления после совершеннолетия. Весьма вероятно, что документы готовились самими адресатами, как было в случае с хартией его дяди Казимира, которая была составлена в пользу монастыря Колбаш и включала такой параграф: «Составлено рукой господина аббата Эбергарда» (Per manum domini Everardi abbatis facta sunt hec){971}. Судя по всему, канцелярия герцога (этап 4) появилась во времена правления Вартислава III (ум. 1264).
Таким образом, за период между началом XII и концом XIII века Померания совершила переход от отсутствия грамоты и письменной документации к канцелярии и архивным записям. Официальное делопроизводство было перестроено по образцу латинской грамоты и той практики ведения документации и организации всего бюрократического процесса, которая преобладала у могущественных западных соседей. В этом отношении опыт Померании был необычен. В Силезии, хотя этот регион был обращен в христианство намного раньше Померании, первые аутентичные документы датируются лишь 1139 годом, первая церковная хартия появилась в 1175 году, а канцелярия — только после 1240.{972} В эпоху Раннего Средневековья традиция документальных записей существовала в кельтских странах, а в конце XI и в XII веке здесь получила распространение каролингская модель делопроизводства и издание хартий приняло более масштабный характер{973}. Примерно в 1100 году шотландские короли тоже приступили к изданию заверенных печатями грамот: «документы на латинском языке, имеющие англо-саксонское происхождение, были переняты и получили дальнейшее развитие в нормандской Англии, откуда были занесены в Шотландию»{974}, с приложением изображения короля во всем его величии. О хартиях, изданных эрлом Дэвидом Хантингдонским (1152–1219), братом короля Вильгельма Льва, было написано, что «по физическим характеристикам невозможно установить, издан ли данный акт в Англии или Шотландии»{975}. В Ирландии первые документы «континентального» типа были изданы местными правителями в середине XII века{976}. Самая ранняя из сохранившихся оригинальных грамот — документ о пожаловании, сделанном королем Лейнстера Дермотом Макмарроу в начале 1160-х годов. Это тот самый правитель, при котором Ирландия познакомилась с англо-нормандским оружием, и в исторической литературе принято считать, что заимствование континентальной традиции письменного латинского документа было в представлении таких правителей составной частью процесса «модернизации и европеизации».
Распространение культуры письменной документации на перифериях континента совпало с массированным ростом числа письменных источников в центральной, посткаролингской части Европы, того процесса, который получил название «перехода от сакральной письменности к практической»{977}. В Пикардии по обилию письменных документов XII век перекрывает все предыдущие, вместе взятые, а в XIII веке их издано вчетверо больше, чем в XII{978}. За тот же период официальные архивы создавались по всей Европе — архивы стандартного типа, ибо «в основе всех архивов средневековой Европы лежала каролингская система документации»{979}. Все больше и больше людей в Европе, от польских герцогств до долины Сены или Рейна, приходили к выводу о «необходимости фиксации в письменном виде событий, достойных памяти, с тем чтобы к почтенным деяниям далекого прошлого можно было возвращаться снова и снова»{980}.
По схеме распространения серебряной монеты и посткаролингской хартии можно составить представление о процессах более общих, но менее заметных. Составление первых письменных документов и чеканка первых монет королями скоттов в конце XI и в XII веке или такие же нововведения славянских династий между Эльбой и Одером в середине и конце XII века отражают более полную и глубокую интеграцию Шотландии и полабских земель в католический и франкский мир. Однако пенс и официальная грамота имеют для нас значение не только как индикаторы более общих процессов и явлений. Они не просто артефакты, как керамика определенного стиля либо орудия какой-то конкретной формы, по распространению которых можно судить о миграции, распространении торговли или влиянии в более широком смысле. Ибо если монеты и документы и являются артефактами, то артефактами совершенно особого рода, что и делает их распространение особенно значимым. Это значение связано с материальной пользой весьма условно. Крошечный металлический диск и лист пергамента мало полезны в хозяйстве — в отличие от керамики или орудий труда. Их значение определяется тем, что они являются материальным воплощением человеческих отношений.
Деньги как платежное средство могут использоваться по-разному. В этом смысле деньгами можно считать и поголовье скота, которое в раннесредневековом обществе некоторых стран служило мерилом богатства и власти. Здесь мы имеем специфическое средство обмена, которое может быть съедено. И подчас именно вопрос пригодности в пищу определял подлинную цену этого богатства. Другая крайность — современные бумажные деньги, которые не только не съедобны, но и вообще не могут использоваться ни для каких других целей — и даже для письма, поскольку в этом нас опередило государство. Период, когда основным платежным средством выступали серебряные монеты, лежал между эпохой скота и эпохой современных бумажных банкнот, и носил промежуточный характер: сами монеты не имели практической ценности, зато материал, из которых они были сделаны, то есть серебро, выполнял обменную функцию и вне зависимости от того, что именно отчеканили на монете власть предержащие.
И все же выбитый на монете текст и рисунок тоже имели значение. Монеты не были просто слитком серебра, хотя в некоторых случаях их можно охарактеризовать и так. Скорее они служили — и были для этого предназначены — своеобразным жетоном во всеобщем обмене, и ценность этого жетона как раз и подтверждалась выпустившими его властями. В таком качестве деньги одновременно были необходимой вещью для крестьянина, торгующего на рынке, и предметом вожделения для феодала и его казначея. Будучи инструментом торговых операций и учета, деньги одновременно служили источником удовлетворения монарших амбиций, когда короли миллионными тиражами рассылали свой чеканный портрет с подписью во все уголки своего королевства и за его пределы; ибо, как сказал Птолемей Луккский, «ничто имеющее отношение к королю или господину, не передается из рук в руки так часто, как монета… Деньги придают величию правителя особый блеск»{981}. Между X и XIII веками все больше правителей разных территорий стремились к удовлетворению своего тщеславия путем выпуска собственных денег.
Официальный письменный документ тоже в какой-то степени носил эти черты, но не все. В отличие от серебряных монет хартии не имели материальной ценности отдельно от того шаблона, чьим условностям они следовали. Уберите с монеты портрет короля — и у вас будет ценный кружок серебряного сплава. Но уберите с хартии слова — и бумага потеряет всякий социальный смысл. В то же время документ и монета имели то сходство, что являлись традиционной формой материализации определенных общественных отношений. Грамота сначала фиксировала на бумаге, а затем на деле переход собственности или власти и учреждение новых взаимоотношений. Обладание хартией, как и обладание монетой, давало власть, которая была отделена от физического могущества или от непосредственного владения материальными товарами, имевшими практическую ценность. Хартии и монеты служили воплощением наиболее абстрактного аспекта общественных отношений: права и притязания, намного менее осязаемые, чем трава или говядина, принимали в них осязаемую форму.
Этой осязаемостью монет и документов можно было управлять; их общепринятая форма, небольшие размеры и прочность означали, что это управление могло быть исключительно гибким и удобным. Их можно было перемещать; их можно было хранить. В каком-то смысле казна и архивы служили средоточием власти, и их содержимое, то есть монеты и грамоты, при всем несходстве, в одинаковой степени представляли гарантию платежа. Утрата королевского обоза, как произошло, например, в 1194 году с обозом Филиппа Августа при Фретевале, становилось катастрофой государственного масштаба не только потому, что казна лишалась сундуков, заполненных монетами, но и в силу пропажи королевской печати, финансовых отчетов и других документов{982}. В конце XIII века, желая особо подчеркнуть факт уничтожения суверенитета валлийского княжества Гуинета, Эдуард I Английский не просто свергнул князей и заточил в темницу, но приказал также расплавить их матрицы для отливки печатей и выковать потир для своего любимого аббатства{983}. В XII и XIII веках дальновидные правители по всей Европе начинали наряду с бочонками монет собирать и сберегать сундуки с документами. И то и другое было материальным символом власти в обществе; или точнее — и то и другое было валютой.
С началом чеканки денег и издания письменных распоряжений менялась и вся политическая культура общества. Таким образом, все более широкое распространение этих двух явлений в Северо-Западной, Северной и Восточной Европе в период между X и XIII столетиями не только знаменует центробежные устремления франкской знати и купцов; оно также говорит о восприимчивости нефранкских режимов к новым источникам господства. Многие кельтские и славянские правители с готовностью хватались за эти новые материальные символы власти, чтобы еще выше подняться в седле, пускай даже в конечном итоге они оказывались на коне другой масти.
УНИВЕРСИТЕТ
Европеизация означала не только распространение определенных элементов языковой и религиозной культуры или новых артефактов власти, но также развитие новых организационных структур, служивших проводниками культурного обмена. Мы уже рассмотрели два примера — вольный город и международные религиозные ордена. Другим важнейшим каналом интеграции стал средневековый университет.
Университеты были мощнейшим инструментом культурной гомогенизации, зародившимся в эпоху Высокого Средневековья. Постепенно вырастая из школ логики, права и теологии XI–XII веков, эти международные образовательные центры к XIII веку уже приобрели почти современный вид: корпоративные организации, присваивающие ученую степень и руководимые педагогами, которые читают студентам лекции, осуществляют их воспитание и проводят экзамены. На географической карте университеты были разбросаны крайне неравномерно. Первенствовали Франция и Италия — как по количеству университетов, так и в том плане, что в них находились выдающиеся академические центры Средневековья — Париж как центр гуманитарных наук и теологии и Болонья как центр права. Пиренейские королевства и Англия в XIII веке тоже имели свои университеты, но они далеко уступали по значению французским и итальянским. За пределами этого региона (приблизительно его можно очертить треугольником с вершинами в Кембридже, Севилье и Салерно) до 1350 года университетов не существовало. Следовательно, в XIII — начале XIV века всякий житель областей, не входящих в этот треугольник, то есть Германии, Скандинавии, Восточной Европы или кельтских стран, желавший получить официальное высшее образование, вынужден был проделать путешествие, скажем, из Дублина в Оксфорд, из Норвегии — в Париж, из Баварии — в Болонью. Как описывалось в Главе 9, Стефан Лексингтонский, совершивший в 1228 году инспекционную поездку по цистерцианским монастырям Ирландии, сетовал на преобладание в монастырской среде одного языка — ирландского, и предписал в будущем, «ежели они пожелают принять кого-либо из своих соплеменников в ряды братства, то должны озаботиться тем, чтобы прежде послать их в Париж или Оксфорд, либо в какой-нибудь другой славный город, где они смогут научиться грамоте, красноречию и приличному поведению»{984}. Установилось своего рода культурное господство метрополии.
Большинство этих странствующих студентов по прошествии времени возвращались домой, самые удачливые достигали высоких церковных и политических постов у себя на родине. Таким образом, к 1300 году штатская элита латинского Запада формировалась на основе определенного образовательного стандарта. Представителей разных стран роднило сходство речевой культуры, интеллектуальных привычек, педагогических ожиданий и юношеских воспоминаний. К XIII веку великие отцы церкви, участвовавшие в управлении Европой, имели общую университетскую базу, заложенную в аудиториях Парижа и Болоньи.
Как этот процесс протекал на практике, демонстрирует пример Дании. В эпоху викингов, то есть в IX, X и XI веках, датчане представляли собой племя язычников, неграмотных разбойников и торговцев. Их регулярные набеги внушали ужас латинским народам Западам. На протяжении конца X и XI века при поддержке датских королей постепенно происходил процесс обращения датчан в христианскую веру, что способствовало их интеграции в христианский мир. К 1100 году в Дании насчитывалось восемь епархий, в 1104 году одна из них, Лундская, получила статус архиепископства, завершив таким образом процесс формирования стандартной церковной иерархии в этой части Скандинавии. Введение христианского обряда и становление в Дании церковной организационной структуры послужили предпосылкой для ее более глубокой культурной интеграции начиная с XII века. Один вдумчивый наблюдатель, немецкий летописец Арнольд Любекский, в труде, датриуемом примерно 1200 годом, подметил те пути, которыми датчане «приспосабливались к другим нациям». Среди таких вещей, как заимствование немецкого костюма и характерной для феодальной Европы практики конного боя, он выделяет интеллектуальное паломничество:
«Они также отличаются высокой грамотностью, поскольку знать посылает своих сыновей в Париж, не только затем, чтобы получить должность в Церкви, но и за наставлениями в мирских делах. Там они постигают искусство письма, местного языка и практикуются в гуманитарных науках и теологии. В самом деле, благодаря своему знанию языка они не только отлично владеют логикой, но и превосходно знают каноническое и гражданское право, необходимое для осуществления религиозной деятельности»{985}.
Одним из датских аристократов, получившим западноевропейское латинское образование, был Андерс Сунесен, архиепископ Лундский в 1201–1224 гг. Выходец из аристократического датского рода, избравший своим поприщем служение Церкви, он воспринял период обучения за границей как должное. До XII века такой план мог бы считаться чем-то из ряда вон выходящим. Сунесен учился в лучших академических центрах Франции, Италии и Англии и приобрел солидный багаж теологических и юридических знаний. Полученное им образование, в совокупности с благородным происхождением, несомненно повышали его перспективы в глазах потенциальных работодателей и патронов как в светских, так и в церковных учреждениях на родине, и вскоре по возвращении в Данию он был назначен канцлером короля и настоятелем Роскильдского собора. Предшествовавшее кадровое расширение королевской администрации и укрепление материального благополучия церкви создавали таким высокообразованным личностям новые возможности для карьеры.
Сунесен поехал за границу в поисках передового для его времени образования, которое он не мог получить на родине, и после возвращения в Данию попытался сделать все, чтобы подобное образование стало более доступно и дома. Сохранились два его труда на латинском языке. Первый из них — «Гексамерон» (Нexaemeron), сжатое стихотворное изложение христианского вероучения, составленное под сильным влиянием парижской теологической школы XII века. Его жанр можно определить как «высокую вульгаризацию», это изложение новейших для того времени идей парижских теологов в упрощенном виде. Другая сохранившаяся работа Сунесена представляет более сложное сплетение местного и иностранного. Речь идет о латинской версии свода обычных законов Скании, в то время входившей в состав Дании. Эти законы сохранились и на местном языке, и у нас есть возможность сравнить их с латинским текстом Сунесена. Из сопоставления видно, что Сунесен весьма вольно перевел местные законы, причем в его тексте сильно чувствуется полученное им образование в области римского права. Так, законы наследования, которые в исконном варианте просто констатируются, у Сунесена оказываются «продиктованы естественным равенством». Таким образом, можно сказать, что версия Сунесена несла в себе черты двух культур. Сунесен основывался на традиционных местных нормах, обычных по происхождению и устных по характеру передачи, но, излагая их на универсальном языке — латыни, он одновременно придавал им более классическое, римское по духу толкование{986}.
Деятельность Сунесена не ограничивалась чисто литературной или культурной сферой. Он на протяжении целого поколения возглавлял датскую церковь, причем проявил себя на этом поприще как энергичный руководитель-новатор. На счету Сунесена — борьба против вступления в брак клириков, проведение реформаторских соборов и основание в 1223 году первого в Дании доминиканского монастыря. Вдобавок он активно участвовал в учреждении новой миссионерской церкви в языческой Восточной Прибалтике, в Эстонии и Ливонии. В 1206–1207 годах он выступил в поддержку крестового похода против эстонцев и лично в нем участвовал, провел зиму в теологических наставлениях миссионерам, а весной, «захватив в заложники детей ливонских аристократов, направил священников проповедовать». Позднее, в 1219–1220 годах, после захвата датчанами крепости Ревель (Таллинн), он был назначен ее начальником, выдержал осаду язычников и продолжил евангелическую деятельность. Сунесен без устали насаждал основополагающую христианскую символику повсюду в деревнях язычников были установлены деревянные кресты, и специальные отряды раздавали святую воду.{987}
Андерс Сунесен был одновременно проводником и реципиентом процесса европеизации. В Париже ему довелось учиться у людей, за которыми стояло несколько поколений научного опыта, и участвовать в культурной жизни выдающегося академического центра, где в то время получали известность новейшие переводы с греческого и арабского и где складывались формальные структуры университетской жизни. Общаясь с эстонцами, он столкнулся с неграмотным, политеистическим народом финно-угорской группы, которых с католическим миром разделяла целая пропасть. Дания как бы стала промежуточным пунктом этого общения. С одной стороны, в этой стране была сравнительно молодая церковная организация и пока еще слабая католическая культура. Эта страна нуждалась в упрощенных учебниках Сунесена. С другой стороны, это был центр, откуда шла христианизация эстонских племен и их приобщение к новой для них культуре в широком понимании. Не успев в полной мере освоить новые религиозные и культурные институты и модели, Дания уже стала их проводником.
В противоположность Раннему Средневековью в XII и XIII веках темпы культурных изменений были существенно выше. Если раньше мы видим, что от момента зарождения в Италии бенедиктинской монастырской системы до ее насаждения в Скандинавии прошло более пяти столетий, то Сунесен основал доминиканский монастырь в Лунде спустя всего семь лет после официального учреждения доминиканского ордена, то есть по сути дела еще при жизни самого св. Доминика. Отчасти это объясняется организационными особенностями доминиканского ордена, например, способностью ранних монастырей поддерживать существование без крупной материальной собственности, но этот фактор сам по себе является существенной отличительной чертой Высокого Средневековья по сравнению с более ранним периодом. Он свидетельствует, что в новую эпоху механизмы взаимовлияний и заимствований работали намного быстрее и были «лучше смазаны». Результатом, в частности, явилось взаимодействие крайне несхожих миров: мы видели, что евангелизацией эстонских язычников руководил человек, получивший образование во французских и итальянских университетских аудиториях.
К 1300 году Европа существовала в форме четко идентифицируемой культурной общности. Описывать эту общность можно разными способами, однако в культурном облике разных стран в любом случае можно выделить черты сходства — это были наиболее почитаемые святые, имена, монеты, хартии и система образования, о которых и шла речь в этой главе. К концу Средневековья имена и культы святых как никогда прежде стали едины для всей Европы; европейские правители повсюду чеканили монету и имели развитое делопроизводство; для высшего слоя европейских должностных лиц был характерен единый тип университетского образования. Все это и есть европеизация Европы.
12. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ ЕВРОПЫ ПОСЛЕ ЭКСПАНСИИ
«Эту землю они изменили совершенно»{988}.
НОВЫЕ КОНТУРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ХРИСТИАНСТВА
Среди разных аспектов латинохристианской экспансии в эпоху Высокого Средневековья одно из центральных мест занимает геополитический. Между серединой X и серединой XIV века католический мир почти удвоился в размерах, и хотя эта религиозная экспансия не всегда подразумевала завоевание или иммиграцию, часто это оказывалось именно так. На Пиренеях, в государствах крестоносцев Восточного Средиземноморья и во многих районах Восточной Европы включение новых территорий в сферу господства Римской церкви сопровождалось формированием новой военной и клерикальной элиты и расселением городских и сельских колонистов. В результате произошли изменения в самой географии власти. Те области, которые прежде страдали от язычников или мусульманских набегов, сами теперь стали источником агрессии. Гамбург, чьи поля еще в 1110 году были разграблены славянами-язычниками{989}, в XIV веке уже являлся одним из ведущих городов ганзейской лиги, чьи купцы создали по всему Балтийскому побережью целую цепь немецких торговых христианских городов. Нижняя Эльба более не являлась зыбкой границей, а превратилась в оплот обширной торговой системы от Лондона до Новгорода. Похожим образом сарацины, в X веке беспрепятственно совершавшие набеги на Тирренское побережье, в 1104 году поднялись вверх по Арно и сожгли Пизу. Однако вскоре пизанцы уже сражались с мусульманами на их территории — в городах Сицилии и Африки. В 1087 году большой отряд пизанцев, амальфианцев и генуэзцев разграбил североафриканский порт Аль-Махдия и истребил его жителей. Отчасти плоды грабежа были использованы на украшение пизанского собора Девы Марии и строительство церкви св. Сикста в Кортевеккии. Вчерашние жертвы сегодня становились хищниками. Барселона в 985 году была разграблена прославленным кордовским полководцем Аль-Мансуром, но к середине XIV века каталонцы уже правили целой средиземноморской империей. По всей границе латино-христианского мира решительные изменения претерпевала модель взаимоотношений палач-жертва. Такие города, как Гамбург, Пиза и Барселона, перестали быть приграничными и превратились в процветающие центры колонизации и торговой активности.
Начиная с XI века невиданное могущество стали обретать и мореплаватели Западной Европы. Они получили возможность перевозить и «десантировать» целые армии практически в любом уголке изведанного мира. После 1016 года, когда Пиза и Генуя подчинили себе Сардинию, итальянцы неуклонно наращивали свое господство на Средиземном море. Альмерия, Аль-Махдия, Дамьетта, Константинополь: армии западных рыцарей могли быть высажены в любой точке средиземноморского бассейна, даже если потом их ожидало фиаско: военное превосходство западноевропейских армий не всегда соответствовало уровню превосходства перевозивших их флотов{990}. С XII века немцы активно вовлекали в сферу католического влияния Балтийский регион, опираясь на свой оплот — Любек. Из устья Траве немецкие экспедиционные войска почти ежегодно совершали морские походы, стремясь создать на Балтике «кайму» немецкого христианского влияния, которая со временем протянулась от Любека до Финляндии. В этом процессе принимали участие и датский и шведский флоты. Время языческих полчищ, рыщущих по Балтике в поисках добычи, миновало. Точно так же, как владычество мусульман на Средиземноморье, было оттеснено и господство язычников на Балтийском море. Одной из отличительных черт Высокого Средневековья как раз и стало установление господства на морях христианских флотов.
Постепенно западноевропейские купцы добрались до всех транзитных пунктов, где их государства и народы соприкасались с другими регионами Старого Света. Немцы пересекли Балтику и достигли Новгорода и Смоленска. Немного южнее, в Киеве, можно было встретить итальянских купцов, добиравшихся сюда из Константинополя. Морские торговые пути венецианских и генуэзских купцов простирались от Черного моря по всей акватории Средиземного и впоследствии через Балтику достигли Брюгге и Сауггэмптона. Здесь столкнулись интересы итальянских и ганзейских купцов. Если смотреть по карте, то торговая экспансия Высокого Средневековья охватывала Европу парой гигантских «клещей», державшихся на Гамбурге и Любеке на севере и Генуе и Венеции на юге. Итальянские «клещи» тянулись на восток в Египет и Русь, на запад — на север Африки и в Атлантику, а немецкие купцы решительно проникали в Евразию по рекам Балтийского бассейна, одновременно поддерживая активные торговые отношения с западными текстильными городами Фландрии и шерстяными рынками Англии. Торговые города Германии и Италии одновременно служили распространению и интеграции экономики и культуры Запада.
Другая важная перемена геополитического характера, которая стала следствием экспансии Высокого Средневековья, вытекала из любопытной особенности латинской христианской церкви эпохи Раннего и развитого Средневековья: ее символические центры, в которых генерировалось единое вероучение и формировалось духовное самосознание, существовали в отрыве от политических и в меньшей степени — от экономических центров. Это особенно ясно видно на примере Рима. В начале X века город находился на окраине латинохристианского мира, в каких-то ста милях от опорных баз сарацинов и греческих церквей, и порт его то и дело подвергался набегам мусульман-пиратов. Связи с отдаленными территориями, входившими в сферу влияния Римской церкви, — Астурией, Ирландией или Шотландией — были зыбкими. За XI–XII века, с утверждением латинского господства на юге Италии и островах центрального Средиземноморья, эти связи обретали все большую устойчивость. Тем не менее сам Рим, как и прилегающие глубинные области, никогда не занимал того центрального положения, какое сумела завоевать Северная Франция или — в экономическом плане — Ломбардия, Фландрия или Рейнланд. Паломники, совершавшие путешествие в Рим из Парижа, Милана или даже Лондона, попадали в город, исключительно богатый традициями античной империи, святыми реликвиями и церквями, но нельзя сказать, что они прибывали из политических, экономических или культурных окраин в центр. Если говорить с формальной и правовой точки зрения, то Рим не являлся метрополией в полном смысле. К слову сказать, когда в XIV веке встал вопрос о переносе папского престола в Авиньон, то одним из аргументов выдвигался, в частности, тезис, что Авиньон «в большей степени равноудален от современных границ католической церкви»{991}.
В Раннем Средневековье корреляции между географической периферией и религиозным центром придавалось особое значение. Считалось, что центры паломничества должны лежать на краю земли. Это не только превращало их в удобные полигоны для подспудных экспериментов, но также служило выполнению одной из традиционных функций паломничества — быть местом покаяния. Такие пункты, как Сантьяго на северо-западе Испании, или в меньшей степени Сент-Дэвид на западном побережье Уэльса, действительно находились на краю суши. Еще дальше от центров лежала сама Святая земля. Иерусалим, место зарождения и в символическом смысле «сердце» христианского мира, священный город, воспринимавшийся жителями любого западного города как представитель и защитник на Небесах, на протяжении многих веков служивший объектом христианского паломничества и ожесточенных сражений, лежал на самой восточной окраине латинского господства, в 2 тысячах миль от долин Рейна, Сены или Темзы и при этом за всю эпоху Средневековья находился в руках у христиан всего девяносто девять лет. Тем не менее его физические и вербальные приметы можно было встретить по всей Западной Европе: в честь Святой Гробницы или по ее подобию возводились бесчисленные церкви, а тамплиеры несли имя храма Соломонова во все свои поселения, в каких бы областях Западной Европы они ни находились.
Эти регионы имели огромное культурное значение, а перемены Высокого Средневековья коснулись самого их расположения: они более не лежали на дальних географических окраинах. Иерусалим практически столетие находился под властью христиан. Рим получил возможность обратить свой взор на католические церкви королевства Сицилия и на восток, в франкскую Грецию. Сантьяго, лишившийся знаменитых колоколов в результате нападения в 997 году мусульманского войска под командованием Аль-Мансура, получил их назад из кордовской мечети, когда Кордова пала в 1236 году под ударами Фердинанда III{992}: легко уязвимый в X веке, этот священный город теперь отстоял далеко вглубь от границ христианского мира и был надежно защищен многомильным буфером христианской земли. Таким образом, к XIII веку символический центр тяжести латинского христианства значительно приблизился к его социально-экономическому центру. Святые места и наиболее крупные города, святыни и центры производства были теперь связаны намного более тесными узами, чем в Раннем Средневековье.
Протяженная граница католической Европы, тянувшаяся от Испании до Финляндии, четко делилась на две зоны. В Средиземноморье католики противостояли мусульманским (и греческим) обществам, которые были не менее богаты и имели не менее развитые города и культуру. Оставаясь ярыми религиозными противниками католиков, мусульмане имели с ними общее в том, что тоже исповедовали монотеистическую веру, основанную на священном писании, божественном откровении и, вопреки распространенному, но не вполне компетентному мнению, отрицании идолопоклонства. Ситуация в Восточной и Северной Европе была в корне отличной. Здесь католикам противостояли менее населенные, по преимуществу сельские и неразвитые в культурном отношении общества, чье отсталое и неграмотное население исповедовало местные политеистические верования и идолопоклонство. В результате таких фундаментальных различий между исламом Средиземноморья и восточноевропейским язычеством по-разному сложилось история как самого завоевания и обращения в христианскую веру этих регионов, так и последующего утверждения Церкви в культурной и идеологической сфере.
Первое крупное следствие этих различий проявилось в том, что в Северной и Восточной Европе обращение в христианскую веру стало по сути составной часть более широкого процесса переориентации или, если говорить точнее, вестернизации, усвоения принципов и норм романо-германской цивилизации в том виде, как они сформировались на территории бывшей империи Каролингов. Интеграция западных славян-язычников в католический мир в XII веке совпала с появлением письменной документации, созданием инкорпорированных городов и началом чеканки монеты. Появление письменной культуры, городов и денег составляли часть той широкой социально-культурной трансформации, в которой христианизация играла очень существенную, но не исключительную роль. Языческая знать сама признавала авторитет и могущество христианского мира, и примечательно, что представители этой знати приняли христианство раньше, чем основная масса их населения. Один источник передает спор, состоявшийся во время миссионерской кампании 1128 года, когда группа померанских язычников, выступавших за принятие христианской веры, высказала мнение, «что невероятно глупо отделять себя, словно младенцы — жертвы выкидыша, от лона Святой Церкви, в то время как все провинции соседних государств и весь римский мир давно приобщились к христианской вере»{993}. Заметим между прочим, что этот тенденциозный пассаж вышел из-под пера христианского автора, но нет сомнения, что пример «всего римского мира» был действенным инструментом агитации. Уже в VIII веке христианским миссионерам советовали напоминать язычникам о «достоинстве христианского мира, в сравнении с коим они представляют действительно ничтожное меньшинство, выступая хранителями своих древних предрассудков»{994}.
В Средиземноморье ситуация была совершенно иной. Здесь, по всей видимости, подчинение мусульман христианам неизменно становилось следствием военного поражения, в силу чего темпы обращения мусульман в христианство оставались очень низкими. По сравнению с языческими народами Восточной и Северной Европы мусульмане обладали существенно более формализованной и универсальной религией, действовали в соответствии с собственным священным писанием и своими законами и всегда могли рассчитывать на помощь или убежище у братьев по вере в соседних исламских государствах. Они были представителями более широкого мира, который вполне мог соперничать с Западом в могуществе, богатстве и культуре.
Различия в колониальной ситуации на этих двух участках границ католического мира усугублялись разным отношением христианских правителей к праву неверных на отправление своего религиозного культа. В случае политеистического идолопоклонства на официальном уровне право на исконный культ никогда не предоставлялось. Иногда те методы, какими шло насаждение новой власти, свидетельствовали о сохранении культового синкретизма, но не было случая, чтобы христианский правитель или церковные власти официально допускали послабления в отношении языческого культа. Подчас решительное разрушение исконной классовой структуры общества было как раз продиктовано стремлением защитить новообращенных и подавить отступников. Столкнувшись в Пруссии с массовыми восстаниями наподобие «Великого отступничества» 1260 года, Тевтонские рыцари сделали христианское вероисповедание главным критерием лояльности автохтонного населения к новым властям. Зарекомендовавшим себя «благонадежными» предоставлялась личная свобода и льготные права наследования независимо от их прежнего статуса по прусскому закону. Политическая лояльность стала отождествляться с готовностью отказаться от нехристианской религии.
В то же время в Средиземноморье мусульманским общинам зачастую предоставлялись одинаковые права с иудеями, то есть гарантировалась возможность беспрепятственного, хотя и в определенных пределах, отправления общинного культа. При том, что в отвоеванных у мусульман испанских городах главные мечети превращались в церкви, мудехары — исламские подданные христианских правителей — продолжали исповедовать ислам вплоть до начала XVI столетия. Как написал о Валенсии историк Роберт И. Бернс: «В этой христианской земле можно было чаще слышать зов муэдзина с минарета, чем звон колоколов с колоколен»{995}.
Различная политика христианских властей в отношении язычества и ислама имела еще одно парадоксальное последствие: коренное население в государствах Средиземноморья в гораздо большей степени соответствовало своему положению подданных и жителей колоний, чем во многих случаях на севере и востоке Европы. В языческой Восточной Европе выбор стоял очень остро — между сопротивлением и крещением, и многие дальновидные местные династии и знать выбирали второе. В Средиземноморье существовала третья возможность — жить на правах религиозной общины, которая хоть и потерпела поражение, но не поставлена под запрет. В результате в таких регионах, как Скандинавия или княжества западных славян, при обращении в христианство сохранялась преемственность власти, и местные династии сохраняли свое господство. К примеру, великие герцоги Мекленбургские, правившие вплоть до 1918 года, были прямыми потомками языческого князя XII века Никлота. В Средиземноморье же власть туземных правителей не простиралась дальше пределов узаконенной, но изолированной общины неверных, или, как называли себя сами мусульмане, дхимми (dhimmi).
Ясно, что новые структуры и новые поселения на европейской периферии создавались по образу и подобию существовавших в центре. В Западной Германии, Франции или Англии, после того как земля была расчищена и заселена, колонистам зачастую предоставлялись существенные привилегии, в частности, льготная рента или статус вольного поселения. Первые годы освоения порой оказывались для них не менее трудными, чем для переселенцев в Остзидлунг. Создание новых городов в центральных областях и на окраинах протекало по одному шаблону. Правители наподобие графа Шампани конца XII века Генриха Великодушного, расчищавшего землю под пашню и строившие мельницы, или его современника Филиппа Эльзасского, графа Фландрского, который активно чеканил монету, осушал болота и закладывал города{996}, энергично осваивали и развивали новые территории — точно так же, как их современники, больше проявившие себя на границах христианского мира, например, Викман Магдебургский.
Однако между внешними и глубинными областями имелись два различия. Во-первых, разным был сам масштаб заселения. На Пиренеях и в Восточной Европе новые поселения подчас создавались планомерно и широкомасштабно. Речь могла идти о тысячах акров земли, о десятках тысяч переселенцев. В области Толедо к той сотне населенных пунктов, которая существовала ко времени христианской Реконкисты 1085 года, в последующие столетия прибавились еще 80 новых поселений.{997} По оценке специалистов, под патронажем Тевтонских рыцарей в Пруссии было заложено почти 100 городов и 1000 деревень, а в Силезии за XII — начало XIV века появилось 120 новых городов и 1200 деревень{998}. В Средние века лишь немногие регионы Центральной Европы могли похвастать подобными масштабами освоения новых территорий. В английской Книге Страшного суда таких областей не отмечено. Было подсчитано, что в Пикардии за время Высокого Средневековья подверглись систематической расчистке от леса около 75 тысяч акров земли, то есть не более 1,2 процента от общей территории области{999}. Даже если включить в расчеты те площади, которые постепенное отвоевывались у леса и целины, но зачастую нигде не фиксировались, и принять их равными 300–375 тысячам акров (что, конечно, намного превосходит реальные цифры), то и тогда суммарные масштабы расчистки пашни не превысят 7 процентов от общей площади.
Другим существенным отличием внешних окраин Европы было то обстоятельство, что здесь вступало в соприкосновение население разных национальностей, языков и религий. Когда новые поселения закладывались в центральных районах, переселенцы поначалу могли столкнуться с неприязненным и недоверчивым отношением, однако тесное общение, смешанные браки, совместные сделки с недвижимостью и другим имуществом, наконец, просто более близкое знакомство друг с другом уже при жизни одного поколения, как правило, приводили к полному стиранию различий между коренным и приезжим населением. В приграничных областях это наблюдалось достаточно часто, однако культурные барьеры между двумя категориями населения оказывались более стойкими. В этих регионах Европы долго сохранялись противоречия национального, религиозного и лингвистического характера. Новый город в Уэльсе или Силезии значительно отличался от нового города в Бедфордшире или Вестфалии уже в силу того, что модель для его основания была принесена извне.
Как мы только что отметили, испанская Реконкиста и — не всегда и в меньшей степени — христианское завоевание Сицилии и Сирии породили особый слой покоренного населения, исповедовавшего иную религию, нежели его правители и новые поселенцы. В то же время колониальное порабощение в средневековой Европе принимало не только такую форму. Породив четкое самосознание христиан в качестве populus christianus, которые, выражаясь бессмертными словами «Песни о Роланде», были «правыми», а язычники — «неправыми», средневековый колониализм вызвал к жизни и такие явления, как расизм в его идеологическом и психологическом варианте. Конечно, были районы, где эмигранты настолько превосходили в численности исконное население, что главным врагом переселенцев становились пни и болота, но такая ситуация была редкостью. Поскольку в целом в ходе средневековой экспансии той эпохи огромные все более крупные этнические и языковые группы людей переселялись в новые места в качестве завоевателей либо поселенцев, то средневековая католическая Европа все чаще оказывалась опоясана лингвистически и этнически разобщенными обществами. В Восточной Прибалтике и Ирландии, к примеру, колонисты сформировали зажиточную правящую элиту, тогда как большинство населения страны сохраняло свой исконный язык, культуру и структуру общества.
Ясно, что в каждом случае местная модель межэтнических отношений формировалась в зависимости от масштабов и природы иноземной иммиграции. Во многом эта модель зависела от того, являлись ли иммигранты завоевателями или мирными колонистами, составляли ли подавляющее большинство населения или малую толику, были ли это землевладельцы или работники, предприниматели или духовенство. Одной из крупных зон этнического смешения стала Восточная Европа, которая в эпоху Высокого Средневековья переживала масштабные преобразования в результате массового переселения немцев на восток, получившего названия Остзидлунг. Общим для большинства районов Восточной Европы было то, что в ходе Остзидлунга расселение немцев происходило, как правило, в тех областях, где они никогда прежде не жили, однако складывавшаяся в результате этническая ситуация могла быть очень различной. В некоторых местах, например, имела место полная германизация. Так, в Бранденбургской миттельмарке совершила вооруженную экспансию и установила свое господство старинная немецкая династия Асканиев, под эгидой которой немецкие крестьяне и бюргеры стали обживать новые поселения и основывать новые города. В конце Средних веков славянский язык в Миттельмарке практически вышел из употребления. С тех пор эта область постоянно входила в состав Бранденбурга или государств, которые стали его преемниками, Пруссии, Германской Демократической Республики и Федеративной Республики Германия. В других регионах германизация принимала иные формы. В Силезии, польском герцогстве под властью одной из ветвей династии древних правителей Польши Пястов, процесс германизации в культурной сфере протекал в XIII веке, и местные герцоги и отцы церкви всячески поощряли немецких переселенцев. Сама правящая династия тоже стала перенимать немецкие имена и переходить на немецкий язык. К XVI веку, когда Силезия оказалась под властью Габсбургов, отдельные районы герцогства были уже не менее «немецкими», как и Бранденбург. Вроцлав (Бреслау), где был созван первый немецкий рейхстаг к востоку от Эльбы (1420 г.), был несомненно городом немецким. Однако в других областях Силезии немецкие переселенцы или, точнее, их потомки, напротив, подверглись славянизации. В основных чертах историю Силезии повторяла Померания, и во всех этих случаях важным моментом было широкомасштабное переселение немецких крестьян.
Дальше на восток, в некоторых областях Польши, Венгрии и Богемии, немецкая иммиграция носила более ограниченный характер и преимущественно концентрировалась в городах. Здесь большинство населения было сельским, а горожане составляли существенно меньшую часть, при этом аристократические и правящие династии были славянскими либо мадьярскими. Немецкие бюргеры образовывали привилегированный, но разрозненный класс, часто опиравшийся на поддержку и патронаж местных королей. Например, немецкие поселенцы в Трансильвании были приглашены туда венгерскими правителями Арпадами и получили от них особые привилегии, которые, в частности, формулировались в так называемом Андреануме (Andreanum) — документе, изданном Андреем II в отношении его «верных гостей, немцев Трансильвании» в 1224 году.{1000} Очевидно, что модель этнических отношений в городах Восточной Европы, которые основывались посреди сельской местности, населенной местным крестьянством и знатью, значительно отличались от городов германизированных областей вокруг Бранденбурга и Вроцлава. Еще один сценарий разыгрывался в Восточной Прибалтике, севернее Мемеля (ныне — Клайпеда), где политическая власть была сосредоточена в руках чисто немецкого образования — ордена Тевтонских рыцарей. Все тамошние города были основаны немцами, а туземное прибалтийское население, принадлежавшее к финно-угорской группе, сохраняло значительное численное большинство и оставалось преимущественно сельским. Здесь отношения между немецким городом и не-немецкой сельской местностью складывались подобно тем, что были в Польше, Венгрии и Богемии, при том, что политическая власть безраздельно находилась в руках у немцев, и в этом смысле Восточная Прибалтика напоминала Бранденбург.
Такие переменные, как масштабы немецкой иммиграции, распределение политической власти между коренными и иммигрантскими группами населения, а также сама история обращения в христианскую веру, существенно различались. Особенно важен последний из перечисленных факторов. Герцогства и королевства Польши, Богемии и Венгрии официально приняли христианство и сформировали церковную иерархию уже до того, как началась волна немецкой эмиграции. В то же время венды, то есть западные славяне, жившие по соседству с немцами, чехами, поляками и балтами, сохраняли язычество еще и в XII веке. Уже в XIII веке князья и прелаты немецких колониальных территорий наподобие Бранденбурга были готовы извлечь всю возможную выгоду из своей репутации поборников христианской веры, даже при том, что официальное язычество западных славян завершилось в 1168 году разграблением храма Арконы на острове Рюген. Вскоре после этого, с началом миссии в Ливонию и расселения немцев в Восточной Прибалтике, стал формироваться совершенно особый тип политического образования — государство, управляемое орденом крестоносцев, вся цель существования которого заключалась в вооруженном подавлении язычников и схизматиков. Пруссия и Ливония как раз и приняли форму немецкого теократического государства, увязшего в бесконечной войне с местным языческим населением. Очевидно, что разные формы межэтнических отношений были связаны со степенью их зависимости и тождественности религиозным противоречиям. Разногласия по линии христианин-язычник могли усугублять, превосходить или вовсе не иметь отношения к противоречиям на основе принадлежности к немецкой нации. Колонизация могла быть, а могла и не быть синонимом обращения в христианскую веру.
Прямые исторические последствия миграционных и межэтнических процессов эпохи Высокого Средневековья мы видим и сегодня. В наше время, когда носители немецкого языка из стран Восточной Европы продолжают переселяться в Германию, когда люди гибнут в борьбе за право Британской короны на ирландскую землю или против него, становится понятно, что фундаментальные политические проблемы XX века глубоко уходят корнями в динамичную эпоху завоевания и колонизации шести- или семивековой давности. Экспансия Средневековья оказала на культурное самоопределение и политическое будущее жителей кельтских островов или Восточной Европы бесповоротное влияние.
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ПЕРИФЕРИЙНЫХ ОБЛАСТЕЙ
Утверждение новой аристократии, строительство замков, развитие городов, новые сельские поселения, развитие письменной документации — все эти процессы обусловили фундаментальную трансформацию затронутых ими регионов по периферии католической Европы. Политические последствия были различны. О государствах завоевания в Бранденбурге и Ольстере уже шла речь в Главе 2. Однако помимо них были и другие примеры. По всем окраинам Европы можно было встретить военизированные общественные образования. Особенно ярким примером служит Орденштат — государство Тевтонских рыцарей, которым правила иноземная религиозно-военная аристократия, так и не сумевшая интегрироваться в местное общество (с натяжкой аналогом можно считать Родос). В других регионах тоже существовали свои государства-форпосты и «утремеры» — в Леванте, Греции, землях кельтов. Во многих случаях самым удачным определением такого рода областей можно считать «полупокоренные страны». Наглядным примером служит Ирландия; еще одним — Уэльс до 1282 года. Вероятно, подобным же образом можно охарактеризовать и государства крестоносцев. Главенствующее в политическом плане население, состоящее из ведомых рыцарями и духовенством эмигрантов, ядро которых составляли бюргеры и отчасти крестьяне-фермеры, оставалось тем не менее меньшинством и противостояло значительному большинству автохтонного населения, говорящего на другом языке, имеющего иную культуру, иную структуру общества и зачастую — иную религию. Это меньшинство было вынуждено обеспечивать себе безопасность, доходы и власть, подавлять или «переделывать» коренное население. Порой сразу за весьма зыбкими стенами колониальных городов и фьефов лежали независимые от них исконные государственные образования: гэльские или литовские королевства, греческие или исламские государства, давно вынашивавшие планы реванша и возрождения. В подобных государствах война и соперничество между приезжими и местными, поселенцами и исконным населением воспринимались как должное и составляли неотъемлемую сторону жизни.
Не все местные правители оказывались настроены враждебно к эмигрантам. Во многих случаях чужеземцев приглашали и поощряли как раз местные аристократы в стремлении обрести преимущество над политическими соперниками. Альянс с могущественными иноземцами мог быть заманчивой перспективой для тех вождей, кто проигрывал в политической борьбе или желал подняться над своими пэрами. Наглядным примером такого рода служит Дермот Макмарроу Лейнстерский, который для восстановления своего королевства привел англо-нормандских наемников. Точно так же нормандцы захватили свой первый плацдарм на Сицилии благодаря содействию раскольника-мусульманина эмира ибн-ат-Тимнаха{1001}. «Христиане совсем близко, — советовал один ливонец перед лицом натиска литовцев. — Давайте поскачем к Магистру [Тевтонского ордена]… Давайте вступим в добровольный союз с христианами и отплатим тогда за наши невзгоды»{1002}. Связь между могущественными внешними силами могла дать решающее преимущество в междоусобных конфликтах. Например, Генрих I Английский сумел переманить на свою сторону подающего надежды валлийского князя, пообещав вознести его «выше любого из твоего клана… так что весь клан твой станет тебе завидовать».{1003}
Перемены, о которых идет речь, были не только следствием завоевания. XI, XII и XIII века отмечены плеядой энергичных правителей, которые осознанно проводили политику преобразований. Альфонс VI королевства Леон и Кастилия (1065–1109) женился на дочери французского княжеского рода, приветствовал приезд в его страну французских рыцарей, духовенства и бюргеров, установил тесные контакты с папством и Клюнийским орденом, переделал церковный обряд на римский лад, возможно, выпустил первую кастильскую монету и основал новые городские общины, наделив их городскими свободами. Давид I Шотландский (1124–1153) отчеканил первые шотландские деньги, учредил в стране новые монашеские ордена, всячески поддерживал иммигрантское сословие в лице англо-французского рыцарства и развивал торговые города. В Силезии основание немецких сельских населенных пунктов на базе германских законов, а также создание городов с конституциями по образу и подобию тех, что существовали в саксонских центрах ремесла и торговли, происходило под покровительством герцога Генриха Бородатого (1201–1231), у которого и мать и жена были немецкие дворянки.
В большинстве случаев такая позиция позволяла правителям сохранить династию, даже если подвластное им общество претерпевало культурные и социальные преобразования. В Шотландии, Силезии, Померании и Мекленбурге аристократов из-за рубежа приглашали сами местные династии, и во всех случаях эти династии сохранились. Такие правители плыли по волне перемен. Другие политические образования, наподобие валлийского княжества Гуинет, двигались в том же направлении, но в гораздо менее благоприятных условиях, с опозданием и слишком медленно. Гуинетские князья XIII века строили каменные замки, покровительствовали новым городам-боро и издавали хартии, так что к 80-м годам XIII века, когда княжество было окончательно завоевано, своим политическим устройством оно больше, чем когда-либо, походило на противостоящую ему Англию. Не надо обладать каким-то особенным воображением, чтобы представить себе иной ход политического развития для Уэльса — например, подобный тому, что переживали Мекленбург, Померания или Силезия: кто-то из рода Лливелинов вполне мог бы назвать себя королем Эдуардом, изъясняться по-английски и приглашать в страну английских рыцарей и бюргеров. Хотя резонно предположить, что наличие обширной унитарной метрополии, каковой являлась Англия, в отличие от раздробленных государств типа Германского королевства делало эту альтернативу маловероятной{1004}! Зато вполне реальный, а не умозрительный контраст Уэльсу представляла собой Шотландия — другое государственное образование кельтского происхождения, которое в XII–XIII веках пыталось встать на путь преобразований. Отличие, однако, состояло в том, что в Шотландии этот процесс начался раньше, в отсутствие прямой угрозы и под эгидой могущественной династии. Таким образом, в эпоху Эдуарда I неспешно развивающееся государство Лливелинов претерпевало очередную массированную агрессию, в то время как королевство скоттов уже было достаточно жизнеспособным. И выжило оно благодаря тому, что в большей степени походило на Англию. Выжило под руководством династии англо-нормандского происхождения, пришедшей в Шотландию на волне колонизации XII столетия. Давид I знал, что делал.
Иммигрантская знать может искать утверждения в новой для себя стране разными способами: путем экспроприации, путем ассимиляции либо нахождением новой экологической ниши. В первом случае автохтонная аристократия истребляется, высылается или вытесняется на более низкую общественную ступеньку и ее место занимают пришельцы. Классический пример — Англия после 1066 года. Аналогичные ситуации имели место в отдельных районах Ирландии и Уэльса и в некоторых германских марках. Во втором случае иммигранты сначала оседают на земле, предоставляемой им местным правителем или влиятельной церковью либо женятся на наследницах местных фамилий; они добиваются влиятельного положения, опираясь на существующие ресурсы, но не вступают в смертельную схватку с местной знатью. Первоначальное утверждение чужих аристократов в Шотландии и Померании служит хорошим примером такого варианта развития. И наконец, существует возможность, что такая знать станет поддерживать свое существование за счет эксплуатации новых ресурсов, захвата для себя новых, больших или малых, владений из отвоеванных у леса или болота земель, создания новых хуторов и деревень либо за счет доходов от развития городов и торговли. Реальная история Высокого Средневековья дает примеры всевозможных сочетаний этих трех форм аристократической эмиграции, но в особенности последняя из трех — создание новой политической ниши для своего господства — имела наибольшее значение.
Вслед за иммиграцией иноземной аристократии, класса строителей замков и конных рыцарей, кельтские земли и Восточная Европа пережили иммиграцию крестьянскую, возрастание роли зернового земледелия, установление более четкой церковной организации и развитие городов. Основание самоуправляемых городов и поощрение сельских поселений, развитие чеканки монеты и культуры письменной документации в обществах окраинных областей Европы означали, что изменилась сама основа социальной и экономической жизни. Для многих этих обществ еще недавно ключевой особенностью являлось прямое разграбление. Грабеж был не единичным проявлением преступности, а важнейшим способом получения товаров и рабочей силы. Он не считался чем-то позорным, а наоборот, в случае успеха становился предметом гордости. Главной целью грабительских набегов было похищение людей и увод соседского скота. Физическое истребление мужчин с неприятельской стороны в значительной степени становилось средством достижения этой цели либо мерой предосторожности во избежание последующей мести, хотя, конечно, в нем подчас видели и своего рода развлечение. И все же главной целью военных действий, предпринимавшихся ирландскими королями или литовскими вождями, было пополнение поголовья скота, коней и рабов. Понятно, что прочие материальные ценности, например, меха или драгоценные металлы, тоже не отвергались, но в целом имели второстепенное значение.
В этих обществах успех на ниве грабежей способствовал социальному статусу. Например, у прусских язычников существовал особый класс жрецов, чьей задачей (по словам враждебных христианских источников) было совершать богослужение на похоронах, «вознося хвалу покойным за их кражи и грабежи, за их подлые деяния и всевозможные пороки и грехи, которые они совершали при жизни»{1005}. Жизненно важным было также возвращение в общественный оборот богатства, накопленного в результате грабительских набегов. В Ольстере эту задачу выполняли специальные празднества. Как писал об этом один английский автор, «на протяжении всего года они копили добычу от своих грабежей и разбоев, которая потом расходовалась в довольно экстравагантных пасхальных пиршествах… Они ожесточенно состязались между собой в приготовлении обильных яств и щедром угощении»{1006}. После появления в XII–XIII веках новых крестьянских хуторских хозяйств и торговых городов на содержание военного и церковного правящего класса могли направляться сборы в виде ренты, десятины и подорожных пошлин. В результате прямые грабежи постепенно стали терять свое значение. Следовательно, новые правители могли теперь довольно благодушно осуждать местную практику обогащения. Пруссы были принуждены отказаться от своих хвалебных эпитафий. Жители Ольстера, как описывает наш английский источник, «после их покорения лишились, наряду со свободой, и этого исполненного предрассудков обычая».
Если рыцари из числа иммигрантов не так стремились к грабежу, как к получению феода, то Церковь видела в новых землях источник десятины — гарантированных податей со стороны оседлого христианского населения. По всем окраинам христианского мира Высокое Средневековье ознаменовалось новым усилением налогового гнета. Хотя принудительный сбор десятины был закреплен законодательно еще при Каролингах, а в Англии — при королях Уэссекса, судя по всему, за пределами англо-франкского региона она была введена только в XII–XIII веках. В Шотландии указ, которым вводился принудительный сбор десятины, приписывается Дэвиду I{1007}. Некролог Кэтала Кровдерга О'Коннора Коннахтского, скончавшегося в 1224 году, сообщает, что «именно при этом короле впервые в Ирландии стала собираться десятина во имя Господне»{1008}. Насаждение десятины в Моравии связывают с деятельностью епископа Бруно Оломоуцкого (1245–1281), с которым мы уже знакомы по его усилиям по заселению и освоению своих владений{1009}. В этих кельтских и славянских землях введение регулярной и обязательной десятины происходило уже в христианском обществе и в совокупности с другими нововведениями и преобразованиями XII–XIII веков придавало им черты, все более роднившие их с соседями — прямыми наследниками каролинской традиции. В то же время разрастался и сам католический мир, по мере чего десятиной облагались все новые территории и народы, никогда прежде не знавшие такой повинности. Во время немецкой колонизации языческой Вагрии «в этой славянской земле была увеличена десятина»{1010}. В некоторых областях восточнее Эльбы появление дохода в форме десятины и вытеснение славян немцами рассматривались как эквиваленты: «После того как славян изгнали, с земли стали получать десятину», — говорилось в одном из документов Ратцебургской епархии{1011}.
По мере того, как снижалось значение прямого грабежа и его место занимал сбор ренты, в экономике все больше отходило на второй план использование рабского труда, которое прежде играло первостепенную роль. Судя по всему, в этом отразились и изменения военного плана. С одной стороны, в регионах, являвшихся прежде традиционным полем для охоты за рабами, теперь эта охота существенно затруднялась возведением замков. Замки предоставляли реальную защиту потенциальным жертвам. Таковы были последствия строительства каменных замков в Ливонии, предпринятого по инициативе миссионера Майнгарда, или появления множества новых замков в Нортумберленде в конце XI века. К тому же строительство замков приводило к более интенсивной эксплуатации местной рабочей силы и укрепляло господство феодалов в сельской местности. К примеру, в Венгрии «новый тип замка… ассоциируется с властью феодала над крестьянами… Замок перестал служить только оборонительным сооружением, но стал престолом для землевладельца»{1012}. Получается, что строительство замков давало господство над сельским населением, что снижало потребность в рабском труде. Набеги за рабами, которые предпринимали немцы в X веке, поляки — в XI, скотты — в XII или литовцы — в XIII, были необходимы тогда, когда в домашнем хозяйстве, ремесле или земледелии важная роль отводилась рабскому труду. Еще в 1170 году на рынке рабов в Мекленбурге продавалось 700 датчан{1013}. По мере того, как значение рабства ослабевало, все большую роль начинал играть контроль над оседлым, лично свободным крестьянством. Замки были идеальным инструментом для подчинения и эксплуатации такого населения.
Изменения в вооружении и методах ведения войны были тесно связаны с новыми объектами и задачами военных действий, которые можно назвать «целями войны». Некоторые войны, наподобие тех, в которых в XI веке участвовали шотландские отряды Малькольма III, велись в расчете не на завоевание или захват в постоянное владение, а скорее на получение надежных «охотничьих угодий», источника рабов, добычи и дани. Порой над районом набегов мог устанавливаться более длительный контроль с целью сбора дани, захвата заложников и, по возможности, набора живой силы в свое войско. Однако в целом можно сказать, что завоевание, то есть продолжительное подчинение одной группы правителей другой, получило развитие именно в эпоху Высокого Средневековья. Мы знаем уникальный эпизод, знаменующий момент перехода от одного этапа к другому. Саксы на протяжении столетий совершали набеги на славянские земли, грабили их и уводили рабов. Иногда это удавалось лучше, иногда — хуже. С начала XII века их успехи на этом поприще множились, и в 1147 году, в так называемом «крестовом походе против славян», большой отряд саксов вторгся в полабские земли вендов и принялся, по обыкновению, убивать, жечь и уводить в рабство. В конце концов саксы сами подивились своим действиям. «Разве, — вопрошали они, — мы грабим не нашу собственную землю?»{1014} И были правы. Такие плодородные земли могли сослужить им лучшую службу в качестве места для длительного завоевания, нежели просто арены для периодической резни и доходного грабежа.
КОЛОНИАЛИЗМ СРЕДНИХ ВЕКОВ И НОВОГО ВРЕМЕНИ
Совершенно очевидно, что протекавшая в Высокое Средневековье «экспансия Европы» имела черты, роднившие ее с заокеанской экспансией Нового времени. Одновременно она имела и ряд принципиальных отличительных особенностей. Одна из таких черт особенно резко отличает ее от, скажем, европейского империализма XIX и XX веков, по крайней мере если исходить из классического определения этого явления. Принято считать, что империализм Нового времени усугубил крупномасштабную глобальную дифференциацию: индустриальные регионы, жадные до сырьевых ресурсов и новых рынков, оказались в постоянной зависимости от регионов, выступающих в роли поставщиков сырья и потребителей готовой продукции. Конечно, эта картина грешит сильным упрощением, но в общем и целом она верна, что можно, в частности, подтвердить даже краткой историей каучука и меди в Новое время.
Колониализм Средних веков был в корне иным. Заселяя Ирландию, Померанию и Андалусию, англо-нормандцы, немцы и кастильцы не создавали какую-то новую модель регионального подчинения, а воспроизводили существующую у них на родине. Основывая города, церкви и поместья, они бесхитростно копировали ту социальную структуру, с какой были хорошо знакомы у себя дома. Итогом этой колониальной политики было не создание «колоний» в смысле зависимых территорий, а распространение — методом клеточного деления — культурных и общественных моделей, существовавших в сердце католического мира. Новые территории были изначально тесно интегрированы в старые. Путешественники Позднего Средневековья, отправляющиеся из Магдебурга в Берлин и оттуда во Вроцлав, либо из Бургоса до Толедо и оттуда в Севилью, едва ли замечали момент пересечения каких-либо социокультурных границ.
В этом и заключается причина, по которой при описании экспансии Высокого Средневековья формулу «ядро-периферия» нельзя считать вполне удачной, хотя без нее и трудно обойтись. С одной стороны, в определенном смысле схема «центр-окраины» достаточно обоснованна: к началу XIV века потомки французских фамилий правили Ирландией и Грецией, немецких — Пруссией и Бранденбургом, английских — Ирландией и Уэльсом, итальянских — Критом, кастильских — Андалусией. Очевидно наличие центробежного передвижения людей и власти, которое не уравновешивалось никаким движением в обратном направлении. С другой стороны, выражение «ядро-периферия» может отчасти ввести в заблуждение, поскольку чаще оно подразумевает постоянную или долговременную функциональную субординацию периферии по отношению к центру. А именно такой субординации в средневековом колониализме не было. Это были процессы воспроизведения, копирования, но не дифференциации.
Главными агентами этой экспансии методом воссоздания известной модели были не могущественные монархии (устоим перед искушением назвать их государствами), а консорциумы, «предпринимательские» союзы франкского рыцарства, католического духовенства, купечества, горожан и — без права голоса — крестьянства. Много говорилось о том, что соратниками по таким колониальным начинаниям, как англо-нормандское вторжение в кельтские земли или расселение немцев по Восточной Европе, становились чаще всего случайно, на один раз. В результате образовалось множество независимых или фактически независимых государственных образований на окраинах Европы — княжества Виллардуэнов в Морее, первых нормандских княжеств на юге Италии, автономной Валенсии под властью Сида, Лейнстера под властью Стронгбоу, Ольстера под властью де Курси или Бранденбурга под властью маркграфов. Только в нескольких случаях экспансия принимала форму расширения королевств — так было, прежде всего, на Пиренейском полуострове. При том, что для испанской Реконкисты вопрос расширения границ монархии имел первостепенную важность, даже здесь оставалось место для значительных, автономных городских общин, со своими фуэрос, отрядами ополчения и систематическими приграничными боевыми действиями локального характера{1015}.
Ситуация на восточных границах Германского королевства ясно показывает, что и в отсутствие централизованного руководства экспансия вполне могла быть успешной. В XII–XIII веках завоевание и колонизация практически удвоили сферу немецкого присутствия и политического влияния. Участие германских королей в этом процессе было минимальным. В X веке наоборот, успех территориальной экспансии на восточных границах обеспечило полновесное участие со стороны правящей династии Отгонов. В этот, более ранний, период главным залогом успеха рискованного завоевательного похода становилась концентрация ресурсов под монаршим руководством. В Высокое Средневековье продвижение немецких феодалов и поселенцев в глубь Восточной Европы проходило под водительством сразу нескольких лидеров.
В действительности усиление некоторых ведущих королевств Западной Европы, наблюдавшееся на рубеже XIV века, фактически несколько затормозило экспансию католической Европы. В XI–XII веках аморфные вооруженные стычки локального значения сохраняли массу энергии, то есть людской силы, ресурсов и политической воли, для кампаний, направленных вовне франкского мира. К XIII столетию крупные державы уже стремились к монопольному осуществлению своих агрессивных замыслов и подчас главные свои усилия направляли друг на друга, нежели на внешнюю территориальную экспансию, хотя их могущество намного превосходило мощь королевств предшествующего периода. Карл Анжуйский, чьи далеко идущие притязания на господство реализовались в Сицилии, Морее и Иерусалимском королевстве, оказался по сути чересчур занят борьбой со своими западными соперниками, чтобы стать опорой католическим государствам восточного Средиземноморья. Когда в 1291 году Утремер окончательно пал под ударами мусульман, две великие державы, Франция и Арагон, схватились в смертельной битве за господство. Французский король Филипп Красивый был самым могущественным правителем христианского мира, однако он никак не стремился к экспансии этого мира. Пример его современника Эдуарда I Английского, чье завоевание Уэльса и включение его в состав королевства можно рассматривать как заключительный аккорд англо-нормандской экспансии в этой части кельтского мира, показывает, что в тех случаях, когда крупные унитарные государства XII–XIV столетия действительно концентрировали усилия на экспансии, они могли добиваться сокрушительных по своей эффективности результатов. Однако более типичной для того периода оказалась нескончаемая борьба между западноевропейскими державами, получившая название Столетней войны.
Таким образом, не аппарат королевской власти, а консорциум рыцарства, духовенства и купечества стал главным инструментом экспансионистского движения XI–XII веков в его наиболее типичных формах. Классическим случаем предприятия, осуществленного таким консорциумом, был крестовый поход в Восточном Средиземноморье. Политическая карта Леванта в XII–XIII веках претерпела изменения не в силу искусства государственного управления, явленного королем или императором, а благодаря своеобразному объединению усилий западных феодалов и рыцарей, независимого и послушного Риму духовенства и итальянского купечества, различавшихся не только происхождением и положением в обществе, но и своими побудительными мотивами. Современники рисовали армии первого крестового похода как воинство «без господина и без князя», сражавшееся «без короля и без императора»{1016}. Однако создание Утремера явилось самым поразительным примером того, как воины-аристократы, клерикальная элита и городское купечество латинского Запада умели объединять свои силы, подчас безо всякого монаршего руководства, в деле создания новых государственных образований и новых поселений. Колонизация Восточной Прибалтики дает пример рождения совершенно новой общественно-политической модели — так называемого Орденштата (то есть «Орденского государства») — в результате деятельности немецких купцов и миссионеров, жадных до земли феодалов и крестьян, руководимой и направляемой властью одного из международных военных орденов.
Интересы рыцарства, купечества, крестьянства и духовенства, которые могли входить или не входить в состав таких союзов, конечно, не всегда совпадали. В языческой Восточной Европе миссионерское духовенство поднимало свой голос против чрезмерной алчности и беспощадности светских завоевателей, чья неуемная жадность и жестокость вызывали у коренного населения лишь протест против обращения в христианство, не оставляя шанса для мирного совершения крещения. Тевтонские рыцари могли торжественно сообщать немецким купцам, как они «сражались за расширение нашей веры и вашей торговли»{1017}, однако соотношение коммерческих интересов крестоносцев с общими задачами их движения в каждом конкретном случае принимало иную форму, так что эта взаимосвязь могла быть не только взаимовыгодной, но и взаиморазрушающей. Недвусмысленным примером служат неоднократные и тщетные попытки папы римского запретить итальянским купцам продавать военное снаряжение в исламские страны. К примеру, Александрия была не только крупным мусульманским центром, но и одним из крупнейших торговых городов Средиземноморья. И венецианский, генуэзский или пизанский торговец едва ли стал бы участвовать в ее разграблении заодно с франкскими рыцарями — скорее он предпочел бы вести там торговлю под защитой мусульманского правителя. Зачастую франкские рыцари восточного Средиземноморья не могли похвастать независимостью или каким-то влиянием в отношении итальянских купцов, контролировавших их морские перевозки. В 1298 году в ответ на жалобу одного венецианского купца, что он был ограблен каким-то генуэзцем, кипрский король возразил, что «не вмешивается в отношения генуэзцев и венецианцев»{1018}. Со стороны этого франка-крестоносца было весьма дальновидно держаться в стороне от каких бы то ни было конфликтов между итальянскими купцами.
Отсутствие идейно-политического руководства в колониальных предприятиях подтверждается не только выдающейся ролью названных нами эклектичных союзов, ставших по сути агентами экспансии, но также явственной природой тех форм, в каких эта экспансия осуществлялась. За исключением Ирландии — которую, пожалуй, можно было бы назвать колонией в современном смысле — центробежное движение эпохи Средних веков никогда не имело своим следствием долговременное политическое подчинение одного региона другому. Королевство Валенсия, Иерусалимское королевство и владения Тевтонских рыцарей в Пруссии и Ливонии были не зависимыми территориями под властью западных или центральноевропейских держав, а их самостоятельными копиями. Легкость, с какой рождались, не будучи им подчинены, слепки с существующих государств в виде «новых колоний святого христианства», проистекала прежде всего из самого факта существования на латинском Западе интернациональных клише, матриц, которые могли тиражироваться совершенно независимо от базовой политической модели.
Нарастание экспансии и углубление культурного единообразия латинского Запада в эпоху X–XIII веков отчасти было связано с развитием в Западной Европе правовых и институциональных моделей, которые легко переносились и адаптировались к иным условиям, сохраняя устойчивость к внешнему воздействию. Видоизменяясь и выживая, эти слепки, в свою очередь, преобразовывали и сами условия своего нового существования. Поддающиеся классификации схемы, такие, как инкорпорированный город, университет и международный религиозный орден, сформировались на Западе именно в период между серединой XI и началом XIII веков. Можно предположить, что многие составляющие их элементы существовали и прежде, но не были «скомпонованы» или взаимосвязаны так, как это случилось теперь. Сплав монастырского устава и рыцарского этоса породил военный орден; освобождение от податей и рынок вызвали к жизни свободный город; духовенство и гильдии дали жизнь университету. Общими для этих форм были их единообразие и способность к воспроизведению. Они стали своеобразными векторами экспансии, поскольку могли создаваться и процветать где угодно. Они показывают, как поддающаяся кодификации и трансплантации модель становилась переносчиком новых форм социальной организации по всей Европе независимо от централизованной политической тенденции. Эти формы, в свою очередь, были идеальным инструментом для тех светско-церковных союзов, о которых шла речь.
Эти социальные формы имели две жизненно важные особенности: они были конституированы и интернациональны по характеру, причем между этими чертами усматривалась взаимосвязь. Благодаря своему правовому оформлению эти социальные структуры поддавались кодификации и могли переноситься в другие, подчас чуждые условия и сохраняться там в силу известной независимости от внешних обстоятельств. Город, как следовало из бесчисленных городских хартий, штатрехте и фуэрос, представлял собой схему, комплекс определенных норм, которые вполне можно было адаптировать к местным условиям, не растворяя в них до неузнаваемости. Как отмечалось в Главе 7, германский городской закон являл модель для городов, расположенных далеко в глубине Восточной Европы, нормандские обычаи переносились в Уэльс, а фуэрос католической Испании утверждались в городах Реконкисты. Подобно городам, свои нормативные и специфические особенности имели и новые монашеские ордена XII века. По сравнению с их клюнийскими предшественниками цистерцианцы вышли на новый уровень правовой регламентации всей жизни ордена и организации международного масштаба. Цистерцианская монастырская система связывала в единую сеть сотни религиозных общин от Ирландии до Палестины. Как и в случае самоуправляемого города, новые ячейки цистерцианского братства воспроизводились с уверенностью в том, что они не только сумеют адаптироваться к среде, но и будут ее менять. В этом и заключалась формула победоносной экспансии.
Успех этих моделей в каком-то смысле сродни алфавиту. Из разных видов письменности, выработанных в ходе истории, алфавит является самым безликим. В отличие от пиктограмм буквы в алфавите не несут никакой символики сами по себе, помимо своей роли букв. Они даже не передают звуков, как в силлабической системе письма. Алфавит — это предназначенная для передачи звуков система кодировки минимальными средствами. Но в этом и его великая сила. В силу того, что элементы этой системы имеют малый набор значений, они могут сочетаться в бесконечном количестве комбинаций. Китайский иероглиф исполнен глубокого культурного значения, с ним ассоциируются определенные звуки и понятия. Начертание иероглифа и его созерцание могут быть своего рода религиозным действом. И этих многоплановых символов тысячи и тысячи. В алфавите же, напротив, нет и тридцати букв, и ни одна из них не имеет какого-то внутреннего смысла. Но как раз благодаря этому обезличиванию символов мы имеем необычайно практичную систему письма. Именно алфавитная система преобладает в мире, все больше прокладывая себе путь и в сердце Востока.
В каком-то смысле нечто подобное происходило и в средневековой Европе. Раннее Средневековье было эпохой разнообразных и богатых локальных культур и социумов. XI, XII и XIII века — это история того, как на смену разнообразию приходило единообразие, причем приходило различными путями. Распространявшиеся в описываемую эпоху культурные и политические модели были похожи на алфавит тем, что не имели привязки к конкретной местности: западный город и новые монашеские ордена являлись оттисками, клише, а это означало отсутствие какой-либо местной окраски и узких территориальных рамок. Бенедиктинцы и правящие династии Раннего Средневековья имели глубокие локальные корни, но новые организмы Высокого Средневековья переносили свои семена по воздуху. Подобно алфавиту, эти внетерриториальные, конституированные модели несли минимум базовой информации, но обладали зато максимальной практической мощью. С другой стороны, сухие модели, которые распространялись на такие расстояния, преобразовывая локальные миры, имели происхождение из конкретного места и времени, из какого-то своего локального мира. Алфавит зародился в торговых городах Леванта, инкорпорированный город и рыцарские ордена — в недрах богатой на новшества посткаролингской Европы. История распространения жизнеспособных новых моделей в XII–XIII веках является одновременно историей того, как отдельные цивилизации и социумы из множества существовавших в Средние века добивались превосходства над другими.
Нельзя сказать, чтобы этот процесс культурной диффузии и ассимиляции протекал абсолютно гладко и беспрепятственно. Он не только встречал сопротивление, но и вызывал определенное напряжение. Если франкские рыцари и католические священники несли свои культурные и социальные идеалы и привычки в разные регионы мира, то не было недостатка и в противодействии со стороны местных культур. Существовало и культурное сопротивление, и культурная ассимиляция. Для многих завоевания и экспансионистские движения Высокого Средневековья означали потерю, боль и трагедию. «Как? Разве не они запятнали нас бесчестьем? — восклицал исламский поэт Ибн Хамдис Сицилийский. — Разве не эти христианские руки превратили мечети в церкви…? Я вижу свою родину поруганной латинянами — ту, что была столь славна и горделива под властью моего народа»{1019}. Валлийскому клирику Ригифарку, свидетелю нормандского завоевания Южного Уэльса в конце XI века, принадлежат похожие строки:
«Народ и пастырь обесчещены Словом, душой и делами французов. Они взваливают на нас бремя дани, присваивают наше добро. При всей низости, из них один способен приказами своими Повергнуть разом в дрожь туземцев сотню, И взором навести ужасный трепет. Мы уничтожены, увы, безмерно наше горе!»{1020}Коренные народы, подвергшиеся насилию со стороны католической военной аристократии, не только предавались горестям. Иногда сила реакции со стороны коренного общества была такова, что позволяла создавать жизнеспособные государства, выковывавшиеся в самом процессе сопротивления. Литовское государство появилось в ответ на немецкую угрозу и оказалось настолько жизнеспособным, что пережило даже Орденилпат и к концу Средневековья стало господствовать в Восточной Европе. Перед лицом угрозы немецких рыцарей на Балтике, язычники-литовцы предприняли ответные действия не только в виде ожесточенного военного сопротивления, но и создав более централизованную государственную структуру с унитарной династийной системой правления. Рождение этого динамичного и экспансионистского по природе политического образования было тесно связано с открытой пропагандой исконной религиозной традиции. Некоторые исследователи даже склонны считать это государство язычников крупнейшим в Европе середины XIV века. Причем государство это вовсе не было вчерашним днем: например, военные орудия в нем были не менее передовые, чем в других армиях. Литовские боги были старые, а литовские пушки — вполне новые{1021}.
В других регионах реакция коренного населения была если и не столь яростной, но не менее упорной. В таких странах, как Ирландия, где завоеватели оказались неспособны установить неоспоримое господство, сложилась непростая ситуация: завоевание части страны вызывало сильное сопротивление автохтонных правителей, однако полностью вытеснить агрессора им было не под силу. Местные правители севера и запада острова в кульминационный период англо-нормандской колонизации сохраняли автономию, а затем, с конца XIII века, начали теснить власть англичан. В XIV–XV веках ассимиляция изменила направление на противоположное: началась «кельтизация» английского населения Ирландии, к ужасу колониальных правителей. В «полупокоренном» государстве Ирландия взаимные заимствования протекали как в военной, так и в культурной сферах. К XV веку ирландцы уже возводили каменные замки, зато у многих англо-нормандцев, как ни странно, рвения поубавилось{1022}.
В Испании покоренные мусульмане, мудехары, обычно покорялись новой власти лишь на том условии, что им будет предоставлена свобода совершать свои религиозные обряды и независимость судопроизводства. В некоторых городах имели место массовые депортации, а главные мечети были превращены в соборы. Но вплоть до эпохи Колумба там сохранялись значительные общины мусульманского меньшинства — пусть даже они все больше говорили по-испански и носили христианские имена. Это мусульманское меньшинство и в христианских государствах Запада продолжало отправление своего культа. Мусульмане были отстранены от участия в политическом управлении государством и ущемлены в социальном и правовом отношении, но несмотря ни на что эти общины сохранились.
Литва, Ирландия, мудехары. Самые отдаленные окраины Европы переживали процессы гомогенизации и поляризации. Те же самые силы, что влекли англичан, померан или датчан к более единообразной цивилизационной модели, на дальних окраинах могли становиться причиной появления более явных культурных водоразделов. К XIV веку обширная часть Европы, включая Англию, Францию, Германию, Скандинавию, Северную Италию и Испанию, обрела относительно высокую степень культурной однородности. В то же время для периферийных областей повсюду было характерно смешение разных, зачастую противоборствующих языков, культур, а иногда и религий. Повсеместно в этих приграничных областях межнациональные отношения играли роль, которая была немыслимой для более однородных в культурном отношении центральных областей. И это не были отношения равных этнических групп: это было господство и подчинение, владычество и сопротивление.
Это книга о том, как тот же процесс, в ходе которого в Европе сформировалась и утвердилась единая цивилизационная модель, привел к образованию по периферии континента пояса разобщенных в языковом и этническом отношении социумов. Формирование все более гомогенной цивилизации параллельно с окончательным культурным размежеванием наверняка хорошо знакомо тем, кто занимается исследованиями более поздней истории, включая современность. Есть здесь и связующая нить. Уже было достаточно убедительно показано, что мировоззрение и институты европейского национализма и колониализма зародились в средневековом обществе: завоеватели Мексики были знакомы с проблемой мудехаров, а колонизаторы Вирджинии имели опыт покорения Ирландии.
Нет сомнения, что католические общества Европы еще до 1492 года имели богатый опыт колониальных кампаний. Они были знакомы с проблемами и перспективами заселения новых территорий, они уже сталкивались с проблемами, возникающими при взаимодействии народов с несхожими культурными традициями. Конечно, в их опыте еще не было таких драматичных, «как гром среди ясного неба», ситуаций, какими сопровождались контакты 1492 года. И в экологическом, и в историческом плане средневековый латинский мир тесно соприкасался и подчас служил продолжением соседних цивилизаций и социумов. Как бы то ни было, от Пиренейского полуострова на восток, через Средиземноморье, и на север — вплоть до Полярного круга широкой дугой шла граница католической Европы, граница, которая начиная с X века неустанно раздвигалась.
Завоевание, колонизация, христианизация. Механизмы освоения новых территорий, способность к сохранению культурной самобытности посредством нормативно-оформленных структур и поддержания национального мировоззрения, организационные задачи и перспективы развития — все это вынуждало оказывать сопротивление всему незнакомому и чуждому, подавлять это чуждое или сосуществовать с ним, будь то законы, религия, пушки или флот. Европейские христиане, совершавшие плавание к берегам Америки, Азии и Африки в XV и XVI веках, вышли из общества, которое уже являлось колонизаторским. Европа, зачинатель одного из главных мировых процессов завоевания, колонизации и преобразования цивилизационных моделей, одновременно и сама была продуктом этого процесса.
Сокращения, использованные в Примечаниях и Библиографии
AQ — Ausgewählte Quellen zui deutschen Geschichte des Mittelalters
Helbig & Weinrich — Herbert Helbig and Lorenz Weinrich (eds.), Urkunden und erzahlende Quellen zur deutschen Ostsiedlung im Mittelalter (AQ 26, 2 vols., Darmstadt, 1968–70)
J.-L. — Regesta pontificum Romanorum… ad annum… 1198, ed. P. Jaffe, rev. S. Loewenfeld et al.(2 vols., Leipzig, 18858)
Lacarra — Jose Maria Lacarra (ed.), 'Documentos para el estudio de la reconguista у repoblacion del Valle del Ebro', Estudios de Edad Media de la Corona de Aragon 2 (1946), pp. 469–574 (docs. 1–93), 3 (1947–8), pp. 499–727 (docs. 94–286), 5 (1952), pp. 511–668 (docs. 287–400); repr. in 2 vols. Textes medievales 62–3 (Saragossa, 1982–3)
MF — Mitteldeutsche Forschungen
MCH — Monumenta Germaniae historica
MPH — Monumenta Poloniae historica
n.s. — new series, новые выпуски
PL — Patrologiae, cursus completus, series latina, ed. J.-P. Migne (221 vols., Paris, 1844–64)
Po. — Regesta pontificum Romanorum inde ab annum… 1198 ad a. 1304, ed. A. Potthast (2 vols., Berlin, 1874–5)
RHC. Occ. — Recueil des historiens des croisades. Historiens occidentaux (5 vols., Paris, 1844–95)
RS — Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores ('Rolls Series') (251 vols., London, 1858–96)
SRC — Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi (MGH)
SS — Scriptores (MGH)
UB — Urkundenbuch
БИБЛИОГРАФИЯ
источники
Беовульф. — В кн.: Б-ка всем. л-ры. Т. 9. М., 1975. (Пер. с англ.). С. 27–180.
Виллардуэн Ж. де. Завоевание Константинополя. М., 1993. 290 с.
Гельмольд, Славянская хроника. М., 1963. 299 с. (пер. с лат.).
Генрих Латвийский. Хроника Ливонии. М. — Л., 1938. 608 с. (пер. с лат.).
Житие св. Константина и житие св. Мефодия. М., 1978.
Песнь о моем Сиде. М., 1975. С. 121–151. (пер. с исп.).
Песнь о Роланде. М., 1958. 218 с. (пер. со старофр.).
Комнина Анна. Сокращенное сказание о делах царя Алексея Комнина, 1081–1118. Ч. I. СПб, 1859.
Acta capitulomm generalium ordinis praedicatorum 1 (1220–1303) / Ed. Benedictus Maria Reichert (Monumenta ordinis fratrum praedicatorum historien 3, Rome and Stuttgart, 1898).
Acts of Malcolm IV, King of Scots, 1153–65 / Ed. Geoffrey Barrow (Regesta Regum Scottomm 1, Edinburgh, 1960).
Acts of William I, King of Scots, 1165–1214 / Ed. Geoffrey Barrow (Regesta Regum Scottorum 2, Edinburgh, 1971).
Adam of Bremen, Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum / Ed. Werner Trillmich in Ouellen des 9. und 11. Jahrhunderts zur Geschichte der Hamburgischen Kirche und des Reiches (AQ 11, Darmstadt, 1961), pp. 135–503.
Aelred of Rievaulx, Relatio de Standardo / Ed. Richard Howlett in Chronicles of the Reigns of Stephen, Henry II and Richard I (4 vols., RS, 1884–9) 3, pp. 179–99.
idem. De Sanctis ecclesiae Haugustaldensis / Ed. James Raine in The Priory of Hexham (2 vols., Surtees Society 44, 46, 1864–5) 1, pp. 172–203.
Albert of Aachen, Historia Hierosolymitana, RHC, Oca 4, pp. 265–713.
Alexander II, Epistolae et decreta, PL 146, cols. 1279–1430.
Alexander III, Epistolae et privilegia, PL 200. Alexander of Bremen (Alexander Minorita), Expositio in Apocalipsim / Ed. Alois Wachtel (MGH, Ouellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters 1, Weimar, 1955).
Alpert of Metz, De diversitate temporum / Ed. Hans van Rij and Anna Sapir Abulafia (Amsterdam, 1980).
Das alte Kulmische Recht / Ed. C.K. Leman (Berlin, 1838).
Das alte Liibische Recht / Ed. Johann Friedrich Hach (Lubeck, 1839).
Amari, Michele (ed.), Bibliotheca arabo-sicula (Italian version, 2 vols., Turin and Rome, 1880–81).
Amarus of Montecassino, Storia de' Normanni / Ed. Vincenzo de Bartholomaeis (Fonti per la storia d'Italia 76, Rome, 1935).
Ambroise, L'estoire de la guerre sainte / Ed. Gaston Paris (Paris, 1897).
Anglo-Saxon Chronicle / Ed. С. Plummer and J. Earle, Two of the Saxon Chronicles Parallel (2 vols., Oxford, 1892–9).
Annales capituli Cracoviensis (Rocznik Kapitulny Krakowski) / Ed. August Bielowski, MPH 2 (Lwow, 1872, repr. Warsaw, 1961), pp. 779–816.
Annales capituli Posnaniensis / Ed. Brygida Kürbis, MPH, n.s., 6 (Warsaw, 1962), pp. 21–78.
Annales Erphesfurdenses Lothariani / Ed. Oswald Holder-Egger, Monumenta Erphesfurtensia (SRG, Hanover and Leipzig, 1899), pp. 34–44.
Annales Krasinsciani (Rocznik Krasińskich) / Ed. August Bielowski, MPH 3 (Lwow, 1878, repr. Warsaw, 1961), pp. 127–33.
Annales Pegavienses / Ed. Georg Heinrich Pertz, MGH, SS 16 (Hanover, 1859), pp. 232–70.
Annales Wratislavienses antiqui and Annales magistratus Wratislaviesis / Ed. Wilhelm Amdt, MGH, SS 19 (Hanover, 1866), pp. 526–31.
Annals of Connacht (Anndla Connacht) / Ed. A Martin Freeman (Dublin, 1944).
Annals of Furness, ed. Richard Howlett in Chronicies of the Reigns of Stephen, Henry II and Richard I (4 vols., RS, 1884–9) 2, pp. 503–83.
Annals of Loch Cé / Ed. and tr. William M. Hennessy (2 vols., RS, 1871).
Annals of the Kingdom of Ireland by the Four Masters / Ed. and tr. John O'Donovan (7 vols., Dublin, 1848–51).
Annals of Ulster (Annala Uladh) / Ed. and tr. William M. Hennessy and Bartholomew MacCarthy (4 vols., Dublin, 1887–1901).
Anonymi descriptio Europae orientalis / Ed. Olgierd Gorka (Cracow, 1916).
Arnold of Lübeck, Chronica Slavorum / Ed. Johann Martin Lappenberg (SRG, Hanover, 1868).
Assise au comte Geffroy / Ed. Marcel Planiol, La tres ancienne coutume de Bretagne (Rennes, 1896, repr. Paris and Geneva, 1984), pp. 319–25.
Les assises de Romanie / Ed. Georges Recoura (Paris, 1930).
Attaleiates, Mchael, Historia / Ed. Immanuel Bekker (Corpus scriptorum historiae Byzantinae 50, Bonn, 1853).
Aureum opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie (Valencia, 1515, facsimile ed., Textos medievales 33, 1972).
Balard, Michel (ed.), Genes et l'Outre-mer 1: Les actes de Caffa du notaire Lamberto di Sambuceto 1289–90 (Paris, 1973).
Baudri de Bourgueil, Historia Jerosolimitana, RHC, Occ. 4, pp. 1–111.
Bede, Epistola ad Ecgbertum episcopum, in Charles Plummer (ed.), Opera historica (2 vols., Oxford, 1896) 1, pp. 405–23.
Beowulf/ Ed. F. Klaeber (3rd ed., Boston, 1950).
Bernard of Clairvaux, Vita sancti Malachiae, in J. Leclerq and H.M. Rochais (eds.), Opera 3 (Rome, 1963), pp. 295–378.
idem. De laude novae militiae, ibid., pp. 205–39. Bernardo Maragone, Annales Pisani / Ed. Mchele Lupo Gentile (Rerum italicarum scriptores, n.s., 6/2, Bologna, 1930), pp. 1–74.
Sancti Bonifatii et Lulli epistolae / Ed. Mchael Tangl (MGH, Epistolae selectae 1, Berlin, 1916).
Book of Fees (2 vols, in 3, London, 1920–31).
Bower, Walter, Scotichronicon / Ed. D.E.R. Watt, 6 (Aberdeen, 1991).
Breslauer UB 1 / Ed. G. Kom (Breslau, 1870).
Brooks, Eric St J., 'A Charter of John de Courcy to the Abbey of Navan', Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland 63 (1933), pp. 38–45.
Bruno, De belle Saxonico liber / Ed. H.E. Lohmann (MGH, Deutsches Mittelalter 2, Leipzig, 1937).
Brut у Tywysogyon or The Chronicle of the Princes: Peniarth MS. 20 Version / Tr. Thomas Jones (Cardiff, 1952).
Brut у Tywysogyon or The Chronicle of the Princes: Red Book of Hergest Version / Ed. and tr. Thomas Jones (Cardiff, 1955).
Calendar of Ancient Petitions relating to Wales / Ed. William Rees (Cardiff, 1975).
Calendar of Ancient Records of Dublin 1 / Ed. John T. Gilbert (Dublin, 1889).
Calendar of Archbishop Alen's Register / Ed. Charles McNeill (Dublin, 1950).
Calendar of Documents relating to Ireland (1171–1307) / Ed. H.S. Sweetman (5 vols., London, 1875–86).
Calendar of the Charter Rolls, 1226–1516 (6 vols., London, 1903–27).
Calendar of the Gormanston Register / Ed. James Mills and M.J. McEnery (Dublin, 1916).
Calendar of the Justiciary Rolls… of Ireland (1295–1303) / Ed. James Mills (Dublin, 1905).
Calendar of the Patent Rolls (1232–47), (1258–66), (1358–61) (London, 1906, 1910, 1911).
Callimachus (Filippo Buonaccorsi), Vita et mores Gregorii Sanocei / Ed. Ludwik Finkel, MPH 6 (Cracow, 1893, repr. Warsaw, 1961), pp. 163–216.
Canonici Wissegradensis continuatio (to Cosmas of Prague) / Ed. Rudolf Корке, MGH, SS 9 (Hanover, 1851), pp. 132–48.
Cantor de Mio Cid / Ed. Ramon Menendez Pidal (rev. ed., 3 vols., Madrid, 1944–6).
Carmen in victoriam Pisanorum / Ed. H.E.J. Cowdrey, “The Mahdia Campaign of 1087”, English Historical Review 92 (1977), pp. 1–29, pp. 23–9.
Cartae et alia munimenta… de Glamorgan / Ed. George T. Clark (6 vols., Cardiff, 1910).
Cartulaire general de l'ordre des Hospitaliers de St-Jean de Jerusalem / Ed. J. Delaville Le Roulx (4 vols., Paris, 1894–1906).
Cartulaire general de l'ordre du Temple / Ed. Marquis d'Albon (Paris, 1913).
Cartulario de Sant Cugat del Voiles / Ed. Jose Rius Serra (3 vols., Barcelona, 1945–7).
Cartularios de Santo Domingo de la Calzada / Ed. Agustin Ubieto Arteta (Saragossa, 1978).
Cartulary of Worcester Cathedral Priory / Ed. RR Darlington (Pipe Roll Society, n.s., 37, 1968 for 1962–3).
Catalogus baronum / Ed. Evelyn Jamison (Fonti per la storia d'Italia 101, Rome, 1972).
Chanson d'Antioche / Ed. Suzanne Duparc-Quioc (Paris, 1976).
Chaplais, Pierre (ed.). Diplomatic Documents Preserved in the Public Record Office 1: 1101–1272 (Oxford, 1964).
Chartularies of St Mary's Abbey Dublin / Ed. John T. Gilbert (2 vols., RS, 1884).
Chronica Poloniae Maioris / Ed. Brygida Kurbis, MPH, n.s., 8 (Warsaw, 1970).
Chronicle of Morea, tr. Harold E. Lurier, Crusaders as Conquerors (New York, 1964).
Chronicon Aulae Regiae, Peter of Zittau.
Chronicon Burgense / Ed. Enrique Florez, Espana sagrada 23 (Madrid, 1767), pp. 305–10.
Chronicon principum Polonie / Ed. Zygmunt Wijclewski, MPH 3 (Lwow, 1878, repr. Warsaw, 1961), pp. 421–578.
Chronique de Мorée / Ed. Jean Longnon (Paris, 1911).
Close Roll 16 John (Pipe Roll Society, n.s., 31, 1955).
Close Rolls of the Reign of Henry III (1237–42), (1247–51), (1254–56) (London, 1911, 1922, 1931).
Codex diplomaticus Brandenburgensis / Ed. Adolph Friedrich Riedel (41 vols., Berlin, 1838–69).
Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae / Ed. Gustavus Friedrich et al. (5 vols, to date, Prague, 1904-).
Codex diplomaticus Lusatiae superioris 1 / Ed. Gustav Kohler (2nd ed., Gorlitz, 1856).
Codex diplomaticus Maioris Poloniae / Ed. Ignacy Zakrzewski and Franciszek Piekosinski (5 vols., Poznan, 1877–1908).
Codex diplomaticus Warmiensis 1 / Ed. Carl Peter Woelky and Johann Martin Saage (Mainz, 1860).
Codex iuris Bohemici / Ed. Hermenegild Jiricek (5 vols, in 12, Prague, 1867–98).
Codex iuris municipalis regni Bohemiae 2 / Ed. Jaromir Celakovsky (Prague, 1895).
Codex Iustinianus / Ed. Paul Krueger (Corpus iuris civilis 2, Berlin, 1895).
Coleccion de documentos ineditos del archivo general de la Corona de Aragon 4 / Ed. Prospero de Bofarull у Mascara (Barcelona, 1849).
Coleccidn de fueros municipales у cartas pueblos de los reinos de Castilla, Leon, Corona de Aragon у Navarra / Ed. Tomas Mufloz у Romero (Madrid, 1847).
Comnena, Anna, Alexiad / Ed. B. Leib (3 vols., Paris, 1937–45).
Conciliorum oecumenicorum decreta / Ed. J. Alberigo et al. (3rd ed., Bologna, 1973).
Constitutiones et acta publico imperatorum et regum 1–2 / Ed. Ludwig Weiland (MGH, Hanover, 1893–6).
Continuatio Aquicinctina of Sigebert of Gembloux / Ed. Ludwig Bethmann, MGH, SS 6 (Hanover, 1844), pp. 268–474.
Cosmas of Prague, Chronica Boemorum / Ed. Berthold Bretholz (SRG, n.s., Berlin, 1923).
Coussemaker, Edmond de (ed.). Documents relatifs a la Flandre maritime (Lille, 1860).
Crede mihi / Ed. John T. Gilbert (Dublin, 1897).
Cronica del rey don Alfonso X, in Cronicas de los reyes de Castilla 1 (Biblioteca de autores espanoles 66, Madrid, 1875), pp. 1–66.
Cionica principum Saxonie / Ed. Oswald Holder-Egger, MGH, SS 25 (Hanover, 1880), pp. 472–80.
Cronica Reinhardsbrunnensis / Ed. Oswald Holder-Egger, MGH, SS 30/1 (Hanover, 1896), pp. 490–656.
Cronicas anonimas de Sahagun / Ed. Antonio Ubieto Arteta (Textes medievales 75, Saragossa, 1987).
Curtis, Edmund, 'Rental of the Manor of Lisronagh, 1333, and Notes on “Betagh” Tenure in Medieval Ireland', Proceedings of the Royal Irish Academy 43 (1935–7) C, pp. 41–76.
Dalimil Chronicle (Middle German versions) / Ed. J. Jiriček, Fontes rerum Boliemicamm 3 (Prague, 1882), pp. 5–224, Di tutsch kronik von Behem lant (verse), and pp. 257–97, Die pehemische Cronica dewcz (prose).
De expugnatione Lyxbonensi: The Conquest of Lisbon / Ed. and tr. Charles W. David (New York, 1936).
De Ordine Praedicatomm de Tolosa in Dada / Ed. M.C. Gertz, Scriptores minores historiae Danicae (2 vols., Copenhagen, 1917–22) 2/1, pp. 369–74.
De Theutonicis bonum dictamen / Ed. Wilhelm Wostry, 'Ein deutschfeindliches Pamphlet aus Bohmen aus dem 14. Jahrhundert', Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Bohmen 53 (1914–15), pp. 193–238.
Desimoni, Cornelio (ed.), 'I conti dell'ambasciata al chan di Persia nel 1292', Atti della Societu ligure di storia patria 13/3 (1879), pp. 537–698.
Deusdedit, Collectio canonum / Ed. Victor Wolf von Glanvell, Die Kanonessammlung des Kardinals Deusdedit (Paderbom, 1905).
Dignitas decani / Ed. Newport B. White (Dublin, 1957).
Diplomata Conradi I, Heinrici I et Ottonis I / Ed. Theodor Sickel (MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae I, Hanover, 1879–84).
La documentation pontificia hasta Innocencio III / Ed. Demetrio Mansilla (Rome, 1955).
Documentas de Don Sancho I (1174–1211) 1 / Ed. Rui de Azevado et al. (Coimbra,1979).
Domesday Book / Ed. Abraham Farley (2 vols., London, 1783).
The Dublin Guild Merchant Roll с 1190–1265 / Ed. Philomena Connolly and Geoffrey Martin (Dublin, 1992).
Dudo of Saint-Quentin, De moribus et actis primorum Normanniae ducum / Ed. Jules Lair, Memoires de la Societe des Antiquaires de Norman-die, 3rd ser., 3 (Caen, 1858–65).
Dugdale, William, Monasticon Anglicanum / Ed. John Caley et al. (6 vols.” in 8, London, 1846).
Eadmer, Life of St Anselm / Ed. and tr. R. W Southern (London, etc., 1962).
Early Scottish Charters prior to 1153 / Ed. Archibald С Lawrie (Glasgow, 1905).
Ebel, Wilhelm (ed.), Lubecker Ratsurteile (4 vols.. Gottingen, 1955–67).
Ebo, Vita sancti Ottonis episcopi Babenbergensis / Ed. Jan Wikarjak and Kazimierz Liman, MPH, n.s., 7/2 (Warsaw, 1969).
Einhard, Vita Karoli Magni / Ed. Reinhold Rau, Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte 1 (AQ5, Darmstadt, 1955), pp. 163–211.
Ekkehard of Aura, Hierosolymita, RHC, Occ. 5, pp. 1–40.
Elenchus fontium historiae urbanae 2/2 / Ed. Susan Reynolds et al. (Leiden, etc., 1988).
L'estoire d'Eracles empereur et la conqueste de la terre d'Outremer, RHC, Oca 2, pp. 1–481; La continuation de Guillaume de Тут (1184–1197) / Ed. Margaret R. Morgan [Documents relatifs a l'histoire des croisades 14, Paris, 1982).
Eugenius III, Epistolae et privilegia, PL 180, cols. 1013–1606.
Facsimiles of National Manuscripts of Ireland / Ed. John T. Gilbert (4 parts in 5 vols., Dublin, 1874–84).
Fantosme, Jordan, Chronicle / Ed. and tr. R.C. Johnston (Oxford, 1981). Finke, Heinrich (ed.), Ungednickte Dominikanerbriefe des 13. Jahrhunderts (Paderbom, 1891).
Foedera, conventiones, litterae et … acta publico … / Ed. Thomas Rymer (new ed., 4 vols, in 7 parts, Record Commission, 1816–69).
Font Rius, Jose Maria (ed.), Cartas de poblacion у franquicia de Cataluna (2 vols., Madrid and Barcelona, 1969).
Francis of Prague, Cronicae Pragensis libri III / Ed. J. Emler, Fontes rerum Bohemicarum 4 (Prague, 1884), pp. 347–456.
Frutolfi et Ekkehardi Chronica necnon Anonymi Chronica imperatorum / Ed. Franz-Josef Schmale and Irene Schmale-Ott (АО 15, Darmstadt, 1972).
Fuero de Jaca / Ed. Mauricio Molho (Saragossa, 1964).
Fuero de Logrono / Ed. T. Moreno Garbaya, Apuntes historicos de Logrono (Logrofto, 1943), pp. 42–9.
Fueros de Sepulveda / Ed. Emilio Suez (Segovia, 1953).
Fulcher of Chartres, Historia Hierosolymitana / Ed. Heinrich Hagenmeyer (Heidelberg, 1913).
El's Furs de Valencia / Ed. Rafael Gayano-Lluch (Valencia, 1930).
Gabrieli, Francesco (ed.), Arab Historians of the Crusades (Eng. tr., Berkeley and London, 1969).
Gallus Anonymus, Chronicon / Ed. K. Maleczynski, MPH, n.s., 2 (Cracow, 1952).
Gearoid Iarla (i.e. Gerald fitz Maurice fitzGerald, earl of Desmond), 'Duanaire Ghearoid Iarla' / Ed. Gearoid MacNiocaill, Studia Hibernica 3 (1963), pp. 7–59.
Geoffrey of Durham, Vita Bartholomaei Famensis, in Symeonis monachi opera omnia / Ed. Thomas Arnold (2 vols., RS, 1882–5), 1, pp. 295–325.
George Cedrenus, Historiarum compendium / Ed. Immanuel Bekker (2 vols., Corpus scriptorum historiae Byzantinae 34–5, Bonn, 1838–9).
George Pachymeres, De Michaele et Andronico Palaeologis / Ed. Immanuel Bekker (2 vols., Corpus scriptorum historiae Byzantinae 24–5, Bonn, 1835).
Gerald of Wales (Giraldus Cambrensis), Symbolum Electorum, in J.S. Brewer, J.F. Dimock and G.F. Warner (eds.), Opera (8 vols., RS, 1861–91) 1, pp. 197–395.
idem, Topographia Hibernica, ibid. 5, pp. 1–204.
idem, Itinerarium Kambriae, ibid. 6, pp. 1–152.
idem, Descriptio Kambriae, ibid. 6, pp. 153–227.
idem. De principis instructione, ibid. 8.
idem, Expugnatio Hibemica / Ed. A.B. Scott and F.X. Martin (Dublin, 1978).
idem, Speculum Duorum / Ed. Yves Lefevre and R.B.C. Huygens, general ed. Michael Richter (Cardiff, 1974).
idem, Vita Ethelberti / Ed. Montague R. James, 'Two Lives of St Ethelbert, King and Martyr', English Historical Review 32 (1917), pp. 222–36.
Gerlach of Muhlhausen, Chronicon / Ed. Wilhelm Wattenbach, MGH, SS 17 (Hanover, 1861), pp. 683–710.
Gervase of Rheims, Epistola de vita sancti Donatiani / Ed Oswald Holder-Egger, MGH, SS 15/2 (Hanover, 1888), pp. 854–6.
Gervase of Tilbury, Otia impeiialia / Ed. G.W. Leibnitz, Scriptores rerum brunsvicensium illustrationi inservientes (3 vols., Hanover, 1707–11) 1, pp. 881–1004; 2, pp. 751–84.
Gesta abbatum monasterii sancti Albani / Ed. Henry T. Riley (3 vols., RS, 1867–9).
Gesta archiepiscoporum Magdeburgensium / Ed. Wilhelm Schum, MGH, SS 14 (Hanover, 1883), pp. 361–486.
Gesta Francorum / Ed. and tr. Rosalind Hill (London, 1962).
Gesta regis Henrici secundi Benedicti abbatis / Ed. William Stubbs (2 vols., RS, 1867).
Gesta Stephani / Ed. K.R. Potter and R.H.C. Davis (Oxford, 1976).
Les gestes des Chiprois / Ed. Gaston Raynaud (Publications de la Societi de l'Orient latin, Serie historique 5, Geneva, 1887).
Glanvill, The Treatise on the Laws and Customs of England commonly called Glanvill / Ed. and tr. G.D.H. Hall (London, 1965).
Gregory VII, Registrum / Ed. Erich Caspar (MGH, Epistolae selectae, 2, Berlin, 1920–23).
idem, The Epistolae Vagantes of Pope Gregory VII / Ed. and tr. H.E.J. Cowdrey (Oxford, 1972).
Gregory IX, Decretals / Ed. Emil Friedberg (Corpus iuris canonici 2, Leipzig, 1881).
Guibert de Nogent, Historia quae dicitur Gesta Dei per Francos, RHC, Occ. 4, pp. 113–263.
Hagenmeyer, Heinrich (ed.), Epistulae et chartae ad historiam primi belli sacri spectantes (Innsbruck, 1901).
Hamburgisches UB (4 vols, in 7, Hamburg, 1907–67).
Hansisches UB 1 / Ed. Konstantin Hohlbaum (Halle, 1876).
Hariulf, Gesta ecclesiae Centulensis / Ed. F. Lot, Chronique de l'abbaye de Saint-Riquier (Paris, 1894).
Helbig, Herbert, and Lorenz Weinrich (eds.), Urkunden und erzahlende Quellen zur deutschen Ostsiedlung im Mittetalter (АО 26, 2 vols., Darmstadt, 1968–70).
Helmold of Bosau, Chronica Slavorum / Ed. Heinz Stoob (AQ 19, Darmstadt, rev. ed., 1973).
Henry of Antwerp, Tractatus de captione urbis Brandenburg / Ed. Oswald Holder-Egger, MGH, SS 25 (Hanover, 1880), pp. 482–4.
Henry of Huntingdon, Historia Anglorum / Ed. Thomas Arnold (RS, 1879).
Henry of Livonia, Chronicon Livoniae / Ed. Leonid Arbusow and Albert Bauer (АО 24, Darmstadt, 1959).
Herbord, Dialogus de vita sancti Ottonis episcopi Babenbergensis / Ed. Jan Wikarjak and Kazimierz Liman, MPH, n.s. 7/3 (Warsaw, 1974).
Historia de translatione sanctorum Nicolai, etc., RHC, Occ. 5, pp. 253–92.
Historia monasterii Rastedensis / Ed. Georg Waitz, MGH, SS 25 (Hanover, 1880), pp. 495–511.
Historical Manuscripts Commission, 10th Report, appendix 5 (London, 1885).
History of Gruffydd ap Cynan / Ed. and tr. Arthur Jones (Manchester, 1910).
Honorius III, Opera omnia / Ed. Cesar Auguste Horoy (5 vols., Paris, 1879–82).
Humbert of Silva Candida, Adversus Graecomm calumnias, PL 143, cols. 929–74.
If a Jeddih, Suma de los principales mandamientos у devedamientos de la ley у cunna, Memorial historico espanol 5 (Real Academia de la Historia, Madrid, 1853), pp. 247–421.
Innocent II, Epistolae et privilegia, PL 179, cols. 53–658.
Innocent III, Registrum sive epistolae, PL 214–16.
idem. Die Register Innocenz' III 2 / Ed. Othmar Hageneder et al. (Rome and Vienna, 1979).
idem, Regestum Innocentii I1II papae super negotio Romani imperii / Ed. Friedrich Kempf (Rome, 1947).
Inquisitio Eliensis / Ed. N.E.S.A Hamilton, Inquisitio comitatus Cantabrigiensis, subjicitur Inquisitio Eliensis (London, 1876), pp. 97–183.
Irish Cartularies of Lianthony Prima and Secundo / Ed. Eric St John Brooks (Irish Manuscripts Commission, Dublin, 1953).
Isidore of Seville, Etymologies / Ed. W.M. Lindsay (2 vols, Oxford, 1911, unpaginated).
Itineraires a Jerusalem / Ed. Henri Michelant and Gaston Raynaud (Publications de la Societe de l'Orient latin. Serie geographique 3, Geneva, 1882).
Iura Pnitenorum / Ed. Jozef Matuszewski (Towarzystwo Naukowe w Toruniu: Fontes 53, Torun, 1963).
Jackson, Kenneth H. (ed.), A Celtic Miscellany (rev. ed., Harmondsworth, 1971).
Jacob, G. (ed.), Arabische Berichte von Gesandten an germanische Furstenhofe aus dem 9. und 10. Jahrhundert (Berlin and Leipzig, 1927).
James I, Llibre dels feyts (Cronica) / Ed. Josep Maria de Casacuberta (9 vols, in 2, Barcelona, 1926–62).
Jocelyn of Fumess, Vita sancti Patricii, Acta sanctorum Martii 2 (Antwerp, 1668), pp. 540–80.
John of Hexham, Historia, in Symeonis monachi opera omnia / Ed. Thomas Arnold (2 vols., RS, 1882–5), 2, pp. 284–332.
John of Salisbury, Letters, 1: The Early Letters (1153–61) / Ed. W.J. Millor, H.E. Butler and C.N.L. Brooke (London, etc., 1955).
idem, Policraticus / Ed. C.C.J. Webb (2 vols., Oxford, 1909).
Joinville, John de. Histoire de Saint Louis / Ed. Natalis de Wailly (Paris, 1874).
Kong Valdemars Jordebog / Ed. Svend Aakjaer (3 vols., Copenhagen, 1926–43).
Korlen, Gustav (ed.). Norddeutsch Stadtrechte 2: Das mittelniederdeutsche Stadtrecht von Lübeck nach seinen altesten Formen (Lund and Copenhagen, 1951).
Lacarra, Jose Maria (ed.), 'Documentos para el estudio de la reconquista у repoblacion del Valle del Ebro', Estudios de Edad Media de la Corona de Aragon 2 (1946), pp. 469–574 (docs. 1–93), 3 (1947–8), pp. 499–727 (docs. 94–286), 5 (1952), pp. 511–668 (docs. 287–400); repr. in 2 vols. Textes medievales 62–3 (Saragossa, 1982–3).
Lapidge, Michael (ed.), “The Welsh-Latin Poetry of Sulien's Family”, Studio Celtica 8–9 (1973–4), pp. 68–106.
Lawrence of Durham, Dialogi / Ed. James Raine (Surtees Society 70, 1880 for 1878).
Lechner, Georg (ed.). Die hansischen Pfundzollisten des Jahres 1368 (Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte, n.s., 10, Lübeck, 1935).
Libellus de institutione morum / Ed. J. Balogh, Scriptores rerum Hungaricarum 2 (Budapest, 1938), pp. 611–27.
Liber actorum, resignationum пес поп ordinationum civitatis Cracoviae / Ed. Franciszek Piekosinski (Monumenta Medii Aevi historica res gestas Poloniae illustrantia 4/1, Cracow, 1878).
Liber cartarum Sancte Crucis / Ed. Cosmo limes (Bannatyne Club, Edinburgh, 1840).
Le liber censuum de l'eglise romaine / Ed. Paul Fabre et al. (3 vols., Paris, 1889–1910).
Liber feudorum major / Ed. Francisco Miquel Rosell (2 vols., Barcelona, 1945–7).
Liber fundationis claustri sanctae Mariae virginis in Heinrichow / Ed. Roman Grodecki, Ksiega Henrykowska (Poznan and Wroclaw, 1949).
Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis / Ed. H. Markgraf and J.W. Schulte (Codex diplomaticus Silesiae 14, Breslau, 1889).
Liber vitae ecclesiae Dunelmensis / Ed. A. Hamilton Thompson (facsimile ed.. Surtees Society 136, 1923).
Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum (2nd ser., 3 vols., Poznan and Warsaw, 1890–1935).
Littere Wallie / Ed. John Goronwy Edwards (Cardiff, 1940).
Liv-, esth- und curldndisches UB / Ed. F.G. von Bunge et al. (1st ser., 12 vols. Reval and Riga, 1853–1910).
Livlandische Reimchronik / Ed. Leo Meyer (Paderbom, 1876).
Lopez, Robert S.r and Irving W Raymond (eds.). Medieval Trade in the Mediterranean World (New York, 1955).
Luke of Tuy, Chronicon mundi / Ed. Andreas Schottus, Hispaniae illustratae (4 vols., Frankfurt/Main, 1603–8) 4, pp. 1–116.
Mac Con Midhe, Giolla Brighde, Poems / Ed. and tr. N.J.A Williams (Irish Texts Society 51, Dublin, 1980).
MacNiocaill, Gearoid, Na Buirgeisi (2 vols., Dublin, 1964).
idem, 'Cartae Duneneses XI–XII Cead', Seanchus Ara Mhaca 5/2 (1970), pp. 418–28.
Das Magdebwg-breslauer systematische Schoffenrecht / Ed. Paul Laband (Berlin, 1863).
Malaterra, Geoffrey, De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae comitis et Roberti Guiscardi ducisfratris eius / Ed. Ernesto Pontieri (Rerum italicarum scriptores, n.s., 5/1, Bologna, 1928).
Mecklenburgisches UB (25 vols, in 26, Schwerin and Leipzig, 1863–1977).
Menendez Pidal, Ramon (ed.). Documentas lingiiisticos de Espana 1 (Madrid, 1919, repr. 1966).
Miracula sancti Annonis / Ed. Mauritius Mttler (Siegburg, 1966–8).
Monumenta Poloniae Vaticana 3: Analecta Vaticana / Ed. Jan Ptasnik (Cracow, 1914).
Notker, Gesta Karoli / Ed. Reinhold Rau, Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte 3 (AQ7, Darmstadt, 1960), pp. 321–427.
Odo of Deuil, De profectione Ludovici VII in Orientem / Ed. and tr. Virginia G. Berry (New York, 1948).
Das Qfner Stadtrecht / Ed. Karl Mollay (Weimar, 1959).
Olesch, Reinhold (ed.), Fontes linguae dravaeno-polabicae minores et Chronica Venedica J.P. Schultzii (Cologne and Graz, 1967).
Orderic Vitalis, Historia ecclesiastica / Ed. and tr. Marjorie Chibnall (6 vols., Oxford, 1968–80).
Osnabnicker UB 2 / Ed. F. Philippi (Osnabriick, 1896).
Otto of Freising, Gesta Friderici I imperatoris / Ed. Georg Waitz and Bemhard von Simson (SRG, Hanover and Leipzig, 1912).
Oxford Book of Welsh Verse / Ed. T. Parry (Oxford, 1962).
Paris, Matthew, Chronica majora / Ed. Henry R Luard (7 vols., RS, 1872–84).
idem, Historia Anglorum / Ed. Frederic Madden (3 vols., RS, 1866–9).
Patent Rolls of the Reign of Henry III (1216–32) (2 vols., London, 1901–3).
Peire Vidal, Poesie / Ed. D'Arco Silvio Avalle (2 vols., Milan and Naples, 1960).
Peter of Dusburg, Chronica terre Prussie / Ed. Klaus Scholz and Dieter Wojtecki (AQ 25, Darmstadt, 1984).
Peter of Zittau, Chronicon Aulae Regiae / Ed. J. Emier, Fontes rerum Bohemicarum 4 (Prague, 1884), pp. 1–337.
Philip of Novara (Philippe de Navarre), Les quatredges de l'homme / Ed. Marcel de Freville (Paris, 1888).
Pipe Roll 31 Henry I / Ed. J. Hunter (Record Commission, London, 1833).
Placitorum abbreviatio (Record Commission, London, 1811).
Pommerellisches UB / Ed. Max Perlbach (Danzig, 1881–2).
Pommersches UB 1: 786–1253 / Ed. Klaus Conrad (2nd ed., Cologne and Vienna, 1970).
Pommersches UB 2, 5, 6 (Stettin, 1881–5, 1905, 1907, repr. Coloqne and Graz, 1970).
Pontificia Hibemica: Medieval Papal Chancery Documents Concerning Ireland 640–1261 / Ed. Maurice P. Sheehy (2 vols., Dublin,. 1962–5).
Preussisches UB (6 vols, to date, Konigsberg and Marburg, 1882-).
Primera crdnica general de Espafia / Ed. Ramon Menendez Pidal (2 vols., Madrid, 1955).
Privilegias reales у viejos documentos de Toledo / Ed. Juan Francisco Rivera Recio et al. (limited ed., Madrid, 1963).
Ptolemy of Lucca (and Thomas Aquinas), De regimine principum / Ed. Pierre Mandonnet, in Thomas Aquinas, Opuscula omnia 1 (Paris, 1927), pp. 312–487.
Ouellenbuch zur Geschichte der Sudetenlandet 1 / Ed. Wilhelm Weizsacker (Munich, 1960).
Ratzeburg Tithe Register / Ed. Hans Wurm, in Hans-Georg Kaack and Hans Wurm, Slawen und Deutsche im Lande Lauenburg (Ratzeburg, 1983), pp. 137–205.
Raymond of Aguilers, Liber (Historia Francorum qui ceperunt Iherusalem) / Ed. John H. Hill and Laurita L. Hill (Paris, 1969).
Recueil des historiens des cwisades. Lois 2 (Paris, 1843).
Recueil des historiens des Gaules et de la France / Ed. Martin Bouquet et al. (new ed., 24 vols., Paris, 1869–1904).
Red Book of Ormond / Ed. Newport B. White (Irish Manuscripts Commission, Dublin, 1932).
Red Book of the Exchequer / Ed. Hubert Hall (3 vols., RS, 1896).
Regesta diplomatica пес поп epistolaria Bohemiae et Moraviae / Ed. K.J. Erben, J. Emier et al. (7 vols, to date, Prague, 1854-).
Regesta Regum Anglo-Normannorum 1 / Ed. H.W.C. Davis (Oxford, 1913).
Regesten zur schlesischen Geschichte 3 (Codex diplomaticus Silesiae 7/3, Breslau, 1886).
Regino of Priim, Epistula ad Hathonem archiepiscopum missa / Ed. Friedrich Kurze.
Reginonis... chronicon (SRG, Hanover, 1890), pp. xix — xx.
Register of the Abbey of St Thomas Dublin / Ed. John T. Gilbert (RS, 1889).
Registrum vulgariter nuncupatum 'The Record of Caernarvon' / Edl Henry Ellis (Record Commission, London, 1838).
La regie du Temple / Ed. Henri de Curzon (Paris, 1886).
Repartimiento de Sevilla / Ed. Julio Gonzalez (2 vols., Madrid, 1951).
Reports of the Deputy Keeper of the Public Records of Ireland 1–55 (Dublin, 1869–1923).
Rerum Hungaricarum monumenta Arpadiana / Ed. S.L. Endlicher (St Gallen, 1849).
Richard of Hexham, Historia / Ed. Richard Howlett in Chronicles of the Reigns of Stephen, Henry II and Richard I (4 vols., RS, 1884–9) 3, pp. 137–78.
Richard of Poitou, Chronica (excerpts, with continuations) / Ed. Georg Waitz, MGH, SS 26 (Hanover, 1882), pp. 74–86.
Richer, Historiae / Ed. R. Latouche, Histoire de France (2 vols., Paris, 1930–37).
Robert of Clari, La conguete de Constantinople / Ed. Philippe Lauer (Paris, 1924).
Robert the Monk, Historia Iherosolimitana, RHC, Occ. 3, pp. 717–882.
'Rocznik lubiąski 1241–1281, oraz wiersz о pierwotnych zakonniach Lubiąza' [Versus lubenses] / Ed. August Bielowski, MPH3 (Lwow, 1878, repr. Warsaw, 1961), pp. 707–10.
Roger of Howden, Chronica / Ed. William Stubbs (4 vols, RS, 1868–71).
Roger of Wendover, Flores historiarum / Ed. H.G. Hewlett (3 vols., RS, 1886–9).
Rotuli chartarum in turn Londinensi asservati (1199–1216) / Ed. T.D. Hardy (London, 1837).
Rotuli litterarum clausamm in turri Londinensi asservati (1204–27) / Ed. T.D. Hardy (2 vols., London, 1833–44).
Sachsenspiegel (with the glosses of Johannes von Buch) / Ed. Jacob Friedrich Ludovici (rev. ed., Halle, 1750).
Sachsenspiegel: Landrecht and Lehnrecht / Ed. Karl August Eckhardt (Germanenrechte, n.s., 2 vols., Gottingen, 1955–6).
Saez, Emilio, 'Fueros de Puebla de Alcocer у Yebenes', Anuario de historia del derecho espanol 18 (1947), pp. 432–41.
Saxo Grammaticus, Gesta Danorum / Ed. J. Olrik and H. Raeder (2 vols., Copenhagen, 1931–57).
idem, Danorum regum heroumgue historia, Books X–XVI / Tr. Eric Christiansen (3 vols., British Archaeological Reports, International Series 84, 118/1–2, Oxford, 1980–81).
Schlesisches UB / Ed. Heinrich Appelt and Winfried Irgang (4 vols, to date, Graz, Cologne and Vienna, 1963-).
Siebert, Richard (ed.), 'Elf Ungedrackte Urkunden aus einem im Herzoglichen Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst befindlichen Nienburger Copiale', Mitteilungen des Vereins fur Anhaltische Geschichte und Alteriumskunde 9 (1904), pp. 183–94.
Las Siete Partidas / Ed. Real Academia de la Historia (3 vols., Madrid, 1807).
Simon of Saint Quentin, Historia Tartarorum / Ed. Jean Richard (Paris, 1965).
Skanske lov — Text III, in Danmarks garnie landskabslove 1 / Ed. J. Brendum-Nielsen (Copenhagen, 1920–33), pp. 265–466.
Song of Dermot and the Earl / Ed. and tr. Goddard H. Orpen (Oxford, 1892).
Statutes and Ordinances and Acts of the Parliament of Ireland: King John to Henry V / Ed. Henry F. Berry (Dublin, 1907).
Statutes of the Realm (11 vols., Record Commission, 1810–28).
Stephen de Salaniaco, De guattuor in guibus Deus Praedicatorum Ordinem insignivit, ed. T. Kaeppeli (Monumenta ordinis fratrum praedicatorum historica 22, Rome, 1949).
Stephen of Lexington, Registrum epistolarum / Ed. P. Bruno Griesser, Analecta sacri ordinis Cisterciensis 2 (1946), pp. 1–118.
idem, Letters from Ireland 1228–1229 / Tr. Barry O'Dwyer (Kalamazoo, Men., 1982).
Stubbs, William (ed.), Select Charters (9th ed. Oxford, 1913).
Suger, Vita Ludovici Grossi regis / Ed. H. Waguet (Paris, 1929).
Sunesen, Anders, Antique leges Scanie, in Danmarks gamle landskabslove 1 / Ed. J. Brendum-Nielsen (Copenhagen, 1920–33), pp. 467–667.
idem, Hexaemeron / Ed. Sten Ebbesen and L.B. Mortensen (2 vols., Copenhagen, 1985–8).
Symeon of Durham, Historia regum, in Symeonis monachi opera omnia / Ed. Thomas Arnold (2 vols., RS, 1882–5), 2, pp. 3–283.
idem (attrib.). De miraculis et translationibus sancti Cuthberti, ibid. 1, pp. 229–61; 2, pp. 333–62.
Symeon of Durham's continuator, Historia Dunelmensis ecciesiae, ibid. 1, pp. 135–60.
Tafel, G.L.F., and G.M. Thomas (eds.), Urkunden zur alteren Handelsund Staatsgeschichte der Republik Venedig (3 vols., Fontes rerum Austriacarum II, 12–14, Vienna, 1856–7).
Thietmar of Merseburg, Chronicon / Ed. Werner Trillmich (АО 9, Darmstadt, 1957).
Thomas of Monmouth, The Life and Miracles of St William of Norwich / Ed. and tr. Augustus Jessopp and Montague Rhodes James (Cambridge, 1896).
Turgot, Vita sancti Margaretae reginae / Ed. James Raine in Symeonis Dunelmensis opera et collectanea 1 / Ed. J. Hodgson Hinde (Surtees Society 51, 1868), pp. 234–54.
UB des ehemaligen Cistercienserstiftes Goldenkron in Bbhmen / Ed. M. Pangerl (Fontes rerum Austriacarum II, 37, Vienna, 1872).
UB Erzstifts Magdeburg 1 / Ed. Friedrich Israel and Walter Mollenberg (Magdeburg, 1937).
UB des Hochstifts Hildesheim und seiner Bischofe 2 / Ed. H. Hoogeweg (Hanover and Leipzig, 1901).
UB zur Geschichte der Deutschen in Siebenbiirgen 1 / Ed. Franz Zimmermann and Carl Werner (Hermannstadt, 1892).
UB zur Geschichte der Herzoge von Braunschweig und Lilneburg und ihrer Lande 1 / Ed. H. Sudendorf (Hanover, 1859).
UB zur Geschichte des schlossgesessenen Geschlechtes der Grafen und Herren von Wedel / Ed. Heinrich Friedrich Paul von Wedel (4 vols, in 2, Leipzig, 1885–91).
Die Urkunden Heinrichs des Lowen, Herzogs von Sachsen und Bayem / Ed. Karl Jordan, MGH, Laienfiirsten- und Dynastenurkunden der Kaiserzeit (Leipzig and Weimar, 1941–9).
Usamah Ibn-Munqidh, An Arab-Syrian Gentleman and Warrior... Memoirs of Usamah Ibn-Munqidh, tr. Philip K. Hitti (New York, 1929).
Victor, Claudius Marius, Alethia / Ed. Carl Schenkl, Poetae Christiani minores 1 Corpus scriptorum ecciesiasticorum latinorum 16/1, Vienna, etc., 1888), pp. 359–436.
Villard de Honcourt, Sketchbook / Ed. Hans R. Hahnloser, Villard de Honnecourt: Kritische Gesamtausgabe des BauMttenbuches ms. fr. 19093 der Pariser Nationalbibliothek (2nd ed., Graz, 1972) / Ed. Theodore Bowie, The Sketchbook of Villard de Honnecourt (Bloomington, 1959).
Villehardouin, Geoffrey de, La conquete de Constantinople / Ed. Ed-mond Faral (2nd ed., 2 vols., Paris, 1961).
Visitationes bonorum archiepiscopatus пес поп capituli Gnesnensis saeculi XVI / Ed. Boleslaw Ulanowski (Cracow, 1920).
Vita Constantini / Tr. Marvin Kantor and Richard S. White, The Vita of Constantine and the Vita of Methodius (Michigan Slavic Materials 13, Ann Arbor, 1976).
Walter Map, De nugis curialium / Ed. and tr. M.R. James, rev. C.N.L. Brooke and RAB. Mynors (Oxford, 1983).
Walter of Coventry, Memoriale / Ed. William Stubbs (2 vols., RS, 1872–3).
Walter of Guisborough, Chronide / Ed. Harry Rothwell (Camden 3rd ser., 89, 1957).
Walter of Henley, Husbandry / Ed. Dorothea Oschinsky, Walter of Henley and other Treatises on Estate Management and Accounting (Oxford, 1971), pp. 307–43.
Walther von der Vogelweide, Die Lieder / Ed. Friedrich Maurer (Munich, 1972).
Weinrich, Lorenz (ed.), Quellen zur deutschen Verfassungs-, Wirtschaftsund Sozialgeschichte bis 1250 (АО 32, Darmstadt, 1977).
Widukind of Corvey, Res gestae Saxonicae / Ed. Albeit Bauer and Reinhold Rau, Quellen zur Geschichte der sachsischen Kaiserzeit (AQ 8, rev. ed., Darmstadt, 1977), pp. 1–183.
William of Apulia, La geste de Robert Guiscard / Ed. Marguerite Mathieu (Palermo, 1961).
William of Malmesbury, Gesta regum / Ed. William Stubbs (2 vols., RS, 1887–9).
William of Newburgh, Historia renim Anglicarum / Ed. Richard Howlett in Chronicles of the Reigns of Stephen, Henry II and Richard I (4 vols., RS, 1884–9) 1–2.
William of Poitiers, Gesta Cuillelmi ducis Normannorum / Ed. Raymonde Foreville (Paris, 1952).
William of Rubruck, Itinerarium / Ed. Anastasius van den Wyngaert, Sinica Franciscana 1: Itinera et relationes fratnim minorum saec. XIII et XIV (Quaracchi, 1929), pp. 164–332.
William of Tyre, Chronide / Ed. R.B.C. Huygens (2 vols., Corpus Christianorum, Continuatio mediaevalis 63–63A, Turrihout, 1986).
William the Breton, Gesta Philippi Augusti / Ed. H.-F. Delaborde, Oeuvres de Rigord et de Guillaume le Breton (2 vols., Paris, 1882–5) 1, pp. 168–333.
idem, Philippidos / Ed. H.-F. Delaborde, ibid. 2.
ЛИТЕРАТУРА
Егоров Д.Н. Колонизация Мекленбурга в XIII веке. Т. 1. М., 1915. Косминский Е.А. Исследования по аграрной истории Англии XIII века. М — Л., 1947.
Abulafia, David, The Two Italies (Cambridge, 1977).
Anderson, Perry, Passages from Antiquity to Feudalism (London, 1974).
Arnold, Benjamin, Germon Knighthood 1050–1300 (Oxford, 1985).
Atlas vorgeschichtlicher Befestigungen in Niedersachsen / Ed. A von Opperman and С Schuchhardt (Hanover, 1888–1916).
Atlas zur Kirchengeschichte / Ed. Hubert Jedin et al. (2nd ed., Freiburg im Breisgau, 987).
Audouin, E., Essai sur 1'агтёе royal au temps de Philippe Auguste (Paris, 1913).
Avent, Richard, Cestyll Tywysogion Gwynedd/Castles of the Princes of Gwynedd (Cardiff, 1983).
Bach, Adolf, Deutsche Namenkunde (2nd ed., 3 vols., Heidelberg, 1952–6).
Baiard, Michel, La Romanie ginoise (XIIe — debut du XVe siecle) (2 vols., Rome, 1978).
Baldwin, John, The Government of Philip Augustus (Berkeley and Los Angeles, 1986).
Barrow, Geoffrey, The Anglo-Norman Era in Scottish History (Oxford, 1980).
idem, Kingship and Unity: Scotland 1000–1306 (London, 1981).
idem, Robert Bruce and the Community of the Realm of Scotland (2nd ed., Edinburgh, 1982).
Barry, Т. В., The Archaeology of Medieval Ireland (London, 1987).
Barrels, Karl, Deutsche Krieger in polnischen Diensten von Misika I. bis Kasimir dem Grossen, с 963–1370 (Berlin, 1922).
Bartlett, Robert, Gerald of Wales 1146–1223 (Oxford, 1982).
idem, “The Conversion of a Pagan Society in the Middle Ages”, History 70 (1985), pp. 185–201.
idem, 'Colonial Aristocracies of the High Middle Ages', in idem and Angus MacKay (eds.), Medieval Frontier Societies (Oxford, 1989), pp. 23–47.
Bateson, Mary, “The Laws of Breteuil”, English Historical Review 15 (1900), pp. 73–8, 302–18, 496–523, 754–7; 16 (1901), pp. 92–110, 332–45.
Bendixen, Kirsten, Denmark's Money (Copenhagen, 1967).
Benninghoven, Friedrich, Rigas Entstehung und der Fruhhansische Kaufmann (Hamburg, 1961).
idem. Der Order der Schwertbruder (Cologne and Graz, 1965).
Bentzien, Ulrich, Haken und Pflug (Berlin, 1969).
Beresford, Maurice, New Towns of the Middle Ages (London, 1967).
Beveridge, William, Prices and Wages in England 1 (London, 1939).
Bischoff, Karl, Sprache und Geschichte an der mittleren Elbe und der unteren Saale (MF 52, Cologne and Graz, 1967).
Bishko, Charles J., 'The Spanish and Portuguese Reconquest, 1095–1492', in Kenneth M. Setton (ed.), A History of the Crusades (Philadelphia and Madison, 6 vols., 1955–89) 3: The Fourteenth and Fifteenth Centuries / Ed. Harry W. Hazard, pp. 396–456.
Bonnassie, Pierre, La Catalogue de milieu du Xe à la fin du Xle siecle (2 vols., Toulouse, 1975).
Boockmann, Hartmut, Der Deutsche Orden (Munich, 1981).
Bom, Martin, Geographie der landlichen Siedlungen 1: Die Genese der Siedlungsformen in Mitteleuropa (Stuttgart, 1977).
Borst, Arno (ed.). Das Rittertum im Mittelalter (Wege der Forschung 349, Darmstadt, 1976).
Boswell, John, The Royal Treasure: Muslim Communities under the Crown of Aragon in the Fourteenth Century (New Haven, 1977).
Bouchard, Constance В., 'Family Structure and Family Consciousness among the Aristocracy in the Ninth to the Eleventh Centuries', Francia 14 (1987), pp. 639–58.
Bradley, John, 'Planned Anglo-Norman Towns in Ireland', in H.B. Clarke and Anngret Simms (eds.), The Comparative History of Urban Origins in Non-Roman Europe (British Archaeological Reports, International Series 255, 2 vols., Oxford, 1985) 2, pp. 411–67.
Brand, Paul, 'Ireland and the Literature of the Early Common Law', The Irish Jurist, n.s. 16 (1981), pp. 95–113.
Bresc, Henri, 'Feodalite coloniale en terre d'Islam: La Sicile (1070–1240)', in Structures feodales et fiodalisme dans TOccident mediterraneen (Xe-XIIIes.) (Paris, 1980), pp. 631–47.
Brooke, Christopher, “The Composition of the Chapter of St Paul's, 1086–1163”, Cambridge Historical Journal 10 (1951), pp. 111–32.
Brown, R.A., H.M. Colvin and A.J. Taylor, The History of the King's Works: The Middle Ages (2 vols., London, 1963).
Bryce, W. Moir, The Scottish Grey Friars (2 vols., Edinburgh and London, 1909).
Bullock-Davies, Constance, Professional Interpreters and the Matter of Britain (Cardiff, 1966).
Burns, Robert I., The Crusader Kingdom of Valencia: Reconstruction on a Thirteenth-Century Frontier (2 vols., Cambridge, Mass., 1967).
idem, Islam under the Crusaders: Colonial Survival in the Thirteenth-Century Kingdom of Valencia (Princeton, 1973).
Bushe-Fox, J. P., Old Sarum (London, etc., 1930).
Butler, Richard, Some Notices of the Castle and of the Ecclesiastical Buildings of Trim (Trim, 1835).
Cahen, Claude, Le regime feodale d'ltalie normande (Paris, 1940).
idem, 'Un texte peu connu relatif au commerce oriental d'Amalfi au Xe siecle', Archivio storico per le province napoletane, n.s., 34 (1955 for 1953–4), pp. 61–6.
Callebaut, Andre, 'A propos du bienheureux Jean Duns Scot de Littledean', Archivum Franciscanum Historicum 24 (1931), pp. 305–29.
Cambridge Economic History of Europe 1: The Agrarian Life of the Middle Ages / Ed. M.M. Postan (2nd ed., Cambridge, 1966).
Capitani, Ovidio, 'Specific Motivations and Continuing Themes in the Norman Chronicles of Southern Italy in the Eleventh and Twelfth Centuries', in The Normans in Sicily and Southern Italy (Lincei Lectures 1974) (Oxford, 1977), pp. 1–46.
Carus-Wilson, E.M., 'The First Half-Century of the Borough of Stratfordupon-Avon', Economic History Review, 2nd ser., 18 (1965), pp. 46–63.
Chalandon, Ferdinand, Histoire de la domination normande en Italie et enSicilie, 1009–1194 (2 vols., Paris, 1907).
Chibnall, Marjorie, The World of Orderic Vitalis (Oxford, 1984).
Christiansen, Eric, The Northern Crusades (London, 1980).
Clanchy, Michael, From Memory to Written Record: England 1066–1307 (London and Cambridge, Mass., 1979).
Claude, Dietrich, Geschichte des Erzbistums Magdeburg bis in das 12. Jahrhundert (2 vols., MF 67, Cologne, 1972–5).
Contamine, Philippe, War in the Middle Ages (Eng. tr., Oxford, 1984).
Cowdrey, H.E.J., Popes, Monks and Crusaders (London, 1984).
Cramer, Helga, 'Die Herren von Wedel im Lande iiber der Oder: Besitz und Herrschaftsbildung bis 1402', Jahrbuch filr die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 18 (1969), pp. 63–129.
Curschmann, Fritz, Die Diozese Brandenburg (Veroffentlichungen des Vereins fur Geschichte der Mark Brandenburg, Leipzig, 1906).
idem. Die deutschen Ortsnamen im Norddeutschen Kolonialgebiet (Stuttgart, 1910).
Darby, H. C, Domesday England (Cambridge, 1977).
Davies, Rees, Lordship and Society in the March of Wales 1282–1400 (Oxford, 1978).
idem, Conquest, Coexistence and Change: Wales 1063–1415 (Oxford, 1987).
idem. Domination and Conquest: The Experience of Ireland, Scotland and Wales 1100–1300 (Cambridge, 1990).
idem, “The Twilight of Welsh Law, 1284–1506', History 51 (1966), pp. 143–64.
idem, 'The Law of the March', Welsh History Review 5 (1970–71), pp. 1–30.
idem, 'Race Relations in Post-Conquest Wales', Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion (1974–5), pp. 32–56.
Davies, Wendy, The Llandaff Charters (Aberystwyth, 1979).
eadem, “The Latin Charter Tradition in Western Britain, Brittany and Ireland in the Early Medieval Period”, in Dorothy Whitelock et al. (eds.), Ireland in Early Medieval Europe (Cambridge, 1982), pp. 258–80.
Davis, R.H.C., The Medieval Warhorse (London, 1989).
Defoumeaux, Marcelin, Les Frangais en Espagne aux Xle et XIIe siecles (Paris, 1949).
Delaborde, Henri-Francois, Jean de Joinville et les seigneurs de Joinville (Paris, 1894).
Dermigny, Louis, La Chine et l'Occident: Le commerce a Canton au XVI–Ile siecle 1719–18331 (Paris, 1964).
Diccionario de historia eclesiastica de España / Ed. Quintin Aldea Vaquero et al. (4 vols., Madrid, 1972–5).
Diccionario de la lengua espanola / Ed. Real Academia de Espana (19th ed., Madrid, 1970).
(Contributions to a) Dictionary of the Irish Language (Royal Irish Academy, Dublin, 1913–76).
Dictionnaire d'histoire et de geographie ecclesiastiques (21 vols, to date, Paris, 1912).
Dolley, Michael, Medieval Anglo-Irish Coins (London, 1972).
Dominguez Ortiz, Antonio, and Bernard Vincent, Historia de los moriscos (Madrid, 1978).
Down, Kevin, 'The Agricultural Economy of Colonial Ireland', in New History of Ireland 2: Medieval Ireland, 1169–1534 / Ed. Art Cosgrove (Oxford, 1987), pp. 450–81.
Duby, Georges, Rural Economy and Country Life in the Medieval West (Eng. tr., London, 1968).
idem, The Early Growth of the European Economy (Eng. tr., London, 1974).
idem, 'La diffusion du titre chevaleresque', in Philippe Contamine (ed.), La noblesse au Moyen Age (Paris, 1976), pp. 39–70.
idem, 'Lineage, Nobility and Knighthood', in his The Chivalrous Society (Eng. tr., London and Berkeley, 1977), pp. 59–80.
idem, “The Origins of Knighthood”, ibid., pp. 158–70.
idem, “The Structure of Kinship and Nobility”, ibid., pp. 134–48.
Duncan, A.A.M., Scotland: The Making of the Kingdom (Edinburgh, 1975).
Dvomik, Francis, The Making of Central and Eastern Europe (London, 1949).
Ebel, Wilhelm, Lubisches Recht (Lubeck, 1971).
Edbury, Peter, The Kingdom of Cyprus and the Crusades 1191–1374 (Cambridge, 1991).
Eggert, O., Geschichte Pommems 1 (Hamburg, 1974).
Ekwall, Eilert, The Concise Oxford Dictionary of Place Names (4th ed., Oxford, 1960).
Elliott, John, 'The Discovery of America and the Discovery of Man', Proceedings of the British Academy 58 (1972), pp. 101–25.
Ellmers, Detlev, “The Cog of Bremen and Related Boats”, in Scan McGrail (ed.), The Archaeology of Medieval Ships and Harbours in Northern Europe (British Archaeological Reports, International Series 66, Oxford, 1966), pp. 1–15.
Empey, C.A., 'Conguest and Settlement: Patterns of Anglo-Norman Settlement in North Munster and South Leinster', Irish Social and Economic History Journal 13 (1986), pp. 5–31.
Ennen, Edith, Die europaische Stadt des Mittelalters (4th ed. Gottingen, 1987).
Epperlein, Siegfried, Bauembedruckung und Bauemwiderstand im hohen Mittelalter: Zur Erforschung der Ursachen bauerlichen Abwanderung nach Osten im 12. und 13. Jahrhundert (Berlin, 1960).
Eubel, Conrad, Hierarchia catholica medii aevi 1 (1198–1431) (2nd ed., Munster, 1913).
Evergates, Theodore, 'The Aristocracy of Champagne in the Md-Thirteenth Century: A Quantitative Description', Journal of Interdisdplinary History 5 (1974–5), pp. 1–18.
Fedalto, Giorgio, La Chiesa Latina in Oriente (2nd ed., 3 vols., Verona, 1981).
Fehring, Gunther, “The Archaeology of Early Lubeck: The Relation between the Slavic and the German Settlement Sites', in H.B. Clarke and Anngret Simms (eds.), The Comparative History of Urban Origins in Non-Roman Europe (British Archaeological Reports, International Series 255, 2 vols. Oxford, 1985) 1, pp. 267–87.
Fellows Jensen, Gillian, 'The Names of the Lincolnshire Tenants of the Bishop of Lincoln с 1225', in Otium et negotium: Studies in Onomatology and Library Science presented to Olof von Feilitzen (Acta Bibliothecae Regiae Stockholmiensis 16, Stockholm, 1973), pp. 86–95.
Fernandez у Gonzalez, Francisco, Estado social у politico de los mudejares de Costilla (Madrid, 1866).
Feyerabend, Iiselotte, Die Rigauer imd Revaler Familiennamen im 14. und 15. Jahrhundert (Cologne and Vienna, 1985).
Fino, J.F., Forteresses de la France medievale (3rd ed., Paris, 1977).
idem, 'Notes sur la production du fer et la fabrication des armes en France au Moyen Age', Gladius 3 (1964), pp. 47–66.
idem, 'Machines de jet medievales', Gladius 10 (1972), pp. 25–43.
Flanagan, Marie Therese, 'Monastic Charters from Irish Kings of the Tweifth and Thirteenth Centuries' (Unpublished MA thesis, University College, Dublin, 1972).
Fleischer, Wolfgang, Die deutschen Personennamen (Berlin, 1964).
idem, 'Die Namen der Dresdener Ratsmitglieder bis 1500', Beitrage zur Namenforschung 12 (1961), pp. 44–87.
Fliedner, Siegfried, and Rosemarie Pohl-Weber, The Cog of Bremen (Eng. tr., 3rd ed., Bremen, 1972).
Flori, Jean, L'ideologie du glaive: Prehistoire de la chevalerie (Geneva, 1983).
idem. L'essor de la chevalerie (Geneva, 1986).
Forey, A.J., 'The Will of Alfonso I of Aragon and Navarre', Durham University Journal 73 (1980), pp. 59–65.
idem, 'A Rejoinder' (to Elena Lourie, q.v.), ibid. 77 (1985), p. 173.
Fossier, Robert, La terre et les hommes en Picardie jusqu'a la fin de XIIe siecle (2 vols., Paris and Louvain, 1968).
Fournier, G, Le peuplement rural en Basse Auvergne durant le haut Moyen Age (Paris, 1962).
Frame, Robin, Colonial Ireland 1169–1369 (Dublin, 1981).
idem. The Political Development of the British Isles 1100–1400 (Oxford, 1990).
Freed, John, The Friars and German Society in the Thirteenth Century (Cambridge, Mass., 1977).
Freedman, Paul, The Diocese of Vic (New Brunswick, 1983).
Fügedi, Erik, Castle and Society in Medieval Hungary (1000–1437) (Studio historica Academiae Scientiarum Hungaricae 187, Budapest, 1986).
idem, 'Das mittelalterliche Konigreich Ungam als Gastland', in Walter Schlesinger (ed.). Die deutsche Ostsiedlung als Problem der europaischen Geschichte (Vortriige und Forschungen 18, Sigmaringen, 1975), pp. 471–507.
Galbrois de Ballesteros, Mercedes, Historia del reinado de Sancho TV de Costilla (3 vols., Madrid, 1922–8).
Gallen, Jarl, La province de Dacie de l'ordre des freres precheurs (Helsingfors, 1946).
Gams, Pius Bonifatius, Series episcoporum ecclesiae catholicae (Regensburg, 1873).
Ganz, David, and Walter Goffart, 'Charters Earlier than 800 from French Collections', Speculum 65 (1990), pp. 906–32.
Garcia-Gallo, Alfonso, 'Los Fueros de Toledo', Anuario de historia del derecho espanol 45 (1975), pp. 341–488.
Gautier-Dalche, Jean, 'Moulin a eau, seigneurie, communaute rurale dans le nord de l'Espagne (IXe-XIIe siecles)', in Etudes de civilisation medievale, IXe-XII siecles: Melanges offerts a Edmond-Rene Labande (Poitiers, 1974), pp. 337–49.
Genicot, Leopold, L'iconomie rurale namuroise au Bas Moyen Age 2: Les homines — la noblesse (Louvain, 1960).
idem. La noblesse dans Г Occident medieval (London, 1982).
Gibson, Margaret, Lanfranc of Bee (Oxford, 1978).
Girgensohn, Dieter, 'Dall'episcopate greco all'episcopate latino nell' Italia meridionale', in La chiesa greca in Italia dall'VIII al XVI secolo (3 vols., Italia sacra 20–22, Padua, 1973) 1, pp. 25–43.
Glamorgan County History 3: The Middle Ages / Ed. T.B. Pugh (Cardiff, 1971).
Glasscock, R.E., 'England circa 1334', in H.C. Darby (ed.), A New Historical Geography of England before 1600 (Cambridge, 1976), pp. 136–85.
idem, 'Land and People c. 1300', in New History of Ireland 2: Medieval Ireland, 1169–1534 / Ed. Art Cosgrove (Oxford, 1987), pp. 205–39.
Glick, Thomas F., Islamic and Christian Spain in the Early Middle Ages (Princeton, 1979).
Gockenjan, H., Hilfsvolker und Gremwachter im mittelalterlichen Ungarn (Wiesbaden, 1972).
Gonzalez, Julio, El reino de Costilla en la epoca de Alfonso VIII (3 vols, Madrid, 1960).
idem, Repoblacion de Costilla la Nueva (2 vols., Madrid, 1975–6).
Gonzalez Palencia, Angel, Los mozarabes toledanos en los siglos XII у XIII ('volumen preliminar' and 3 vols., Madrid, 1926–30).
Gonzalvez, Ramon, 'The Persistence of the Mozarabic Liturgy in Toledo after AD 1080', in Bernard F. Reilly (ed.), Santiago, Saint-Denis and Saint Peter: The Reception of the Roman Liturgy in Leon-Castile in 1080 (New York, 1985), pp. 157–85.
Goody, Jack, The Development of the Family and Marriage in Europe (Cambridge, 1983).
Gorecki, Piotr, Economy, Society and Lordship in Medieval Poland, 1100–1250 (New York and London, 1992).
Getting, W. and G. Grail, Burgen in Oberosterreich (Wels, 1967).
Graus, Frantisek, Die Nationenbildung der Westslawen im Mittelalter (Nationes 3, Sigmaringen, 1980).
Gringmuth-Dallmer, Eike, Die Entwicklung der frühgeschichtlichen Kulturlandschaft oaf dem Territorium der DDR unter besonderer Beriicksichtigung der Siedlungsgebiete (Berlin, 1983).
Grosser historicher Weltatlas 2: Mittelalter / Ed. Bayerische Schulbuch-Verlag (rev. ed., Munich, 1979).
Grundmann, Herbert, Wahlkonigtum, Territorialpolitik und Ostbewegung im 13. und 14. Jahrhundert (Gebhardts Handbuch der deutschen Geschichte 5, Munich, 1973).
Guilhiermoz, P., Essai sur l'origine de la noblesse en France au Moyen Age (Paris, 1902).
Gumowski, M., 'Pieczęcie ksiaęza_t pomorskich', Zapiski Towarzystwo naukowe w Toruniu 14 (1950), pp. 23–66 (and plates I–XXI).
Guttmann, Bernhard, 'Die Germanisierung der Slawen in der Mark', Forschungen zur brandenburgischen und preussischen Geschichte 9 (1897), pp. 39 (395) — 158 (514).
Gwyrm, Aubrey, “The Black Death in Ireland', Studies 24 (1935), pp. 25–42.
idem, 'Edward I and the Proposed Purchase of English Law for the Irish', Transactions of the Royal Historical Society, 5th ser., 10 (1960), pp. 111–27.
idem, and R. Neville Hadcock, Medieval Religions Hauses: Ireland (London, 1970).
Hagen, William W., 'How Mighty the Junkers? Peasant Rents and Seigneurial Profits in Sixteenth-Century Brandenburg', Past and Present 108 (1985), pp. 80–116.
Hagenmeyer, Heinrich, Chronologie de la premiere croisade 1094–1100 (reprint in one vol. Hildeslieim and New York, 1973).
Hallam, H.E., Settlement and Society: A Study of the Early Agrarian History of South Lincolnshire (Cambridge, 1965).
idem (ed.), The Agrarian History of England and Wales 2: 1042–1350 (Cambridge, 1988).
Hamann, Manfred, Mecklenburgische Geschichte (MF 51, Cologne, 1968).
Hamilton, Bernard, The Latin Church in the Crusader States: The Secular Church (London, 1980).
Hand, Geoffrey, English Law in Ireland 1290–1324 (Cambridge, 1967).
idem, 'English Law in Ireland, 1172–135Г, Northern Ireland Legal Quarterly 23 (1972), pp. 393–422.
Handbook of British Chronology / Ed. E.B. Fryde et al. (3rd ed., London, 1986).
Harbison, Peter, 'Native Irish Arms and Armour in Medieval Gaelic Literature, 1170–1600', The Irish Sword 12 (1975–6), pp. 173–99, 270–84.
Harvey, L.P., Islamic Spain 1250–1500 (Chicago, 1990).
Haskins, Charles Homer, 'England and Sicily in the Twelfth Century', English Historical Review 26 (1911), pp. 433–47, 641–65.
Haudricourt, Andre G, and Mariel Jean-Branhes Delamarre, L'homme et la charrue a trovers le monde (4th ed., Paris, 1955).
Haverkamp, Alfred, Medieval Germany 1056–1273 (Eng. tr.. Oxford, 1988).
Hay, Denys, Europe: The Emergence of an Idea (2nd ed., Edinburgh, 1968).
Heine, H. W., 'Ergebnisse und Probleme einer systematischen Aufnahme und Bearbeitung mittelalterlicher Wehranlagen zwischen junger Donau und westlichen Bodensee', CMteau Gaillard 8 (1976), pp. 121–34.
Heibig, Herbert, 'Die slawische Siedlung im sorbischen Gebiet', in Herbert Ludat (ed.), Siedlung und Verfassung der Slawen zwischen Elbe, Saale und Oder (Giessen, 1960), pp. 27–64.
Hellmann, Manfred, Grundzuge der Geschichte Litauens und des lituauischen Volkes (Darmstadt, 1966).
Hergueta, Narcisco, 'El Fuero de Logroflo: su extension a otras poblaciones', Boletin de la Real Academia de la Historia 50 (1907), pp. 321–2.
Herrmann, Joachim (ed.). Die Slawen in Deutschland: Ein Handbuch (new ed., Berlin, 1985).
Hermbrodt, A, 'Stand der fruhmittelalterlichen Mottenforschung im Rheinland', Chateau Gaillard 1 (1964 for 1962), pp. 77–100.
Heyd, Wilhelm, Histoire du commerce du Levant au Moyen Age (2 vols., Leipzig, 1885–6).
Higounet, Charles, Die deutsche Ostsiedlung im Mittelalter (Berlin, 1986).
idem, 'Les saints merovingiens d'Aquitaine dans la toponymie', in his Paysages et villages neufs du Moyen Age (Bordeaux, 1975), pp. 67–75.
idem, 'Mouvements de population dans le Midi de la France du Xle siecle d'apres les noms de personne et de lieu', ibid., pp. 417–37.
Hill, D.R., Trebuchets', Viator 4 (1973), pp. 99–114.
Hillebrand, Werner, Besitz- und Standesverhaltnisse des Osnabriicker Adels bis 1300 (Gottingen, 1962).
Hillgarth, J.N., The Spanish Kingdoms 1250–1516 (2 vols., Oxford, 1976–8).
Hoffmann, Karl, 'Die Stadtgrundungen Mecklenburg-Schwerins in der Kolonisationszeit vom 12. bis zum 14. Jahrhundert', Jahrbuch fur mecklenburgische Geschichte 94 (1930), pp. 1–200.
Hoffmann, Richard, Land, Liberties and Lordship in a Late Medieval Countryside: Agrarian Structures and Change in the Duchy of Wroctaw (Philadelphia, 1989).
Hollister, С. Warren, The Military Organization of Norman England (Oxford, 1965).
Holt, James C, 'Feudal Society and the Family in Early Medieval England', Transactions of the Royal Historical Society, 5th ser., 32 (1982), pp. 193–212; 33 (1983), pp. 193–220; 34 (1984), pp. 1–25; 35 (1985), pp. 1–28.
Hopp, Dora Grete, Die Zunft und die Nichtdeutschen im Osten, insbesondere in der Mark Brandenburg (Marburg/Lahn, 1954).
Hugelmann, Karl Gottfried, 'Die Rechtsstellung der Wenden im deutschen Mittel-alter', Zeitschrift der Savigny-Stiftungjur Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung 58 (1938), pp. 214–56.
Hurst, J. G, “The Changing Medieval Village in England”, in J.A Raftis (ed.), Pathways to Medieval Peasants (Toronto, 1981), pp. 27–62.
Janssen, Walter, 'Dorf und Dorfformen des 7. bis 12. Jahrhunderts im Lichte neuer Ausgrabungen in Mittel- und Nordeuropa', in Herbert Jankuhn ef al. (eds.). Das Dorf der Eisenzeit und des frtthen Mittelatters (Abhandlungen der Akadamie der Wissenschaft in Gottingen, philosopisch-historische Klasse, 3rd ser., 101, 1977), pp. 285–356.
Johansen, Paul, 'Eine Riga-Wisby-Urkunde des 13. Jahrhunderts', Zeitschrift des Vereins fur Lubeckische Geschichte und Altertumskunde 38 (1958), pp. 93–108.
idem, and Heinz von zur Mühlen, Deutsch und Undeutsch im mittelalterlichen und fruhneuzeitlichen Reval (Cologne and Vienna, 1973).
Jones, Gwyn, A History of the Vikings (Oxford, 1968).
Jones Hughes, Т., 'Town and Baile in Irish Place-Names', in Nicholas Stephens and Robin E. Glasscock (eds.), Irish Geographical Studies in Honour of E. Estyn Evans (Belfast, 1970), pp. 244–58.
Jordan, Karl, Die Bistumsgrtindungen Heinrichs des Lowen (MGH, Schriften 3, Leipzig, 1939).
Joris, Andre, Huy et sa charte de franchise, 1066 (Brussels, 1966).
Kaestner, Walter, 'Mittelniederdeutsche Elemente in der polnischen und kaschubischen Lexik', in P. Sture Ureland (ed.). Spmchkontakt in der Hanse… Akten des 7. Internationalen Symposions tiber Spmchkontakt in Euiopa, Lubeck 1986 (Tubingen, 1987), pp. 135–62.
Kaindl, Raimund Friedrich, Geschichte der Deutschen in den Karpathenlandern (3 vols., Gotha, 1907–11).
Keefe, Thomas K., Feudal Assessments and the Political Community under Henry II and His Sons (Berkeley, etc., 1983).
Kejf, Jifi, 'Die Anfange der Stadtverfassung und des Stadtrechts in den Bohmischen Landern', in Walter Schlesinger (ed.). Die deutsche Ostsiedlung des Mittelalters als Problem der europaischen Geschichte (Vortrage und Forschungen 18, Sigmaringen, 1975), pp. 439–70.
Kleber, Hermann, 'Pelerinage — vengeance — conquete: la conception de la premiere croisade dans le cycle de Graindor de Douai', in Au carrefour des routes d'Europe: La chanson de geste (Xe Congres international de la Societe Rencesvals pour l'etude des epopees romanes, 2 vols., Aix-en-Provence, 1987) 2, pp. 757–75.
Knoch, Peter, Studien zu Albert von Aachen (Stuttgart, 1966).
Knoll, Paul, 'Economie and Political Institutions on the Polish-German Frontier in the Middle Ages: Action, Reaction, Interaction', in Robert Bartlett and Angus MacKay (eds.). Medieval Frontier Societies (Oxford, 1989), pp. 151–74.
Knott, Eleanor, Irish Classical Poetry (Irish Life and Culture 6, Dublin, 1957).
Krabbo, Hermann, and Georg Winter, Regesten der Markgrafen von Brandenburg aus Askanischem Hause (Leipzig, Munich and Berlin, 1910–55).
Kiihn, Walter, Vergleichende Untersuchungen zur mittelalterlichen Ostsiedlung (Cologne and Vienna, 1973).
idem, 'Flamische und frankische Hufe als Leitformen der mittelalterlichen Ostsiedlung', ibid., pp. 1–51.
idem, 'Bauernhofgrossen in der mittelalterlichen Nordostsiedlung', ibid., pp. 53 — HI.
idem, 'Der Pflug als Betriebseinheit in Altpreussen', ibid., pp. 113–40.
idem, 'Der Haken in Altpreussen', ibid., pp. 141–71.
idem, 'Ostsiedlung und Bevolkerungsdichte', ibid., pp. 173–210.
idem, 'Die Siedlerzahlen der deutschen Ostsiedlung', in Studium Sociale. Karl Valentin Miiller dargebracht (Cologne and Opladen, 1963), pp. 131–54.
idem, 'German Town Foundations of the Thirteenth Century in Western Pomerania', in H.B. Clarke and Anngret Simms (eds.), The Comparative History of Urban Origins in Non-Roman Europe (British Archaeological Reports, International Series 255, 2 vols., Oxford, 1985) 2, pp. 547–80.
Latinitatis Medii Aevi Lexicon Bohemiae: Slovnik Stredovike Latiny v Ceskych Zemich (Prague, 1977-).
Le Patourel, John, The Norman Empire (Oxford, 1976). Lea, Henry Charles, The Moriscos of Spain (London, 1901).
Lennard, Reginald, Rural England, 1086–1135: A Study of Social and Agrarian Conditions (Oxford, 1959).
Lewis, Bernard, The Muslim Discovery of Europe (New York and London, 1982).
Lewis, Suzanne, The Art of Matthew Paris in the 'Chronica Majora' (Berkeley, etc., 1987).
Lexicon fur Theologie und Kirche / Ed. Josef Hofer and Karl Rahner (2nd ed., 11 vols., Freiburg im Breisgau, 1957–67).
Leyser, Karl, “The German Aristocracy from the Ninth to the Early Twelfth Century A Historical and Cultural Sketch', Past and Present 41 (1968), pp. 25–53, repr. in his Medieval Germany and its Neighbours (London, 1982), pp. 161–89.
Lloyd, J.E., A History of Wales (3rd ed., 2 vols., London, 1939).
Lomax, Derek W., The Reconquest of Spain (London, 1978).
Long, J., 'Dermot and the Earl: Who Wrote the Song?', Proceedings of the Royal Irish Academy 75C (1975), pp. 263–72.
Longnon, Jean, 'L'organisation de l'eglise d'Athenes par Innocent ИГ, in Memorial Louis Petit: Melanges d'histoire et d'archeologie byzantines (Archives de Г Orient Chretien 1, Bucharest, 1948), pp. 336–46.
Loiter, Friedrich, “The Scope and Effectiveness of Imperial Jewry Law in the High Middle Ages”, Jewish History 4 (1989), pp. 31–58.
Loud, Graham, 'How “Norman” was the Norman Conquest of Southern Italy?', Nottingham Medieval Studies 25 (1981), pp. 13–34.
Lourie, Elena, 'A Society Organized for War: Medieval Spain', Past and Present 35 (1966), pp. 54–76.
eadem, «The Will of Alfonso “El Batallador”, King of Aragon and Navarre: A Reassessment», Speculum 50 (1975), pp. 635–51.
eadem, “The Will of Alfonso I of Aragon and Navarre: A Reply to Dr Forey”, Durham University Journal 11 (1985), pp. 165–72.
Loyd, Lewis C, The Origins of Some Anglo-Nomian Families / Ed. C.T. Clay and D.C. Douglas (Harleian Society Publications 103, 1951).
Luz Alonso, Maria, 'La perduracion del Fuero Juzgo у el Derecho de los castellanos de Toledo', Anuario de historia del derecho espanol 48 (1978), pp. 335–77.
Lydon, James, “The Middle Nation”, in idem (ed.), The English in Medieval Ireland (Dublin, 1984), pp. 1–26.
McErlean, Thomas, “The Irish Townland System of Landscape Organization”, in Terence Reeves-Smyth and Fred Hamond (eds.). Landscape Archaeology in Ireland (British Archaeological Reports, British Series 116, Oxford, 1983), pp. 315–39.
MacKay, Angus, Spain in the Middle Ages: From Frontier to Empire, 1000–1500 (London, 1977).
Mackensen, Lutz, 'Zur livlandischen Reimchronik', in his Zur deutschen Literatur Altlivlands (Wiirzburg, 1961), pp. 21–58.
McNeill, Т. Е., Anglo-Norman Ulster: The History and Archaeology of an Irish Barony 1177–1400 (Edinburgh, 1980).
MacNiocaill, Gearoid, 'The Interaction of Laws', in James Lydon (ed.), The English in Medieval Ireland (Dublin, 1984), pp. 105–17.
Mann, James, Wallace Collection Catalogues: European Arms and Armour (2 vols., London, 1962).
Martin, Geoffrey, 'Plantation Boroughs in Medieval Ireland, with a Handlist of Boroughs to с 1500', in David Harkness and Mary O'David (eds.), The Town in Ireland (Historical Studies 13, Belfast, 1981), pp. 25–53.
Mason, J.FA, 'Roger de Montgomery and his Sons (1067–1102)', Transactions of the Royal Historical Society, 5th ser., 13 (1963), pp. 1–28.
Mason, W.H. Monck, The History and Antiquities of the Collegiate and Cathedral Church of St Patrick (Dublin, 1820).
Mayer, Hans Eberhard, Bistumer, Kloster und Stifte im Königreich Jerusalem (MGH, Schriften 26, Stuttgart, 1977).
Menager, Leon-Robert, 'Inventaire des families normandes et franques emigrees en Italic meridionale et en Sicile (Xle-XIIe siecles)', in Roberto il Guiscard e il suo tempo (Fonti e studi del Corpus membranarum italicarum, Centra di studi normanno-suevi. Universita degli studi di Bail, Rome, 1975), pp. 259–387.
Menzel, Josef Joachim, Die schlesischen Lokationsurkunden des 13. Jahrhunderts (Wurzburg, 1977).
Merton, A., Die Buchmalerei in St Gallen (Leipzig, 1912).
Metcalf, D.M. (ed.), Coinage in Medieval Scotland (1100–1600) (British Archaeological Reports 45, Oxford, 1977).
Michel, Anton, Humbert und Kerullarios (2 vols., Paderborn, 1924–30).
Mller, Edward, and John Hatcher, Medieval England: Rural Society and Economie Change 1086–1348 (London, 1978).
Mquel, Andre, La geographie humaine du monde musulman jusqu'au milieu du lie siecle 2: Geographie arabe et representation du monde: La terre et Tetranger (Paris, 1975).
Morgan, M.R, The Chronicle of Ernoul and the Continuations of William of Tyre (Oxford, 1973).
Mundy, John, Europe in the High Middie Ages (London, 1973, 2nd ed., 1991).
Murray, Alan V., 'The Origins of the Frankish Nobility in the Kingdom of Jerusalem, 1100–1118', Mediterranean Historical Review 4/2 (1989), pp. 281–300.
Musset, Lucien, 'Problemes militaires du monde Scandinave (Vile — XIIe s.)', in Ordinamenti militari in Occidente nell'alto medioevo (Settimane di studio del Centro italiano di studi suH'alto medioevo 15, 2 vols., Spoleto, 1968) 1, pp. 229–91.
idem, 'L'aristocratie normande au Xle siecle', in Philippe Contamine (ed.), La noblesse au MoyenAge (Paris, 1976), pp. 71–96.
Nekuda, Vladimir, 'Zum Stand der Wiistungsforschung in Mahren (CSSR)', Zeitschrift for Archaologie des Mittelalters Г (1973), pp. 31–57.
New History of Ireland 2: Medieval Ireland, 1169–1534 / Ed. Art Cosgrove (Oxford, 1987).
Nicholls, Kenneth, Gaelic and Caelicized Ireland in the Middie Ages (Dublin, 1972).
idem, 'Anglo-French Ireland and After', Peritia 1 (1982), pp. 370–403.
Nicholson, Ranald, 'A Sequel to Edward Bruce's Invasion of Ireland', Scottish Historical Review 42 (1963), pp. 30–40.
Nickel, H., et al., The Ait of Chivalry: European Arms and Armour from the Metropolitan Museum of Art (New York, 1982).
Nitz, Hans-Jiirgen, “The Church as Colonist: The Benedictine Abbey of Lorsch and Planned Waldhufen Colonization in the Odenwald”, Journal of Historical Geography 9 (1983), pp. 105–26.
idem (ed.). Historisch-genetische Siedlungsforschung (Darmstadt, 1974).
О Corrain, Donncha, 'Nationality and Kingship in Pre-Norman Ireland', in T.W. Moody (ed.), Nationality and the Pursuit of National Independence (Historical Studies 11, Belfast, 1978), pp. 1–35.
O'Dwyer, Barry, The Conspiracy of Mellifont, 1216–1231 (Dublin, 1970).
O'Sullivan, William, The Earliest Anglo-Irish Coinage (Dublin, 1964).
Orpen, Goddard H., Ireland under the Normans, 1169–1333 (4 vols., Oxford, 1911–20).
Otway-Ruthven A.J., A History of Medieval Ireland (2nd ed., London, 1980).
eadem, “The Request of the Irish for English Law, 1277–80”, Irish Historical Studies 6 (1948–9), pp. 261–70.
eadem, 'Knight Service in Ireland', Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland 89 (1959), pp. 1–15.
eadem, 'Knights' Fees in Kildare, Leix and Offaly', Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland 91 (1961), pp. 163–81.
eadem, 'The Character of Norman Settlement in Ireland', in J.L. McCracken (ed.), Historical Studies 5 (London, 1965), pp. 75–84.
Painter, Sidney, 'English Castles in the Early Middie Ages: Their Numbers, Location, and Legal Position', Speculum 10 (1935), pp. 321–32.
Palme, S.U., 'Les impots, le Statut d'Alsno et la formation des ordres en Suede (1250–1350)', in R. Mousnier (ed.). Problemes de stratification sociale (Paris, 1968), pp. 55–66.
Parisse, Michel, 'La conscience chretienne des nobles aux Xle et XIIe siècles', in La cristianitu dei secoli XI e XII in occidente: Coscienza e strutture di una societa (Miscellanea del Centro di studi medioevali 10, Milan, 1983), pp. 259-m
Parry-Williams, Т.Н., The English Element in Welsh (Cymmrodorion Record Series 10, London, 1923).
Patze, Hans, and Walter Schlesinger, Geschichte Thiiringens 2/1 (MF 48, Cologne and Vienna, 1974).
Penalosa Esteban-Infantes, Margarita, La fundacion de Ciudad Real (Ciudad Real, 1955).
Penners, Theodor, Untersuchungen tiber die Herkunft der Stadtbewohner im Deutsch-Ordensland Preussen bis in die Zeit um 1400 (Leipzig, 1942).
Perroy, Edouard, L'Angleterre et le Grand Schisme d'Occident (Paris, 1933).
idem, 'Social Mobility among the French noblesse in the Later Middie Ages', Past and Present 21 (1962), pp. 25–38.
Petersohn, Jurgen, Der sudliche Ostseeraum im kirchlich-politischen Kraftespiel des Reichs, Polens und Danemarks vom 10. bis 13. Jahrhundert (Cologne and Vienna, 1979).
Pollock, Frederick, and Frederic William Maitland, The History of English Law before the Time of Edward I (2nd ed., 2 vols., Cambridge, 1898, reissued 1968).
Porteous, John, 'Crusader Coinage with Latin or Greek Inscriptions', in Kenneth M. Setton (ed.), A History of the Crusades (Philadelphia and Madison, 6 vols., 1955–89) 6: The Impact of the Crusades on Europe / Ed. Harry W. Hazard, pp. 354–420.
Postan, MM., The Medieval Economy and Society (London, 1972).
Powers, James F., A Society Organized for War: The Iberian Municipal Militias in the Central Middle Ages, WOO — 1284 (Berkeley and Los Angeles, 1988).
Prange, Wolfgang, Siedlungsgeschichte des Landes Lauenburg im Mittelalter (Neumunster, 1960).
Prawer, Joshua, Crusader Institutions (Oxford, 1980).
idem, 'Social Classes in the Latin Kingdom: The Franks', in Kenneth Setton (ed.), A History of the Crusades (Philadelphia and Madison, 6 vols., 1955–89) 5: The Impact of the Crusades on the Near East / Ed. Norman Zacour and Harry Hazard, pp. 117–92.
Prestwich, Michael, War, Politics and Finance under Edward I (London, 1972).
Pryor, John H., Geography, Technology and War: Studies in the Maritime History of the Mediterranean, 649–1571 (Cambridge, 1988).
Ralegh Radford, С A, 'Later Pre-Conquest Boroughs and their Defences', Medieval Archaeology 14 (1970), pp. 83–103.
Rees, William, South Wales and the March 1284–1415 (Oxford, 1924).
Reilly, Bernard F., The Kingdom of Leon-Castilla under King Alfonso VI, 1065–1109 (Princeton, 1988).
Reinerth, Karl, 'Siebenbiirger und Magdeburger Flandrenses-Urkunden aus dem 12. Jahrhundert', Sudostdeutsches Archiv 8 (1965), pp. 26–56.
Ribbe, Wolfgang (ed.). Das Havelland im Mittelalter (Berlin, 1987).
Richard, Jean, 'Les listes des seigneuries dans le livre de Jean d'Ibelin', Revue historique de droit francais et etranger 32 (1954), pp. 565–77.
idem, “The Political and Ecclesiastical Organization of the Crusader States', in Kenneth M. Setton (ed.), A History of the Crusades (Philadelphia and Madison, 6 vols., 1955–89) 5: The Impact of the Crusades on the Near East / Ed. Norman P. Zacour and Harry W. Hazard, pp. 193–250.
Richter, Michael, Sprache und Gesellschaft im Mittelalter (Stuttgart, 1979).
Ridyard, Susan, 'Condigna veneratio: Post-Conquest Attitudes to the Saints of the Anglo-Saxons', in Anglo-Norman Studies 9 (1986) / Ed. R. Allen Brown, pp. 179-206.
Riley-Smith, Jonathan, The Knights of St John in Jerusalem and Cyprus с 1050–1310 (London, 1967).
Ritchie, R.L.G., The Normans in Scotland (Edinburgh, 1954).
Roberts, Brian K, The Green Villages of County Durham (Durham, 1977).
Röhricht, Reinhold, Beitrage zur Geschichte der Kreuzzuge 2: Deutsche Pilger- und Kreuzfahrten nach dem heiligen Lande (700–1300) (Berlin, 1878).
Rollason, David, Saints and Relies in Anglo-Saxon England (Oxford, 1989).
Round, J.H., The King's Serjeants and Officers of State (London, 1911).
Rousset, Paul, 'La notion de Chretiente aux Xle et XIIe siecles'. Le MoyenAge 4th ser., 18 (1963), pp. 191–203.
Rupp, Jean, I!idee de Chretiente dans la pensee pontificate des origines a Innocent III (Paris, 1939).
Russell, Josiah Cox, British Medieval Population (Albuquerque, 1948).
Rutkowska-Plachcinska, Anna, 'Les prenoms dans le sud de la France aux XIIIe et XIVe ciecles', Acta Poloniae Historica 49 (1984), pp. 5–42.
Salch, C.L., 'La protection symbolique de la porte au Moyen Age dans les chateaux-forts alsaciens', in Hommage a Genevieve Chewier et Alain Ceslan: Etudes medievales (Strasbourg, 1975), pp. 39–44.
Santifaller, Leo, Beitrage zur Geschichte des Lateinischen Patriarchate von Konstantinopel (1204–1261) und der venezianischen Urkunden (Weimar, 1938).
Schlesinger, Walter (ed.). Die deutsche Ostsiedlung als Problem der europaischen Geschichte (Vortrage und Forschungen 18, Sigmaringen, 1975).
idem, 'Flemmingen und Kühren: Zur Siedlungsform niederlandischer Siedlungen des 12. Jahrhunderts im mitteldeutschen Osten', ibid., pp. 263–309.
Schmalstieg, William R, An Old Prussian Grammar (University Park, Pa., 1974).
idem, Studies in Old Prussian (University Park, Pa., 1976).
Schmid, Karl, 'Zur Problematik von Familie, Sippe und Geschlecht, Haus und Dynastie beim mittelalterlichen Adel', Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 105 (1957), pp. 1–62.
idem, “The Structure of the Nobility in the Earlier Middle Ages', in Timothy Reuter (ed.), The Medieval Nobility (Amsterdam, etc., 1978), pp. 37–59.
Schmidt, Eberhard, Die Mark Brandenburg unter den Askaniem (1134–1320) (MF 71, Cologne and Vienna, 1973).
Schneidmuller, Bernd, Nomen patriae: Die Entstehung Frankreichs in der politischgeographischen Terminologie (10. — 13. Jahrhundert) (Sigmaringen, 1987).
Schultze, Johannes, Die Mark Brandenburg 1: Entstehung und Entwicklung unter den askanischen Markgrafen (bis 1319) (Berlin, 1961).
Schulze, Hans K., Adelsherrschaft und Landesherrschaft: Studien zur Verfassungs- und Besitzgeschichte der Altmark, des ostsachsischen Raumes und des hannoverschen Wendlands im hohen Mittelalter (MF 29, Cologne and Graz, 1963).
idem, 'Die Besiedlung der Mark Brandenburg im hohen und spaten Mittelalter', Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 28 (1979), pp. 42–178.
idem, 'Slavica lingua penitus intermissa: Zur Verbot des Wendischen als Gerichtssprache', in Europa slavica — Europa orientalis: Festschrift für H. Ludat (Berlin, 1980), pp. 354–67.
Schunemann, K., Die Deutsche in Ungarn bis zum 12. Jahrhundert (Berlin, 1923).
Schwarz, Ernst, 'Die Volkstumsverhaltnisse in den Stadten Bohmens und Mahrens vor den Hussitenknegen', Bohemia: Jahrbuch des Collegium Carolinum 2 (1961), pp. 27–111.
Shields, H. E., 'The Walling of New Ross — a Thirteenth-Century Poem in French', Long Room 12–13 (1975–6), pp. 24–33.
Simms, Katharine, 'Warfare in the Medieval Gaelic Lordships', The Irish Sword 12 (1975–6), pp. 98–108.
Słownik Laciny Sredniowiecznej w Polsce 1 / Ed. Mariana Plezi (Wroclaw, etc., 1953–8).
Smith, Julia, 'Oral and Written: Saints, Miracles and Relies in Brittany, с 850–1250', Speculum 65 (1990), pp. 309–43.
Southern, Richard W., Western Society and the Church in the Middle Ages (Harmondsworth, 1970).
Sprandel, Rolf, Das mittelalterliche Zahlungssystem nach Hansisch-Nordischen Quellen des 13. — 15. Jahrhunderts (Stuttgart, 1975).
Spufford, Peter, Money and its Use in Medieval Europe (Cambridge, 1988).
Stenton, Frank, The First Century of English Feudalism 1066–1166 (2nd ed., Oxford, 1961).
idem, et al., The Bayeux Tapestry (London, 1957).
Stephenson, David, The Governance of Gwynedd (Cardiff, 1984).
Stewart, Ian, 'The Volume of the Early Scottish Coinage', in D.M. Metcalf (ed.), Coinage in Medieval Scotland (1100–1600) (British Archaeological Reports 45, Oxford, 1977), pp. 65–72.
Stringer, K.J., Earl David of Huntingdon, 1152–1219: A Study in Anglo-Scottish History (Edinburgh, 1985).
idem, 'The Charters of David, Earl of Huntingdon and Lord of Garioch: A Study in Anglo-Scottish Diplomatie', in idem (ed.), Essays on the Nobility of Medieval Scotland (Edinburgh, 1985), pp. 72–101.
Strove, Karl Wilhelm, 'Die slawischen Burgen in Wagrien', Offa 17–18 (1959–61), pp. 57–108.
Suchodolski, Stanislaw, Poczqtki mennictwa w Europie srodkowej, wschodniej i polnocnej (Wrociaw, 1971) (English summary, pp. 249–57).
idem, Mennictwo Polskie wXI i XII wieku (Wroclaw, etc., 1973) (English summary, pp. 144–52),
Suhle, Arthur, Deutsche Мига- und Geldgeschichte von den Anfangen bis zum 15. Jahrhundert (2nd ed., Berlin, 1964).
Szekely, Gyorgy, 'Wallons et Italiens en Europe centrale aux Xle-XVIe siecles', Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolande Eotuos Nominatae, sectio historica 6 (1964), pp. 3–71.
Teuchert, Hermann, Die Sprachreste der niederlandischen Siedlungen des 12. Jahrhunderts (2nd ed., MF 70, Cologne and Vienna, 1972).
Thiriet, Freddy, La Romanie vinitienne au Moyen Age: Le developpement et Г exploitation du domaine colonial venitien (XII–XIVs.) (Paris, 1959).
Thordemann, В., Armour from the Battle of Wisby 1361 (2 vols., Stockholm, 1939).
Tidick, Erika, 'Beitrage zur Geschichte der Kirchenpatrozinien im Deutschordensland Preussen bis 1525', Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands 22 (1926), pp. 343–464.
Titow, J.Z., English Rural Society 1200–1350 (London, 1969).
idem. Winchester Yields: A Study in Medieval Agricultural Productivity (Cambridge, 1972).
idem, 'Some Evidence of the Thirteenth-Century Population Increase', Economie History Review, 2nd ser., 14 (1961), pp. 218–24.
Torres Fontes, Juan, 'Moras, judios у conversos en la regenda de Don Fernando de Antequera', Cuadernos de historia de Espana 31–2 (1960), pp. 60–97.
Tout, T.F., “The Fair of Lincoln and the “Histoire de Guillaume le Marechal”, in his Collected Papers (3 vols., Manchester, 1932–4) 2, pp. 191–220.
Trawkowski, Stanislaw, 'Die Rolle der deutschen Dorfkolonisation und des deutschen Rechts in Polen im 13. Jahrhundert', in Walter Schlesinger (ed.). Die deutsche Ostsiedlung des Mittelalters als Problem der europaischen Geschichte (Vortrage und Forschungen 18, Sigmaringen, 1975), pp. 349–68.
Turner, Ralph V., Men Raised from the Dust: Administrative Service and Upward Mobility in Angevin England (Philadelphia, 1988).
Tyerman, Christopher, England and the Crusades, 1095–1588 (Chicago, 1988).
Tylecote, R.F., Metallurgy in Archaeology (London, 1962).
Usseglio, Leopoldo, / marchesi di Monferrato in Italia ed in oriente durante i secoli XII e XIII / Ed. Carlo Patracco (2 vols., Bibliotheca della Societa storica subalpina 100–101, Turin, 1926).
Victoria County History of Shropshire 2 (London, 1973).
Vlasto, AP“ The Entry of the Slavs into Christendom (Cambridge, 1970).
Vogel, Werner, Der Verbleib der wendischen Bevolkerung in der Mark Brandenburg (Berlin, 1960).
von Muller, Adriaan, 'Zum hochmittelalterlichen Besiedlung des Teltow (Brandenburg): Stand eines mehrjahrigen archaologisch-siedlungsgeschichtlichen Forschungsprogrammes', in Walter Schlesinger (ed.). Die deutsche Ostsiedlung als Problem der europaischen Geschichte (Vortrage und Forschungen 18, Sigmaringen, 1975), pp. 311–32.
Wade-Martins, Peter, “The Origins of Rural Settlement in East Anglia', in P.J. Fowler (ed.), Recent Work in Rural Archaeology (Bradford-upon-Avon, 1975), pp. 137–57.
idem, “The Archaeology of Medieval Rural Settlement in East Anglia”, in Mchael Aston et al. (eds.), The Rural Settlements of Medieval England (Oxford, 1989), pp.149–65.
Waley, Daniel, The Italian City Republics (London, 1969).
Walsh, Katherine, A Fourteenth-Century Scholar and Primate: Richard FitzRalph in Oxford, Avignon and Armagh (Oxford, 1981).
Watson, Andrew M., 'Towards Denser and More Continuons Settlement: New Crops and Farming Techniques in the Early Mddle Ages', in J.A Raftis (ed.), Pathways to Medieval Peasants (Toronto, 1981), pp. 65–82.
Watt, J.A, The Church and the Two Nations in Medieval Ireland (Cambridge, 1970).
idem, The Church in Medieval Ireland (Dublin, 1972).
idem, 'English Law and the Irish Church: The Reign of Edward Г, in idem, J.B. Morrall and F.X. Martin (eds.), Medieval Studies presented to A. Gwynn (Dublin, 1961), pp. 133–67.
Wenskus, Reinhard, Stammesbildung und Verfassung: Das Werden der frühmittelalterlichen gentes (Cologne and Graz, 1961).
idem. Ausgewahlte Aufsatze zum frühen und preussischen Mittelalter / Ed. Hans Patze (Sigmaringen, 1986).
idem, 'Das Ordensland Preussen als Territorialstaat des 14. Jahrhunderts', in Hans Patze (ed.). Der Deutsche Territorialstaat im 14. Jahrhundert 1 (Vortrage und Forschungen 13, Sigmaringen, 1970), pp. 347–82.
idem, 'Der Deutsche Orden und die nichtdeutsche Bevolkerang des Preussenlandes mit besonderer Beriicksichtigung der Siedlung', in Walter Schlesinger (ed.). Die deutsche Ostsiedlung als Problem der europaischen Geschichte (Vortrage und Forschungen 18, Sigmaringen, 1975), pp. 417–38.
Werner, Karl Ferdinand, 'Heeresorganisation und Kriegfuhrung im Deutschen Konigreich des 10. and 11. Jahrhunderts', in Ordinamenti militari in Occidente nell'alto medioevo (Settimane di studio del Centra italiano di studi sull'alto medioevo 15, 2 vols, Spoleto, 1968) 2, pp. 791–843.
White, Lynn, Medieval Technology and Social Change (Oxford, 1962).
Wightman, W.E., The Lacy Family in England and Normandy 1066–1194 (Oxford, 1966).
Wilson, David M., 'Danish Kings and England in the Late 10th and Early 11th Centuries — Economic Implications', in Proceedings of the Battle Conference on Anglo-Norman Studies 3 (1980) / Ed. R Allen Brown, pp. 188–96.
Wolff, R.L., “The Organization of the Latin Patriarchate of Constantinople, 1204–1261”, Traditio 6 (1948), pp. 33–60.
Wrigley, EA, and R.S. Schofield, The Population History of England 1541–1871 (Cambridge, Mass., 1981).
Wurm, Helmut, 'Korpergrosse und Emahrung der Deutschen im Mittelalter', in Bemd Herrmann (ed.), Mensch und Umwelt im Mittelalter (Stuttgart, 1986), pp. 101–8.
Zatschek, Heinz, 'Namensanderungen und Doppelnamen in Bohmen und Mahren im hohen Mittelalter', Zeitschrift für Sudetendeutsche Geschichte 3 (1939), pp. 1–11.
Zdrojkowski, Zbigniew, 'Miasta na prawie Sredzkim', Sląski kwartalnik historyczny Sobotka 41 (1986), pp. 243–51.
Zientara, Benedykt, 'Die deutschen Einwanderer in Polen vom 12. bis zum 14. Jahrhundert', in Walter Schlesinger (ed.). Die deutsche Ostsiedlung des Mittelalters als Problem der europaischen Geschichte (Vortrage und Forschungen 18, Sigmaringen, 1975), pp. 333–48.
Zom, Wolfgang, 'Deutsche und Undeutsche in der stadtischen Rechtsordnung des Mittelalters in Ost-Mitteleuropa', Zeitschrift für Ostforschungl (1952), pp. 182–94.
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Документ Вильгельма Сабины об учреждении епархий в Пруссии
Замок Кэррикфергус
Изображение Альбрехта Медведя (справа, с копьем и щитом) на одной из его монет
Тяжелый конник XIII века
Стенобитное орудие требюше, конец XII века
Крестьяне получают землю в обмен на расчистку пашни от леса
Цистерцианцы расчищают землю под пашню
Бременский ког (вверху: реконструкция; на соседней стр. вверху вид сбоку)
Венды (сорбы) и саксонцы не могли выступать в суде друг против друга
Первые вендские монеты: вверху Генрих Пржибислав Бранденбургский (реверс и аверс); внизу Яжа Кёпеник
* * *
Примечания
1
(епископский престол был вскоре перенесен из Троины в Мессину).
(обратно)2
Современные польские названия населенных пунктов, обозначенных на Карте 4: Cremzow (Krępcowo), Driesen (Drezdenko), Falkenburg (Złocieniec), Freienwalde (Chociwel), Kürtow (Korytowo), Märkische-Friedland (Mirosławiec), Neuwedel (Drawno), Schivelbein (Swidwin), Uchtenhagen (Krzywnica); реки Ihna (Ina), Netze (Noteć), Drage (Drawa).
(обратно)3
Эти пятнадцать монархов следующие: короли и королевы Португалии, Леона и Кастилии, Арагона, Наварры, Франции, Англии, Шотландии, Норвегии/Швеции, Дании, Польши, Венгрии, Священной Римской империи (и Богемии), Неаполя и Сицилии, Кипра; прочие правители (в т.ч. некоторые из ирландских) использовали королевский титул в ряде случаев, но в глазах соседних правителей либо могущественных международных организаций монархами не являлись. Иерусалим и Армения представляют исключения.
(обратно)4
Ричард I первоначально отдал Кипр тамплиерам, с условием, что они его выкупят.
(обратно)5
Люрье переводит слово sirgentes как земельный собственник.
(обратно)6
Вес рыцарских доспехов можно рассчитать на основе следующих соображений: кольчуга — 30 фунтов; меч — 4 фунта; шлем — 3 фунта; наконечник копья — 2 фунта; подковы, шпоры, стремена, мундштук и т.п. — 11 фунтов. Отчасти эти расчеты основаны и на археологических данных, отчасти — на общих свойствах металлов и отчасти — на более поздних сведениях о вооружениях. См.: J.F. Fino, 'Notes sur la production du fer et la fabrication des armes en France au Moyen Age', Gladius 3 (1964), pp. 47–66; R.F. Tylecote, Metallurgy in Archaeology (London, 1962), p. 276; H. Nickel et al.. The Art of Chivalry: European Arms and Armour from the Metropolitan Museum of Art (New York, 1982); James Mann, Wallace Collection Catalogues: European Arms and Armour (2 vols., London, 1962).
(обратно)7
В 1215 г. король Иоанн заказал для своего замка Мальборо 10 тыс. арбалетных болтов. См.: Close Roll 16 John (Pipe Roll Society, n.s., 31, 1955), p. 130; Audouin, Essai, pp. 187–97; Contamine, War in the Middle Ages, pp. 71–2.
(обратно)8
Современное название — Herlingsburg.
(обратно)9
Выражение novae res см.: Гай Саллюстий, Jugurtha 19.1, Catiline 28.4 и проч.. Оно часто употреблялось средневековыми хронистами. Вполне возможно, что Альперт позаимствовал его из труда Цезаря Галльская война: Gallic War 1.9 (see van Rij and Abulafia's edition, p. 125)
(обратно)10
Геральд Валлийский в 1188 году так характеризовал ирландских всадников: Они не используют ни седла ни стремян — см.: Gerald of Wales (Giraldus Cambrensis), Topographia Hibernica 3.10, in J.S. Brewer, J.F. Dimock and G.F. Warner (eds.). Opera (8 vols., RS, 1861–91) 5, pp. 1–204, at p. 150.
(обратно)11
Приведенные географические названия — Üxküll, Mesoten, Fellin, Oesel и Warbole — это современные латвийские и эстонские города Ikskile, Mezotne, Viljandi, Saaremaa и Varbola.
(обратно)12
Современные польские названия — Budziszów, Krzydlina Wielka и Krzydlina Mala.
(обратно)13
Современные польские названия — Фридевальде — Kopań; Гросс Бризен — Brzeziny; Петерсхайде — Czamolas; Шёнхайде — Wielochów.
(обратно)14
однако в Лизронаге в 1326 г. ситуация была совсем иной: там большинство из 14 коттариев носили английские имена — см.: Edmund Curtis, 'Rental of the Manor of lisronagh, 1333, and Notes on “Betagh” Tenure in Medieval Ireland', Proceedings of the Royal Irish Academy 43 (1935–7) C, pp. 41–76.
(обратно)15
Выражения подобные словам ужас и запустение встречаются и в библейских текстах; см. Второзаконие 32:10: Господь нашел народ израильский в пустыне, в степи печальной и дикой). В источниках эти обороты употребляются не только в отношении Восточной Европы, см.: Liber feudorum major, ed. Francisco Miguel Rosell (2 vols., Barcelona, 1945–7), 1, nos. 255, 259, pp. 275–6, 282–3 (1076), где речь идет о землях севернее Таррагоны.
(обратно)16
Датировка в обоих случаях не совпадает: в первом дается дата 1212, во втором — 1209.
(обратно)17
Однако наиболее вероятно, что эти должностные лица скорее выполняли функции исполнительной власти, нежели судебной. См. на эту тему: GarciaGallo, pp. 429, п. 199, 437, and Luz Alonso, 'El Fuero Juzgo', p. 343, n. 24.
(обратно)18
Включая Королевство Бургундское.
(обратно)Ссылки
1
Geoffrey Malaterra, De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae comitis et Roberti Guiscardi ducis fratris eius 3.19, ed. Ernesto Pontieri (Reium italicarum scriptores, n.s., 5/1, Bologna, 1928), pp. 68–9
(обратно)2
Orderic Vitalis, Historia ecclesiastica 3, ed. and tr. Marjorie Chibnall (6 vols., Oxford, 1968 — 80), 2, p. 26.
(обратно)3
Этот анализ средневековых католических епископств опирается на следующие документы: Pius Bonifatius Gams, Series episcoporum ecclesiae catholicae (Regensburg, 1873); Conrad Eubel, Hierarchia catholica medii aevi О (1198–1431) (2nd ed., Munster, 1913), дополненные и исправленные в словарях: Dictionnaire d'histoire et de geographie ecclesiastiques (21 vols, to date, Paris, 1912-); Lexicon fur Theologie und Kirche, ed. Josef Hofer and Karl Rahner (2nd ed., 11 vols.. Freiburg im Breisgau, 1957–67), а также карты и библиография в кн.: Atlas zur Kirchengeschichte, ed. Hubert Jedin et al. (2nd ed., Freiburg im Breisgau, 1987), различных национальных и региональные исследованиях, которые отчасти поименованы ниже.
Magdeburg: Diplomata Conradi I, Heinrici I et Ottonis I, ed. Theodor Sickel (MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae 1, Hanover, 1879–84), no. 366, pp. 502–3.
Общие труды по истории становления епископатов Восточной Европы включают: AP.Vlasto, The Entry of the Slavs into Christendom (Cambridge, 1970), chapter 3; Francis Dvomik, The Making of Central and Eastern Europe (London, 1949); о землях между Эльбой и Одером см.: Jiirgen Petersohn, Der südliche Ostseeraum im kirchlich-politischen Kraftespiel des Reichs, Polens und Danemarks vom 10. bis 13. Jahrhundert (Cologne and Vienna, 1979), part I, а также работы по истории отдельных епархий, напр.: Dietrich Claude, Geschichte des Erzbistums Magdeburg bis in das 12. Jahrhundert (2 vols., MF 67, Cologne, 1972–5); Fritz Curschmann, Die Diozese Brandenburg (Veroffentlichungen des Vereins fur Geschichte der Mark Brandenburg, Leipzig, 1906).
(обратно)4
Vita Constantini 15, tr. Marvin Kantor and Richard S. White, The Vita of Constantine and the Vita of Methodius (Michigan Slavic Materials 13, Ann Arbor, 1976), p. 47.
(обратно)5
Adam of Bremen: Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum 3.77, ed. Werner Trillmich, in Quellen des 9. und Im. Jahrhunderts zur Geschichte der Hamburgischen Kirche und des Reiches (АО 11, Darmstadt, 1961), pp. 135–503, at pp. 428–30.
(обратно)6
Pagan Uppsala: ibid. 4.26–7, ed. Trillmich, pp. 470–72.
(обратно)7
Malaterra, De rebus gestis Rogerii 4.7, ed. Pontieri, pp. 88–90; см.: Dieter Girgensohn, 'Dall'episcopate greco all'episcopato latino nell'Italia meridionale', in La chiesa greca in Italia dall'VIII al XVI secolo (3 vols., Italia sacra 20–22, Padua, 1973) 1, pp. 25–43.
(обратно)8
Charles Homer Haskins, 'England and Sicily in the Twelfth Century', English Historical Review 26 (1911), pp. 433–47, 641–65, at p. 437.
(обратно)9
Paul Freedman, The Diocese of Vic (New Brunswick, 1983), pp. 14–15.
О Реконкисте см.: Derek W. Lomax, The Reconguest of Spain (London, 1978); Charles J. Bishko, “The Spanish and Portuguese Reconguest, 1095–1492“, in Kenneth M. Setton (ed.), A History of the Crusades (Philadelphia and Madison, 6 vols., 1955–89) 3: The Fourteenth and Fifteenth Centuries, ed. Harry W. Hazard, pp. 396–456; Angus MacKay, Spain in the Middle Ages: From Frontier to Empire, 1000–1500 (London, 1977), pp. 1–78; подробности истории отдельных епархий см.: Diccionario de historia eclesidstica de Espana, ed. Quintin Aldea Vaquero et al. (4 vols., Madrid, 1972–5).
(обратно)10
Privilegios reales у viejos documentes de Toledo, ed. Juan Francisco Rivera Recio et al. (limited ed., Madrid, 1963), no. 1.
(обратно)11
De expugnatione Lyxbonensi: The Conquest of Lisbon, ed. and tr. Charles W. David (New York, 1936), pp. 178–80 and n. 5.
(обратно)12
Primera cronica general de Espana 1129, ed. Ramon Menendez Pidal (2 vols., Madrid, 1955), 2, p. 769.
(обратно)13
Об истории латинской церкви Восточного Средиземноморья см.: Bernard Hamilton, The Latin Church in the Crusader States: The Secular Church (London, 1980); Hans Eberhard Mayer, Bistumer, Oldster und Stifte im Konigreich Jerusalem (MGH, Schriften 26, Stuttgart, 1977), part 1; Jean Richard, 'The Political and Ecclesiastical Organization of the Crusader States', in Kenneth M. Setton (ed.), A History of the Crusades (Philadelphia and Madison, 6 vols., 1955–89) 5: The Impact of the Crusades on the Near East, ed. Norman P. Zacour and Harry W. Hazard, pp. 193–250; Giorgio Fedalto, La Chiesa Latina in Oriente (2nd ed., 3 vols., Verona, 1981); R.L. Wolff, 'The Organization of the Latin Patriarchate of Constantinople, 1204–1261', Traditio 6 (1948), pp. 33–60.
(обратно)14
Об Афинской церкви см.: Innocent III, 14 July 1208, Sacrosancta Romana ecclesia, Po. 3456; Registrum sive epistolae 11.113, PL 214–16, at 215, col. 1433, см.: Jean Longnon, 'L'organisation de l'eglise d'Athenes par Innocent III, in Memorial Louis Petit: Melanges d'histoire et d'archeologie byzantines (Archives de Г Orient Chretien 1, Bucharest, 1948), pp. 336–46; Leo Santifaller, Beitrage zur Geschichte des Lateinischen Patriarchats von Konstantinopel (1204–1261) und der venezianischen Urkunden (Weimar, 1938), pp. 130–40; G.L.F. Tafel and G.M. Thomas (eds.), Urkunden zur alteren Handels und Staatsgeschichte der Republik Venedig (3 vols., Fontes rerum Austriacarum II, 12–14, Vienna, 1856–7) 2, p. 101, no. 209.
(обратно)15
О епархиях Прибалтики см.: Petersohn, Der siidliche Ostseeraum; R. Bartlett, 'The Conversion of a Pagan Society in the Middle Ages', History 70 (1985), pp. 185–201; Karl Jordan, Die Bistumsgriindungen Heinrichs des Lowen (MGH, Schriften 3, Leipzig, 1939); Eric Christiansen, The Northern Crusades (London, 1980).
(обратно)16
Об Ордене меченосцев см.: Friedrich Benninghoven, Der Order der Schwertbrüder (Cologne and Graz, 1965). О Тевтонских рыцарях имеется обширная литература, одним из добротных последних исследований является: Hartmut Boockmann, Der Deutsche Orden (Munich, 1981).
(обратно)17
Notker: Gesta Karoli 1.10, ed. Reinhold Rau, Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte 3 (AQ7, Darmstadt, 1960), pp. 321–427, at pp. 334–6.
(обратно)18
'Tota latinitas': Orderic Vitalis, Historia ecclesiastica 12.43, ed. Chibnall, 6, p. 364.
(обратно)19
Об истории Ирландии XII–XIII веков см.: Robin Frame, Colonial Ireland 1169–1369 (Dublin, 1981); idem. The Political Development of the British Isles 1100–1400 (Oxford, 1990); Л J. Otway-Ruthven, A History of Medieval Ireland (2nd ed., London, 1980); R. Bartlett, 'Colonial Aristocracies of the Fligh Middle Ages', in Robert Bartlett and Angus MacKay (eds.). Medieval Frontier Societies (Oxford, 1989), pp. 23–47.
(обратно)20
Vita sancti Malachiae 8.16, in J. Leclerq and H.M. Rochais (eds.). Opera 3 (Rome, 1963), pp. 295–378, at p. 325.
(обратно)21
ibid. 8.17, ed. Leclerq and Rochais, p. 326; цит. из Библии: Осия 2:23.
(обратно)22
Song of Dermot and the Earl, lines 431–5, ed. and tr. Goddard H. Orpen (Oxford, 1892), p. 34.
(обратно)23
Walter Bower, Scotichronicon 12.27, ed. D.E.R. Watt, 6 (Aberdeen, 1991), p. 388 (Remonstrance of 1317–18).
(обратно)24
Bernard, Vita sancti Malachiae 8.16, ed. Leclerq and Rochais, p. 325.
(обратно)25
Цит. по кн.: Chanson de Roland, laisse 72, line 899, ed. F. Whitehead (Oxford, 1942), p. 27.
(обратно)26
John of Salisbury, Letters, 1: The Early Letters (1153–61), ed. W.J. Millor, H.E. Butler and C.N.L. Brooke (London, etc., 1955), no. 87, p. 135.
(обратно)27
Schlesisches UB, ed. Heinrich Appelt and Winfried Irgang (4 vols, to date, Graz, Cologne and Vienna, 1963-), 1, no. 11, pp. 8–9 (1143–5).
(обратно)28
Philip of Novara (Philippe de Navarre), Les quatres ages de l'homme 1.16, ed. Marcel de Freville (Paris, 1888), p. 11.
(обратно)29
О роде Жуанвилей см.: Henri-François Delaborde, Jean de Joinville et les seigneurs de Joinville (Paris, 1894)
(обратно)30
Jean de Joinville, Histoire de Saint Louis XXXVI (167), ed. Natalis de Wailly (Paris, 1874), p. 92.
(обратно)31
Calendar of the Gormanston Register, ed. James Mils and M.J. McEnery (Dublin, 1916), p. 182.
(обратно)32
Joinville, Histoire, ed. de Wailly, p. 545.
(обратно)33
Orderic Vitalis, Historia ecclesiastica, ed. and tr. Marjorie Chibnall (6 vols., Oxford, 1968–80), indices, s.v. 'Grandmesml'; генеалог, древо — ibid. 2, p. 370; Marjorie Chibnall, The World of Orderic Vitalis (Oxford, 1984), p. 227; Leon-Robert Menager, 'Inventaire des families normandes et franques emigrees en Italie meridional e et en Sicile (Xle-XIIe siècles)', in Roberto il Guiscard e il suo tempo (Fonti e studi del Corpus membranarum italicarum. Centre» di studi normanno-suevi. Universita degli studi di Bari, Rome, 1975), pp. 259–387, at pp. 316–18.
(обратно)34
Orderic Vitalis, Historia ecclesiastica 3, ed. Chibnall, 2, p. 94.
(обратно)35
'Funambuli': Gesta Francorum 9.23, ed. and tr. Rosalind Hill (London, 1962), p. 56; Baudri de Bourgueil, Historia jerosolimitana, RHC, Occ. 4, pp. 1–111, at pp. 64–5.
(обратно)36
Orderic Vitalis, Historia ecclesiastica 8.3, ed. Chibnall, 4, pp. 138–40.
(обратно)37
О Роберте Рудланском см.: Domesday Book, ed. Abraham Parley (2 vols., London, 1783), 1, fol. 269; map in H.C. Darby, Domesday England (Cambridge, 1977), p. 332, fig. Ill; Rees Davies, Conquest, Coexistence and Change: Wales 1063–1415 (Oxford, 1987), pp. 30–31, 82–3; John Le Patourel, The Norman Empire (Oxford, 1976), pp. 62–3, 312–14.
(обратно)38
О Сурдевалях см.: Domesday Book 1, fols. 298, 305–8, 373; Lewis C. Loyd, The Origins of Some Anglo-Norman Families, ed. C.T. Clay and D. C. Douglas (Harleian Society Publications 103, 1951), p. 99; Menager, 'Inventaire des families normandes', p. 346; Red Book of the Exchequer, ed. Hubert Hall (3 vols., RS, 1896), 2, p. 602; Register of the Abbey of St Thomas Dublin, ed. John T. Gilbert (RS, 1889), nos.106, 349–50, pp. 92, 302–4.
(обратно)39
Derek W. Lomax, The Reconquest of Spain (London, 1978),p. 62.
(обратно)40
Orderic Vitalis, Historia ecclesiastica, 13.5, ed. Chibnall, 6, p. 404.
(обратно)41
Reinhold Rohricht, Beitrage zur Geschichte der Kreuzzüge 2: Deutsche Pilger- und Kreuzfahrten nach dem heiligen Lande (700–1300) (Berlin, 1878), pp. 297–359.
(обратно)42
Pommersches UB 1: 786–1253, ed. Klaus Conrad (2nd ed., Cologne and Vienna, 1970), nos. 213, 485, pp. 261–3, 579–80.
(обратно)43
O. Eggert, Geschichte Pommems 1 (Hamburg, 1974), pp. 150–60, and also the bibliography cited there, pp. 263–4.
(обратно)44
Schlesisches UB, ed. Heinrich Appelt and Winfried Irgang (4 vols, to date, Graz, Cologne and Vienna, 1963-), 2, no. 346, p. 208 (1248).
(обратно)45
См.: Т.Е. McNeill, Anglo-Norman Ulster: The History and Archaeology of an Irish Barony 1177–1400 (Edinburgh, 1980), esp. chapter 1; Goddard H. Orpen, Ireland under the Normans, 1169–1333 (4 vols., Oxford, 1911–20) 2, pp. 5–23, 114–18, 134–44; New History of Ireland 2: Medieval Ireland, 1169–1534, ed. Art Cosgrove (Oxford, 1987), pp. 114–16, 135.
(обратно)46
См. также: R. Bartlett, 'Colonial Aristocracies of the High Middle Ages', in Robert Bartlett and Angus MacKay (eds.), Medieval Frontier Societies (Oxford, 1989), pp. 23–47, at pp. 31–41.
(обратно)47
О кампании 1201 г. см.: Annals of Ulster (Annala Uladh), ed. and tr. William M. Hennessy and Bartholomew MacCarthy (4 vols., Dublin, 1887–1901), 2, pp. 235–7; ibid. 2, p. 229.
(обратно)48
См.: William Dugdale, Monasticon Anglicanum, ed. John Caley et al. (6 vols, in 8, London, 1846), 6/2, p. 1125; Gearoid MacNiocaill, 'Cartae Dunenses XII–XIII Cead', Seanchus Ard Mhaca 5/2 (1970), pp. 418–28, at p. 420, nos. 4–5.
(обратно)49
См.: William O'Sullivan, The Earliest Anglo-Irish Coinage (Dublin, 1964), pp. 1–5, 20–21; plate 1.
(обратно)50
См.: Roger of Howden, Chronica, ed. William Stubbs (4 vols., RS, 1868–71), 4, pp. 176 and 25; cf. Jocelyn of Fumess, Vita sancti Patricii, Acta sanctorum Martii 2 (Antwerp, 1668), pp. 540–80, at p. 540, who refers to de Courcy as Ulidiae princeps.
(обратно)51
См.: Eberhard Schmidt, Die Mark Brandenburg unter den Askanien (1134–1320) (MF 71, Cologne and Vienna, 1973); Johannes Schultze, Die Mark Brandenburg 1: Entstehung und Entwicklung unter den askanischen Markgrafen (bis 1319) (Berlin, 1961); Hermann Krabbo and Georg Winter, Regesten der Markgrafen von Brandenburg aus Askanischem Hause (Leipzig, Munich and Berlin, 1910–55).
(обратно)52
О дате образования Марки Бранденбург см.: Schultze, Die Mark Brandenburg 1, p. 74.
(обратно)53
Henry of Antwerp, Tractatus de captione urbis Brandenburg, ed. Oswald Holder-Egger, MGH, SS 25 (Hanover, 1880), pp. 482–4, at p. 484.
(обратно)54
Cronica principum Saxonie, ed. Oswald Holder-Egger, MGH, SS 25 (Hanover, 1880), pp. 472–80, at p. 478.
(обратно)55
О семье фон Веделей см.: Helga Cramer, 'Die Herren von Wedel im Lande fiber der Oder: Besitz und Herrschaftsbildung bis 1402', Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 18 (1969), pp. 63–129; документ 1212 содержится в: Hamburgisches UB (4 vols, in 7, Hamburg, 1907–67) 1, no. 387, pp. 342–3. См. также документы, связанные с историей этой семьи, в: UB zur Geschichte des schlossgesessenen Geschlechts der Grafen und Herren von Wedel, ed. Heinrich Friedrich Paul von Wedel (4 vols, in 2, Leipzig, 1885–91).
(обратно)56
См.: Pommersches UB 2 (Stettin, 1881–5, repr. Cologne and Graz, 1970), no. 891, pp. 218–19.
(обратно)57
См.: UB... von Wedel 2/1, no. 3, p. 3 (1272), nos. 7–8, p. 6 (1281).
(обратно)58
ibid. no. 113, pp. 65–6.
(обратно)59
См.: Codex diplomaticus Brandenburgensis, ed. Adolph Friedrich Riedel (41 vols., Berlin, 1838–49), AXViII, pp. 151–3, no. 87 (1388); ibid, pp. 102–3, no. 5; ibid., pp. 111–12, no. 22; ibid., pp. 218–19, no. 9.
(обратно)60
См.: Cramer, 'Die Herren von Wedel', p. 119: 'nahezu landesherrliche Stellung'.
(обратно)61
О семье Монферрат см.: Leopoldo Usseglio, / marchesi di Monferrato in Italia ed in oriente durante i secoli XII e XIII, ed. Carlo Patracco (2 vols., Bibliotheca della societa storica subalpina 100–101, Turin, 1926).
(обратно)62
См.: William of Tyre, Chronicle 21.12(13), ed. R.B.C. Huygens (2 vols.. Corpus Christianorum, Continuatio mediaevalis 63–63Д Turnhout, 1986), 2, p. 978.
(обратно)63
См.: Francesco Gabrieli (ed.), Arab Historians of the Crusades (Eng. tr. Berkeley and London, 1969), p. 177 (Ibn al-Athi'r).
(обратно)64
Peire Vidal: Poesie, ed. D'Arco Silvio A valle (2 vols., Milan and Naples, 1960), 2, pp. 159–61, no. 19 ('Per mielhs sofrir'), lines 49–50, at p. 161.
(обратно)65
См.: Marcelin Defourneaux, Les Frangais en Espagne aux Xle et XIIe siècles (Paris, 1949), p. 197, n. 1; Bernard F. Reilly, The Kingdom of Leon-Castilla under King Alfonso VI, 1063–1109 (Princeton, 1988), pp. 194 and п., 254–5
(обратно)66
См.: Robert of Clari, La conquête de Constantinople 106, ed. Philippe Lauer (Paris, 1924), p. 102.
(обратно)67
Geoffrey Malaterra, De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae comitis et Roberti Guiscardi ducis fratris eius 1.11, ed. Ernesto Pontieri (Rerum italicarum scriptores, n.s., 5/1, Bologna, 1928), p. 14. Цитата из Библии: см.: от Луки 6:38.
(обратно)68
Amarus of Montecassino, Storia de Normanni 2.45, ed. Vincenzo de Bartholomaeis (Fonti per la storia d'ltalia 76, Rome, 1935), p. 112.
(обратно)69
Joshua Prawer, Crusader Institutions (Oxford, 1980), p. 21.
(обратно)70
Fulcher of Chartres, Historia Hierosolymitana 3.37, ed. Heinrich Hagenmeyer (Heidelberg, 1913), p. 749.
(обратно)71
Livlandische Reimchronik, lines 612–18, ed. Leo Meyer (Paderborn, 1876), p. 15.
(обратно)72
Цит. по кн.: Song of Dermot and the Earl, lines 431–6, ed. and tr. Goddard H. Orpen (Oxford, 1892), p. 34. (Имеется русское издание: Песнь о Роланде, М., 1974)
(обратно)73
Цит. по кн.: Cantor de Mio Cid, line 1213, ed. Ramon Menendez Pidal (rev. ed., 3 vols., Madrid, 1944–6), 3, p. 945. (Имеется русское издание: Песнь о моем Сиде, М., 1975.)
(обратно)74
Malaterra, De rebus gestis Rogerii 1.16, ed. Pontieri, p. 17.
(обратно)75
Georges Duby, The Early Growth of the European Economy (Eng. tr., London, 1974), p. 51.
(обратно)76
Тацит. Германия 13–14.
(обратно)77
Цит. по кн.: Beowulf, lines 2490–93, ed. F. Klaeber (3rd ed., Boston, 1950), p. 94. (Имеется русское издание: Беовульф — в кн.: Б-ка всемирной л-ры, т. 9, М., 1975, с. 2490–94).
(обратно)78
Bede, Epistola ad Ecgbertum episcopum, in Charles Plummer (ed.). Opera historica (2 vols., Oxford, 1896) 1, pp. 405–23, at pp. 414–17.
(обратно)79
Dudo of Saint-Quentin, De moribus et actis primorum Normanniae ducum 4.83, ed. Jules Lair, Memoires de la Societe des Antiquaires de Normandie, 3rd ser., 3 (Caen, 1858–65), p. 238.
(обратно)80
Sachsenspiegel, Lehnrecht, ed. Karl August Eckhardt (Germanenrechte, n.s.. Göttingen, 1956), passim.
(обратно)81
Walther von der Vogelweide, Die Lieder, ed. Friedrich Maurer (Munich, 1972), no. 74/11, p. 232 ('Ich nan min lehen').
(обратно)82
Le Patourel, The Norman Empire, p. 303.
(обратно)83
ibid., p. 290.
(обратно)84
О темпах вырождения европейских аристократических родов см.: Оснабрюк: Werner Hillebrand, Besitz- und Standesverhaltnisse des Osnabrticker Adels bis 1300 (Gottingen, 1962), p. 211; Айхштатт — Benjamin Arnold, German Knighthood 1050–1300 (Oxford, 1985), p. 180; Haмюруа — Leopold Genicot, L'economie rurale namuroise au Bos Moyen Age 2: Les hommes — la noblesse (Louvain, 1960), p. 140; Форез — Edouard Perroy, 'Social Mobility among the French Noblesse in the Later Middle Ages', Past and Present 21 (1962), pp. 25–38.
(обратно)85
Malaterra, De rebus gestis Rogerii 1.5, ed. Pontieri, p. 9.
(обратно)86
Orderic Vitalis, Historia ecclesiastica 3, ed. Chibnall, 2, p. 98.
(обратно)87
Robert the Monk, Historia Iherosolimitana, RHC, Occ. 3, pp. 717–882, at p. 728.
(обратно)88
См.: Jack Goody, The Development of the Family and Marriage in Europe (Cambridge, 1983), p. 44.
(обратно)89
О структуре аристократического рода см.: Karl Schmid, 'Zur Problematik von Familie, Sippe und Geschlecht, Haus und Dinastie beim mittelalterlichen Ariel', Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 105 (1957), pp. 1–62; idem, 'The Structure of the Nobility in the Earlier Mddle Ages', in Timothy Reuter (ed.). The Medieval Nobility (Amsterdam, etc., 1978), pp. 37–59; Georges Duby, 'Lineage, Nobility and Knighthood', in his The Chivalrous Society (Eng. tr., London and Berkeley, 1977), pp. 59–80, at pp. 68–75; for an attempt to extend the model to England see James С. Holt, 'Feudal Society and the Family in Early Medieval England', Transactions of the Royal Historical Society, 5th ser., 32 (1982), pp. 193–212; 33 (1983), pp. 193–220; 34 (1984), pp. 1–25; 35 (1985), pp. 1–28, esp. 32 (1982), pp. 199–200; Karl Leyser, “The German Aristocracy from the Ninth to the Early Twelfth Century: A Historical and Cultural Sketch', Past and Present 41 (1968), pp. 25–53, esp. pp. 32–6, Medieval Germany and its Neighbours (London, 1982), pp. 161–89, at pp. 168–72; Constance B. Bouchard, 'Family Structure and Family Consciousness among the Aristocracy in the Ninth to the Eleventh Centuries', Francia 14 (1987), pp. 639–58.
(обратно)90
Geoffrey Barrow, The Anglo-Norman Erd in Scottish History (Oxford, 1980), title of chapter 1.
(обратно)91
Prawer, Crusader Institutions, p. 24.
(обратно)92
Glanvill, The Treatise on the Laws and Customs of England commonly called Glanvill, ed. and tr. G.D.H. Hall (London, 1965), p. 75.
(обратно)93
Assise au comte Geffroy 1, ed. Marcel Planiol, La tres ancienne coutume de Bretagne (Rennes, 1896, repr. Paris and Geneva, 1984), pp. 319–25, at pp. 321–2.
(обратно)94
См.: London, British Library, Add. MS 11283, fols. 21v — 22. Автор выражает благодарность Венди Дэвис за сверку этой цитаты.
(обратно)95
См.: Duby, 'Lineage, Nobility and Knighthood', p. 75; idem, “The Structure of Kinship and Nobility“, in his The Chivalrous Society (Eng. tr., London and Berkeley, 1977), pp. 134–48, at p. 148; idem. Early Growth of the European Economy, p. 171.
(обратно)96
Lucien Musset, 'L'aristocratie normande au Xle siècle', in Philippe Contamine (ed.). La noblesse au Moyen Age (Paris, 1976), pp. 71–96, at p. 95.
(обратно)97
См.: Holt, 'Feudal Society and the Family', Transactions of the Royal Historical Society 32 (1982), p. 201.
(обратно)98
Lorenz Weinrich (ed.), Quellen zur deutsche Verfassungs-.Wirtschafts- und Sozialgeschichte bis 1250 (AQ 32, Darmstadt, 1977), no. 25, pp. 106–8.
(обратно)99
См.: Graham Loud, 'How “Norman” was the Norman Conquest of Southern Italy?', Nottingham Medieval Studies 25 (1981), pp. 13–34, at p. 26.
(обратно)100
Chronicle of Morea, tr. Harold E. Lurier, Crusaders as Conquerors (New York, 1964), pp. 125–8.
(обратно)101
Hans К. Schulze, Adelsherrschaft und Landesherrschaft: Studien zur Verfassungs- und Besitzgeschichte der Altmark, des ostsachsischen Raumes und des hannoverschen Wendlandes im hohen Mittelalter (MF 29, Cologne and Graz, 1963).
(обратно)102
A.J. Otway-Ruthven, A History of Medieval Ireland (2nd ed., London, 1980), pp. 102–3; eadem, 'Knight Service in Ireland', Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland 89 (1959), pp. 1–15.
(обратно)103
Song of Dermot, lines 3206–7, ed. Orpen, p. 232.
(обратно)104
О размерах бенефициев в Ирландии см.: Otway-Ruthven, History of Medieval Ireland, p. 105.
(обратно)105
О денежных бенефициях в крестоносных государствах см.: Joshua Prawer, 'Social Classes in the Latin Kingdom: The Franks', in Kenneth Setton (ed.), A History of the Crusades (Philadelphia and Madison, 6 vols., 1955–89) 5: The Impact of the Crusades on the Near East, ed. Norman Zacour and Harry Hazard, pp. 117–92, at p. 135.
(обратно)106
Frank Stenton, The First Century of English Feudalism 1066–1166 (2nd ed., Oxford, 1961), p. 166.
(обратно)107
См. об этом: Англия и Нормандия — Thomas К. Keefe, Feudal Assessments and the Political Community under Henry II and His Sons (Berkeley, etc., 1983), pp. 42, 141; Шампань — Theodore Evergates, 'The Aristocracy of Champagne in the Mid-Thirteenth Century: A Quantitative Description', Journal of Interdisciplinary History 5 (1974–5), pp. 1–18; Иерусалим — Alan V. Murray, 'The Origins of the Frankish Nobility in the Kingdom of Jerusalem, 1100–1118', Mediterranean Historical Review 4/2 (1989), pp. 281–300, at pp. 281–2; Jean Richard, 'Les listes des seigneuries dans le livre de Jean d'Ibelin', Revue historique de droit frangais et etranger 32 (1954), pp. 565–77.
(обратно)108
AJ. Otway-Ruthven, 'Knights' Fees in Kildare, Leix and Offaly', Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland 91 (1961), pp. 163–81, at p. 164, n.10.
(обратно)109
Catalogue baronum, ed. Evelyn Jamison (Fonti per la storia d'ltalia 101, Rome, 1972); see, in general, Claude Cahen, Le regime feodale d'ltalie normande (Paris, 1940).
(обратно)110
L'estoire d'Eracles empereur et la congueste de la terre d'Outremer, RHC, Occ. 2, pp. 1–481, at pp. 188–90 (note); La continuation de Guillaume de Тут (1184–1197) 136, ed. Margaret R. Morgan (Documents relatifs a l'histoire des croisades 14, Paris, 1982), p. 139 (cf. also p. 138); Peter Edbury, The Kingdom of Cyprus and the Crusades 1191–1374 (Cambridge, 1991), chapter 3, 'Settlement'.
(обратно)111
Barrow, Anglo-Norman Era, pp. 132, 44 and n. 59, 40, 62, 127.
(обратно)112
Early Scottish Charters prior to 1153, ed. Archibald С Lawrie (Glasgow, 1905), no. 186, p. 150.
(обратно)113
Gervase of Tilbury, Otia imperialia 2.10, ed. G.W. Leibnitz, Schptores rerum brunsvicensium illusi ratio ni inservientes (3 vols., Hanover, 1707–11) 1, pp. 881–1004; 2, pp. 751–84; at 1, p. 917, with better readings at 2, p. 772.
(обратно)114
См.: К. Schunemann, Die Deutsche in Ungam bis zum 12. Jahrhundert (Berlin, 1923), p. 130.
(обратно)115
См.: (Contributions to a) Dictionary of the Irish language (Royal Irish Academy, Dublin, 1913–76), s.v. Polish and Czech loan words: Perry Anderson, Passages from Antiquity to Feudalism (London, 1974), p. 231.
(обратно)116
См.: Cahen, Regime feodale, p. 47.
(обратно)117
J.F.A. Mason, 'Roger de Montgomery and his Sons (1067–1102)', Transactions of the Royal Historical Society, 5th ser., 13 (1963), pp. 1–28, at pp. 6–12.
(обратно)118
Murray, 'Origins of the Frankish Nobility', p. 293.
(обратно)119
Erik Fügedi, 'Das mittelalterliche Konigreich Ungam als Gastland', in Walter Schlesinger (ed.). Die deutsche Ostsiedlung als Problem der europaischen Geschichte (Vortrage und Forschungen 18, Sigmaringen, 1975), pp. 471–507, at pp. 495–6.
(обратно)120
См.: Robert I. Burns, Islam under the Crusaders: Colonial Survival in the Thirteenth-Century Kingdom of Valencia (Princeton, 1973), ос. Гл. 13.
(обратно)121
См.: Barrow, Anglo-Norman Era, pp. 157–8.
(обратно)122
См.: Fügedi, 'Das mittelalterliche Königreich Ungam', pp. 495–6.
(обратно)123
См.: William Rees, South Wales and the March 1284–1415 (Oxford, 1924), pp. 145–7; Cahen, Regime feodale, pp. 38–9, 82–9; OtwayRuthven, 'Knight Service', pp. 14–15.
(обратно)124
Amatus of Montecassino, Storia de' Normanni 1.42, ed. de Bartholomaeis, pp. 53–4.
(обратно)125
Bemhard Guttmann, 'Die Germanisierung der Slawen in der Mark', Forschungen zur brandenburgischen und preussischen Geschichte 9 (1897), pp. 39 (395) — 158 (514), at p. 70 (426).
(обратно)126
Fulcher of Chartres, Historia Hierosolymitana 3.37, ed. Hagenmeyer, p. 748.
(обратно)127
Henri Bresc, 'Feodalite coloniale en terre d'Islam: La Sièile (1070–1240)', in Structures feodales et feodalisme dans l'Occident mediterraneen (XeXIIIe s.) (Paris, 1980), pp. 631–47, p. 640.
(обратно)128
Chronicle of Morea, tr. Lurier, p. 165.
(обратно)129
Об истории рода де Ласи см.: W.E. Wightman, The Lacy Family in England and Normandy 1066–1194 (Oxford, 1966).
(обратно)130
Davies, Conquest, Coexistence and Change, p. 181.
(обратно)131
См.: Bartlett, 'Colonial Aristocracies', pp. 38–40.
(обратно)132
См.: Lacarra, nos. 354, 366.
(обратно)133
Julio Gonzalez, El reino de Costilla en la epoca de Alfonso VIII (3 vols., Madrid, 1960) 3, no. 897, pp. 567–8.
(обратно)134
См.: Helbig & Weinrich 1, no. 121, pp. 448–50; Queden (Klein Queden) is the German Tiefenau and modem Polish Tychnowy.
(обратно)135
Codex iuris Bohemici, ed. Hermenegild Jiricek (5 vols, in 12, Prague, 1867–98), 2/2, p. 114 (Majestas Carolina 7).
(обратно)136
The Leiden Book of Maccabees is Leiden, University Library, MS Perizoni 17; репродукции см.: A. Merton, Die Buchmalerei in St. Gallen (Leipzig, 1912), plates LV — LVTI.
(обратно)137
Frank Stenton et al,. The Bayeux Tapestry (London, 1957); см. также: Ibid, 'Arms and Armour', pp. 56–69.
(обратно)138
Thietmar of Merseburg, Chronicon 4.12, ed. Werner Trillmich (АО 9, Darmstadt, 1957), p. 126.
(обратно)139
Lacarra, no. 238 (c. 1145); Gerald of Wales (Giraldius Cambrensuis), De principis instructione 2.13, in J.S.Brewer, J.F.Dimock and G.F.Warner (eds.), Opera (8 vols., RS, 1861–91) 8, pp. 183–4.
(обратно)140
См.: Indiculus loricatorum, in Constitutions et acta publico imperatorum et regum 1, ed. Ludwig Weiland (MCH, Hanover, 1893), no. 436, pp. 632–3; Karl Ferdinand Werner, 'Heeresorganisation und Kriegfuhrung im Deutschen Königreich des 10. und 11. Jahrhunderts', in Ordinamenti militari in Occidente nell'alto medioevo (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo 15, 2 vols., Spoleto, 1968) 2, pp. 791–843.
(обратно)141
Forge production: Fino, 'Notes sur la production du fer'.
(обратно)142
William Beveridge, Prices and Wages m England 1 (London, 1939), pp. xxv — xxvi.
(обратно)143
См.: William of Poitiers, Gesta Guillelmi ducis Normannorum 1.13, 40, ed. Raymonde Foreville (Paris, 1952), pp. 26, 98; Matthew Paris, Chronica majora, ed. Henry R. Luard (7 vols., RS, 1872–84), 4, pp. 135–6; see in general R.H.C. Davis, The Medieval Warhorse (London, 1989).
(обратно)144
Pierre Chaplais (ed.). Diplomatic Documents preserved in the Public Record Office 1:1101–1272 (Oxford, 1964), pp. 1–4.
(обратно)145
См.: Philippe Contamine, War in the Middle Ages (Eng. tr., Oxford, 1984), p. 670.
(обратно)146
P. Guilhiermoz, Essai sur l'origine de la noblesse en France au Moyen Age (Paris, 1902); George Duby, “The Origins of Knighthood', The Chivalrous Society (Eng. tr., London and Berkeley, 1977), pp. 158–70; idem, 'La diffusion du titre chevaleresque', in Philippe Contamine (ed.). La noblesse au Moyen Age (Paris, 1976), pp. 39–70; Arno Borst (ed.). Das Rittertum im Mittelalter (Wege der Forschung 349, Darmstadt, 1976); Leopold Genicot, La noblesse dans I'Occident medieval (London, 1982); Jean Fiori, L'essor de la chevalerie (Geneva, 1986), L'ideologie du glaive: Prehistoire de la chevalerie (Geneva, 1983).
(обратно)147
William of Poitiers, Gesta Guillelmi 2.29, ed. Foreville, p. 218.
(обратно)148
О боевых конях см.: Davis, The Medieval Warhorse
(обратно)149
Gerald of Wales (Giraldus Cambrensis), Itinerarium Kambriae 1.4, in J.S. Brewer, J.F. Dimock and G.F. Warner (eds.). Opera (8 vols., RS, 1861–91) 6, pp. 1–152, at p. 54.
(обратно)150
См.: Richer, Historiae 2.92; 3.98, 104, ed. R. Latouche, Histoire de France (2 vols., Paris, 1930–37) 1, p. 282; 2, pp. 126, 134; J.F. Fino, Forteresses de la France medievale (3rd ed., Paris, 1977), p. 89; Paris BN lat. 12, 302, Haimo of Auxerre's Commentary on Ezekiel.
(обратно)151
Anna Comnena, Alexiad 10.8.5, ed. B. Leib (3 vols., Paris, 1937–45), 2, pp. 217–18.
(обратно)152
Conciliorum oecumenicorum decreta, ed. J. Alberigo et al. (3rd ed., Bologna, 1973), p. 203 (canon 29).
(обратно)153
Constitutions et acta publico imperatorum et regum 2, ed. Ludwig Wetland (MCH, Hanover, 1896), no. 335, p. 445.
(обратно)154
B. Thordemann, Armour from the Battle of Wisby 1361 (2 vols., Stockholm, 1939) 1, pp. 186–7.
(обратно)155
Roger of Wendover, Flores historiarum, ed. H.G. Hewlett (3 vols., RS, 1886–9), 2, pp. 116, 151, 194, 212, 215–16; this material was incorporated into Matthew Paris, Chronica majora, ed. Luard, 2, pp. 586–7, 626, 666; 3, pp. 18, 21.
(обратно)156
E. Audouin, Essai sur l'armee royale au temps de Philippe Auguste (Paris, 1913), pp. 113–14.
(обратно)157
Red Book of the Exchequer, ed. Hubert Hall (3 vols., RS, 1896), 2, pp. 458–9, 467; J.H. Round, The King's Serjeants and Officers of State (London, 1911), pp. 13–14.
(обратно)158
Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis, ed. H. Markgraf and J.W. Schulte (Codex diplomaticus Silesiae 14, Breslau, 1889), pp. 14–15.
(обратно)159
Hariulf, Gesta ecclesiae Centulensis 4.21, ed. F. Lot, Chronique de l'abbaye de Saint-Riquier (Paris, 1894), p. 230.
(обратно)160
Otto of Freising, Gesta Friderici I imperatoris 1.12, ed. Georg Waitz and Bemhard von Simson (SRC, Hanover and Leipzig, 1912), p. 28.
(обратно)161
J.P. Bushe-Fox, Old Sarum (London, etc., 1930).
(обратно)162
G. Fournier, Le peuplement rural en Basse Auverqne durant le haut Moyen Aqe (Paris, 1962), pp. 329–99.
(обратно)163
Atlas vorqeschichtlicher Befestigungen in Niedersachsen, ed. A. von Opperman and C. Schuchhardt (Hanover, 1888–1916), pp. 67–8, fig. 53.
(обратно)164
Karl Wilhelm Strave, 'Die slawischen Burgen in Wagrien', Offa 17–18 (1959–61), pp. 57–108, at pp. 61, 99–100.
(обратно)165
К рис. 2: бурги — С. A. Ralegh Radford, 'Later Pre-Conquest Boroughs and their Defences', Medieval Archaeology 14 (1970), pp. 83–103; Aggersborg — David M. Wilson, 'Danish Kings and England in the Late 10th and Early 11th Centuries — Economic Implications', in Proceedings of the Battle Conference on Anglo-Norman Studies 3 (1980), ed. R. Allen Brown, pp. 188–96, at pp. 192–3; славянские крепости Barpuu — Struve, 'Die slawischen Burgen', p. 60; австрийские замки — W. Getting and G. Griill, Burgen in Oberosterreich (Wels, 1967), p. 317 (figures for Hauptburg); мотт — Contamine, War in the Middle Ages, p. 44.
(обратно)166
Sidney Painter, 'English Castles in the Early Middle Ages: Their Numbers, Location, and Legal Position, Speculum 10 (1935), pp. 321–32, at p. 322; C. Warren Hollister, The Military Organization of Norman England (Oxford, 1965), p. 138; Contamine, War in the Middle Ages, p. 46.
(обратно)167
Lawrence of Durham, Dialogi 1, lines 367–8, ed. James Raine (Surtees Society 70, 1880 for 1878), p. 11.
(обратно)168
Contamine, War in the Middle Ages, p. 44. Были, разумеется, и более крупные, см.: A Hermbrodt, 'Stand der frühmittelalterlichen Mottenforschung im Rheinland', Chateau Gaillard 1 (1964 for 1962), pp. 77–100, at p. 8i; H.W. Heine, 'Ergebnisse und Probleme einer systematischen Aufnahme und Bearbeitung mittelalterlicher Wehranlagen zwischen junger Donau und westlichen Bodensee', ibid. 8 (1976), pp. 121–34, at p. 126.
(обратно)169
Vita Ludovici Grossi regis 24 (Crecy), 19 (Le Puiset), 18 (Mantes), 3, ed. H. Waquet (Paris, 1929), pp. 176, 140, 124, 20.
(обратно)170
Alpert of Metz, De diversitate temporum 2.2, ed. Hans van Rij and Anna Sapir Abulafia (Amsterdam, 1980), pp. 42–4.
(обратно)171
Bruno, De bello Saxonico liber 16, 27, ed. H.E. Lohmann (MGH, Deutsches Mittelalter 2, Leipzig, 1937), pp. 22, 31.
(обратно)172
См.: Maurice Beresford, New Towns of the Middle Ages (London, 1967), pp. 172 (fig. 40), 425.
(обратно)173
Cronica Reinhardsbrunnensis, ed. Oswald Holder-Egger, MGH, SS 30/1 (Hanover, 1896), pp. 490–656, at pp. 518–21; Hans Patze and Walter Schlesinger, Geschichte Türingens 2/1 (MF 48, Cologne and Vienna, 1974), pp. 10–13.
(обратно)174
R.A. Brown, H.M. Colvin and AJ. Taylor, The History of the King's Works: The Middle Ages (2 vols., London, 1963) 1, pp. 64–5, 113; 2, pp. 630, 1023, 1029.
(обратно)175
Michael Prestwich, War, Politics and Finance under Edward I (London, 1972), p. 160.
(обратно)176
T.F. Tout. «The fair of Lincoln and the “Histoire de Guillaume le Marechal”», Collected Papers (3 vols., Manchester, 1932–4) 2, pp. 191–220, at pp. 218–20; Lynn White, Medieval Technology and Social Change (Oxford, 1962), p. 102; J.F. Fino, 'Machines de jet medievales’, Gladius 10 (1972), pp. 25–3; D.R. Hill, Trebuchets', Viator 4 (1973), pp. 99–114.
(обратно)177
См.; Hans R. Hahnloser, Villard de Honnecourt: Kritische Gesamtausgabe des Bauhüttenbuches ms. fr. 19093 der Pariser Nationalbibliothek (2nd ed., Graz, 1972), pp. 159–62; The Sketchbook of Villard de Honnecourt, ed. Theodore Bowie (Bloomington, 1959), plate 61.
(обратно)178
Annales Pegavienses, ed. George Hemrich Pertz, MGH, SS 16 (Hanover, 1859), pp. 232–70, at p. 264.
(обратно)179
Littere Wallie, ed. John Goronwy Edwards (Cardiff, 1940), no. 3, pp. 7–8 (Treaty of Woodstock).
(обратно)180
Katharine Simms, 'Warfare in the Medieval Gaelic Lordships', The Irish Sword 12 (1975–6), pp. 98–108; Peter Harbison, 'Native Irish Arms and Armour m Medieval Gaelic Literature, 1170–1600', ibid., pp. 173–99, 270–84.
(обратно)181
Herbord, Dialogus de vita sancti Ottonis episcopi Babenbergensis 2.23, ed. Jan Wikarjak and Kazimierz Liman, MPH, n.s., 7/3 (Warsaw, 1974), pp. 101–2.
(обратно)182
Randall Rogers, Latin Siege Warfare in the Twelfth Century (Oxford, 1992).
(обратно)183
Francesco Gabrieli (ed.), Arab Historians of the Crusades (Eng. tr. Berkeley and London, 1969), p. 58 (Ibn al-Qalanisi).
(обратно)184
Elena Lourie, 'A Society Organized for War: Medieval Spain', Past and Present 35 (1966), pp. 54–76, at p. 69.
(обратно)185
Ambroise, L'estone de la guerre sainte, lines 6816–18, ed. Gaston Paris (Paris, 1897), col. 182.
(обратно)186
Julio Gonzalez, El reino de Costilla en la epoca de Alfonso VIII (3 vols., Madrid, 1960) 3, no. 705, pp. 247–9 (1201); Emilio Saez (ed.), 'Fueros de Puebla de Alcocer у Yebenes', Anuario de bistorta del derecho espanol 18 (1947), pp. 432–41, at p. 435; Julio Gonzalez, Repoblacion de Costilla la Nueva (2 vols., Madrid, 1975–6) 2, p. 350, n. 169.
(обратно)187
Fulcher of Chartres, Historia Hierosolymitana 1.34, ed. Heinrich Hagenmeyer (Heidelberg, 1913), p. 342.
(обратно)188
Chronicon Livoniae 1.5–9, 9.3, 15.3, 10.8, 15.3, 10.12, 23.8, 14.11, 10.12, 26.3, 27.3, 28.3J, 11.8, 12.1, 27.3, 28.3, ed. Leonid Arbusow and Albert Bauer (АО 24, Darmstadt, 1959), pp. 4–6, 38, 134, 54, 132, 58, 242, 126, 60, 282, 298, 304, 80, 84, 296, 304.
(обратно)189
Gesta Stephani, ed. K.R. Potter and R.H.C. Davis (Oxford, 1976), p. 14.
(обратно)190
Brut у Tywysogyon, или The Chronicle of the Princes: Red Book of Hergest Version, ed. and tr. Thomas Jones (Cardiff, 1955), pp. 71–3.
(обратно)191
Giolla Brighde Mac Con Midhe, Poems, ed. and tr. N.JA Williams (Irish Texts Society 51, Dublin, 1980) XIII, 20, p. 141.
(обратно)192
Annals of Loch Cé, ed. and tr. William M. Hennessy (2 vols., RS, 1871), 1, p. 389.
(обратно)193
History of Gruffydd ap Cynan, ed. and tr. Arthur Jones (Manchester, 1910), p. 133.
(обратно)194
Brut у Tywysogyon, ed. Jones, pp. 175, 177; Gerald of Wales, Itinerarium Kambriae, 2.6, ed. Brewer et al., p. 123; Richard A vent, Cestyll Tywysogion Gwynedd / Castles of the Princes of Gwynedd (Cardiff, 1983), p. 7.
(обратно)195
Song of Dermot and the Earl, 666–70, ed. and tr. Goddard H. Orpen (Oxford, 1892), p. 50.
(обратно)196
Gerald of Wales (Giraldus Cambrensis), Descriptio Kambriae 2.8, in J.S. Brewer, J.F. Dimock and G.F. Warner (eds.). Opera (8 vols., RS, 1861–91) 6, pp. 153–227, at pp. 220–21; idem, Expugnatio Hibemica 2.38, ed. AB. Scott and F.X. Martin (Dublin, 1978), pp. 246–8; John of Salisbury, Policraticus 6.6, 16, ed. C.C.J. Webb (2 vols., Oxford, 1909), 2, pp. 18, 42–4; Gallus Anonymus, Chronicon 1.25; 3.23, ed. K. Maleczynski, MPH, n.s. 2 (Cracow, 1952), pp. 50, 152.
(обратно)197
Matthew Paris, Chronica majora, ed. Luard, 5, p. 550.
(обратно)198
Symeon of Durham, Historia regum, in Symeonis monachi opera omnia, ed. Thomas Arnold (2 vols., RS, 1882–5), 2, pp. 3–283, at pp. 191–2.
(обратно)199
Turgot, Vita sancti Margaretae reginae, ed. James Raine in Symeonis Dunelmensis opera et collectanea 1, ed. J. Hodgson Hinde (Surtees Society 51, 1868), pp. 234–54, at p. 247.
(обратно)200
Symeon of Durham (attrib.). De miraculis et translationibus sancti Cuthberti 10, in Symeonis monachi opera omnia, ed. Thomas Arnold (2 vols., RS, 1882–5), 1, pp. 229–61; 2, pp. 333–62, at 2, p. 339.
(обратно)201
Symeon of Durham, Historia regum, ed. Arnold, 2, p. 190.
(обратно)202
Aelred of Rievaulx, De Sanctis ecclesiae Haugustaldensis, ed. James Raine in The Priory of Hexham (2 vols., Surtees Society 44, 46, 1864–5) 1, pp. 172–203, at p. 178; cf. Symeon of Durham, Historia regum, ed. Arnold, 2, pp. 36–7.
(обратно)203
Symeon of Durham, De miraculis... sancti Cuthberti 10, ed. Arnold, 2, p. 339.
(обратно)204
Gerald of Wales, Topographia Hibemica 2.54, ed. Brewer et al., p. 137; C.L Salch, 'La protection symbolique de la porte au Moyen Age dans les châteaux-forts alsaciens', in Hommage a Genevieve Chevrier et Alain Ceslan: Etudes médiévales (Strasbourg, 1975), pp. 39–44.
(обратно)205
Symeon of Durham, Historia regum, ed. Arnold, 2, pp. 199–200; ibid., p. 211; Anglo-Saxon Chronicle, s.a. 1092, ed. С Plummer and J. Earle, Two of the Saxon Chronicles Parallel (2 vols., Oxford, 1892–9) 1, p. 227; Symeon of Durham's continuator, Historia Dunelmensis ecclesiae, in Symeonis monachi opera omnia, ed. Thomas Arnold (2 vols., RS, 1882–5), 1, pp. 135–60, at 1, p. 140.
(обратно)206
Geoffrey Barrow, The Anglo-Norman Era in Scottish History (Oxford, 1980); idem. Kingship and Unity: Scotland 1000–1306 (London, 1981), chapter 3; A.A.M. Duncan, Scotland: The Making of the Kingdom (Edinburgh, 1975), chapters 6–8; R.L.G. Ritchie, The Normans in Scotland (Edinburgh, 1954).
(обратно)207
Early Scottish Charters prior to 1153, ed. Archibald С Lawrie (Glasgow, 1905), no. 54, pp. 48–9.
(обратно)208
John of Hexham, Historia, in Symeonis monachi opera omnia, ed. Thomas Arnold (2 vols., RS, 1882–5), 2, pp. 284–332, at p. 290.
(обратно)209
Richard of Hexham, Historia, ed. Richard Howlett in Chronicles of the Reigns of Stephen, Henry II and Richard I (4 vols., RS, 1884–9) 3, pp. 137–78,at pp. 156–7.
(обратно)210
Aelred of Rievaulx, Relatio de Standardo, ed. Howlett, ibid., pp. 179–99, at pp. 187–8.
(обратно)211
О вылазках из замков см.: Richard of Hexham, Historia, ed. Howlett, p. 157; John of Hexham, Historia, ed. Arnold, p. 291.
(обратно)212
John of Hexham, Historia, ed. Arnold, p. 289.
(обратно)213
Richard of Hexham, Historia, ed. Arnold, p. 145.
(обратно)214
Aelred of Rievaulx, Relatio, ed. Howlett, pp. 189–98. Выражение незащищенные и голые взято из: Henry of Huntingdon, Historia Anglorum, ed. Thomas Arnold (RS, 1879), p. 263.
(обратно)215
Jordan Fantosme, Chronicle, 640–41, 266, 1242–9, 1766, 1828, 185867, ed. and tr. R.C. Johnston (Oxford, 1981), pp. 48, 20, 92–4, 132, 136, 138.
(обратно)216
William of Newburgh, Historia rerum Anglicarum 2.33, ed. Richard Howlett in Chronicles of the Reigns of Stephen, Henry II and Richard I (4 vols., RS, 1884–9) 1–2, at 1, p. 184.
(обратно)217
См.: Gesta regis Henrici secundi Benedicti abbatis, ed. William Stubbs (2 vols., RS, 1867), 1, pp. 67–8.
(обратно)218
См.: Annals of Furess, ed. Richard Howlett in Chronicles of the Reigns of Stephen, Henry II and Richard I (4 vols., RS, 1884–9) 2, pp. 503–83, at pp. 570–71.
(обратно)219
Saxo Grammaticus, Gesta Danorum 13.9.6, ed. J. Olrik and H. Raeder (2 vols., Copenhagen, 1931–57), 1, pp. 361–2; см. также примечания Э. Кристиансена: Saxo, Danorum regum heroumque historia, Books X–XVI (3 vols., British Archaeological Reports, International Series 84, 118/1–2, Oxford, 1980–81) 1, pp. 322–3, n. 84; Annales Erphesfurdenses Lothariani, ed. Oswald Holder-Egger, Monumenta Erphesfurtensia (SRC, Hanover and Leipzig, 1899), pp. 34–44, at p. 40. См. также: Lucien Musset, 'Problemes militaires du monde scandinave (Vile — XIIe s.)', in Ordinamenti militari in Occidente nell'alto medioevo (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo 15, 2 vols., Spoleto, 1968) 1, pp. 229–91, at pp. 288–90.
(обратно)220
См.: S.U. Palme, 'Les impots, le Statut d'Alsno et la formation des ordres en Suede (1250–1350)', in R. Mousnier (ed.), Problemes de stratification sociale (Paris, 1968), pp. 55–66.
(обратно)221
Karl Barteis, Deutsche Krieger in polnischen Diensten von Misika I. bis Kasimir dem Grossen, с 963–1370 (Berlin, 1922); K. Schunemann, Die Deutsche in Ungam bis zum 12. Jahrhundert (Berlin, 1923); Benedykt Zientara, 'Die deutschen Einwanderer in Polen vom 12. bis zum 14. Jahrhundert', in Walter Schlesinger (ed.), Die deutsche Ostsiedlung des Mittelalters als Problem der europaischen Geschichte (Vortrage und Forschungen 18, Sigmaringen, 1975), pp. 333–48. He все такие гости были немцами; см.: Н. Gockenjan, Hilfsvolker und Grenzwachter in mittelalterlichen Ungam (Wiesbaden, 1972).
(обратно)222
Libellus de institutione morum, ed. J. Balogh, Scriptores тerum Hungaricamm 2 (Budapest, 1938), pp. 611–27, at p. 625.
(обратно)223
Eleanor Knott, Irish Classical Poetry (Irish Life and Culture 6, Dublin, 1957), p. 59, цит. из Maol Seachluinn О Huiginn.
(обратно)224
Geoffrey Malaterra, De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae comitis et Roberti Guiscardi ducis fratris eius, ed. Ernesto Pontieri (Rerum italicarum scriptores, n.s., 5/1, Bologna, 1928); William of Apulia, La geste de Robert Cuiscard, ed. Marguerite Mathieu (Palermo, 1961); Amatus of Montecassino, Storia de' Normanni, ed. Vincenzo de Bartholomaeis (Fonfi per la storia d'Italia 76, Rome, 1935).
(обратно)225
De rebus gestis Rogerii 1.3, 7, 12, 38; 2.35; 3.13, 24, ed. Pontieri, pp. 9, 11, 14, 24, 46, 64, 71; see Ovidio Capitani, 'Specific Motivations and Continuing Themes in the Norman Chronicles of Southern Italy in the Eleventh and Twelfth Centuries', in 77ie Normans in Sicily and Southern Italy (Lincei Lectures 1974) (Oxford, 1977), pp. 1–46, at pp. 7, 30–33, n. 15.
(обратно)226
De rebus gestis Rogerii 1.9, ed. Pontieri, p. 13. Amatus, Storia de' Normanni 1.23; 2.17; 1.43; 2.8; 2.21; 2.22, ed. de Bartholomaeis, pp. 30, 75, 54–5, 67, 80, 83.
(обратно)227
William of Apulia, La geste 3, lines 101–2, ed. Mathieu, p. 168.
(обратно)228
Malaterra, De rebus gestis Rogerii 1.7, ed. Pontieri, p. 11.
(обратно)229
Wlliam of Apulia, La geste 3, line 217, ed. Mathieu, p. 176; cf. 1, line 320, p. 116.
(обратно)230
ibid. 2, lines 427–8, ed. Mathieu, p. 154.
(обратно)231
Malaterra, De rebus gestis Rogerii 1.9, ed. Pontieri, p. 12.
(обратно)232
ibid. 2.42, ed. Pontieri, p. 50.
(обратно)233
William of Apulia, La geste 2, lines 323–9, ed. Mathieu, p. 150.
(обратно)234
ibid. 2, line 383, ed. Mathieu, p. 152.
(обратно)235
Malaterra, De rebus gestis Rogerii 3.24, ed. Pontieri, p. 71.
(обратно)236
Amatus, Storia de' Normanni 1.2, ed. de Bartholomaeis, pp. 10–11.
(обратно)237
Malaterra, De rebus gestis Rogerii 1.3, ed. Pontieri, p. 8.
(обратно)238
ibid. 2.38; 3.7, ed. Pontieri, pp. 48, 60.
(обратно)239
De expugnatione Lyxbonensi: The Conquest of Lisbon, ed. and tr. Charles W. David (New York, 1936), p. 98; Hervey de Glanville's speech: ibid., pp. 106–7.
(обратно)240
ibid., p. 120.
(обратно)241
Orderic Vitalis, Historia ecclesiastica 11.24, ed. Chibnall 6, p. 102.
(обратно)242
Amatus, Storia de' Normanni 1.21; 2.17, ed. de Bartholomaeis, pp. 27, 75.
(обратно)243
Anna Comnena, Alexiad 10.5.4; 10.5.10; 10.6.4; 11.6.3 ed. B. Leib (3 vols., Paris, 1937–45), 2, pp. 206–7, 210, 211; 3, p. 28.
(обратно)244
Francesco Gabrieli (ed.), Arab Historians of the Crusades (Eng. tr., Berkeley and London, 1969), p. 73.
(обратно)245
Anna Comnena, Alexiad 10.5.10; 4.8.2; 13.10.5; 14.2.4, ed. Leib, 2, p. 209; 1, p. 167; 3, pp. 123, 147.
(обратно)246
Malaterra, De rebus gestis Rogerii 1.17, ed. Pontieri, p. 17.
(обратно)247
Michael Attaleiates, Historia, ed. Immanuel Bekker (Corpus scriptorum historiae Byzantinae 50, Bonn, 1853), p. 107.
(обратно)248
Memoirs of Usamah Ibn-Munqidh, tr. Philip K. Hitti (New York, 1929), p. 161.
(обратно)249
Aelred of Rievaulx, Relatio de Standardo, ed. Richard Hewlett in Chronicles of the Reigns of Stephen, Henry II and Richard I (4 vols., RS, 1884–9) 3, pp. 179–99, at p. 185.
(обратно)250
Deusdedit, Collectio canonum 3.284–5 (156–7), ed. Victor Wolf von Glanvell, Die Kanonessammlung des Kardinals Deusdedit (Paderbom, 1905), p. 393; Le liber censuum de l'eglise romaine, ed. Paul Fabre et al. (3 vols., Paris, 1889–1910), 1, pp. 421–2, nos. 162–3.
(обратно)251
Coleccion de documentes inedites del archiva general de la Corona de Aragon 4, ed. Prospero de Bofarull у Mascar6 (Barcelona, 1849), no. 62, pp. 168–74.
(обратно)252
Jonathan Riley-Smith, The Knights of St. John in Jerusalem and Cyprus с 1050–1310 (London, 1967), pp. 66–7.
(обратно)253
Coleccion de documentos... de la Corona de Aragon 4, ed. de Bofarull у Mascaro, no. 43, pp. 93–9; Cartulaire general de l'ordre du Temple, ed. Marquis d'Albon (Paris, 1913), no. 314, pp. 204–5.
(обратно)254
Lacarra, no. 94 (1086–94).
(обратно)255
Цит. по кн.: Henry of Livonia, Chronicon Livoniae 11.3, ed. Leonid Arbusow and Albert Bauer (АО 24, Darmstadt, 1959), pp. 68–70. (Имеется рус. издание: Генрих Латвийский. Хроника Ливонии. М. — Д., 1938, 608 с.)
(обратно)256
William of Poitiers, Gesta Guillelmi ducis Normannorum 2.5, ed. Raymonde Foreville (Paris, 1952), p. 158.
(обратно)257
Rotuli chartarum in turri Londinensi asservati (1199–1216), ed. T.D. Hardy (London, 1837), p. 66 (1200); Calendar of the Patent Rolls (1258–66) (London, 1910), p. 674 (1266); Rees Davies, Domination and Conquest: The Experience of Ireland, Scotland and Wales 1100–1300 (Cambridge, 1990), p. 36.
(обратно)258
Rotuli chartarum... (1199–1216), pp. 218–19 (1215).
(обратно)259
Register of the Abbey of St Thomas Dublin, ed. John T. Gilbert (RS, 1889), no. 44, pp. 42–3 (1203–17).
(обратно)260
Irish Cartularies of Uanthony Prima and Secunda, ed. Eric SOohn Brooks (Irish Manuscripts Commission, Dublin, 1953), no. 75, pp. 87–8 (c. 1181–91).
(обратно)261
Amatus, Storia de' Normanni 2.29, ed. de Bartholomaeis, p. 94.
(обратно)262
Malaterra, De rebus gestii Rogerii 1.29, ed. Pontieri, p. 22.
(обратно)263
Amatus, Storia de' Normanni 5.1–2, ed. de Bartholomaeis p. 223.
(обратно)264
William of Apulia, La geste, prologue, lines 2–5, ed. Mathieu, p. 98.
(обратно)265
Fulcher of Chartres, Historia Hierosolymitana 1.29, ed. Heinrich Hagenmeyer (Heidelberg, 1913), p. 305.
(обратно)266
William of Tyre, Chronicle 20.14, ed. R.B.C. Huygens (2 vols., Corpus Christianorum, Continuatio mediaevalis 63–63Д Tumhout, 1986), 2, p. 927.
(обратно)267
Henry of Antwerp, Tractatus de captione urbis Brandenburg, ed. Oswald Holder-Egger, MCH, SS 25 (Hanover, 1880), pp. 482–4, at p. 484.
(обратно)268
Primera cronica general de Espana 1125, ed. Ramon Menendez Pidal (2 vols., Madrid, 1955), 2, p. 767.
(обратно)269
Calendar of the Justiciary Rolls... of Ireland (1295–1303), ed. James Mils (Dublin, 1905), pp. 281–2.
(обратно)270
Chartularies of St Mary's Abbey Dublin, ed. John T. Gilbert (2 vols., RS, 1884), 1, no. 254, pp. 275–7.
(обратно)271
Chronicle of Morea, tr. Harold E. Lurier, Crusaders as Conquerors (New York, 1964), p. 171 and n. 40; Chronique de Мorée 241, ed. Jean Longnon (Paris, 1911), p. 87; Les assises de Romanie 71, 90, 95, 98, ed. Georges Recoura (Paris, 1930), pp. 210, 220, 222–3, 224.
(обратно)272
Les assises, ed. Recoura, editorial comment at p. 40.
(обратно)273
Chronicle of Morea, tr. Lurier, p. 196.
(обратно)274
Walter of Guisborough, Chronicle, ed. Harry Rothwell (Camden 3rd ser., 89, 1957), p. 216.
(обратно)275
Placitorum abbreviatio (Record Commission, London, 1811), p. 201.
(обратно)276
Fulcher of Chartres, Historia Hierosolymitana, 1.29, ed. Hagenmeyer, p. 304.
(обратно)277
Usamah, tr. Hitti, An Arab-Syrian Gentleman, p. 178; cf. Joshua Prawer, Crusader Institutions (Oxford, 1980), pp. 253–4, n. 11.
(обратно)278
Richard Butler, Some Notices of the Castle and of the Ecclesiastical Buildings of Trim (Trim, 1835), pp. 252–3; Lacarra, nos. 5, 123, 134; Giorgio Fedalto, La Chiesa Latina in Oriente (2nd ed., 3 vols., Verona, 1981) 1, pp. 388–9.
(обратно)279
Coleccion de documentes... de la Corona de Aragon 4, ed. de Bofarull у Mascaro, no. 62, p. 169.
(обратно)280
Eric St J. Brooks, 'A Charter of John de Courcy to the Abbey of Navan', Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland 63 (1933), pp. 38–45, at p. 39.
(обратно)281
Dignitas decani, ed. Newport B. White (Dublin, 1957), no. Ill, pp. 112–13 (= Crede mihi, ed. John T. Gilbert (Dublin, 1897), no. 74, p. 67).
(обратно)282
Calendar of the Charter Rolls, 1226–1516 (6 vols., London, 1903–27) 1, pp. 230–31.
(обратно)283
Reports of the Deputy Keeper of the Public Records of Ireland 1–55 (Dublin, 1869–1923), 20, no. 130, pp. 57–8.
(обратно)284
William Dugdale, Monasticon Anglicanum, ed. John Caley et al. (6 vols, in 8, London, 1846), 6/2, p. 1131, calendared in Calendar of the Patent Rolls (1358–61) (London, 1911), p. 488.
(обратно)285
Close Rolls of the Reign of Henry III (1254–56) (London, 1931), p. 413.
(обратно)286
Geoffrey Hand, 'English Law in Ireland, 1172–1351', Northern Ireland Legal Quarterly 23 (1972), pp. 393–422, p. 401, PRO S.C. 1/23, no. 85; Calendar of Documents relating to Ireland (1171–1307), ed. H.S. Sweetman (5 vols., London, 1875–86), 2,'pp. 281–2, no. 1482 (1278).
(обратно)287
Registrum vulgariter nuncupation 'The Record of Caernarvon', ed. Henry Ellis (Record Commission, London. 1838), p. 149.
(обратно)288
Mecklenburgisches UB (25 vols, in 26, Schwerin and Leipzig, 1863–1977) 3, no. 1781, p. 164.
(обратно)289
Цит. по кн.: Villehardouin, Geoffrey de, La conquete de Constantinople, ed. Edmond Faral (2nd ed., 2 vols., Paris, 1961). (Имеется рус. издание: Виллардуэн Ж. де. Завоевание Константинополя. М., 1993. 290 с.)
(обратно)290
Les gestes des Chiprois, ed. Gaston Raynaud (Publications de la Societe de l'Orient latin. Serie historique 5, Geneva, 1887), pp. 5, 9, 17, 52; RHC, Occ. 2, p. xiii; см. также: M.R. Morgan, The Chronicle of Emoul and the Continuations of William of Tyre (Oxford, 1973).
(обратно)291
Gerald of Wales (Giraldus Cambrensis), Itinerarium Kambriae 1.12, in J.S. Brewer, J.F. Dimock and G.F. Warner (eds.). Opera (8 vols., RS, 1861–91) 6, pp. 1–152, at p. 91.
(обратно)292
Gerald of Wales, Expugnatio Hibemica 2.10, ed. A.B. Scott and F.X. Martin (Dublin, 1978), p. 156.
(обратно)293
Song of Dermot and the Earl, lines 644–5, 485, 1763, 407, 456, 820–23, ed. and tr. Goddard H. Orpen (Oxford, 1892), pp. 48, 36, 130, 32, 34, 62. См. также: J. Long, 'Dermot and the Earl: Who Wrote the Song?', Proceedings of the Royal Irish Academy 75C (1975), pp. 263–72.
(обратно)294
Цит. по кн.: Henry of Livonia, Chronicon Livoniae 10.15, ed. Arbusow and Bauer, p. 66. (Имеется рус. издание: Генрих Латвийский. Хроника Ливонии. М. — Л., 1938.)
(обратно)295
ibid.
(обратно)296
Livlandische Reimchronik, ed. Leo Meyer (Paderborn, 1876); см. также: Lutz Mackensen, 'Zur livlandischen Reimchronik' — Zur deutschen Literatur Altlivlands (Wurzburg, 1961), pp. 21–58; Eric Christiansen, The Northern Crusades (London, 1980), pp. 91–3.
(обратно)297
Song of Dermot, lines 125, 136–41, 282–3, 201, 1409, 3086–99, ed. Orpen, pp. 10, 12, 22, 16 and 104, 224–5.
(обратно)298
Ibid., p. 303 (editorial note).
(обратно)299
Expugnatio Hibemica 2.10, ed. Scott and Martin, p. 156.
(обратно)300
См.: Bartlett, R. Gerald of Wales 1146–1223 (Oxford, 1982), pp. 214–16, 178, n. 3.
(обратно)301
Livlandische Reimchronik, lines 103–4, 93, 120–22, 669–76, 1466–8, 8397–402, ed. Meyer, pp. 3, 16, 34, 192.
(обратно)302
De expugnatione Lyxbonensi, ed. David, pp. 54–6, 104, 134, 106, 128, 106.
(обратно)303
Ibid., pp. 132, 56, 68, 110–112.
(обратно)304
Peter Knoch, Studien zu Albert von Aachen (Stuttgart, 1966), chapter 4, pp. 91–107, 'Die Franken des ersten Kreuzzugs in den Augenzeugenberichten'; Bemd Schneidmuller, Nomen patriae: Die Entstehung Frankreichs in der politisch-geographischen Terminologie (10. — 13. Jahrhundert) (Sigmaringen, 1987), chapter 5(a), pp. 106–24, 'Franci: Kreuzfahrer oder Nordfranzosen in der Kreuzzugshistoriographie?'
(обратно)305
См. на эту тему Reinhard Wenskus, Stammesbildung und Verfassung: Das Werden der friihmittelalterlichen gentes (Cologne and Graz, 1961), pp. 512–41.
(обратно)306
Andre Miguel, La geographie humaine du monde musulman jusqu'au milieu du lie siècle 2: Geographie arabe et representation du monde: La terre et l'etrangev (Paris, 1975), chapter 7, pp. 343–80, 'L'Europe de l'Ouest', esp. pp. 354–9 (Remie Constable kindly provided this reference); Bernard Lewis, The Muslim Discovery of Europe (New York and London, 1982), pp. 137–46.
(обратно)307
Humbert of Silva Candida, Adversus Graecorum calumnias, PL 143, cols. 929–74, at cols. 929, 934; Anton Michel, Humbert und Kerullarios (2 vols., Paderbom, 1924–30).
(обратно)308
Michael Attaleiates, Historia, ed. Bekker, index, s.v. 'Franci'; George Cedrenus, Historiarum compendium, ed. Immanuel Bekker (2 vols.. Corpus scriptorum historiae Byzantinae 34–5, Bonn, 1838–9), 2, pp. 545, 617.
(обратно)309
Gabrieli, Arab Historians, p. 27 (Ibn al-Qalanisi).
(обратно)310
Ekkehard of Aura, Hierosolymita 16.2, RHC, Occ. 5, pp. 1–40, at p. 25; Raymond of Aguilers: Liber (Historia Francorum qui ceperunt Iherusalem) 6, ed. John H. Hill and Laurita L Hill (Paris, 1969), p. 52.
(обратно)311
Simon of Saint Quentin, Historia Tartarorum, ed. Jean Richard (Paris, 1965), p. 52.
(обратно)312
Gesta Francorum 10.30, ed. and tr. Rosalind Hill (London, 1962), p. 73.
(обратно)313
Raymond of Aguilers, Liber 10, ed. Hill and Hill, pp. 79, 83.
(обратно)314
William of Tyre, Chronicle 11.12, ed. Huygens, 1, p. 513.
(обратно)315
Ambroise, L'estoire de la guerre sainte, lines 8494–505, 8509–10, ed. Gaston Paris (Paris, 1897), cols. 227–8.
(обратно)316
Walter Map, De nugis curialium 2.18, ed. and tr. M.R. James, rev. C.N.L. Brooke and R.AB. Mynors (Oxford, 1983), p. 178.
(обратно)317
Albert of Aachen, Historia Hierosolymitana 1.8, RHC, Occ. 4, pp. 265–713, at p. 277 (cf. 2.6, p. 303); Gyorgy Szekely, 'Wallons et Italiens en Europe centrale aux Xle — XVIe siècles'. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rotando Eotuos Nominatae, sectio historica 6 (1964), pp. 3–71, at pp. 16–17.
(обратно)318
Brut у Tywysogyon or The Chronicle of the Princes: Red Book of Hergest Version, ed. and tr. Thomas Jones (Cardiff, 1955), index, s.v. 'French'.
(обратно)319
Donncha О. Corrain, 'Nationality and Kingship in Pre-Norman Ireland', in T.W. Moody (ed.). Nationality and the Pursuit of National Independence (Historical Studies 11, Belfast, 1978), pp. 1–35, at p. 35.
(обратно)320
Walter of Coventry, Memoriale, ed. William Stubbs (2 vols., RS, 1872–3), 2, p. 206 (the 'Barnwell Chronicle').
(обратно)321
Documentes de Don Sancho I (1174–1211) 1, ed. Rui de Azevado et al. (Coimbra, 1979), no. 86, pp. 138–9; Fuero de Logrono, ed. T. Moreno Garbaya, Apuntes histyricos de Logrono (Logroflo, 1943), pp. 42–9.
(обратно)322
Honorius III, 20 May 1224, Novit regia celsitudo, Po. 7258; Opera omnia, ed. Cesar Auguste Horoy (5 vols., Paris, 1879–82), 4, no. 227, col. 653; Recueil des historiens des Gaules et de la France, ed. Martin Bouquet et al. (new ed., 24 vols., Paris, 1869–1904), 19, p. 754.
(обратно)323
Chronicle of Morea, tr. Lurier, p. 157.
(обратно)324
Helbig & Weinrich 2, nos. 29, 30, 36, 80, 81, 111, 114, pp. 162–3, 180, 306, 310, 418, 430.
(обратно)325
Louis Dermigny, La Chine et l’Occident: Le commerce a Canton au XVIIIe siècle 1719–1833 1 (Paris, 1964), p. 292.
(обратно)326
José María Font Rius (ed.), Cartas de poblacion у franquicia de Cataluña (2 vols., Madrid and Barcelona, 1969) 1, no. 223, pp. 308–9 (Peter I of Aragon, 1207).
(обратно)327
Maurice Beresford, New Towns of the Middle Ages (London, 1967), pp. 637–41.
(обратно)328
Daniel Waley, The Italian City Republics (London, 1969), p. 35.
(обратно)329
Peter Spufford, Money and its Use in Medieval Europe (Cambridge, 1988), p. 243.
(обратно)330
Cambridge Economic History of Europe I: The Agrarian Life of the Middle Ages, ed. M.M. Postan (2nd ed., Cambridge, 1966), p. 561; Josiah Cox Russell, British Medieval Population (Albuquerque, 1948); cf. J.Z. Titow, English Rural Society 1200–1350 (London, 1969), pp. 66–73.
(обратно)331
H.C. Darby, Domesday England (Cambridge, 1977), pp. 87–91, 'Total Population”.
(обратно)332
Cambridge Economic History 1, ed. Postan, p. 562; M.M. Postan, The Medieval Economy and Society (London, 1972), p. 31.
(обратно)333
E.A Wrigley and R.S. Schofield, The Population History of England 1541–1871 (Cambridge, Mass., 1981).
(обратно)334
J.Z. Titow, 'Some Evidence of the Thirteenth-Century Population Increase', Economic History Review, 2nd ser., 14 (1961), pp. 218–24.
(обратно)335
Georges Duby, Rural Economy and Country Life in the Medieval West (Eng. tr., London, 1968), p. 119.
(обратно)336
Francesco Gabrieli (ed.), Arab Historians of the Crusades (Eng. tr., Berkeley and London, 1969), p. 3 (Ibn al-Athi'r).
(обратно)337
Charles Higounet, 'Mouvements de population dans le Midi de la France du Xle siècle d'après les noms de personne et de lieu', in his Paysages et villages neufs du Moyen Age (Bordeaux, 1975), pp. 417–37, at p. 421.
(обратно)338
Helbig & Weinrich 2, no. 1, p. 70.
(обратно)339
Orderic Vitalis, Historia ecclesiastica 7.5, ed. and tr. Marjorie Chibnall (6 vols., Oxford 1968–80), 4, p. 12.
(обратно)340
Regesta Regum Anglo-Normannorum 1, ed. H.W.C. Davis (Oxford, 1913), appendix, 2 bis, p. 118 (= calendar no. 33).
(обратно)341
Jordan Fantosme, Chronicle, lines 788–9, 417–18, 994–8, ed. R.C. Johnston (Oxford, 1981), pp. 58–9, 30–31, 72–3.
(обратно)342
Geoffrey Barrow, The Anglo-Norman Era in Scottish History (Oxford, 1980), pp. 44–6 and 57 (map 7); Acts of Malcolm TV, King of Scots, 1153–65, ed. Geoffrey Barrow (Regesta Regum Scottorum 1, Edinburgh, 1960), no. 175, pp. 219–20; K.J. Stringer, Earl David of Huntingdon, 1152–1219: A Study in Anglo-Scottish History (Edinburgh, 1985), app. no. 55, pp. 254–5 (1172–99); AAM. Duncan, Scotland: The Making of the Kingdom (Edinburgh, 1975), pp. 137, 138, 189.
(обратно)343
Duncan, Scotland, p. 476; Walter of Guisborough, Chronicle, ed. Harry Rothwell (Camden 3rd ser., 89, 1957), p. 275.
(обратно)344
Helbig & Weinrich 2, no. 125, p. 474.
(обратно)345
Iiselotte Feyerabend, Die Rigauer und Revaler Familiennamen im 14. und 15. Jahrhundert (Cologne and Vienna, 1985), p. 74.
(обратно)346
Gervase of Rheims, Epistola de vita sancti Donatiani, ed. Oswald Holder-Egger, MCH, SS 15/2 (Hanover, 1888), pp. 854–6, p. 855.
(обратно)347
Helbig & Weinrich 1, no. 6, p. 58; см. также: Schlesinger, 'Flemmingen und Kühren: Zur Siedlungsform niederlandischer Siedlungen des 12. Jahrhunderts im mitteldeutschen Osten', in idem (ed.). Die deutsche Ostsiedlung als Problem der europaischen Geschichte (Vortrage und Forschungen 18, Sigmaringen, 1975), pp. 263–309.
(обратно)348
Helbig & Weinrich 1, no. 8, pp. 62–4.
(обратно)349
Walter Kühn, 'Flamische und frankische Hufe als Leitformen der mittelalterlichen Ostsiedlung', in his Vergleichende Untersuchungen zur mittelalterlichen Ostsiedlung (Cologne and Vienna, 1973), pp. 1–51.
(обратно)350
Hermann Teuchert, Die Sprachreste der niederlandischen Siedlungen des 12. Jahrhunderts (2nd ed., MF 70, Cologne and Vienna, 1972); Karl Bischoff, Sprache und Geschichte an der mittleren Elbe und der unteren Saale (MF 52, Cologne and Graz, 1967), chapter 4.
(обратно)351
UB zur Geschichte der Deutschen in Siebenburgen 1, ed. Franz Zimmermann and Carl Werner (Hermannstadt, 1892), nos. 2, 4–5, pp. 2–5; Karl Reinerth, 'Siebenbürger and Magdeburger Flandrenses-Urkunden aus dem 12. Jahrhundert', Sudostdeutsches Archiv 8 (1965), pp. 26–56.
(обратно)352
Brut у Tywysogyon or The Chronicle of the Princes: Red Book of Hergest Version, ed. Thomas Jones (Cardiff, 1955), p. 53.
(обратно)353
Cartulary of Worcester Cathedral Priory, ed. R.R. Darlington (Pipe Roll Society, n.s 37, 1968 for 1962–3), no. 252, pp. 134–5.
(обратно)354
Pipe Roll 31 Henry I, ed. J. Hunter (Record Commission, London, 1833), p. 136.
(обратно)355
Gerald of Wales (Giraldus Cambrensis), Itinerarium Kambriae 1.2, in J.S. Brewer, J.F. Dimock and G.F. Warner (eds.), Opera (8 vols., RS, 1861–91) 6, pp. 1–152, at pp. 87–9.
(обратно)356
idem. Speculum Duorum, ed. Yves Lefevre and R.B.C. Huygens, general ed. Michael Richter (Cardiff, 1974), p. 36.
(обратно)357
Brut у Tywysogyon, ed. Jones, p. 221.
(обратно)358
Itinerarium Kambriae 1.13, ed. Brewer et al., p. 83.
(обратно)359
Annals of the Kingdom of Ireland by the Four Masters, ed. and tr. John O'Donovan (4 vols., Dublin, 1851), 2, p. 1173, s.a. 1169.
(обратно)360
Recueil des historiens des croisades. Lois 2 (Paris, 1843), pp. 528–9, no. 44; Liber cartarum Sancte Crucis, ed. Cosmo Innes (Bannatyne Club, Edinburgh, 1840), app. 2, no. 7, p. 213 (cf. Acts of William I, King of Scots, 1165–1214, ed. Geoffrey Barrow (Regesta Regum Scottorum 2, Edinburgh, 1971), no. 560, p. 477); Helbig & Weinrich 1, no. 130, pp. 480–82.
(обратно)361
Lacarra, no. 132; Coleccion de fueros municipales у cartas pueblos de los reinos de Costilla, Leon, Corona de Aragon у Navarra, ed. Tomas Munoz у Romero (Madrid, 1847), pp. 299–300.
(обратно)362
Schlesisches UB, ed. Heinrich Appelt and Winfried Irgang (4 vols, to date, Graz, Cologne and Vienna, 1963 —), 3, no. 2, pp. 15–16.
(обратно)363
Cosmas of Prague, Chronica Boemorum 2.1, ed. Berthold Bretholz (SRG n.s., Berlin, 1923), p. 83.
(обратно)364
Geoffrey Malaterra, De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae comitis et Roberti Guiscardi ducis fratris eius 2.36–7, ed. Ernesto Pontieri (Rerum italicarum scriptores, n.s., 5/1, Bologna, 1928), p. 47.
(обратно)365
Brut у Tywysogyon, ed. Jones, p. 145; cf. ibid., p. 109; Rees Da vies. Conquest, Coexistence and Change: Wales 1063–1415 (Oxford, 1987), pp. 119–20.
(обратно)366
Malaterra, De rebus gestis Rogerii 4.16, ed. Pontieri, pp. 95–6.
(обратно)367
Sachsenspiegel, Landrecht 3.79.1, ed. Karl August Eckhardt (Germanenrechte, n.s.. Gottingen, 1955), p. 262.
(обратно)368
Helbig & Weinrich 2, no. 67, p. 256; Josef Joachim Menzel, Die schlesischen Lokationsurkunden des 13. Jahrhunderts (Wurzburg, 1977), p. 184.
(обратно)369
Inquisitio Eliensis, ed. N.E.S.A Hamilton, Inquisitio comitatus Cantabrigiensis, subjicitur Inquisitio Eliensis (London, 1876), pp. 97–183, at p. 97.
(обратно)370
Alfred Haverkamp, Medieval Germany 1056–1273 (Eng. tr., Oxford, 1988), p. 301, referring to a scene in the Kleiner Lucidiarius of Seifried Helblinc.
(обратно)371
Helbig & Weinrich 1, no. 24, p. 114.
(обратно)372
О деятельности Викмана см.: Dietrich Claude, Geschichte des Erzbistums Magdeburg bis in das 12. Jahrhundert (2 vols., MF 67, Cologne, 1972–5) 2, pp. 71–175.
(обратно)373
Helbig & Weinrich 1, no. 5, pp. 54–6; no. 10, pp. 68–70; no. 11, pp. 72–4; no. 12, p. 74; no. 13, pp. 78–80.
(обратно)374
UB des Erzstifts Magdeburg 1, ed. Friedrich Israel and Walter Mollenberg (Magdeburg, 1937), no. 421, pp. 554–6; Gesta archiepiscoporum Magdeburgensium, ed. Wilhelm Schum, MGH, SS 14 (Hanover, 1883), pp. 361–486, at p. 416.
(обратно)375
Helbig & Weinrich 2, no. 17, p. 134.
(обратно)376
ibid. 1, no. 23, p. 108.
(обратно)377
ibid. 2, no. 30, pp. 164–6.
(обратно)378
Menzel, Die schlesischen Lokationsurkunden, p. 250; Regesten zur schlesischen Geschichte 3 (Codex diplomaticus Silesiae 7/3, Breslau, 1886), no. 2251, p. 179 (Zator, 1292).
(обратно)379
Helbig & Weinrich 2, no. 109, p. 412.
(обратно)380
Menzel, Die schlesischen Lokationsurkunden, p. 250.
(обратно)381
Helbig & Weinrich 1, no. 7, p. 62.
(обратно)382
ibid. 1, no. 150, p. 546.
(обратно)383
ibid. 2, no. 84, p. 320.
(обратно)384
Julio Gonzalez, Repoblacion de Costilla la Nueva (2 vols., Madrid, 1975–6) 1, p. 333; cf. p. 153 and n. 402.
(обратно)385
Emilio Saez (ed.), 'Fueros de Puebla de Alcocer у Yebenes', Anuario de historia del derecho espanol 18 (1947), pp. 432–41, at p. 438.
(обратно)386
Menzel, Die schlesischen Lokationsurkunden, p. 247.
(обратно)387
Lacarra, no. 374 (1154).
(обратно)388
ibid., no. 275.
(обратно)389
Gonzalez, Repoblacion 2, p. 50; Saez, 'Fueros de Puebla de Alcocer у Yebenes', p. 438; cf. Gonzalez, Repoblacion 2, p. 191, n. 120.
(обратно)390
ibid. 2, p. 188; Diccionario de la lengua espanola, ed. Real Academia de Espafia (19th ed., Madrid, 1970), p. 1360, s.v.
(обратно)391
Walter Kühn, 'Bauernhofgrossen in der mittelalterlichen Nordostsiedlung', in his Vergleichende Untersuchungen zur mittelalterlichen Ostsiedlung (Cologne and Vienna, 1973), pp. 53–111.
(обратно)392
Косминский Е.А Исследования по аграрной истории Англии XIII века. М. — Л., 1947.
(обратно)393
Robert Fossier, La terre et les hommes en Picardie jusqu'a la fin de XIIIе siècle (2 vols., Paris and Louvain, 1968) 2, p. 647.
(обратно)394
Helbig & Weinrich 1, no. 95, pp. 356 — S.
(обратно)395
ibid. 1, no. 129, p. 478.
(обратно)396
Menzel, Die schlesischen Lokationsurkunden, pp. 234–8.
(обратно)397
Level of dues in Silesia: Menzel, Die schlesischen Lokationsurkunden, p. 236.
(обратно)398
Postan, Medieval Economy and Society, p. 125
(обратно)399
Fossier, La terre et les hommes en Picardie 2, pp. 637–40.
(обратно)400
Reginald Lennard, Rural England, 1086–1135: A Study of Social and Agrarian Conditions (Oxford, 1959), p. 1.
(обратно)401
Richard Hoffmann, Land, Liberties and Lordship in a Late Medieval Countryside: Agrarian Structures and Change in the Duchy of Wroclaw (Philadelphia, 1989), p. 127.
(обратно)402
Gonzalez, Repoblacidn 2, pp. 48–9.
(обратно)403
Helbig & Weinrich 2, no. 45, p. 202 (Silesia, 1319).
(обратно)404
Kevin Down, “The Agricultural Economy of Colonial Ireland', in New History of Ireland 2: Medieval Ireland, 1169–1534, ed. Art Cosgrove (Oxford, 1987), pp. 450 — SI, at p. 465.
(обратно)405
Helbig & Weinrich 2, no. 96, p. 364.
(обратно)406
Font Rius, Cartas de poblacion 1/i, no. 327 (1274).
(обратно)407
Coleccion de fueros..., ed. Mufloz у Romero, pp. 512–13 (1134).
(обратно)408
Helbig & Weinrich 2, no. 10, p. 88 (1221); Stanislaw Trawkowski, 'Die Rolle der deutschen Dorfkolonisation und des deutschen Rechtes in Polen im 13. Jahrhundert', in Walter Schlesinger (ed.), Die deutsche Ostsiedlung als Problem der europaischen Geschichte (Vortrage und Forschungen 18, Sigmaringen, 1975), pp. 349–68, at p. 362, n. 38.
(обратно)409
Helbig & Weinrich 2, no. 80, p. 306 (1290).
(обратно)410
Hoffmann, Land, Liberties and Lordship in a Late Medieval Countryside, chapter 4, 'Locare iure Tneutonico: Instrument and Structure for a New Institutional Order', pp. 61–92; Menzel, Die schlesischen Lokationsurkunden, pp. 229–81.
(обратно)411
Helbig & Weinrich 1, no. 95, pp. 356–8.
(обратно)412
Menzel, Die schlesischen Lokationsurkunden, p. 233, n. 351.
(обратно)413
Quellenbuch zur Geschichte der Sudetenlander 1, ed. Wilhelm Weizsacker (Munich, 1960), no. 19, p. 47 (1254 for Police [Politz]).
(обратно)414
Lacarra, no. 51 (1126).
(обратно)415
Coleccion de fueros..., ed. Munoz у Romero, pp. 512–13 (1134).
(обратно)416
Helbig & Weinrich 2, no. 139, p. 524 (1247).
(обратно)417
Lacarra, no. 391 (1174).
(обратно)418
Suez (ed.), 'Fueros de Puebla de Alcocer у Yebenes', p. 439.
(обратно)419
Helbig & Weinrich 2, no. 95, p. 364.
(обратно)420
ibid. 2, no. 3, p. 76.
(обратно)421
ibid. 1, no. 50, pp. 212–14.
(обратно)422
Lacarra, no. 17 (1120)
(обратно)423
Recueil des historiens des croisades. Lois 2, pp. 528–9, no. 4.
(обратно)424
Helbig & Weinrich 2, no. 28, pp. 160–62.
(обратно)425
Schlesisches UB 3, no. 43, pp. 39–40; ibid. 1, no. 254, pp. 185–6; ibid. 2, no. 86, pp. 56–7.
(обратно)426
Helbig & Weinrich 1, nos. 1–12, 14, 18, 24–6, pp. 42–76, 80–82, 92–4, 114–24; ibid. 2, no. 67, p. 258 (1266); ibid. 2, no. 75, p. 286; ibid. 2, nos. 41–2, pp. 192–6.
(обратно)427
Lacanrra, no. 51,
(обратно)428
Coleccion de fueros..., ed. Munoz у Romero, pp. 512–13; ibid., p. 421(1127).
(обратно)429
Helbig & Weinrich 2, no. 102, p. 388.
(обратно)430
'Francos et ingenues', etc.: Coleccion de fueros..., ed. Mufloz у Romero, pp. 512–13.
(обратно)431
Helbig & Weinrich 2, no. 139, p. 524 (1247).
(обратно)432
Gonzalez, Repoblacion 2, pp. 141–2, n. 359.
(обратно)433
José María Font Rius (ed.), Cartas de poblacion у franquicia de Cataluna (2 vols., Madrid and Barcelona, 1969) 1, no. 287, pp. 416–19.
(обратно)434
Schlesisches UB, ed. Heinrich Appelt and Winfried Irgang (4 vols, to date, Graz, Cologne and Vienna, 1963 —), 2, no. 128, pp. 83–4; Helbig & Weinrich 2, no. 20, p. 140; Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis, ed. H. Markgraf and J.W. Schulte (Codex diplomaticus Silesiae 14, Breslau, 1889), p. 6.
(обратно)435
Annales Pegavienses, ed. Georg Heinrich Pertz, MGH, SS 16 (Hanover, 1859), pp. 232–70, at pp. 246–7.
(обратно)436
Cartulario de Sont Cugat del Vallus, ed. Jose Rius Serra (3 vols., Barcelona, 1945–7), 2, p. 112, no. 464; Font Rius (ed.), Cartas de poblacion 1/2, pp. 681–2.
(обратно)437
Pierre Bonnassie, La Catalogue de milieu du Xe a la fin du XIe siècle (2 vols., Toulouse, 1975) 1, p. 123 and map on p. 124.
(обратно)438
Chronicle 15.25, ed. R.B.C. Huygens (2 vols.. Corpus Christianorum, Continuatio mediaevalis 63–63A, Turnhout, 1986), 2, p. 708.
(обратно)439
Recueil des historiens des croisades, Lois 2 (Paris, 1843), pp. 528–9, no. 44; Joshua Prawer, Crusader Institutions (Oxford, 1980), pp. 119–26; Jonathan Riley-Smith, The Knights of St John in Jerusalem and Cyprus с 1050–1310 (London, 1967), pp. 435–7.
(обратно)440
Cartularies de Santo Domingo de la Calzada, ed. Agustin Ubieto Arteta (Saragossa, 1978), no. 99, p. 82.
(обратно)441
Annales Wratislavienses antique and Annales magistratus Wratislaviensis, ed. Wilhelm Amdt, MGH, SS 19 (Hanover, 1866), pp. 526–31, at p. 528.
(обратно)442
Frutolfi et Ekkehardi Chronica пес поп Anonymi Chronica imperatorum, ed. Franz-Josef Schmale and Irene Schmale-Ott (AQ 15, Darmstadt, 1972), p. 198; Annales Pegavienses, MGH, SS 16, p. 247.
(обратно)443
Цит. по кн.: Helmold of Bosau, Chronica Slavorum 1.57, ed. Heinz Stoob (АО 19, Darmstadt, rev. ed., 1973), p. 210. (Имеется рус. издание: Гельмольд Славянская хроника. М., 1963, 299 с.)
(обратно)444
ibid. 1.89, ed. Stoob, p. 312.
(обратно)445
Helbig & Weinrich 1, no. 19, pp. 96–102.
(обратно)446
Gesta Friderici I imperatoris 1.32, ed. Georg Waitz and Bemhard von Simson (SRG, Hanover and Leipzig, 1912), pp. 49–50.
(обратно)447
De profectione Ludovici VII in Orientem 2, ed. and tr. Virginia G. Berry (New York, 1948), p. 32.
(обратно)448
Цит. по кн.: Helmold, Chronica Slavorum 1.64, ed. Stoob, pp. 224–6. (Имеется рус. издание: Гельмольд Славянская хроника. М., 1963.)
(обратно)449
Alfonso Garcia-Gallo, 'Los Fueros de Toledo', Anuario de bistorta del derecho espanol 45 (1975), pp. 341–488, at p. 475.
(обратно)450
UB des Hochstifts Hildesheim und seiner Bischofe 2, ed. H. Hoogeweg (Hanover and Leipzig, 1901), no. 445, pp. 208–10.
(обратно)451
Miracula sancti Annonis 2.43, ed. Mauritius Mittler (Siegburg, 1966–8), p. 114.
(обратно)452
ibid., no. 932, pp. 467–8 (1253).
(обратно)453
Miracula sancti Annonis 2.43, ed. Mauritius Mittler (Siegburg, 1966–8), p. 114.
(обратно)454
Codex diplomatics Brandenburgensis, ed. Adolph Friedrich Riedel (41 vols., Berlin, 1838–69), A 18, sect. 7, no. 3, pp. 442–3 (Neumark, 1298).
(обратно)455
Walter Kühn, 'Flamische und frankische Hufe als Leitformen der mittelalterlichen Ostsiedlung', in Ms Vergleichende Untersuchungen zur mittelalterlichen Ostsiedlung (Cologne and Vienna, 1973), pp. 1–51.
(обратно)456
Fritz Curschmarm, Die deutschen Ortsnamen im Norddeutschen Kolonialgebiet (Stuttgart, 1910), p. 41, n. 4.
(обратно)457
Hans K. Schulze, 'Die Besiedlung der Mark Brandenburg im hohen und spaten Mttelalter', Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 28 (1979), pp. 42–178, at p. 127.
(обратно)458
Helbig & Weinrich 2, nos. 49–52, pp. 214–24.
(обратно)459
ibid. 2, no. 31, p. 168.
(обратно)460
ibid. 2, no. 9, p. 88.
(обратно)461
Pommersches UB 2 (Stettin, 1881–5, repr. Cologne and Graz, 1970), no. 616, p. 27.
(обратно)462
Helbig & Weinrich 2, no. 100, pp. 378–84.
(обратно)463
Codex diplomaticus Brandenburgensis A 1, sect. 7, no. 9, p. 458.
(обратно)464
Helbig & Weinrich 2, no. 32, p. 170.
(обратно)465
Kühn, 'Flamische und frankische Hufe', p. 3.
(обратно)466
Цит. по кн.: Helmold, Chronica Slavorum 1.92, ed. Stoob, p. 318. (Имеется рус. издание: Гельмольд, Славянская хроника. М., 1963); Helbig & Weinrich 1, no. 82, p. 316 (Rflgen, 1221); 2, no. 98, p. 374.
(обратно)467
Псалом 78:55.
(обратно)468
Kühn, 'Flamische und frankische Hufe', p. 4; Schlesisches UB 4, no. 278, p. 188 (1276).
(обратно)469
Цит. по кн.: Helmold, Chronica Slavorum 1.92, ed. Stoob, p. 318 (Имеется рус. издание: Гельмольд, Славянская хроника.М., 1963.) 1.84.
(обратно)470
Liber fundationis... Heinrichow 1.9, ed. Grodecki, p. 296; Helbig & Weinrich 2, no. 13, p. 118.
(обратно)471
Preussisches UB (6 vols, to date, Königsberg and Marburg, 1882 —) 1/i, no. 283, pp. 214–15.
(обратно)472
Helbig & Weinrich 1, no. 121, pp. 448–50.
(обратно)473
ibid. 1, no. 143, pp. 524–30.
(обратно)474
Henri Bresc, 'Feodalite coloniale en terre d'Islam: La Sicile (1070–1240)', in Structures feodales et feodalisme dans Г Occident mediterraneen (Xe-XIIIe s.) (Paris, 1980), pp. 631–47, p. 635.
(обратно)475
Julio Gonzalez, Repoblacion de Costilla la Nueva (2 vols., Madrid, 1975–6) 1, p. 159.
(обратно)476
Lacarra, nos. 5–6 (1103, 1105).
(обратно)477
Helbig & Weinrich 2, no. 22, p. 144.
(обратно)478
Gonzalez, Repoblacion 2, p. 184.
(обратно)479
Lacarra, nos. 91 (1138), 138 (1127).
(обратно)480
Helbig & Weinrich 2, no. 20, p. 140 (1237).
(обратно)481
ibid. 2, no. 96, p. 366 (1265).
(обратно)482
ibid. 2, no. 96, p. 366 (1265).
(обратно)483
Helbig & Weinrich 2, nos. 95 (1252), 98 (1291), pp. 360–64, 372–6.
(обратно)484
Gonzalez, Repoblacion 2, p. 168; Lacarra, no. 216 (1140).
(обратно)485
Lacarra, no. 127 (1125).
(обратно)486
Helbig & Weinrich 2, nos. 47–8, pp. 210–14 (1236).
(обратно)487
ibid. 2, no. 25, p. 154 (Silesia, 1250).
(обратно)488
ibid. 2, no. 95, pp. 362–4 (1252).
(обратно)489
Jean Gautier-Dalche, 'Moulin a eau, seigneurie, communaute rurale dans le nord de l'Espagne (IXe — XIIe siècles)', in Etudes de civilisation medievale, IXe — XII siècles: Melanges offerts a Edmond-Rene Labande (Poitiers, 1974), pp. 337–49, at p. 340.
(обратно)490
Robert Fossier La terre et les hommes en Picardie jusqu'a la fin de XIIIe siècle (2 vols., Paris and Louvain, 1968) 2, p. 448.
(обратно)491
Lacarra, no. 4 (1102).
(обратно)492
Helbig & Weinrich 2, nos. 106–9, pp. 402–12 (1256–70).
(обратно)493
ibid. 1, no. 131, p. 484.
(обратно)494
Siegfried Epperlein, Bauembedrückung und Bauemwiderstand im hohen Mittelalter: Zur Erforschung der Ursachen bauerlichen Abwanderung nach Osten im 12. und 13. Jahrhundert (Berlin, 1960).
(обратно)495
Osnabnicker UB 2, ed. F. Philippi (Osnabruck, 1896), no. 380, pp. 298–9.
(обратно)496
UB des Hochstifts Hildesheim 2, no. 795, pp. 403–4 (1247).
(обратно)497
Historia monasterii Rastedensis 35, ed. Georg Waitz, MGH, SS 25 (Hanover, 1880), pp. 495–511, at p. 509.
(обратно)498
Walter Kiinn, 'Die Siedlerzahlen der deutschen Ostsiedlung', in Studium Sociale: Karl Valentin Müller dargebracht (Cologne and Opladen, 1963), pp. 131–54; idem, 'Ostsiedlung und Bevolkerungsdichte', in Vergleichende Untersuchungen zur mittelalterlichen Ostsiedlung (Cologne and Vienna, 1973), pp. 173–210.
(обратно)499
A.J. Otway-Ruthven, “The Character of Norman Settlement in Ireland', in J.L. McCracken (ed.). Historical Studies 5 (London, 1965), pp. 75–84, at pp. 77, 83 (cf. her A History of Medieval Ireland (2nd ed., London, 1980), pp. 113–16); RE. Glasscock, 'Land and People c. 1300', in New History of Ireland 2: Medieval Ireland, 1169–1534, ed. Art Cosgrove (Oxford, 1987), pp. 205–39, at p. 213.
(обратно)500
Gerald of Wales, Expugnatio Hibemica 1.3, 16, ed. A.B. Scott and F.X. Martin (Dublin, 1978), pp. 30, 64.
(обратно)501
Geoffrey Martin, 'Plantation Boroughs in Medieval Ireland, with a Handlist of Boroughs to с 1500', in David Harkness and Mary O'David (eds.). The Town in Ireland (Historical Studies 13, Belfast, 1981), pp. 25–53.
(обратно)502
J.A. Watt, The Church and the Two Nations in Medieval Ireland (Cambridge, 1970), esp. chapters 3 and 8: idem, The Church in Medieval Ireland (Dublin, 1972), pp. 87–109.
(обратно)503
Rotuli chartarum in turn Londinensi asservati (1199–1216), ed. T.D. Hardy (London, 1837), p. 96 (1200).
(обратно)504
Close Rolls of the Reign of Henry III (1247–51) (London, 1922), p. 480.
(обратно)505
Rotuli litterarum clausarum in turn Londinensi asservati (1204–27), ed. T.D. Hardy (2 vols., London, 1833–44), 1, p. 394.
(обратно)506
Red Book of Ormond, ed. Newport B. White (Irish Manuscripts Commission, Dublin, 1932), pp. 1–17, 19–83, 127–35, 145–58.
(обратно)507
ibid., pp. 25–7.
(обратно)508
ibid., pp. 33–4, 153;
(обратно)509
Red Book of Ormond, ed. White, pp. 64–7.
(обратно)510
ibid., pp. 34–41, 41–5, 46–7, 74–83; CA Empey, 'Conquest and Settlement: Patterns of Anglo-Norman Settlement in North Munster and South Leinster', Irish Social and Economic History Journal 13 (1986), pp. 5–31, pp. 26–7 and n. 67.
(обратно)511
Red Book of Ormond, ed. White, pp. 108–11.
(обратно)512
Thomas McErlean, “The Irish Townland System of Landscape Organization', in Terence Reeves-Smyth and Fred Hamond (eds.), Landscape Archaeology in Ireland (British Archaeological Reports, British Series 116, Oxford, 1983), pp. 315–39, at p. 317, table 1; T. Jones Hughes, 'Town and Baile in Irish Place-Names', in Nicholas Stephens and Robin E. Glasscock (eds.), Irish Geographical Studies in Honour of E. Estyn Evans (Belfast, 1970), pp. 244–58.
(обратно)513
Els Furs de Valencia 35, ed. Rafael Gayano-Uuch (Valencia, 1930), p. 206.
(обратно)514
Ulrich Bentzien, Haken und Pflug (Berlin, 1969); Walter Ktihn, 'Der Pflug als Betriebseinheit in Altpreussen' and 'Der Haken in Altpreussen', in his Vergleichende Untersuchungen zur mittelalterlichen Ostsiedlung (Cologne and Vienna, 1973), pp. 113–40, 141–71; Andre G. Haudricourt and Mariel Jean-Brunhes Delamarre, L'homme et la charme a trovers le monde (4th ed., Paris, 1955).
(обратно)515
Цит. по кн.: Helmold, Chronica Slavorum 1.12, 14.88, ed. Stoob, pp. 70, 74, 312. (Имеется рус. издание: Гельмольд Славянская хроника. М., 1963.)
(обратно)516
Die Urkunden Heinrichs des Lowen, ed. Karl Jordan, MGH, Laienfursten- und Dynastenurkunden der Kaiserzeit (Leipzig and Weimar, 1941–9), no. 41, pp. 57–61; Mecklenburgisches UB (25 vols, in 26, Schwerin and Leipzig, 1863–1977) 1, no. 65, p. 58; ibid., no. 375, p. 376 (c. 1230).
(обратно)517
Pommersches UB 6 (Stettin, 1907, repr. Cologne and Graz, 1970), no. 3601, pp. 110–11 (1322).
(обратно)518
Schlesisches UB 1, no. 82, p. 54 (1202).
(обратно)519
Preussisches UB, 1/i, no. 74, pp. 54–5.
(обратно)520
Codex diplomaticus Warmiensis 1, ed. Can Peter Woekly and Johann Martin Saage (Mainz, 1860), no. 42, pp. 79–80.
(обратно)521
Kong Valdemars Jordebog, ed. Svend Aakjaer (3 vols., Copenhagen, 1926–1943), 2, pp. 50–52.
(обратно)522
Pommeisches UB 5 (Stettin, 1905, repr. Cologne and Graz, 1970), no. 3234, pp. 408–15.
(обратно)523
Preussisches UB 1/i, no. 105, pp. 77–81, p. 80; ibid. 1/i, no. 74, pp. 54–5; ibid. 1/ii, no. 612, pp. 387–8; ibid. 1/ii, no. 67, pp. 62–3.
(обратно)524
Codex diplomaticus Maioris Poloniae, ed. Ignacy Zakrzewski and Franciszek Piekosinski (5 vols., Poznan, 1877–1908), 1, no. 402, pp. 354–5.
(обратно)525
Preussisches UB 1/ii, no. 366, pp. 247–51, p. 248.
(обратно)526
UB zur Geschichte der Herzoge von Braunschweig und Lüneburg und ihrer Lande 1, ed. H. Sudendorf (Hanover, 1859), no. 122, pp. 75–6.
(обратно)527
Codex diplomaticus Warmiensis 1, no. 214, pp. 366–8 (1323).
(обратно)528
Preussisches UB 1/i, no. 140, p. 105 (1242).
(обратно)529
ibid. 1/i, no. 74, pp. 54–5; ibid. 1/i, no. 105, pp. 77–81, p. 80; ibid. 1/ii, no. 366, pp. 247–51, p. 248.
(обратно)530
Visitationes bonorum archiepiscopatus пес поп capituli Gnesnensis saeculi XVI, ed. Boleslaw Ulanowski (Cracow, 1920), p. 365.
(обратно)531
Schlesisches UB 1, no. 164, p. 117 (1217).
(обратно)532
Helbig & Weinrich 2, no. 1, p. 72.
(обратно)533
Helbig & Weinrich 1, no. 40, p. 178; Preussisches UB 1/i, no. 74, pp. 52–4 (Prussia, 1230).
(обратно)534
Codex diplomaticus Brandenburgensis A 10, no. 9, p. 75 (1173).
(обратно)535
Honorius III, 18 April 1220, Etsi поп sic, Po. 6229; Liv-, esth- und curlandisches UB, ed. F.G. von Bunge et al. (1st sen, 12 vols., Reval and Riga, 1853–1910), 1, no. 51, col. 54.
(обратно)536
Mecklenburgisches UB 1, no. 255, p. 240 (1219); Helbig & Weinrich, 1, no. 82, p. 316 (1221); Helmold, Chronica Slavorum 1. 47, 55, 71, ed. Stoob, pp. 182, 204, 252. (Имеется рус. издание: Гельмольд, Славянская хроника, М., 1963.
(обратно)537
Liber fundationis... Heinrichow 2, preface, ed. Grodecki, p. 309; cf. Genesis 3:19: In sudore vultus fui vesceris pane. См. также: Piotr Gorecki, Economy, Society and Lordship in Medieval Poland, 1100–1250 (New York and London, 1992).
(обратно)538
'Rocznik lubiąski 1241–1281, oraz wiersz о pierwotnych zakonniach Lubiąza' [Versus lubenses], ed. August Bielowski, MPH 3 (Lwów, 1878, repr. Warsaw, 1961), pp. 707–10, at pp. 709–10; см. также: Slownik Laciny redniowiecznej w Polsce I, ed. Mariana Plezi (Wroclaw, etc., 1953–8), p. 1158.
(обратно)539
John Elliott, 'The Discovery of America and the Discovery of Man', Proceedings of the British Academy 58 (1972), pp. 101–25, p. 112.
(обратно)540
'Rocznik lubiaąski...' ed. Bielowski, p. 710; также см.: Gorecki, Economy, Society and Lordship.
(обратно)541
Codex iuris Bohemici, ed. Hermenegild Jiricek (5 vols, in 12, Prague, 1867–98), 2/2, p. 145 (Majestas Carolina 49); ibid., pp. 145–50 (clauses 49–57).
(обратно)542
Helbig & Weinrich 1, no. 2, p. 46.
(обратно)543
H.E. Hallam, Settlement and Society: A Study of the Early Agrarian History of South Lincolnshire (Cambridge, 1965), p. 166.
(обратно)544
M.M. Postan, The Medieval Economy and Society (London, 1972), pp. 57, 66.
(обратно)545
Andrew M. Watson, Towards Denser and More Continuous Settlement: New Crops and Fanning Techniques in the Early Middle Ages', in J.A. Raftis (ed.). Pathways to Medieval Peasants (Toronto, 1981), pp. 65–82, at p. 69.
(обратно)546
Helmut Wurm, 'Korpergrosse und Ernahrung der Deutschen im Mittelalter' in Bernd Herrmann (ed.), Mensch und Umwelt im Mittelalter (Stuttgart, 1986), pp. 101–8.
(обратно)547
Об археол. раскопках в Вост. Германии, Ирландии и Центральной Европе см.: Eike Gringmuth-Dallmer, Die Entwicklung der frühgeschichtlichen Kulturlandschaft auf dem Territorium der DDR unter besonderer Berucksichtigung der Siedlungsgebiete (Berlin, 1983), p. 68; Wolfgang Ribbe (ed.). Das Havelland im Mittelalter (Berlin, 1987), p. 79; ТВ. Barry, The Archaeology of Medieval Ireland (London, 1987), p. 72; Walter Janssen, 'Dorf und Dorfformen des 7. bis 12. Jahrhunderts im Lichte neuer Ausgrabungen in Mittel- und Nordeuropa', in Herbert Jankuhn et al. (eds.). Das Dorf der Eisenzeit und des frühen Mittelalters (Abhandlungen der Akadamie der Wissenchaft in Gottingen, philosophisch-historische Klasse, 3rd ser., 101, 1977), pp. 285–356, at p. 341.
(обратно)548
Vladimir Nekuda, 'Zum Stand der Wüstungsforschung in Mahren (CSSR)', Zeitschrift für Archaologie des Mittelalters 1 (1973), pp. 31–57, passim.
(обратно)549
Peter Wade-Martins, “The Origins of Rural Settlement in East Anglia', in P.J. Fowler (ed.). Recent Work in Rural Archaeology (Bradfordupon-Avon, 1975), pp. 137–57; idem, 'The Archaeology of Medieval Rural Settlement in East Anglia', in Mchael Aston et al. (eds.). The Rural Settlements of Medieval England (Oxford, 1989), pp. 149–65, at pp. 159–60.
(обратно)550
Martin Born, Geographie der landlichen Siedlungen 1: Die Genese der Siedlungsformen in Mitteleuropa (Stuttgart, 1977), inserts after p. 156.
(обратно)551
Edward Miller and John Hatcher, Medieval England: Rural Society and Economic Change 1086–1348 (London, 1978), p. 87.
(обратно)552
напр.: Brian K. Roberts, The Green Villages of County Durham (Durham, 1977).
(обратно)553
J.G. Hurst, 'The Changing Medieval Village in England', in JA Raftis (ed.). Pathways to Medieval Peasants (Toronto, 1981), pp. 27–62, pp. 51, 48 and plan 2. 8.
(обратно)554
Wolfgang Prange, Siedlungsgeschichte des Landes Lauenburg im Mittelalter (Neumunster, 1960), pp. 166–7 and map 45.
(обратно)555
Miller and Hatcher, Medieval England, p. 86.
(обратно)556
Егоров Д.Н. Колонизация Мекленбурга в XIII веке. Т. 1. М, 1915, с. 506.
(обратно)557
См. по этой проблеме сборник статей: Hans-Jurgen Nitz (ed.). Historisch-genetische Siedlungsforschung (Darmstadt, 1974), part 3: 'Die Rundlingsfrage'.
(обратно)558
О поселениях такого типа см.: Hans-Jurgen Nitz, 'The Church as Colonist: The Benedictine Abbey of Lorsch and Planned Waldhufen Colonization in the Odenwald', Journal of Historical Geography 9 (1983), pp. 105–26.
(обратно)559
Eilert Ekwall, The Concise Oxford Dictionary of Place Names (4th ed., Oxford, 1960), pp. xxui, 49 and 136.
(обратно)560
Adolph Bach, Deutsche Namenkunde (2nd ed., 3 vols., Heidelberg, 1952–6) 2/ii, p. 126.
(обратно)561
ibid., pp. 129–36.
(обратно)562
ibid., p. 125.
(обратно)563
Цит. по кн.: Helmold, Chronica Slavorum 1. 12, ed. Stoob, p. 68. (Имеется рус. издание: Гельмольд Славянская хроника. М., 1963.)
(обратно)564
Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis, p. 168; Helbig and Weinrich 2, no. 39, p. 188.
(обратно)565
Liber fundationis... Heinrichow 1. 3, ed. Grodecki, p. 257; Helbig and Weinrich 2, no. 13, p. 104.
(обратно)566
См.: Adriaan von Müller, 'Zum hochmittelalterlichen Besiedlung des Teltow (Brandenburg): Stand eines mehrjahrigen archaologischsiedlungsgeschichtlichen Forschungsprogrammes', in Walter Schlesinger (ed.). Die deutsche Ostsiedlung als Problem der europaischen Geschichte (Vortrage und Forschungen 18, Sigmaringen, 1975), pp. 311–32.
(обратно)567
Последнее издание Ратцебургского реестра см.: Hans Wurm in Hans-Georg Kaack and Hans Wurm, Slawen und Deutsche im Lande Lauenburg (Ratzeburg, 1983), pp. 137–205; факсимильная копия включена в кн.: Егоров Д.Н. Колонизация Мекленбурга в XIII веке; фрагменты содержатся также в кн.: Helbig & Weinrich 1, no. 63, pp. 260–66.
(обратно)568
Cartae et alia munimenta... de Glamorgan, ed. George T. Clark (6 vols., Cardiff, 1910), 1, no. 151, p. 152; Davies, Conquest, pp. 153, 188.
(обратно)569
Annales Pegavienses, MGH, SS 16, p. 247.
(обратно)570
Charles Higounet, Die deutsche Ostsiedlung im Mittelalter (Berlin, 1986), p. 110; cf. p. 252.
(обратно)571
Gonzalez, Repoblacion 1, p. 172; 2, pp. 271–99.
(обратно)572
Repartimiento de Sevilla, ed. Julio Gonzalez (2 vols., Madrid, 1951), 1, pp. 251–3; 2, pp. 14,18–19.
(обратно)573
Herbert Helbig, 'Die slawische Siedlung im sorbischen Gebiet', in Herbert Ludat (ed.), Siedlung und Verfassung der Slawen zwischen Elbe, Saale und Oder (Giessen, 1960), pp. 27–64.
(обратно)574
Schlesisches UB, ed. Heinrich Appelt and Winfried Irgang (4 vols, to date, Graz, Cologne and Vienna, 1963 —), 3, no. 103, p. 75 (Gtogow [Glogau], 1253).
(обратно)575
Helbig & Weinrich 1, no. 87, pp. 328–33.
(обратно)576
R.E. Glasscock, 'England circa 1334', in H.C. Darby (ed.), A New Historical Geography of England before 1600 (Cambridge, 1976), pp. 136–85, at p. 139 (fig. 35) and 178 (fig. 40).
(обратно)577
G. Jacob (ed.), Arabische Berichte von Gesandten an germanische Fürstenhofe aus dem 9. und 10. Jahrhundert (Berlin and Leipzig, 1927), p. 12.
(обратно)578
Jifi Kejf, 'Die Anfange der Stadtverfassung und des Stadtrechts in den Bohmischen Landern', in Walter Schlesinger (ed.). Die deutsche Ostsiedlung des Mittelalters als Problem der europaischen Geschichte (Vortrage und Forschungen 18, Sigmaringen, 1975), pp. 439–70.
(обратно)579
Gearoid MacNiocaill, Na Buirgeisi (2 vols., Dublin, 1964) 1, pp. 78–81, and Elenchus fontium historiae urbanae 2/2, ed. Susan Reynolds et al., (Leiden, etc., 1988), pp. 162–5; Na Buirgeisi, pp. 75–7, Elenchus fontium, pp. 161–2.
(обратно)580
Geoffrey Martin, 'Plantation Boroughs in Medieval Ireland, with a Handlist of Boroughs to с 1500', in David Harkness and Mary O'David (eds.). The Town in Ireland {Historical Studies 13, Belfast, 1981), pp. 25–53.
(обратно)581
Karl Hoffmann, 'Die Stadtgriindungen Mecklenburg-Schwerins in der Kolonisationszeit vom 12. bis zum 14. Jahrhundert', Jahrbuch für mecklenburgische Geschichte 94 (1930), pp. 1–200; Walter Kühn, 'German Town Foundations of the Thirteenth Century in Western Pomerania', in H.B. Clarke and Anngret Simms (eds.). The Comparative History of Urban Origins in Non-Roman Europe (British Archaeological Reports, International Series 255, 2 vols., Oxford, 1985) 2, pp. 547–80, at p. 569.
(обратно)582
John Bradley, 'Planned Anglo-Norman Towns in Ireland', in Clarke and Simms (eds.). Comparative History 2, pp. 411–67, at p. 420.
(обратно)583
Henri Bresc, 'Feodalite coloniale en terre d'Isiam: La Sicile (1070–1240)', in Structures feodales et feodalisme dans l'Occident mediterraneen (Xe-XIIIe s.) (Paris, 1980), pp. 631–47, at p. 644.
(обратно)584
Liv-, esth- und curlandisches UB, ed. F.G. von Bunge et al. (1st ser., 12 vols.. Reval and Riga, 1853–1910), 1, no. 53, col. 57 (1221).
(обратно)585
Alfonso Garcia-Gallo, 'Los Fueros de Toledo', Anuario de historia del derecho espanol 45 (1975), pp. 341–488, doc. 8, at pp. 469–71.
(обратно)586
Domesday Book, ed. Abraham Parley (2 vols., London, 1783), 1, fol. 269.
(обратно)587
Mary Bateson, “The Laws of Breteuil”, English Historical Review 15 (1900), pp. 73–8, 302–18, 496–523, 754–7; 16 (1901), pp. 92–110, 332–45.
(обратно)588
Das alte Lübische Recht, ed. Johaim Friedrich Hach (Lubeck, 1839), p. 185.
(обратно)589
Codex iuris municipalis regni Bohemiae 2, ed. Jaromir Celakovsky (Prague, 1895), p. 38.
(обратно)590
Helbig & Weinrich 2, no. 15, pp. 124–31 (1235); Lawrence of Wroclaw for Walter, ibid., 2, no. 22, pp. 144–7.
(обратно)591
Zbigniew Zdrojkowski, 'Miasta na prawie Sredzkim', Sląski kwartalnik historyczny Sobotka 41 (1986), pp. 243–51.
(обратно)592
Coleccion de fueros municipales у cartas pueblos de los reinos de Costilla, Leon, Corona de Aragon у Navarra, ed. Tomas Mufloz у Romero (Madrid, 1847), p. 243; Fuero de Jaca, ed. Mauricio Molho (Saragossa, 1964).
(обратно)593
Schlesisches UB 3, no. 373, pp. 241–2.
(обратно)594
Quellenbuch zur Geschichte der Sudetenlander 1, ed. Wilhelm Weizsacker (Munich, 1960), no. 23, pp. 52–4; см. также список литературы в кн.: Helbig & Weinrich, 2, p. 61, п. 4.
(обратно)595
Wilhelm Ebel (ed.), Lubecker Ratsurteile (4 vols., Göttingen, 1955–67).
(обратно)596
Narcisco Hergueta, 'El Fuero de Logroflo: su extensidn a otras poblaciones', Boletin de la Real Academia de la Historia 50 (1907), pp. 321–2.
(обратно)597
Helbig & Weinrich 2, no. 41, pp. 192–5.
(обратно)598
Andre Joris, Huy et sa charte de franchise, 1066 (Brussels, 1966).
(обратно)599
Kejf, 'Die Anfange der Stadtverfassung', pp. 461–2.
(обратно)600
Chronicle of Morea, tr. Harold E. Lurier, Crusaders as Conquerors (New York, 1964), p. 137; Raimund Friedrich Kaindl, Geschichte der Deutschen in den Karpathenlandem (3 vols.. Gotha, 1907–11) 2, p. 405; Т.Н. Parry-Williams, The English Element in Welsh (Cymmrodorion Record Series 10, London, 1923), p. 155.
(обратно)601
E.M. Cams-Wilson, “The First Half-Century of the Borough of Stratford-upon-Avon', Economic History Review, 2nd ser., 18 (1965), pp. 46–63.
(обратно)602
Fuero de Logrono, ed. T. Moreno Garbaya, Apuntes historicos de Logrono (Logrono, 1943), pp. 42–9.
(обратно)603
Cronicas anonimas de Sahagun 15, ed. Antonio Ubieto Arteta (Textos medievales 75, Saragossa, 1987), pp. 19–21.
(обратно)604
Lacarra, no. 187.
(обратно)605
Cronica del rey don Alfonso X 11, in Cronicas de los reyes de Costilla 1 (Biblioteca de autores espafloles 66, Madrid, 1875), pp. 1–66, at p. 9.
(обратно)606
См. хартию об основании города Сьюдад Реал в кн.: Margarita Penalosa Esteban-Infantes, La fundacion de Ciudad Real (Ciudad Real, 1955), pp. 9–11; cf. Julio Gonzalez, Repoblacion de Castillo la Nueva (2 vols, Madrid, 1975–6) 1, pp. 349–50.
(обратно)607
План города см.: ibid. 2, p. 95.
(обратно)608
Jose Maria Font Rius (ed.), Cartas de poblacion у franquicia de Cataluna (2 vols., Madrid and Barcelona, 1969) 1, no. 49, pp. 82–4.
(обратно)609
Primera cronica general de España 1071, ed. Ramon Menendez Pidal (2 vols., Madrid, 1955), 2, p. 747.
(обратно)610
См. карту в кн.: Repartamiento de Sevilla, ed. Julio Gonzalez (2 vols., Madrid, 1951), 1, opposite p. 314.
(обратно)611
Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, ed. Gustavus Friedrich et al. (5 vols, to date, Prague, 1904 —). 2, no. 381, p. 429; Kejf, 'Die Anfange der Stadtverfassung', p. 458.
(обратно)612
Annates capituli Cracoviensis (Rocznik Kapitulny Krakowski), ed. August Bielowski, MPH 2 (Lwów, 1872, repr. Warsaw, 1961), pp. 779–816, at p. 806.
(обратно)613
Helbig & Weinrich 2, no. 77, pp. 290–96.
(обратно)614
ibid. 1, no. 69, pp. 276–9.
(обратно)615
Mecklenbwrgisches UB (25 vols, in 26, Schwerin and Leipzig, 1863–1977) 3, no. 2100, pp. 402–4 (1291); 4, no. 2503, pp. 58–5 (1298).
(обратно)616
Hoffmann, 'Die Stadtgriindungen Mecklenburg-Schwerins', p. 68.
(обратно)617
The Dublin Guild Merchant Roll с 1190–1265, ed. Philomena Connolly and Geoffrey Martin (Dublin, 1992), pp. 1–39.
(обратно)618
Claude Cahen, 'Un texte peu connu relatif au commerce oriental d'Amalfi au Xe siècle'. Archivio storico per le province napoletane, n.s., 34 (1955 for 1953–4), pp. 61–6.
(обратно)619
G.L.F. Tafel and G.M. Thomas (eds.), Urkunden zur alteren Handelsund Staatsgeschichte der Republik Venedig (3 vols., Fontes rerum Austriacarum II, 12–14, Vienna, 1856–7) 1, no. 40, pp. 79–89; William of Tyre, Chronicle 12.25, ed. R.B.C. Huygens (2 vols.. Corpus Christianorum, Continuatio mediaevalis 63–63. Tumhout, 1986), 1, pp. 577–81.
(обратно)620
Joshua Prawer, Crusader Institutions (Oxford, 1980), p. 232, n. 40; Nicolas Morosini: ibid., pp. 226–7.
(обратно)621
Wilhelm Heyd, Histoire du commerce du Levant au Moyen Age (2 vols., Leipzig, 1885–6) 1, p. 397.
(обратно)622
Tafel and Thomas, Urkunden... der Republik Venedig 2, no. 232, pp. 143–5; Freddy Thiriet, La Romanie venitienne au Moyen Age: Le developpement et l'exploitation du domaine colonial venitien (XII–XTV s.) (Paris, 1959), pp. 125–6, n. 3.
(обратно)623
Tafel and Thomas, Urkunden… der Republik Venedig 3, no. 350, pp. 56–9, at p. 57.
(обратно)624
Edith Ennen, Die europaische Stadt des Mittelalters (4th ed., Göttingen, 1987), p. 132.
(обратно)625
Heinrich Hagenmeyer (ed.), Epistulae et chartae ad historiam primi belli sacri spectantes (Innsbruck, 1901), no. 13, pp. 155–6.
(обратно)626
David Abulafia, The Two Italics (Cambridge, 1977), p. 255.
(обратно)627
George Pachymeres, De Michaele et Andronico Palaeologis, ed. Immanuel Bekker (2 vols.. Corpus scriptorum historiae Byzantinae 24–5, Bonn, 1835), 1, pp. 419–20.
(обратно)628
Cornelio Desimoni (ed.), 'I conti dell'ambasciata al chan di Persia nel 1292', Atti della Societa ligure di storia patria 13/3 (1879), pp. 537–698, at pp. 608, 614; Michael Baiard, La Romanie genoise (XIIe-debut du XVe siècle) (2 vols., Rome, 1978) 1, pp. 134, 138.
(обратно)629
Baiard, La Romanie genoise 1, pp. 154–5.
(обратно)630
ibid. 1, Trois autres genes' (i.e. Caffa, Pera and Chios), title to chapter 4.
(обратно)631
ibid. 1, pp. 199–202, 235–48, 339–41; Michel Balard (ed.), Genes et l'Outremer I: Les actes de Coffa du notaire Lamberto di Sambuceto 1289–90 (Paris, 1973).
(обратно)632
Balard, La Romanie genoise 1, pp. 202–14, 250, 289–302; Giorgio Fedalto, La Chiesa Latina in Oriente (2nd ed., 3 vols., Verona, 1981) 2, pp. 61–3.
(обратно)633
О продолжительности плавания из Венеции и Генуи см.: Thiriet, La Romanie venitienne, p. 187; Balard, La Romanic genoise 1, pp. 473–4; 2, pp. 76–85. Об особенностях навигации и морских путей Средиземноморья см.: John H. Pryor, Geography, Technology and War: Studies in the Maritime History of the Mediterranean, 649–1571 (Cambridge, 1988).
(обратно)634
John H. Pryor, Geography, Technology and War: Studies in the Maritime History of the Mediterranean, 649–1571 (Cambridge, 1988).
(обратно)635
Suzanne Lewis, The Art of Matthew Paris in the 'Chronica Majora' (Berkeley, etc., 1987), p. 350, fig. 214; Itineraires a Jerusalem, ed. Henri Michelant and Gaston Raynaud (Publications de la Societe de l’Orient latin. Serie geographique 3, Geneva, 1882), pp. 136–7.
(обратно)636
Gabrieli, Arab Historians, p. 340 (Tashrif).
(обратно)637
Robert S. Lopez and Irving W. Raymond (eds.). Medieval Trade in the Mediterranean (New York, 1955), doc. 158, p. 322; Balard, La Romanie genoise, index s.v. 'Negro (di)'.
(обратно)638
Gunther Fehring, “The Archaeology of Early Lübeck: The Relation between the Slavic and the German Settlement Sites”, in H.B. Clarke and Anngret Simms (eds.). The Comparative History of Urban Origins in NonRoman Europe (British Archaeological Reports, International Series 255, 2 vols., Oxford, 1985) 1, pp. 267–87.
(обратно)639
Цит. по кн.: Helmold, Chronica Slavorum, 1.48; 1.57; 1.71; 1.63; 1.76; 1.86 ed. Stoob. (Имеется рус. издание: Гельмольд Славянская хроника. М., 1963.)
(обратно)640
ibid 2.21; Wilhelm Ebel, Lubisches Recht (Lübeck, 1971).
(обратно)641
Die Urkunden Heinrichs des Lowen, Herzogs von Sachsen und Bayem, ed. Karl Jordan, MGH, Laienfursten- und Dynastenurkunden der Kaiserzeit (Leipzig and Weimar, 1941–9), no. 15, pp. 9–10; Hansisches UB 1, ed. Konstantin Hohlbaum (Halle, 1876), no. 17, p. 10.
(обратно)642
Detlev Ellmers, “The Cog of Bremen and Related Boats”, in Sean McGrail (ed.). The Archaeology of Medieval Ships and Harbours in Northern Europe (British Archaeological Reports, International Series 66, Oxford, 1979), pp. 1–15, at pp. 9–11; Siegfried Fliedner and Rosemarie PohlWeber, The Cog of Bremen (Eng. tr., 3rd ed., Bremen, 1972).
(обратно)643
Georg Lechner (ed.), Die hansischen Pfundzollisten des Jahres 1368 (Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte, n.s., 10, Lübeck, 1935), p. 66.
(обратно)644
Livlandische Reimchronik, lines 127–228, ed. Leo Meyer (Paderbom, 1876), pp. 4–6.
(обратно)645
Цит. по кн.: Livonia, Chronicon Livoniae, 4.5, 5.1, ed. Leonid Arbusow and Albert Bauer (АО 24, Darmstadt, 1959), pp. 18–20. (Имеется рус. издание: Генрих Латвийский. Хроника Ливонии, М. — Л., 1938, 4.5, 5.1.)
(обратно)646
Friedrich Benninghoven, Rigas Entstehung und der Frühhansische Kaufmann (Hamburg, 1961), pp. 41–7.
(обратно)647
Hansisches UB 1, no. 88, p. 38; of 1225: ibid. 1, no. 194, pp. 60–61.
(обратно)648
Benninghoven, Rigas Entstehung, plates opposite pp. 80, 105.
(обратно)649
Liv-, esth-, und curlandisches UB 6, no. 2717, cols. 4–6.
(обратно)650
Benninghoven, Rigas Entstehung, pp. 54–62, 98–100, 105–9.
(обратно)651
Liselotte Feyerabend, Die Rigauer und Revaler Familiennamen im 14. und 15. Jahrhundert (Cologne and Vienna, 1985), p. 149.
(обратно)652
Цит. по кн.: Henry of Livonia, Chronicon Livoniae, 9.4, ed. Arbusow and Bauer, p. 38. (Имеется рус. издание: Генрих Латвийский. Хроника Ливонии, М. — Л., 1938.)
(обратно)653
Rerum Hungaricarum monumenta Arpadiana, ed. S.L. Endlicher (St Gallen, 1849), pp. 399–400.
(обратно)654
Regino of Prani, Epistula ad Hathonem archiepiscopum missa, ed. Friedrich Kurze, Reginonis chronicon (SRC, Hanover, 1890), pp. xix — xx.
(обратно)655
Statutes and Ordonances and Acts of the Parliament of Ireland: King John to Henry V, ed. Henry F. Berry (Dublin, 1907), p. 210; Kenneth H. Jackson (ed.), A Celtic Miscellany (rev. ed., Harmondsworth, 1971), p. 218; Helbig & Weinrich 1, no. 19, p. 98; Francesco Gabrieli (ed.), Arab Historians of the Crusades (Eng. tr., Berkeley and London, 1969), pp. 200–201 (Baha' ad-Din).
(обратно)656
Etymologies 9.1.1, ed. W.M. Lindsay (2 vols.. Oxford, 1911, unpaginated).
(обратно)657
Claudius Marius Victor, Alethia 3, line 274, ed. Cari Schenkl, Poetae Christiani minores 1 (Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum 16/1, Vienna, etc., 1888), pp. 359–436, at p. 416.
(обратно)658
Peter of Zittau, Chronicon Aulae Regiae 1.68, ed. J. Emler, Fontes rerum Bohemicarum 4 (Prague, 1884), pp. 1–337, at p. 83.
(обратно)659
Edouard Perroy, L'Angleterre et le Grand Schisme d'Occident (Paris, 1933), pp. 394–5.
(обратно)660
Chronicon Aulae Regiae 2.23, ed. Emier, p. 301; Latinitatis Medii Aevi Lexicon Bohemiae: Slovnik Stredoveke Latiny v Ceskych Zemich (Prague, 1977 —), pp. 910–11.
(обратно)661
Monumenta Poloniae Vaticana 3: Analecta Vaticana, ed. Jan Ptasnik (Cracow, 1914), no. 247, p. 278.
(обратно)662
Pommerellisches UB, ed. Max Perlbach (Danzig, 1881–2), no. 492, pp. 442–3 (1292).
(обратно)663
Register of the Abbey of St Thomas Dublin, ed. John T. Gilbert (RS, 1889), nos. 36, 269, 302, pp. 37, 224, 258; T. Jones Hughes, Town and Baile in Irish Place-Names', in Nicholas Stephens and Robin E. Glasscock (eds.), Irish Geographical Studies in Honour of E. Estyn Evans (Belfast, 1970), pp. 244–58.
(обратно)664
Ramon Menendez Pidal (ed.), Documentes lingiiisticos de Espana 1 (Madrid, 1919, repr. 1966), p. 353.
(обратно)665
Widukind of Corvey, Res gestae Saxonicae 2.36, ed. Albert Bauer and Reinhold Rau, Quellen zur Geschichte der sachsischen Kaiserzeit (АО 8, rev. ed.. Darmstadt, 1977), pp. 1–183, at p. 118.
(обратно)666
Chronicle of Morea, tr. Harold E. Lurier, Crusaders as Conquerors (New York, 1964), pp. 37–56, 192, 223–4.
(обратно)667
Gearoid Iarla, ed. Gear6id MacNiocaill, 'Duanaire Ghearoid Iarla', Studio Hibemica 3 (1963), pp. 7–59.
(обратно)668
Geoffrey Malaterra, De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae comitis et Roberti Cuiscardi ducis fratris eius 4.2, ed. Ernesto Pontieri (Rerum italicarum schptores, n.s., 5/1, Bologna, 1928), p. 86.
(обратно)669
William of Apulia, La geste de Robert Guiscard 1, lines 165–8, ed. Marguerite Mathieu (Palermo, 1961), p. 108.
(обратно)670
John Boswell The Royal Treasure: Muslim Communities under the Crown of Aragon in the Fourteenth Century (New Haven, 1977), pp. 74, n. 41, 384; Book of Fees (2 vols, in 3, London, 1920–31) 1, p. 146; Red Book of the Exchequer, ed. Hubert Hall (3 vols., RS, 1896), 2, p. 454 (Wrenoc ap Meurig, 1212); Constance Bullock-Davies, Professional Interpreters and the Matter of Britain (Cardiff, 1966).
(обратно)671
Walter Kaestner, 'Mittelniederdeutsche Elemente in der polnischen und kaschubischen Lexik', in P. Sture Ureland (ed.). Sprachkontakt in der Hanse Akten des 7. Intemationalen Symposions iiber Sprachkontakt in Europa, Lubeck 1986 (Tubingen, 1987); pp. 135–62; Т.Н. Parry-Williams, The English Element in Welsh (Cymmrodorion Record Series 10, London, 1923), pp. 68, 76–7, 155; Rees Davies, Conquest, Coexistence and Change: Wales 1063–1415 (Oxford, 1987), p. 104); J.N. Hillgarth, The Spanish Kingdoms 1250–1516 (2 vols., Oxford, 1976–8) 1, p. 185.
(обратно)672
Codex diplomaticus Brandenburgensis, ed. Adolph Friedrich Riedel (41 vols., Berlin, 1838–69), A 22, p. 114; Statutes … of the Parliament of Ireland: King John to Henry V, pp. 434–5 (clause 3); Glamorgan County History 3: The Middle Ages, ed. T.B. Pugh (Cardiff, 1971), p. 359. Подробнее этот вопрос рассматривается в Гл.11.
(обратно)673
Thietmar of Merseburg, Chronicon 3.21, ed. Werner Trillmich (AQ 9, Darmstadt, 1957), p. 108.
(обратно)674
Heinz Zatschek, 'Namensanderungen und Doppelnamen in Bohmen und Mahren im hohen Mittelalter', Zeitschrift für Sudetendeutsche Geschichte 3 (1939), pp. 1–11, at p. 10.
(обратно)675
Angel Gonzalez Palencia, Los mozarabes toledanos en los siglos XII у XIII fvolumen preliminar' and 3 vols., Madrid, 1926–30), vol. prel, p. 123.
(обратно)676
Frantisek Graus, Die Nationenbildung der Westslawen im Mittelalter (Nationes 3, Sigmaringen, 1980), pp. 21, 93.
(обратно)677
Rees Davies, 'Race Relations in Post-Conguest Wales', Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion (1974–5), pp. 32–56, at p. 34.
(обратно)678
Davies, Conquest, p. 17.
(обратно)679
Gearoid MacNiocaill, Na Buirgeisi (2 vols., Dublin, 1964) 2, no. 77, pp. 351–2 (1279–80).
(обратно)680
Jonathan Riley-Smith, The Knights of St. John in Jerusalem and Cyprus с 1050–1310 (London, 1967), pp. 283–4.
(обратно)681
Regesta diplomatica пес поп epistolario Bohemiae et Moraviae, ed. K.J. Erben, J. Ernler et al. (7 vols., to date, Prague, 1854 —), 2, no. 1106, pp. 466–8.
(обратно)682
Peter of Zittau, Chronicon Aulae Regiae 1.68, ed. Ernler, p. 83.
(обратно)683
Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum (2nd ser., 3 vols., Poznan and Warsaw, 1890–1935) 1, p. 163.
(обратно)684
Ranald Nicholson, 'A Sequel to Edward Brace's Invasion of Ireland', Scottish Historical Review 42 (1963), pp. 30–40, at pp. 38–9; Geoffrey Barrow, Robert Bruce and the Community of the Realm of Scotland (2nd ed., Edinburgh, 1982), p. 434.
(обратно)685
Walter Bower, Scotichronicon 12.32, ed. D.E.R. Watt, 6 (Aberdeen, 1991), p. 402.
(обратно)686
William Stubbs (ed.). Select Charters (9th ed., Oxford, 1913), p. 480.
(обратно)687
Annales capituli Cracoviensis (Rocznik Kapitulny Krakowski), ed. August Bielowski, MPH 2 (Lwow, 1872, repr. Warsaw, 1961), pp. 779–816, at p. 815.
(обратно)688
Karl Gottfried Hugelmann, 'Die Rechtsstellung der Wenden im deutschen Mittelalter', Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung 58 (1938), pp. 214–56, at p. 238.
(обратно)689
Historical Manuscripts Commission, 10th Report, appendix 5 (London, 1885), pp. 260–61, no. 8; cf. the Statutes of Kilkenny of 1366, Statutes of the Parliament of Ireland: King John to Henry V, pp. 434–5 (clause 3).
(обратно)690
Perroy, L'Angleterre et le Grand Schisme, pp. 394–5 (cf. p. 403).
(обратно)691
James Lydon, 'The Middle Nation', in idem (ed.), The English in Medieval Ireland (Dublin, 1984), pp. 1–26, at pp. 22–3.
(обратно)692
Historical Manuscripts Commission, Wth Report, app. 5, p. 308.
(обратно)693
William R. Schmalstieg, Studies in Old Prussian (University Park, Pa., 1976), esp. pp. 68–97; idem. An Old Prussian Grammar University Park, Pa., 1974), p. 3, for the quotation.
(обратно)694
Reinhold Olesch (ed.). Fontes linguae dravaeno-polabicae minores et Chronica Venedica J.P. Schultzii (Cologne and Graz, 1967), p. 165.
(обратно)695
Julio Gonzalez, Repoblacion de Costilla la Nueva (2 vols., Madrid, 1975–6) 2, pp. 87–90.
(обратно)696
Helbig & Weinrich 2, no. 93, p. 352.
(обратно)697
Pomerellisches UB, no. 159, pp. 133–4.
(обратно)698
Friedrich Lotter, 'The Scope and Effectiveness of Imperial Jewry Law in the High Middle Ages', Jewish History 4 (1989), pp. 31–58, at pp. 48–9.
(обратно)699
Helbig & Weinrich 1, no. 36, p. 158.
(обратно)700
Coleccion de fueros municipales у cartas pueblos de los reinos de Castillo, Leon, Corona de Aragon у Navarro, ed. Tomas Mufloz у Romero (Madrid, 1847), p. 537 (1142).
(обратно)701
Das alte Lubische Recht, ed. Johann Friedrich Hach (Lubeck, 1839), p. 302, no. 110 (contrast p. 206, no. 68); Gustav Korlen (ed.), Norddeutsch Stadtrechte 2: Das mittelniederdeutsche Stadtrecht von Lubeck nach seinen gltesten Formen (Lund and Copenhagen, 1951), p. 104 (clause 75); Wilhelm Ebel, Lubisches Recht (I) (Lttbeck, 1971), pp. 275–6; Wolfgang Zom, 'Deutsche und Undeutsche in der stadtischen Rechtsordnung des Mittelalters in Ost-Mitteleuropa', Zeitschrift für Ostforschimg 1 (1952), pp. 182–94, at p. 184.
(обратно)702
Les assises de Romanie 198, ed. Georges Recoura (Paris, 1930), p. 282.
(обратно)703
Alfonso Garcia-Gallo, 'Los Fueros de Toledo', Anuaiio de historia del derecho espanol 45 (1975), pp. 341–488.
(обратно)704
ibid., app., doc. 1, p. 460.
(обратно)705
ibid., doc. 3, p. 463.
(обратно)706
Gonzalez, Repoblacion 2, pp. 94–6; Maria Luz Alonso, 'La perduracion del Fuero Juzgo у el Derecho de los castellanos de Toledo', Anuario de historia del derecho espanol 48 (1978), pp. 335–77, p. 345 with n. 29.
(обратно)707
Garcia-Gallo, 'Los Fueros de Toledo', doc. 6, p. 467.
(обратно)708
Luz Alonso, 'El Fuero Juzgo', pp. 346–9, and doc. 1, pp. 374–5.
(обратно)709
Coleccion de fueros ed. Muftoz у Romero, pp. 415–17.
(обратно)710
Boswell, Royal Treasure, p. 131, n. 79 (1348).
(обратно)711
Las Siete Partidas 7.24. 1, ed. Real Academia de la Historia (3 vols., Madrid, 1807), 3, p. 676.
(обратно)712
Rees Davies, 'The Law of the March', Welsh History Review 5 (1970–71), pp. 1–30, at p. 4; см. также: R. Bartlett, Gerald of Wales 1146–1223 (Oxford, 1982), pp. 41–2; and the Statute of Wales, Statutes of the Realm (11 vols., Record Commission, 1810–28) 1, pp. 55–68 (12 Edward I), at p. 68.
(обратно)713
Davies, 'Law of the March', p. 16; idem., Lordship and Society in the March of Wales 1282–1400 (Oxford, 1978), pp. 149–75, 'Judicial Lordship', and pp. 310–12.
(обратно)714
Helbig & Weinrich 2, no. 138, p. 520.
(обратно)715
Coleccion de fueros, ed. Munoz у Romero, pp. 415–17.
(обратно)716
Jose Maria Font Rius (ed.), Cartas de poblacion у franquicia de Cataluna (2 vols., Madrid and Barcelona, 1969) 1/i, no. 303, pp. 444–6.
(обратно)717
Francisco Fernandez у Gonzalez, Estado social у politico de los mudejares de Costilla (Madrid, 1866), p. 119, n. 2.
(обратно)718
Helbig & Weinrich 1, nos. 132 (1286), 141 (1351), pp. 488–90, 522.
(обратно)719
Fernandez у Gonzalez, Estado de los mudejares, doc. 24, p. 325.
(обратно)720
Helbig & Weinrich 2, no. 93, p. 354.
(обратно)721
Heibig & Weinrich 2, no. 77, p. 294; цит. actor forum rei, etc. взята из Codex Iustinianus 3.13.2 and 3.19.3, ed. Paul Krueger (Corpus iuris civilis 2, Berlin, 1895), pp. 128–9, и была включена в Декреталии Григория ГХ; см.: Gregory IX's Decretals 2.2.5, ed. Emil Friedberg (Corpus iuris canonici 2, Leipzig, 1881), col. 249 (из послания Александра III). Происхождение этой цитаты автору любезно помог установить Ричард Гельмгольц.
(обратно)722
Helbig & Weinrich 2, no. 93, p. 354.
(обратно)723
Sachsenspiegel, Landrecht 3.69–70, ed. Karl August Eckhardt (Germanenrechte, n.s., Göttingen, 1955), pp. 254–6.
(обратно)724
Coleccion de fueros, ed. Mufloz у Romero, pp. 415–17.
(обратно)725
Iura Prutenorum 18, ed. Jozef Matuszewski (Towarzystwo Naukowe w Toruniu: Fontes 53, Torun, 1963), p. 29; Reinhard Wenskus, Ausgewahlte Aufsatze zum frühen und preussischen Mittelalter, ed. Hans Patze (Sigmaringen, 1986), p. 422.
(обратно)726
Liv-, esth- und curlandisches UB, ed. F. G. von Bunge et al. (1st ser., 12 vols., Riga and Reval, 1853–1910), 1, no. 435, cols. 549–50; no. 437, col. 551 (1273).
(обратно)727
Fueros de Sepulveda, ed. Emilio Suez (Segovia, 1953), p. 74 (Tuero romanceado' 41).
(обратно)728
Mecklenburgisches UB (25 vols, in 26, Schwerin and Leipzig, 1863–1977) 14, no.8773, p.616.
(обратно)729
Rotuli chartarum in turn Londinensi osservati (1199–1216), ed. T.D. Hardy (London, 1837), p. 172 (cf. Davies, 'Race Relations', p. 34); Iura Prutenorum 89, ed. Matuszewski, p. 49.
(обратно)730
Thomas Glick, Islamic and Christian Spain in the Early Middle Ages (Princeton, 1979), p. 191.
(обратно)731
Historical Manuscripts Commission, 10th Report, app. 5, p. 323.
(обратно)732
Sachsenspiegel, Landrecht 3. 71, ed. Eckhardt, pp. 256–7.
(обратно)733
Richard Siebert (ed.), 'Elf ungedruckte Urkunden aus einem im Herzoglichen Haus- und Staatsarchiv zu Zerbst befindlichen Nienburger Copiale', Mitteilungen des Vereins für Anhaltinische Geschichte und Altertumskunde 9 (1904), pp. 183–94, at pp. 190–91.
(обратно)734
Wales: Rees Davies, 'The Twilight of Welsh Law, 1284–1506', History 51 (1966), pp. 143–64, at p. 160.
(обратно)735
Breslauer UB 1, ed. G. Kom (Breslau, 1870), no. 121, pp. 110–11.
(обратно)736
Codex iuris Bohemici, ed. Hermenegild Jiricek (5 vols, in 12, Prague, 1867–98), 2/2, p. 125 (Majestas Carolina 19).
(обратно)737
Roger of Wendover, Flores historiarum, ed. H.G. Hewlett (3 vols., RS, 1886–9), 2, p. 56; Geoffrey Hand, English Law in Ireland 1290–1324 (Cambridge, 1967), chapter 1, and Paul Brand, 'Ireland and the Literature of the Early Common Law', The Irish Jurist, n.s., 16 (1981), pp. 95–113.
(обратно)738
Foedera, conventiones, litterae et acta publico, ed. Thomas Rymer (new ed., 4 vols, in 7 parts. Record Commission, 1816–69), 1.1, p. 266; cf. Calendar of the Patent Rolls (1232–47) (London, 1906), p. 488.
(обратно)739
Rotuli litterarum clausarum in turn Londinensi osservati (1204–27), ed. T.D. Hardy (2 vols., London, 1833–44), 1, p. 497.
(обратно)740
Hand, English Law, p. 1.
(обратно)741
Bower, Scotichronicon 12.26–32, ed. Watt, 6, pp. 384–402; Hand, English Law, pp. 198–205.
(обратно)742
Kenneth Nicholls, 'Anglo-French Ireland and After', Peritia 1 (1982), pp. 370–403, at pp. 374–6.
(обратно)743
Hand, English Law, p. 199. Эпизод имел место в 1301 г.
(обратно)744
Calendar of the Justiciary Rolls of Ireland (1295–1303), ed. James Mills (Dublin, 1905), pp. 121–3.
(обратно)745
ibid., p. 14.
(обратно)746
Katherine Walsh, A Fourteenth-Century Scholar and Primate: Richard Fitz Ralph in Oxford, Avignon and Armagh (Oxford, 1981), p. 334.
(обратно)747
Statutes of the Parliament of Ireland: King John to Henry V, p. 210.
(обратно)748
Bower, Scotichronicon 12.28, ed. Watt, 6, p. 390.
(обратно)749
Hand, English Law, p. 202, цит. из документов дела 1301г.
(обратно)750
Calendar of the Justiciary Rolls of Ireland (1295–1303), p. 156.
(обратно)751
Calendar of Archbishop Alen's Register, ed. Charles McNeill (Dublin, 1950), pp. 103, 115.
(обратно)752
Hand, English Law, p. 208; Foedera 2. 1, pp. 293–4.
(обратно)753
Gearyid MacNiocaill, 'The Interaction of Laws', in James Lydon (ed.), The English in Medieval Ireland (Dublin, 1984), pp. 105–17, at pp. 106–7.
(обратно)754
Statutes of the Realm 1, p. 68.
(обратно)755
Preussisches UB (6 vols, to date, Königsberg and Marburg, 1882 —) 1/i, no. 218, pp. 158–65, at p. 159.
(обратно)756
Iura Prutenorum 25, ed. Matuszewski, p. 31.
(обратно)757
Codex iuris Bohemici 2/2, p. 167 {Majestas Carolina 82).
(обратно)758
Das Magdeburg-breslauer systematische Schöffenrecht 3.1.4, ed. Paul Laband (Berlin, 1863), p. 55; Das alte Kulmische Recht 3. 4, ed. C.K. Leman (Berlin, 1838), p. 53.
(обратно)759
Helbig & Weinrich 1, no. 66, p. 270.
(обратно)760
ibid. 2, no. 25, p. 154.
(обратно)761
AJ. Otway-Ruthven, “The Request of the Irish for English Law, 1277–80”, Irish Historical Studies 6 (1948–9), pp. 261–70, at p. 269; see also Aubrey Gwynn, 'Edward I and the Proposed Purchase of English Law for the Irish', Transactions of the Royal Historical Society, 5th ser., 10 (1960), pp. 111–27.
(обратно)762
MacNiocaill, Na Buirgeisi 2, p. 336, n. 21; Geoffrey Hand, 'English Law in Ireland, 1172–1351', Northern Ireland Legal Quarterly 23 (1972), pp. 393–422, p. 413 and n. 3.
(обратно)763
Hand, English Law, p. 409.
(обратно)764
Statutes of the Parliament of Ireland: King John to Henry V, p. 324.
(обратно)765
Frederick Pollock and Frederic William Maitland, The History of English Law before the Time of Edward I (2nd ed., 2 vols., Cambridge, 1898, reissued 1968) 1, p. 91.
(обратно)766
Mercedes Gaibrois de Ballesteros, Historia del reinado de Sancho TV de Costilla (3 vols., Madrid, 1922–8) 3, doc. 295, pp. 184–5.
(обратно)767
Davies, “Twilight”; idem. Conquest, pp. 422–4; Oxford Book of Welsh Verse, ed. T. Parry (Oxford, 1962), p. 139.
(обратно)768
Statutes of the Realm 3, pp. 563–9 (27 Henry VIII с 26), pp. 563, 567.
(обратно)769
Сноска пропущена в оригинале.
(обратно)770
Cosmas of Prague, Chronica Boemorum 2.23, cd. Bertold Bretholz (SRG, n.s., Berlin, 1923), p. 116.
(обратно)771
Chronicon, ed. Wilhelm Wattenbach, MGH, SS 17 (Hanover, 1861), pp. 683–710, at p. 685.
(обратно)772
Cosmas of Prague, Chronica Boemorum 1. 23, 31, ed. Bretholz, pp. 44–5, 56.
(обратно)773
Symbolum Electorum 1.28, in J.S. Brewer, J.F. Dimock and G.F. Warner (eds.). Opera (8 vols., RS, 1861–91) 1, pp. 197–395, p. 306.
(обратно)774
Honorius III, 20 June 1224, Cum olim fuisses, Po. 7272, and Cum olim venerabilis; Pontificia Hibernica: Medieval Papal Chancery Documents concerning Ireland 640–1261, ed. Maurice P. Sheehy (2 vols., Dublin, 1962–5), 1, nos. 167–8, pp. 253–5.
(обратно)775
Frantisek Graus, Die Nationenbildung der Westslawen im Mittelalter (Nationes 3, Sigmaringen, 1980), p. 97, n. 78.
(обратно)776
Codex diplomaticus Lusatiae superioris 1, ed. Gustav Kohler (2nd ed., Gorlitz, 1856), no. 86, pp. 137–8.
(обратно)777
Helbig & Weinrich 1, no. 85, pp. 324–6 (1237); Jürgen Petersohn, Dei siidliche Ostseeraum im kirchlich-politischen Kraftespiel des Reichs, Polens und Danemarks vom 10. bis 13. Jahrhundert (Cologne and Vienna, 1979), pp. 323–4.
(обратно)778
UB des ehemaligen Cistercienserstiftes Goldenkron in Bohmen, ed. M. Pangerl (Fontes rerum Austriacarum II, 37, Vienna, 1872), no. 79, p. 146, n. 3.
(обратно)779
Peter of Zittau, Chronicon Aulae Regiae 1.68, ed. J. Emier, Fontes rerum Bohemicarum 4 (Prague, 1884), pp. 1–337, p. 84.
(обратно)780
Codex diplomaticus Maioris Poloniae, ed. Ignacy Zakrzewski and Franciszek Piekosinski (5 vols., Poznan, 1877–1908), 1, no. 551, pp. 510–15; of 1326: ibid. 2, no. 1061, p. 396.
(обратно)781
Monumenta Poloniae Vaticana 3: Analecta Vaticana, ed. Jan Ptasnik (Cracow, 1914), pp. 82, 90, 86, 88–9, 87, 90, 92, 93, 84–5.
(обратно)782
Patent Rolls of the Reign of Henry III (1216–32) (2 vols., London, 1901–3) 1, p. 23; cf. p. 22; J.A Watt, The Church and the Two Nations in Medieval Ireland (Cambridge, 1970), pp. 69–84; idem. The Church in Medieval Ireland (Dublin, 1972), pp. 100–109.
(обратно)783
Ralph V Turner, Men Raised from the Dust: Administrative Service and Upward Mobility in Angevin England (Philadelphia, 1988), pp. 91–106; Rotuli chartarum in turn Londinensi asservati (1199–1216), ed. T.D. Hardy (London, 1837), p. 218.
(обратно)784
Honorius III, 6 August 1220, Pervenit ad audientiam nostram, Po. 6323, and 26 April 1224, Sicut ea que rite, Po. 7227; Pontificia Hibernica, ed. Sheehy 1, nos. 140, 158, pp. 225, 245–6.
(обратно)785
Patent Rolls of the Reign of Henry III 2, p. 59 (1226); cf. Rotuli litterarum clausarum in turn Londinensi asservati (1204–27), ed. T.D. Hardy (2 vols., London, 1833–44), 2, pp. 29, 31 (1225).
(обратно)786
J A Watt, 'English Law and the Irish Church: The Reign of Edward Г, in J.A Watt, J.B. Morrall and F.X. Martin (eds.), Medieval Studies presented to A Gwynn (Dublin, 1961), pp. 133–67, at pp. 150–51, n. 51; cf. Calendar of Documents relating to Ireland (1171–1307), ed. H.S. Sweetman (5 vols., London, 1875–86), no. 2, p. 10.
(обратно)787
Edouard Perroy, L'Angleterre et le Grand Schisme d'Occident (Paris, 1933), pp. 394–5.
(обратно)788
Innocent III, 14 September 1204, Venientes ad apostolicam, Po. 2280; Registrum sive epistolae 7.128, PL, 214–16, at 215, cols. 417–19.
(обратно)789
Расчеты сделаны на основании: Acta capitulomm generalium ordinis praedicatorum 1 (1220–1303), ed. Benedictus Maria Reichert (Monumenta ordinis fratrum praedicatorum historica 3, Rome and Stuttgart, 1898).
(обратно)790
W. Moir Bryce, The Scottish Grey Friars (2 vols., Edinburgh and London, 1909), 1, pp. 5–15; Andre Callebaut, 'A propos du bienheureux Jean Duns Scot de Littledean', Archivum Franciscanum Historicum 24 (1931), pp. 305–29, at p. 325.
(обратно)791
Heinrich Finke (ed.), Ungedruckte Dominikanerbriefe des 13. Jahrhunderts (Paderbom, 1891), no. 15, pp. 59–60.
(обратно)792
John Freed, The Friars and German Society in the Thirteenth Century (Cambridge, Mass., 1977), p. 72.
(обратно)793
ibid., pp. 74–5.
(обратно)794
Regesta diplomatica пес поп epistolario Bohemiae et Moraviae, ed. K.J. Erben, J. Emler et ей. (7 vols, to date, Prague, 1854 —), 2, no. 2505, p. 1078; Graus, Nationenbildung, p. 97, n. 79.
(обратно)795
Codex diplomaticus Maioris Poloniae 1, no. 551, p. 513. Brzesc: Graus, Nationenbildung, p. 122, n. 254. Roudnice: Regesta diplomatica nee поп epistolario Bohemiae et Moraviae 3, no. 2008, p. 782 (1333).
(обратно)796
R.W. Southern, Western Society and the Church in the Middle Ages (Harmondsworth, 1970), p. 255.
(обратно)797
Aubrey Gwynn and R. Neville Hadcock, Medieval Religious Houses: Ireland (London, 1970), pp. 121–44.
(обратно)798
Watt, Church and Two Nations, chapter 4, pp. 85–107, “The Crisis of the Cistercian Order in Ireland”; idem. The Church in Medieval Ireland, pp. 53–9; Barry O'Dwyer, The Conspiracy of Mellifont, 1216–1231 (Dublin, 1970).
(обратно)799
Stephen of Lexington, Registrum epistolarum, ed. P. Bruno Griesser, Anatecta sacri ordinis Cisterciensis 2 (1946), pp. 1–118, at p. 51, no. 40; Barry O'Dwyer, Letters from Ireland 1228–1229 (Kalamazoo, Mch., 1982).
(обратно)800
Registrum, p. 81, no. 85; p. 93, no. 95; cf. p. 92, no. 94; p. 47, no. 37; cf. pp. 57–8, 93, 102, nos. 52, 95, 104 (clause 40); p. 102, no. 104 (clause 40).
(обратно)801
Dalimil Chronicle, ed. J. Jiricek, Fontes rerum Bohemicarum 3 (Prague, 1882), pp. 5–224, Di tutsch kronik von Behem tant (verse), and pp. 257–97, Die pehemische Cronica dewcz (prose); the Udalrich passage is verse 41, lines 25–38, pp. 83–4 (verse); section 30, p. 273 (prose).
(обратно)802
Geoffrey Malaterra, De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae comitis et Roberti Cuiscardi ducis fratris eius 3.13, ed Ernesto Pontieri (Rerum italicarum sciptores, n.s“ 5/1, Bologna, 1928), p. 64.
(обратно)803
Peter of Zittau, Chronicon Aulae Regiae 3.2, 12, ed. Elmer, pp. 320, 331.
(обратно)804
Regesta diplomatica пес поп epistolario Bohemiae et Moraviae 2, no. 2245, pp. 973–5; 3, no. 893, pp. 351–2, no. 1046, pp. 403–4; Peter of Zittau, Chronicon Aulae Regiae 1.126, ed. Emler, p. 228.
(обратно)805
Chronicon principum Polonie 23, ed. Zygmunt Węclewski, MPH 3 (Lwow, 1878, repr. Warsaw, 1961), pp. 421–578, at p. 497; Chronica Poloniae Maioris 72, ed. Brygida Kürbis, MPH, n.s., 8 (Warsaw, 1970), p. 88; cf. 88, p. 94.
(обратно)806
Chronica Poloniae Maioris 116, ed. Kürbis, p. 105.
(обратно)807
ibid. 156, ed. Kürbis, p. 124; see Paul Knoll, 'Economic and Political Institutions on the Polish-German Frontier in the Middle Ages: Action, Reaction, Interaction', in Robert Bartlett and Angus MacKay (eds.). Medieval Frontier Societies (Oxford, 1989), pp. 151–74, at p. 169.
(обратно)808
Annales capituli Posnaniensis, ed. Brygida Kürbis, MPH, n.s., 6 (Warsaw, 1962), pp. 21–78, at pp. 54–5.
(обратно)809
Francis of Prague, Cronicae Pragensis libri 111 3.12, ed. J. Emler, Fontes rerum Bohemicamm 4 (Prague, 1884), pp. 347–456, p. 426–7.
(обратно)810
Ernst Schwarz, 'Die Volkstumsverhaltnisse in den Stadten Bohmens und Mahrens vor den Hussitenkriegen', Bohemia: Jahrbuch des Collegium Carolinum 2 (1961), pp. 27–111, fig. 1, p. 34.
(обратно)811
Peter of Zittau, Chronicon Aulae Regiae 3.2, ed. Emier, p. 320.
(обратно)812
Filippo Buonaccorsi, alias Callimachus, Vita et mores Gregorii Sanocei, ed. Ludwik Finkel, MPH 6 (Cracow, 1893, repr. Warsaw, 1961), pp. 163–216, at p. 179. Эту цитату автору любезно предоставил Петр Горецки.
(обратно)813
Domesday Book, ed. Abraham Parley (2 vols., London, 1783), 1, fol. 252; see John Le Patourel, The Norman Empire (Oxford, 1976). pp. 38–40.
(обратно)814
Michael Richter, Sprache und Cessellschaft im Mittelalter (Stuttgart, 1979), p. 190.
(обратно)815
H.E. Shields, 'The Walling of New Ross — a Thirteenth-Century Poem in French', Long Room 12–13 (1975–6), pp. 24–33.
(обратно)816
Rees Davies. Conquest, Coexistence and Change: Wales 1063–1415 (Oxford, 1987), p. 166.
(обратно)817
Calendar of Ancient Petitions relating to Wales, ed. William Rees (Cardiff, 1975), p. 439, no. 13,029; no Welshman ought...': ibid., p. 172, no. 5, 433.
(обратно)818
Pommerellisches UB, ed. Max Perlbach (Danzig, 1881–2), no. 465, p. 416.
(обратно)819
Raimund Friedrich Kaindl, Geschichte der Deutschen in den Karpathenlandem (3vols.. Gotha, 1907–11) 2, pp. 37–8; Manfred Hamann, Mecklenburgische Geschichte (MF 51, Cologne, 1968), p. 195.
(обратно)820
Annales capituli Cracoviensis (Rocznik Kapitulny Krakowski), ed. August Bielowski, MPH 2 (Lwow, 1872, repr. Warsaw, 1961), pp. 779–816, at p. 815; Annales Krasinsciani (Rocznik Krasinskich), ed. August Bielowski, MPH3 (Lwow, 1878, repr. Warsaw, 1961), pp. 127–33, at p. 133.
(обратно)821
Liber actorum, resignationum пес поп ordinationum civitatis Cracoviae, ed. Franciszek Piekosinski (Monumenta Medii Aevi historica res gestas Poloniae illustrantia 4/1, Cracow, 1878), p. 28.
(обратно)822
Liber actorum... Cracoviae, ed. Piekosinski, p. 39; Wolfgang Zom, 'Deutsche und Undeutsche in der stadtischen Rechtsordnung des Mittelalters in Ost-Mitteleuropa', Zeitschrift für Ostforschung 1 (1952), pp. 182–94, at p. 186.
(обратно)823
Paul Johansen and Heinz von zur Mühlen, Deutsch und Undeutsch im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Reval (Cologne and Vienna, 1973), p. 12; Reinhard Wenskus, 'Das Ordensland Preussen als Territorialstaat des 14. Jahrhunderts', in Hans Patze (ed.). Der Deutsche Territorialstaat im 14. Jahrhundertl (Vortrage und Forschungen 13, Sigmaringen, 1970), pp. 347–82, esp. p. 366, n. 81; idem, 'Der Deutsche Orden und die nichtdeutsche Bevolkerang des Preussenlandes mit besonderer Beracksichtigung der Siedlung', in Walter Schlesinger (ed.). Die deutsche Ostsiedlung als Problem der europaischen Geschichte (Vortrage und Forschungen 18, Sigmaringen, 1975), pp. 417–38, at pp. 422–3; Rees Davies, 'Race Relations in Post-Conquest Wales', Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion (1974–5), pp. 32–56, at p. 45.
(обратно)824
Dalimil Chronicle (German version), prose 49, ed. Jiricek, pp. 283–4; cf. verse 67, lines 4–46, pp. 139–40.
(обратно)825
De Theutonicis bonum dictamen: ed. Wilhelm Wostry, 'Ein deutschfeindliches Pamphlet aus Bohmen aus dem 14. Jahrhundert', Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Bohmen 53 (1914–15), pp. 193–238, at pp. 226–32. Уостри датирует документ 1325–50 годами, Граус (Graus, Nationenbildung, app. 14, pp. 221–3) — 1380–93.
(обратно)826
Wemer Vogel, Der Verbleib der wendischen Bevolkerung in der Mark Brandenburg (Berlin, 1960), pp. 121–33.
(обратно)827
Codex diplomaticus Brandenburgensis, ed. Adolph Friedrich Riedel (41 vols., Berlin. 1838–69), A 20, pp. 350–51, no. 16 (1353), pp. 365–7, no. 38 (1387).
(обратно)828
ibid., A 14, pp. 241–2 (Neustadt Salzwedel, 1428).
(обратно)829
Vogel, Verbleib, pp. 127–8, n. 9; Dora Crete Hopp, Die Zunft und die Nichtdeutschen im Osten, insbesondere in der Mark Brandenburg (Marburg/Lahn, 1954), p. 98, n. 84.
(обратно)830
Liv-, esth- und curlandisches UB, ed. F.G. von Bunge et al. (1st ser., 12 vols., Reval and Riga, 1853–1910), 3, no. 1305, col. 642 (art. 7).
(обратно)831
Das Ofner Stadtrecht 32, ed. Karl Mollay (Weimar, 1959), p. 70.
(обратно)832
Katherine Walsh, A Fourteenth-Century Scholar and Primate: Richard FitzRalph in Oxford, Avignon and Armagh (Oxford, 1981), pp. 341–3.
(обратно)833
Gearoid MacNiocaill, Na Buirgeisi (2 vols., Dublin, 1964) 1, pp. 245–6.
(обратно)834
Calendar of Ancient Records of Dublin 1, ed. John T. Gilbert (Dublin, 1889), p. 331 (1469).
(обратно)835
Statutes and Ordonances and Acts of the Parliament of Ireland: King John to Henry V, ed. Henry F. Berry (Dublin, 1907), pp. 430–69.
(обратно)836
Libellus de institutione morum, ed. J. Balogh, Scriptores rerum Hungaricarum 2 (Budapest, 1938), pp. 611–27, at p. 625.
(обратно)837
Anonym/ deschptio Europae orientalis, ed. Olgierd Gorka (Cracow, 1916), p. 56; Johannes von Buch's gloss on Sachsenspiegel, Landrecht 3.70 — Sachsenpiegel, ed. Jacob Friedrich Ludovici (rev. ed., Halle, 1750), p. 555, note (b); Walter Bower, Scotichronicon 12.27, ed. D.E.R Watt, 6 (Aberdeen, 1991), p. 388; Aubrey Gwynn, “The Black Death in Ireland', Studies 24 (1935), pp. 25–42, at p. 31.
(обратно)838
James I, Llibre dels feyts (Cronica) 437, ed. Josep Maria de Casacuberta (9 vols, in 2, Barcelona, 1926–62), 8, p. 26.
(обратно)839
Aureum opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie (Valencia, 1515, facsimile ed., Textes medievales 33, 1972), fol. 42 (p. 143); John Boswell, The Royal Treasure: Muslim Communities under the Crown of Aragon in the Fourteenth Century (New Haven, 1977), pp. 133–4, n. 83 (1316).
(обратно)840
Francisco Fernandez у Gonzalez, Estado social у politico de los mudejares de Costilla (Madrid, 1866), doc. 77, p. 401; Juan Torres Fontes, 'Moros, judios у conversos en la regencia de Don Fernando de Antequera', Cuademos de historia de Espana 31–2 (I960), pp. 60–97.
(обратно)841
Ifa Jeddih, Suma de los principales mandamientos у devedamientos de la ley у cunna, Memorial historico espanol 5 (Real Academia de la Historia, Madrid, 1853), pp. 247–421, at p. 248; L.P. Harvey, Islamic Spain 1250–1500 (Chicago, 1990), pp. 78–97.
(обратно)842
Об истории морисков см.: Antonio Dominguez Ortiz and Bernard Vincent, Historia de los moriscos (Madrid, 1978); Henry Charles Lea, The Moriscos of Spain (London, 1901).
(обратно)843
William of Malmesbury, Gesta regum 4, ed. William Stubbs (2 vols., RS, 1887–9), 2, p. 396 (Urban II at Clermont).
(обратно)844
Robert the Monk, Historia Iherosolimitana 2.20, RHC, Occ. 3, pp. 711–882, p. 751; 'the Roman Church which holds...': Fulcher of Chartres, Historia Hierosolymitana 1.5, ed. Heinrich Hagenmeyer (Heidelberg, 1913), p. 152.
(обратно)845
Gregory VII, Registrum 3.6*, ed. Erich Caspar (MGH, Epistolae selectae, 2, Berlin, 1920–23), p. 253.
(обратно)846
John Mundy: Europe in the High Middle Ages (London, 1973), p. 26; 2-е изд.: 1991, p. 16.
(обратно)847
Переписка св. Григория см.: Registrum 1.7; 1.11; 1.21а; 1.19; 7.14а; 2.13; 2.74; 7.4; 4.28 (cf. 1.7); 8.10; 7.11, ed. Caspar, pp. 11–12, 18, 35–6, 31–2, 485–6, 145, 236, 463, 343–7 (cf. 11–12), 528–30, 473–5.
(обратно)848
Chronicon Burgense, s.a. 1078, ed. Enrique Flórez, España sagrada 23 (Madrid, 1767), pp. 305–10, at p. 309.
(обратно)849
Gregory VII, Registrum 1.64, ed. Caspar, pp. 92–4; cf. 1.63, pp. 91–2.
(обратно)850
ibid. 9.2, ed. Caspar, pp. 569–72.
(обратно)851
Richard W Southern, Western Society and the Church in the Middle Ages (Harmondsworth, 1970), pp. 106–9.
(обратно)852
Alexander II, 18 October 1071, Apostolicae sedi, J.-L. 4691; Epistolae et decreta, ep. 80, PL 146, cols. 1279–430, at col. 1362; La documentacion pontificia basta Inocencio III, ed. Demetrio Mansilla (Rome, 1955), no. 4, p. 8; см.: Bernard F. Reilly, The Kingdom of Leyn-Castilla under King Alfonso VI, 1065–1109 (Princeton, 1988), pp. 95–6; Ramon Gonzalvez, 'The Persistence of the Mozarabic Liturgy in Toledo after AD 1080', in Bernard F. Reilly (ed.), Santiago, Saint-Denis and Saint Peter: The Reception of the Roman Liturgy in Leon-Castile in 1080 (New York, 1985), pp. 157–85, at p. 158, with rets, at p. 180, n. 3.
(обратно)853
Данные приводятся по кн.: La documentacion pontificia, ed. Mansilla.
(обратно)854
Pontificia Hibemica: Medieval Papal Chancery Documents concerning Ireland 640–1261, ed. Maurice P. Sheeny (2 vols., Dublin, 1962–5), 1, no. 2, pp. 7–8; The Epistolae Vagantes of Pope Gregory VII, ed. and tr. H.E.J. Cowdrey (Oxford, 1972), no. 57, pp. 138–40.
(обратно)855
Rees Davies, Conguest, Coexistence and Change: Wales 1063–1415 (Oxford, 1987), pp. 191–2; AAM. Duncan, Scotland: The Making of the Kingdom (Edinburgh, 1975), p. 259.
(обратно)856
Registrum 1.17, ed. Caspar, p. 27.
(обратно)857
ibid., ed. Caspar, p. 28.
(обратно)858
Tertullian: Ad nationes 1.3.
(обратно)859
Geoffrey Malaterra, De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae comitis et Roberti Guiscardi ducis fratris eius 3.30, ed. Ernesto Ponderi (Rerum itaticarum scriptores, n.s., 5/1, Bologna, 1928), p. 75.
(обратно)860
Heinrich Hagenmeyer (ed.), Epistulae et chartae ad historiam primi belli sacri spectantes (Innsbruck, 1901), no. 16, pp. 161–5, at p. 164; Библия, Деяния 11:26.
(обратно)861
William of Tyre, Chronicle 13.14, ed. R.B.C. Huygens (2 vols.: Corpus Christianorum, Continuatio mediaevalis 63–63A, Turnhout, 1986), 1, p. 602.
(обратно)862
Guibert de Nogent, Historia guae dicitur Gesta Dei per Francos 1.1, RHC, Occ. 4 (Paris, 1879), pp. 113–263, at p. 124; Thomas of Monmouth, The Life and Miracles of St William of Norwich 1.16; 2.4, ed. and tr. Augustus Jessopp and Montague Rhodes James (Cambridge, 1896), pp. 44, 71.
(обратно)863
Innocent II, 27 July 1139, Quos dispensatio, J.-L. 8043; Epistolae et privilegia, ep. 416, PL 179, cols. 53–658, at cols. 478–9.
(обратно)864
Alexander III, 5 July 1175, Benedictus Deus in donis suis, J.-L. 12504; Epistolae et privilegia, ep. 1183, PL 200, col. 1026.
(обратно)865
Innocent III, 3 May 1199, Quanta debeat esse, Po. 686; Regestum Innocentii III papae super negotio Romani imperii, ed. Friedrich Kempt (Rome, 1947), no. 2, p. 8.
(обратно)866
M. Монтень, Опыты 2.12, M., Наука, 1979.
(обратно)867
Widukind of Corvey, Res gestae Saxonicae 1.15, ed. Albert Bauer and Reinhold Rau, Quellen zur Geschichte der sachsischen Kaiserzeit (AQ 8, rev. ed., Darmstadt, 1977), pp. 16–182, at p. 44; cf. Einhard, Vita Karoli Magni 7, ed. Reinhold Rau, Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte 1 (AQ 5, Darmstadt, 1955), pp. 163–211, at p. 176.
(обратно)868
Livlandische Reimchronik, line 3349, ed. Leo Meyer (Paderborn, 1876), p. 77.
(обратно)869
Raymond of Aguilers, Liber (Historia Francorum gui ceperunt Iherusalem) 10, ed. John H. Hill and Laurita L Hill (Paris, 1969), pp. 72–3.
(обратно)870
Gregory VII, Epistolae Vagantes, ed. Cowdrey, no. 65, p. 146; Arnold of Lflbeck, Chronica Slavorum 5.25–9, ed. Johann Martin Lappenberg (SRG, Hanover, 1868), p. 196.
(обратно)871
Ambroise, L'estoire de la guerre sainte, line 42, ed. Gaston Paris (Paris, 1897), col. 2; Chanson de Roland, line 3392, ed. F. Whitehead (Oxford, 1942). p. 99.
(обратно)872
Chanson d'Antioche laisse 9, lines 206–7, ed. Suzanne Duparc-Quioc (Paris, 1976), p. 27.
(обратно)873
Baudri de Bourgueil, Historia Jerosolimitana, prologue, RHC, Occ. 4, pp. 1–111, at p. 10.
(обратно)874
William of Rubruck, Itinerarium 16.5, ed. Anastasius van den Wyngaert, Sinica Franciscana 1: Itinera et relationes fratrum minorum saeculi XIII et XIV (Quaracchi, 1929), pp. 164–332, at p. 205.
(обратно)875
Jean Kupp, L'idee de Chretiente dans la pensee pontificale des origines a Innocent III (Paris, 1939); Paul Rousset, 'La notion de Chretiente aux Xle et XIIe siècles'. Le Moyen Age, 4th ser., 18 (1963), pp.191–203.
(обратно)876
Registrum 5.7, ed. Caspar, p. 358.
(обратно)877
Walter Map, De nugis curialium 5.5, ed. and tr. M.R. James, rev. C.N.L. Brooke and RAB. Mynors (Oxford, 1983), p. 226; Ambroise, L'estoire de la guerre sainte, lines 18–19, ed. Paris, col. 1; Matthew Paris, Chronica majora, ed. Henry Richards Luard (4 vols., RS, 1872–7), 4, p. 430.
(обратно)878
Honorius III, 19 April 1220, Personam tuam sincera, Po. 6230; Liv-, esth- und curlandisches UB, ed. F.G. von Bunge et al. (1st ser., 12 vols., Reval and Riga, 1853–1910), 1, no. 52, col. 55.
(обратно)879
Malaterra, De rebus gestis Rogerii 4.29, ed. Pontieri, p. 108 (Urban II, 1098); Julio Gonzalez, El reino de Costilla en la epoca de Alfonso VIII (3 vols., Madrid, 1960) 1, p. 108 (1222); Peter of Dusburg, Chronica terre Prussie 3. 175, ed. Klaus Scholz and Dieter Wojtecki (AQ 25, Darmstadt, 1984), p. 294; Eugenius III, 1 December 1145, Quantum predecessores, J.-L. 8796; Epistolae et privilegia, ep. 48, PL 180, cols. 1013–1606, at col. 1064; Hagenmeyer (ed.), Epistulae, no. 18, pp. 171–2.
(обратно)880
Malaterra, De rebus gestis Rogerii 4.24, ed. Pontieri, p. 102.
(обратно)881
Historia de translatione sanctorum Nicolai, etc. 40, RHC, Occ. 5, pp. 253–92, at p. 275/ Odo of Deuil, De profectione Ludovici VII in Orientem 5, ed. and tr. Virginia G. Berry (New York, 1948), p. 90; Ambroise, L'estoire de la guerre sainte, ed. Paris, lines 2146, 2326, 5810, 8968, cols. 58, 63, 155, 240.
(обратно)882
Raymund of Aguilers, Liber (Historia Francorum) 18, ed. Hill and Hill, p. 151.
(обратно)883
Baudri de Bourgueil, Historia Jerosolimitana, RHC, Occ. 4, p. 9.
(обратно)884
Honorius III, 8 February 1222, Ex parte venerabilis, Po. 6783; Liv-, esth- und curlandisches UB 1, no. 55, cols. 58–9.
(обратно)885
Robert of Clari, La conguete de Constantinople 18, ed. Philippe Lauer (Paris, 1924), p. 16 und passim.
(обратно)886
Albert of Stade. Alexander of Bremen (Alexander Minorita), Expositio in Apocalypsim, ed. Alois Wachtel (MGH, Ouellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters 1, Weimar, 1955), p. 349; Cambridge, University Library, MS Mm 5 31, fol. 113r.
(обратно)887
Stephen de Salaniaco, De quattuor in quibus Deus Praedicatorum Ordinem insignivit 1.7, ed. T. Kaeppeli (Monumenta ordinis fratmm praedicatorum historica 22, Rome, 1949), p. 10.
(обратно)888
30 May 1236, Cum exaltatione spiritus, Po. 10173; Preussisches UB (6 vols, to date, Königsberg and Marburg, 1882 —) 1, no. 125, pp. 94–5.
(обратно)889
William of Rubruck, Itinerarium 16.3, 30.13, ed. van den Wyngaert, pp. 204, 282.
(обратно)890
Honorius III, 2 January 1219, Exercitus christianus rem Po. 5956; Liv-, esth- und curlandisches UB 1, no. 42, col. 47.
(обратно)891
Matthew Paris, Historia Anglorum, ed. Frederic Madden (3 vols., RS, 1866–9), 1, p. 79.
(обратно)892
Hagenmeyer (ed.), Epistulae, no. 18, p. 173.
(обратно)893
Fulcher of Chartres, Historia Hiewsolymitana 1.13.4, ed. Hagenmeyer, pp. 202–3.
(обратно)894
Hagenmeyer (ed.), Epistulae, no. 18, p. 168; Gonzalez, El reino de Costilla 3, no. 897, pp. 566–72 (Las Navas, 1212).
(обратно)895
Hermann Kleber, 'Pelerinage — vengeance — conquete: la conception de la premiere croisade dans le cycle de Graindor de Douai', in Au carrefour des routes d'Europe: La chanson de geste (Xe Congres international de la Societe Rencesvals pour l'etude des epopees romanes, 2 vols., Aix-enProvence, 1987) 2, pp. 757–75, at p. 762.
(обратно)896
Guibert de Nogent, Historia quae dicitur Gesta Dei per Francos 7.25, RHC, Occ. 4, p. 245.
(обратно)897
ibid. 1.1, RHC, Occ. 4, p. 124.
(обратно)898
Orderic Vitalis, Historia ecclesiastica 9.1, ed. and tr. Marjorie Chibnall (6 vols., Oxford, 1968–80), 5, p. 4.
(обратно)899
Odo of Deuil, De profectione Ludovici VII 7, ed. Berry, p. 130.
(обратно)900
Цит. по кн.: Geoffrey de Villehardouin, La conquete de Constantinople 8 (257), ed. Edmond Farai (2nd ed., 2 vols., Paris, 1961), 2, p. 62. (Имеется рус. издание: Ж. де Виллардуэн. Завоевание Константинополя. М., 1993).
(обратно)901
Chronicle of Morea, tr. Harold E. Lurier, Crusaders as Conquerors (New York, 1964), p. 298.
(обратно)902
Christopher Tyerman, England and the Crusades, 1095–1588 (Chicago, 1988), p. 117.
(обратно)903
Helbig & Weinrich 1, no. 19, pp. 96–102.
(обратно)904
Saxo Grammaticus, Gesta Danorum 14.3, ed. J. Olrik and H. Raeder (2 vols., Copenhagen, 1931–57), 2, p. 376.
(обратно)905
Цит. по кн.: (Helmold of Bosau, Chronica Slavorum 1.62, ed. Heinz Stoob (AQ 19, Darmstadt, rev. ed., 1973), p. 220. (Имеется рус. издание: Гельмольд, Славянская хроника, М., 1.62.)
(обратно)906
Bull of Alexander HI, 11 September 1171, Nom parum animus noster, J.-L. 12118; Epistolae et privilegia, ep. 980, PL 200, cols. 860–61; Liv-, esthund curlandisches UB 1, no. 5, cols. 5–6.
(обратно)907
Bull of Innocent HI, 5 October 1199, Sicut ecclesiasticae religionis (al. laesionsis), Po. 842; Registrum sive epistolae 2. 191, PL 214–16, at 214, cols. 739–40 (cf. PL 217, cols. 54–5, supplement, ep. 25); Liv-, esth- und curlandisches UB 1, no. 12, cols. 13–15; Die Register Innocenz' III 2, ed. Othmar Hageneder et al. (Rome and Vienna, 1979), no. 182, pp. 348–9.
(обратно)908
La regie du Temple, ed. Henri de Curzon (Paris, 1886), p. 11.
(обратно)909
Richard of Poitou, Chronica (excerpts, with continuations), ed. Georg Waitz, MCG, SS 26 (Hanover, 1882), pp. 74–86, at p. 80.
(обратно)910
Bernard of Clairvaux, De laude novae militiae 1.3, in J. Leclerq and H.M. Rochais (eds.). Opera 3 (Rome, 1963), pp. 205–39, at pp. 214, 217.
(обратно)911
Alexander III, 25 September 1164, Justis petentium desideriis, J.-L. 11064; Epistolae et privilegia, ep. 273, PL 200, cols. 310–12.
(обратно)912
Francesco Gabrieli (ed.), Arab Historians of the Crusades (Eng. tr., Berkeley and London, 1969), p. 124.
(обратно)913
Cartulaire general de l'ordre des Hospitaliers de St-Jean de Jerusalem, ed. J. Delaville Le Roulx (4 vols., Paris, 1894–1906), 1, no. 95, pp. 85–6; Elena Lourie, “The Will of Alfonso El Batallador. King of Aragon and Navarre: A Reassessment”, Speculum 50 (1975), pp. 635–51; A.J. Forey, “The Will of Alfonso I of Aragon and Navarre”, Durham University Journal 73 (1980), pp. 59–65; Lourie, “The Will of Alfonso I of Aragon and Navarre: A Reply to Dr Forey”, and Forey, 'A Rejoinder', ibid. 77 (1985), pp. 165–72 and p. 173.
(обратно)914
Friedrich Benninghoven, Der Order der Schwertbriider (Cologne and Graz, 1965), p. 81.
(обратно)915
Liv-, esth- und curlandisches UB 1, nos. 16–18, cols. 22–5; cf. nos. 23 and 25, cols. 30–33.
(обратно)916
Pommerellisches UB, ed. Max Perlbach (Danzig, 1881–2), no. 28, p. 24; Walter Kühn, Vergleichende Untersuchungen zur mittelalterlichen Ostsiedlung (Cologne and Vienna, 1973), pp. 142, 350, 427; Benninghoven, Der Order der Schwertbriider, pp. 8–9, 263–4; Julio Gonzalez, Repoblacion de Costilla la Nueva (2 vols., Madrid, 1975–6) 2, p. 31, n. 120.
(обратно)917
Mecklenburgisches UB (25 vols, in 26, Schwerin and Leipzig, 1863–1977) 1, no. 344, pp. 334–5 (a confirmation by his sons in 1227).
(обратно)918
ibid. 25Д no. 13, 794, p. 33.
(обратно)919
Helbig & Weinrich 1, no. 68, p. 274.
(обратно)920
Erik Fügedi, 'Das mittelalterliche Königreich Ungarn als Gastland', in Walter Schlesinger (ed.), Die deutsche Ostsiedlung als Problem der europaischen Geschichte (Vortrage und Forschungen 18, Sigmaringen, 1975), pp. 471–507, at p. 494; cf. p. 480: 'die Europaisierung Ungarns'.
(обратно)921
Derek W Lomax, The Reconquest of Spain (London, 1978), pp. 56, 63.
(обратно)922
Marie Therese Flanagan, 'Monastic Charters from Irish Kings of the Twelfth and Thirteenth Centuries' (Unpublished MA thesis, University College, Dublin, 1972), p. 213.
(обратно)923
Peter of Zittau, Chronicon Aulae Regiae 6, ed. J. Emier, Fontesrerum Bohemicarum 4 (Prague, 1884), pp. 1–337, at p. 12.
(обратно)924
Orderic Vitalis: Historia Ecclesiastica 13.45, ed. and tr. Marjorie Chibnall (6 vols., Oxford, 1968–80), 6, p. 554.
(обратно)925
Heinz Zatschek, 'Namensanderungen und Doppelnamen in Bohmen und Mahren im hohen Mittelalter', Zeitschrift für Sudetendeutsche Geschichte 3 (1939), pp. 1–11, at pp. 3–4.
(обратно)926
Orderic Vitalis, Historia ecclesiastica 8.22, ed. Chibnall, 4, p. 272.
(обратно)927
Victoria County History of Shropshire 2 (London, 1973), p. 5.
(обратно)928
Grosser historischer Weltatlas 2: Mittelalter, ed. Bayerisch SchulbuchVerlag (rev. ed., Munich, 1979), map 68a: 'Die Verenrung des HI. Remigius'.
(обратно)929
Charles Higounet, 'Les saints merovingiens d'Aguitaine dans la toponymie', in his Paysages et villages neufs du Moyen Age (Bordeaux, 1975), pp. 67–75.
(обратно)930
Geoffrey of Durham, Vita Bartholomaei Famensis 1, in Symeonis monachi opera omnia, ed. Thomas Arnold (2 vols., RS, 1882–5), pp. 295–325, at p. 296.
(обратно)931
Christopher Brooke, 'The Composition of the Chapter of St Paul's, 1086–1163', Cambridge HistohcalJoumal 10 (1951), pp. 111–32.
(обратно)932
Gillian Fellows Jensen, “The Names of the Lincolnshire Tenants of the Bishop of Lincoln c. 1225', in Otium et negotium: Studies in Onomatology and Library Science presented to Olof von Feilitzen (Acta Bibliothecae Regiae Stockholmiensis 16, Stockholm, 1973), pp. 86–95.
(обратно)933
Eadmer, Life of St Anselm ed. and tr. R.W. Southern (London, etc., 1962), p. 51; иная точка зрения сформулирована в кн.: Susan Ridyard 'Condigna veneratio: Post-Conquest Attitudes to the Saints of the Anglo-Saxons', in Anglo-Norman Studies 9 (1986), ed. R. Allen Brown, pp. 179–206; David Rollason, Saints and Relics in Anglo-Saxon England (Oxford, 1989), pp. 217–38.
(обратно)934
Margaret Gibson, Lanfranc of Bee (Oxford, 1978), pp. 170–72.
(обратно)935
Gesta abbatum monasterii sancti Albani, ed. Henry T. Riley (3 vols., RS, 1867–9), 1, p. 62.
(обратно)936
Gerald of Wales (Giraldus Cambrensis), Vita Ethelberti, ed. Montague R. James, 'Two Lives of St Ethelbert, King and Martyr', English Historical Review 32 (1917), pp. 222–36, at pp. 235–6.
(обратно)937
Close Rolls of the Reign of Henry III (1237–42) (London, 1911), p. 227 (1240) (Edward); Red Book of Ormond, ed. Newport B. White (Irish Manuscripts Commission, Dublin, 1932), p. 48 (David).
(обратно)938
Edmond de Coussemaker (ed.), Documents relatifs a la Flandre maritime (Lille, 1860), pp. 65–6 (Clementia of Banders for Watten, 1097); Heinrich Hagenmeyer, Chronologie de la premiere croisade 1094–1100 (reprint in one vol., Hildesheim and New York, 1973), p. 50, no. 103; St George: Continuatio Aquicinctina of Sigebert of Gembloux, ed. Ludwig Bethmann, MGH, SS 6 (Hanover, 1844), pp. 268–474, at p. 395.
(обратно)939
L'estoire d'Eracles empereur et la conqueste de la terre d'Outremer, RHC, Occ. 2, pp. 1–481, at p. 209; La continuation de Guillaume de Тут (1184–1197) 155, ed. Margaret R. Morgan (Documents relatifs a l'histoire des croisades 14, Paris, 1982), p. 169 (see also p. 168).
(обратно)940
Walter of Coventry, Memoriale, ed. William Stubbs (2 vols., RS, 1872–3), 2, p. 242 (the 'Barnwell Chronicle').
(обратно)941
Rees Davies, Conquest, Coexistence and Change:Wales 1063–1415 (Oxford, 1987), pp. 181–2, 207; Wendy Davies, The Uandaff Charters (Aberystwyth, 1979), p. 20.
(обратно)942
Julia Smith, 'Oral and Written: Saints, Miracles and Relics in Brittany, с 850–1250', Speculum 65 (1990), pp. 309–43, at pp. 336–7.
(обратно)943
AAM. Duncan, Scotland: The Making of the Kingdom (Edinburgh, 1975), pp. 628–9; Handbook of British Chronology, ed. E.B. Fryde et al. (3rd ed., London, 1986), pp. 56–8, 500–501, 503, and, for the descendants of Matad, earl of AthoU, Liber vitae ecclesiae Dunelmensis, ed. A Hamilton Thompson (facsimile ed., Surtees Society 136, 1923), fol. 60; Geoffrey Barrow, The Anglo-Norman Era in Scottish History (Oxford, 1980), p. 159, n. 80; Manfred Hamann, Mecklenburgische Geschichte (MF 51, Cologne, 1968).
(обратно)944
Wolfgang Fleischer, Die deutschen Personennamen (Berlin, 1964), p. 51; idem, 'Die Namen der Dresdener Ratsmitglieder bis 1500', Beitruge zur Namenforschung 12 (1961), pp. 44–87.
(обратно)945
Julio Gonzalez, Repoblacion de Costilla la Nueva (2 vols., Madrid, 1975–6) 2, pp. 78–85; Brut у Tywysogyon or The Chronicle of the Princes: Red Book of Hergest Version, ed. Thomas Jones (Cardiff, 1955), p. 65 (s.a. 1110); Егоров Д.Н. Колонизация Мекленбурга в XIII веке, т. 1, М., 1915.
(обратно)946
Michel Parisse, 'La conscience chretienne des nobles aux Xle et XIIe siècles', in La cristianita dei secoli XI e XII in occidente: Coscienza e strutture di una societu (Miscellanea del Centro di studi medioevali 10, Milan, 1983), pp. 259–80, at p. 263.
(обратно)947
Cosmas of Prague, Chronica Boemorum 1.34, ed. Berthold Bretholz (SRG, n.s., Berlin, 1923), p. 60; Gerlach of Muhlhausen, Chronicon, ed. Wilhelm Wattenbach, MGH, SS 17 (Hanover, 1861), pp. 683–710, p. 708.
(обратно)948
Canonici Wissegradensis continuatio (to Cosmas of Prague), ed. Rudolf Корке, MGH, SS 9 (Hanover, 1851), pp. 132–48, at p. 133.
(обратно)949
Fügedi, 'Das mittelalterliche Königreich Ungarn', p. 497, n. 78.
(обратно)950
Erika Tidick, 'Beitrage zur Geschichte der Kirchenpatrozinien im Deutsch-Ordensland Preussen bis 1525', Zeitschrift für die Geschichte and Altertumskunde Ermlands 22 (1926), pp. 343–464.
(обратно)951
Gonzalez, Repoblacion 2, p. 253.
(обратно)952
Robert I. Burns, The Crusader Kingdom of Valencia: Reconstruction on a Thirteenth-Century Frontier (2 vols., Cambridge, Mass., 1967) 1, pp. 92–7.
(обратно)953
Theodor Penners, Untersuchungen tiber die Herkunft der Stadtbewohner im Deutsch-Ordensland Preussen bis in die Zeit um 1400 (Leipzig, 1942), p. 11; Anna Rutkowska-Plachcinska, 'Les prenoms dans le sud de la France aux XUIe et XIVe siècles', Acta Poloniae Historica 49 (1984), pp. 5–42, at p. 7.
(обратно)954
Arthur Suhle, Deutsche Münz- und Geldgeschichte von den Anfangen bis zum 15. Jahrhundert (2nd ed., Berlin, 1964); Stanislaw Suchodolski, Początki mennictwa w Europie środkowej, wschodniej i polnocnej (Wroclaw, 1971) (English summary, pp. 249–57); idem, Mennictwo Polskie w XI i XII wieku (Wrocław, etc., 1973) (English summary, pp. 144–52); Kirsten Bendixen, Denmark's Money (Copenhagen, 1967), pp. 7–22; Peter Spufford, Money and its Use in Medieval Europe (Cambridge, 1988), esp. chapters 4 and 8; Rolf Sprandel, Das mittelaltediche Zahlungssystem nach Hansisch-Nordischen Quellen des 13. — 15. Jahrhunderts (Stuttgart, 1975), map 1 and pp. 163–93.
(обратно)955
Gwyn Jones, A History of the Vikings (Oxford, 1968), p. 117.
(обратно)956
William O'Sullivan, The Earliest Anglo-Irish Coinage (Dublin, 1964); Michael Dolley, Medieval Anglo-Irish Coins (London, 1972), pp. 1–5.
(обратно)957
D.M. Metcalf (ed.). Coinage in Medieval Scotland (1100–1600) (British Archaeological Reports 45, Oxford, 1977).
(обратно)958
Цит. по кн.: Helmold of Bosau, Chronica Slavorum 1.38, ed. Heinz Stoob (AQ 19, Darmstadt, rev. ed., 1973), p. 158. (Имеется рус. издание: Гельмольд Славянская хроника, М., 1963.)
(обратно)959
G. Jacob (ed.), Arabische Berichte von Gesandten an germanische Fürstenhöfe aus dem 9. und 10. Jahrhundert (Berlin and Leipzig, 1927), p. 13.
(обратно)960
Joachim Herrmann (ed.). Die Slawen in Deutschland: Ein Handbuch (new ed., Berlin, 1985), pp. 132–4 and plate 49.
(обратно)961
Ian Stewart, 'The Volume of the Early Scottish Coinage', in D.M. Metcalf (ed.). Coinage in Medieval Scotland (1100–1600) (British Archaeological Reports 45, Oxford, 1977), pp. 65–72.
(обратно)962
John Porteous, 'Crusader Coinage with Latin or Greek Inscriptions', in Kenneth M. Setton (ed.), A History of the Crusades (Philadelphia and Madison, 6 vols., 1955–89) 6: The Impact of the Crusades on Europe, ed. Harry W. Hazard, pp. 354–420, at p. 370.
(обратно)963
Pommersches UB 1: 786–1253, ed. Klaus Conrad (2nd ed., Cologne and Vienna, 1970), nos. 11–13, 15–16, pp. 12–15, 16–18.
(обратно)964
ibid., nos. 23, 27, pp. 23–5, 28–9.
(обратно)965
ibid., no. 30, pp. 32–4.
(обратно)966
ibid., no. 43, pp. 47–8.
(обратно)967
ibid., no. 48, pp. 51–3.
(обратно)968
ibid., no. 62, pp. 77–81; хартия сохранилась в двух оригиналах в: Landeshauptarchiv Schwerin, l. Kloster Dargun Nr. 2; см. также илл. в кн.: М. Gumowski, 'Pieczęcie ksiąząt pomorskich', Zapiski Towarzystwo naukowe w Toruniu 14 (1950), pp. 23–66 (and plates I–XXI), plate I.
(обратно)969
ibid., no. 54, pp. 63–7.
(обратно)970
ibid., nos. 106, 126, 140–41, 146, 156–7, 162–3, 170, 181, 188, 195–6, pp. 136–8, 167–8, 179–80, 184–6, 195–7, 202–4, 211–12, 225–6, 232–3, 241–3.
(обратно)971
no. 68, pp. 87–8 (Helbig & Weinrich 1, no. 80, p. 312).
(обратно)972
Josef Joachim Menzel, Die schlesischen Lokationsurkunden des 13. Jahrhunderts (Wurzburg, 1977), pp. 127–35.
(обратно)973
Wendy Davies, 'The Latin Charter Tradition in Western Britain, Brittany and Ireland in the Early Medieval Period', in Dorothy Whitelock et al. (eds.), Ireland in Early Medieval Europe (Cambridge, 1982), pp. 258–80.
(обратно)974
Duncan, Scotland, p. 126.
(обратно)975
David of Huntingdon: K.J. Stringer, 'The Charters of David, Earl of Huntingdon and Lord of Garioch: A Study in Anglo-Scottish Diplomatic', in idem (ed.), Essays on the Nobility of Medieval Scotland (Edinburgh, 1985), pp. 72–101, at p. 79.
(обратно)976
Flanagan, 'Monastic Charters from Irish Kings', p. 213; the MacMurrough charter is Dublin, National Library of Ireland, D 1, and is reproduced in Facsimiles of National Manuscripts of Ireland, ed. John T. Gilbert (4 parts in 5 vols., Dublin, 1874–84), 2, plate briii.
(обратно)977
Michael Clanchy, From Memory to Written Record: England 1066–1307 (London and Cambridge, Mass., 1979), p. 263.
(обратно)978
Robert Fossier, La terre et les hommes en Picardie jusqu'a la fin de XIIIe siècle (2 vols., Paris and Louvain. 1968) 1, p. 263; 2, p. 570, n. 1.
(обратно)979
David Ganz and Walter Goffart, 'Charters Earlier than 800 from French Collections', Speculum 65 (1990), pp. 906–32, at p. 921 (Goffart).
(обратно)980
Codex diplomaticus Maioris Poloniae, ed. Ignacy Zakrzewski and Franciszek Piekosinski (5 vols., Poznan, 1877–1908), 1, no. 381, pp. 337–8 (1259).
(обратно)981
De regimine principum 2. 13, ed. Pierre Mandonnet, in Thomas Aguinas, Opuscula omnia 1 (Paris, 1927), pp. 312–487, at p. 370.
(обратно)982
Roger of Howden, Chronica, ed. William Stubbs (4 vols., RS, 1868–71), 3, pp. 255–6; William the Breton, Cesfcr Philippi Augusti, ed. H.-F. Delaborde, Oeuvres de Rigord et de Guillaume le Breton (2 vols., Paris, 1882–5), 1, pp. 168–333, at pp. 196–7; idem, Philippidos 4, lines 530–48, ed. Delaborde, ibid. 2, pp. 118–19; comments by John Baldwin, The Government of Philip Augustus (Berkeley and Los Angeles, 1986), pp. 405–12.
(обратно)983
Davies, Conquest, Coexistence and Change, pp. 355–6.
(обратно)984
Registrum epistolarum 37, ed. P. Bruno Griesser, Analecta sacri ordinis Cisierciensis 2 (1946), pp. 1–118, at p. 47; Katherine Walsh, A Fourteenth-Century Scholar and Primate: Richard FitzRalph in Oxford, Avignon and Armagh (Oxford, 1981), p. 11, citing ASV, Reg. Vat. 59, fol. 196v, in WH. Monck Mason, The History and Antiquities of the Collegiate and Cathedral Church of St Patrick (Dublin, 1820), app., pp. ix — x.
(обратно)985
Цит. по кн.: Helmold of Bosau, Chronica Slavorum 3.5, ed. Heinz Stoob (AQ 19, Darmstadt, rev. ed., 1973), p. 77. Гельмольд, Славянская хроника, M., 1963, 3.5.
(обратно)986
Saxo Grammaticus, Gesta Danorum, preface, 1.2, ed. J. Olrik and H. Raeder (2 vols., Copenhagen, 1931–57), 1, p. 3; Hexaemeron: ed. Sten Ebbesen and L.B. Mortensen (2 vols., Copenhagen, 1985–8); Antique leges Scanie 14, in Danmarks gamie landskabslove 1, ed. J. Brandum-Nielsen (Copenhagen, 1920–33), pp. 467–667; cf. Skanske lov — Text III 1. 33, ibid., pp. 265–466, p. 288.
(обратно)987
О реформаторской деятельности Андерса Сунесена см.: Innocent III, 17 December 1203, Ad nostram noveritis, Po. 2060, and 19 January 1206, Benedictus Deus a, Po. 2664; Registrum sive epistolae 6. 198 and 8. 196, PL 214–16, 215, cols. 223, 774; De Ordine Praedicatorum de Tolosa in Dacia, ed. M.C. Gertz, Scriptores minores historiae Danicae (2 vols., Copenhagen, 1917–22) 2/1, pp. 369–74; Jarl Gallen, La province de Dacie de l'ordre des freres precheurs (Helsingfors, 1946), pp. 1–11; отметим, что в 1204–1205 гг. Данию в составе Кастильского посольства посетил сам св. Доминик — ibid., pp. 196–216; о деятельности Сунесена в Эстонии см.: Генрих Латвийский, Хроника Ливонии. М. — Л., 1938, 10.13–14; 23.2; 24.2; 25.1.
(обратно)988
'Rocznik lubiąski 1241–1281, oraz wiersz o pierwotnych zakonniach Lubiąza' [Versus lubenses], ed. August Bielowski, MPH 3 (Lwow, 1878, repr. Warsaw, 1961), pp. 707–10, at p. 710.
(обратно)989
Цит. по кн.: Helmold of Bosau, Chronica Slavorum 1.35, ed. Heinz Stoob (АО 19, Darmstadt, rev. ed., 1973), p. 146–8. (Имеется рус. издание: Гельмолед, Славянская хроника. М., 1963.)
(обратно)990
Bernardo Maragone, Annates Pisani, ed. Michele Lupo Gentile (Rerum italicarum scriptores, n.s., 6/2, Bologna, 1930), pp. 1–74, at pp. 6–7, s.a. 1088; Carmen in victoriam Pisanorum, lines 70–72, ed. H.E.J. Cowdrey, 'The Mahdia Campaign of 1087', English Historical Review 92 (1977), pp. 1–29, pp. 23–9, relevant stanza p. 28 (reprinted in his Popes, Monks and Crusaders (London, 1984), chapter 12.
(обратно)991
Цит. по: Denys Hay, Europe: The Emergence of an Idea (2nd ed., Edinburgh, 1968), p. 74.
(обратно)992
Luke of Tuy, Chronicon mundi, ed. Andreas Schottus, Hispaniae illustratae (4 vols., Frankfurt/Main, 1603–8) 4, pp. 1–116, at p. 116.
(обратно)993
Ebo, Vita sancti Ottonis episcopi Babenbergensis 3.6, ed. Jan Wikarjak and Kazimierz Liman, MPH, n.s., 7/2 (Warsaw, 1969), p. 106.
(обратно)994
Sancti Bonifatii et Lulli epistolae, ed. Michael Tangi (MCH, Epistolae selectae 1, Berlin, 1916), no. 23, pp. 40–41 (Bishop Daniel of Winchester to Boniface, 723–4).
(обратно)995
Robert I. Bums, Islam under the Crusaders: Colonial Survival in the Thirteenth-Century Kingdom of Valencia (Princeton, 1973), p. 187.
(обратно)996
Peter Spufford, Money and its Use in Medieval Europe (Cambridge, 1988), p. 245.
(обратно)997
Julio Gonzalez, Repoblacion de Costilla la Nueva (2 vols., Madrid, 1975–6) 2, pp. 271, 277.
(обратно)998
Herbert Grundmann, Wahlkonigtum, Territorialpolitik und Ostbewegung im 13. und 14. Jahrhundert (Gebhardts Handbuch der deutschen Geschichte 5, Munich, 1973), pp. 269, 284.
(обратно)999
Robert Fossier La terre et les hommes en Picardie jusqu'a la fin de XIIIe siècle (2 vols., Paris and Louvain, 1968) 1, p. 330.
(обратно)1000
Helbig & Weinrich 2, no. 144, p. 536.
(обратно)1001
Ferdinand Chalandon, Histoire de la domination normande en Italie et en Sicilie, 1009–1194 (2 vols., Paris, 1907) 1, pp. 191–8.
(обратно)1002
Livlandische Reimchronik, lines 276–78, ed. Leo Meyer (Paderbom, 1876), p. 64.
(обратно)1003
Brut у Tywysogyon or The Chronicle of the Princes: Peniarth MS. 20 Version, tr. Thomas Jones (Cardiff, 1952), p. 38.
(обратно)1004
О политическом развитии княжества Гуинет XIII века см.: J.E. Lloyd, A History of Wales (3rd ed., 2 vols., London, 1939) 2, chapters 16–20; David Stephenson, The Governance of Gwynedd (Cardiff, 1984).
(обратно)1005
Preussisches UB (6 vols, to date, Kdnigsberg and Marburg, 1882 —) 1, no. 218, p. 161.
(обратно)1006
William of Newburgh, Historia rerum Anglicarum 3.9, ed. Richard Howlett, Chronicles of the Reigns of Stephen, Henry II and Richard I (4 vols., RS, 1884–9) 1–2, at 1, p. 239.
(обратно)1007
A.A.M. Duncan, Scotland: The Making of the Kingdom (Edinburgh, 1975), pp. 298–9; Acts of Malcolm IV, King of Scots, 1153–65, ed. Geoffrey Barrow (Regesta regum Scottorum 1, Edinburgh, 1960), pp. 65–6.
(обратно)1008
Annals of Connacht (Annala Connacht), ed. A. Martin Freeman (Dublin, 1944), p. 5.
(обратно)1009
Dictionnaire d'histoire et de geographie ecclesiastigu.es (21 vols, to date, Paris, 1912 —) 10, col. 963.
(обратно)1010
Пит. по кн.: Helmold of Bosau, Chronica Slavorum 1.88, ed. Heinz Stoob (AQ 19, Darmstadt, rev. ed., 1973), p. 312. (Имеется рус. издание: Гельмольд, Славянская хроника. М, 1963.)
(обратно)1011
Die Urkunden Heinrichs des Lowen, ed. Karl Jordan, MGH, Laienfiirsten- und Dynastenurkunden der Kaiserzeit (Leipzig and Weimar, 1941–9), no. 41, pp. 57–61; Mecklenburgisches UB (25 vols, in 26, Schwerin and Leipzig, 1863–1977) 1, no. 65, p. 58.
(обратно)1012
Erik Fügedi, Castle and Society in Medieval Hungary (WOO — 1437) (Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae 187, Budapest, 1986), p. 62.
(обратно)1013
Цит. по кн.: Helmold of Bosau, Chronica Slavorum 2.109, ed. Heinz Stoob (AQ 19, Darmstadt, rev. ed., 1973), p. 376. (Имеется рус. издание: Гельмольд, Славянская хроника. М, 1963.)
(обратно)1014
ibid. 1. 65, р. 228
(обратно)1015
James F. Powers, A Society Organized for War: The Iberian Municipal Militias in the Central Middle Ages, 1000–1284 (Berkeley and Los Angeles, 1988).
(обратно)1016
Guibert de Nogent, Historia quae dicitur Gesta Dei per Francos 1.1, RHC, Occ. 4 (Paris, 1879), pp. 113–263; Baudri de Bourgueil, Historia Jerosolimitana, prologue, RHC, Occ. 4, pp. 1–111.
(обратно)1017
Paul Johansen, 'Eine Riga-Wisby-Urkunde des 13. Jahrhunderts', Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde 38 (1958), pp. 93–108, at p. 97 (1268).
(обратно)1018
Robert S. Lopez and Irving W. Raymond (eds.), Medieval Trade in the Mediterranean World (New York, 1955), doc. 157, p. 319.
(обратно)1019
Michele Amari (ed.), Bibliotheca arabo-sicula (Italian version, 2 vols., Turin and Rome, 1880–81) 2, pp. 234–5.
(обратно)1020
Michael Lapidge (ed.), 'The Welsh-Latin Poetry of Sulien's Family', Studio Celtica 8–9 (1973–4), pp. 68–106, at p. 90, lines 16–21.
(обратно)1021
Manfred Hellmann, Grundzuge der Geschichte Litauens und des lituauischen Volkes (Darmstadt, 1966), pp. 14–32; Eric Christiansen, The Northern Crusades (London, 1980), chapter 6, “The Interminable Crusade, 1283–1410”.
(обратно)1022
Katharine Simms, 'Warfare in the Medieval Gaelic Lordships', The Irish Sword 12 (1975–6), pp. 98–108, at p. 107; Kenneth Nicholls, Gaelic and Caelicized Ireland in the Middle Ages (Dublin, 1972), pp. 84–7.
(обратно)
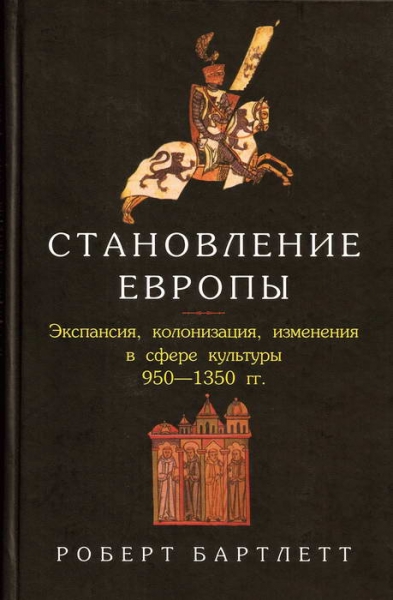






Комментарии к книге «Становление Европы: Экспансия, колонизация, изменения в сфере культуры. 950 — 1350 гг.», Роберт Бартлетт
Всего 0 комментариев