9
ЗАХАРОВ
Н13Т0ШЕ ВБ СОШЬАТ
ЕТ
ВЕ Ь’ЕМРШЕ
РАК А. ТН1ЕК8
(МЖАТ
ВШХЕ1ХЕ5. МЕЬШЕ, САЫ8 ЕТ СОМРАОЫ1Е ЫВКА1Я1Е, 1МРВ1МЕК1Е ЕТ РООДЕШЕ
ЛУИ-АДОЛЬФ ТЬЕР
ИСТОРИЯ КОНСУЛЬСТВА
и
ИМПЕРИИ
КОНСУЛЬСТВО
ЗАХАРОВ
МОСКВА
УДК 82-94 ББК 82(3)Фр Т94
Текст печатается с некоторыми сокращениями и в новой редакции по изданию
Исторш Консульства и Имперш во Францш
Сочинение А.Тьера. Переводъ Ф.Кони Санкт-Петербургу 1846-1849 гг.
Тьер Л.-А.
Т94 История Консульства и Империи. Книга I. Консульство / Тьер Луи-Адольф ; [пер. с франц. Ф.А.Кони]. — М. : «Захаров, 2012. — 896 с. : илл.
15Е^ 978-5-8159-1119-2
Луи-Адольф Тьер (1797—1877) — политик, премьер-министр во время Июльской монархии, первый президент Третьей республики, историк, писатель — полвека связывают историю Франции с этим именем. Автор фундаментальных исследований «История Французской революции» и «История Консульства и Империи». Эти исследования являются уникальными источниками, так как написаны «по горячим следам» и основаны на оригинальных архивных материалах, к которым Тьер имел доступ в силу своих высоких государственных должностей.
Оба труда представляют собой очень подробную историю Французской революции и эпохи Наполеона I и по сей день цитируются и русскими и европейскими историками. Тем более удивительно, что в полном виде «История Консульства и Империи» в России никогда не издавалась. Некоторые отрывки из нее были опубликованы в 1845 году в «Отечественных записках», а в 1846—1849 годах вышли только первые четыре тома этого двадцатитомного труда — «Консульство», его-то вы и держите в руках. Вторая часть, «Империя», сейчас переводится Ольгой Вайнер и выйдет в «Захарове» в 2013 году — через полтора века после издания во Франции.
15ВИ 978-5-8159-1119-2
© «Захаров», 2012
КОНСТИТУЦИЯ VIII ГОДА
В день 18-го брюмера [1799 года] прекратила свое существование Директория.
Люди, придумавшие этот род республики после бурь Конвента, не были уверены в превосходстве и прочности своего творения. Но после кровавого времени, свидетелями которого они стали, трудно оказалось сделать что-нибудь лучше или иначе.
Думать о Бурбонах было решительно невозможно: их отвергало общественное мнение. Столь же невозможно было отдать судьбу Франции в руки какого-нибудь знаменитого полководца, потому что в это время ни один из французских военачальников не приобрел еще столько славы, чтобы покорить все умы. Франция только что выскользнула из рук Комитета общественного спасения, испытала на себе кровавое правление якобинцев. Оставалось провести последний опыт: учредить умеренную республику, в которой власть была бы распределена благоразумно, а управление вверено людям новым, непричастным к ужасам, от которых содрогнулась вся страна.
И вот придумали Директорию.
Этот новый опыт продолжался четыре года и был произведен добросовестно, людьми по большей части честными и благонамеренными. Несмотря на это, новоявленная республика скоро превратилась в самый нестройный хаос. Меньше жестокости, но гораздо более безначалия — таков был характер нового правления. Обвиненным не рубили головы, но ссылали в заточение; никого не принуждали под страхом казни принимать ассигнации вместо наличных, но никому и не платили.
Удивительно ли после этого, что Франция стремглав бросилась в объятия юного полководца, завоевателя Италии и Египта, чуждого всех партий, показавшего к ним
презрение, одаренного удивительной силой воли? Он обнаруживал равную способность к делам гражданским и военным, в нем уже можно было предугадать честолюбие, не только не пугавшее умы, но даже принятое как надежда.
Молодой Бонапарт, счастливый и победоносный, избежав опасностей и смерти как на море, так и в пылу сражений, возвратился из Египта во Францию почти чудесным образом, и при первом его появлении Директория пала. Все партии бросились к нему, прося порядка, победы, мира.
Но опасно было раздражать умы внезапной переменой, и, чтобы подчинить утомленную Францию самостоятельной власти, надлежало сначала провести ее через правление переходное, полное славы, благотворной силы и притом полуреспубликанское.
Одним словом, прежде чем достигнуть Империи, нужно было миновать Консульство.
Я начинаю свой рассказ с 18-го брюмера VIII года (9 ноября 1799 года)1.
Когда закон 19-го брюмера, устанавливающий временное Консульство, был обнародован, три консула (Бонапарт, Сийес и Дюко) переехали из Сен-Клу в Париж. Сийес и Дюко, бывшие членами Директории, уже имели помещения в Люксембургском дворце, а генерал Бонапарт, оставив свой маленький дом на улице Победы, переехал во дворец вместе с женой, усыновленными детьми и адъютантами. Сблизившись со своими двумя товарищами, среди развалин прежнего правительства он начал заниматься делами — с присущим ему точным и быстрым умом и той необыкновенной стремительностью, которой отличались его действия в военное время.
Сийес готов был употребить все средства, чтобы уничтожить предыдущее правление, глубоко им презираемое. Это был второй человек в Республике, творец лучших и самых великих постановлений. И теперь, когда война предназначила первое место военному гению, Сийес, никогда не носивший шпаги, встал рядом с генералом Бонапартом: такова сила ума и таланта.
Но как только пришлось заняться делами, выяснилось, что Сийес, угрюмый и настойчивый в своих мнениях, приходящий в раздражение от малейшего противоречия, не может долго выдерживать соперничества со своим молодым товарищем, который был способен работать день и ночь, которого не смущало никакое противодействие, который был резок, но не угрюм, умел обворожить людей, когда хотел, а когда не находил нужным — покорял их своей воле силой.
Сийесу самим общественным мнением была назначена важная роль, а именно: составление новой конституции, которую консулы должны были представить Франции в самом скором времени. На это надеялись, об этом говорили. Полагали даже, что у него есть готовая конституция, давно обдуманная, творение глубокое и изумительное, и что теперь, когда все препятствия устранены, он пустит ее в ход. Предполагалось, что Сийес станет законодателем, а генерал Бонапарт — администратором нового правительства и вдвоем они принесут Франции могущество и счастье.
Каждая эпоха революции имела свои заблуждения, и настоящая не стала исключением.
Действительно, в управлении назрела крайняя необходимость: положение Франции во всех отношениях было печальным, беспорядок нравственный и материальный дошел до предела. Состояние финансов составляло главную причину нищеты и несчастий французских войск. Иностранные державы знали об этом положении очень хорошо, и оно внушало им уверенность в возможности легкой победы.
Надлежало создать финансовую основу, чтобы помочь изнуренным войскам; потом следовало преобразовать армию, двинуть ее вперед, дать ей хороших военачальников и прибавить новые победы к тем, которые были одержаны к концу последней кампании. В особенности надо было уничтожить саму мысль иностранных кабинетов о скором разрушении гражданского устройства Франции, мысль, которая одним придавала уверенность в успехе, а другим внушала недоверие к французскому правительству.
Все это могло быть совершено только правительством твердым, могучим, которое умело бы удерживать партии и воодушевлять умы. По счастью, силы Франции были еще велики, они не истощились нравственно и физически настолько, чтоб разрешить врагу овладеть землями. Все эти силы готовы были добровольно соединиться под одной рукой, только б эта рука была способна управлять ими.
Итак, обстоятельства благоприятствовали гениальному человеку, который должен был появиться, потому что и гении нуждаются в обстоятельствах. На стороне генерала Бонапарта были и его гений, и сама жизнь.
Закон, утвердивший временное Консульство, определил трем консулам обширные права и дал им силу, равную директориальной власти. В помощь консулам были созданы две законодательные комиссии, каждая из которых включала двадцать пять членов. Целью их было заменить прежний Законодательный корпус и придать действиям консулов законный характер. Комиссии эти издавали постановления насчет всех необходимых мер для устройства исполнительной власти. Им же была поручена важная забота — создание новой конституции.
Но такая ситуация не могла длиться неопределенное время: комиссиям для осуществления их задач было предоставлено два месяца, а консулам — три. Комиссии были разделены на отделения финансов, законодательное и конституционное и соединялись только для утверждения предложений правительства.
В день приезда в Люксембургский дворец консулы собрались на совещание о самых неотложных делах государства. Было 11 ноября 1799 года. Прежде всего надлежало выбрать председателя. Несмотря на то, что лета и положение Сийеса, казалось, предоставляли эту честь ему,
Дюко сказал генералу Бонапарту: «Займите первое место, и начнем».
Сначала разобрали общее положение дел. Молодому Бонапарту еще многое было неизвестно, но он угадывал то, чего не знал. Он вел войны, снабжал продовольствием большие армии, управлял завоеванными провинциями, вел переговоры с Европой: это превосходная школа в искусстве управления. Для возвышенных умов война — наилучший урок: можно научиться повелевать, принимать решения и в особенности управлять. Новый консул, казалось, на каждый предмет имел уже свое готовое мнение или составлял его с быстротой молнии, в особенности послушав знающих людей.
Знаний только одного рода, весьма важных при отправлении верховной власти, не имел тогда Бонапарт, а именно — знаний не о людях, а о личностях. Что касается людей вообще, он изучил их глубоко, но, проводя жизнь всегда при армии, генерал был чужд круга лиц, которые играли роль во время революции. Однако в этом ему помогли свидетельства товарищей, и благодаря проницательности и чрезвычайной памяти он вскоре знал состав правительства так же хорошо, как штаб своей армии.
Условившись о делах, не терпящих отлагательства, консулы разошлись, и Сийес с решимостью, которая делает честь его уму и патриотизму, в тот же вечер сказал Талейрану и Редереру: «У нас теперь есть повелитель, который знает всё, может всё и хочет сделать всё». Он благоразумно заключил, что Бонапарту надо предоставить полную свободу действий, потому что личное соперничество могло в ту минуту погубить Францию.
Самому Сийесу надлежало, как мы уже говорили, заняться составлением конституции, и сотоварищ не намерен был вмешиваться в этот труд, кроме одного пункта, а именно — организации исполнительной власти.
Самая насущная необходимость состояла в устройстве правительства. В монархии к управлению призываются первые лица. В республике первые лица сами делаются главами правительств, для министерств остается только второстепенный круг, чиновники-исполнители без всякой ответственности, потому что настоящая ответственность сосредоточена выше. Когда Сийес и Бонапарт становятся консулами, даже такие превосходные люди, как, например, Фуше, Камбасерес, Рейнгардт и Талейран, не могут быть министрами, облеченными реальной властью. Выбор их не представлял никакой важности, а нужен был только для усиления политического значения правительства и порядка в делах.
Юрисконсульт Камбасерес, человек ученый и разумный, был единогласно оставлен в управлении министерством юстиции.
После жарких прений между консулами пост министра полиции сохранил Фуше. Сийес горячо отвергал его кандидатуру. «Это ненадежный человек и креатура Барраса!» — говорил он, но Бонапарт поддерживал Фуше и отстоял его. Он почитал себя обязанным Фуше за услуги, которые тот оказал ему 18-го брюмера2. Кроме того, с проницательным умом Фуше соединял глубокое знание всех участников и событий революции. Общественное мнение единогласно предназначало ему пост министра полиции, так же, как Талейрану, с его навыками придворного, опытностью и тонким, вкрадчивым умом, отдали министерство иностранных дел. Фуше в конце концов поддержали; но против Талейрана, за то ли, что он постоянно состоял в связях с умеренной партией, или за роль его в последних происшествиях, революционеры восставали с таким ожесточением, что надлежало выждать несколько недель, чтобы ввести его в управление министерством. Около двух недель место это оставалось еще за Рейнгардтом.
Генерал Бертье, верный сотоварищ победителя Италии и Египта, неразлучный начальник его штаба, так хорошо умевший понимать и передавать его приказы, получил портфель военного министра, отнятый у Дю-буа-Крансе за излишнюю пылкость мнений.
В министерстве внутренних дел Кинетта заменили знаменитым ученым Лапласом. Это было великое и справедливое отличие, оказанное науке, но совсем не услуга правительству. Гениальный человек был совершенно неспособен вникать в мелкие подробности делопроизводства.
Самым трудным стал выбор министра финансов. В этом деле необходимы специальные знания, а в министерстве, уничтоженном вместе с Директорией, не было ни одного человека, который мог бы заняться преобразованием финансов, столь необходимым и не терпящим отсрочки. Там все еще работал некий пожилой начальник канцелярии, с умом не блестящим, но положительным, чрезвычайно опытный, при прежнем правительстве и даже в саму революцию оказавший государству много темных, но от того не менее драгоценных услуг, без которых правительства не могут обходиться и которыми должны дорожить. Это был Годен, впоследствии герцог Гаэтский. Сийес, который умел судить о людях, хотя был неспособен управлять ими, вознамерился отдать Годену портфель министра финансов. Генерал Бонапарт, особенно любивший людей практических, тотчас согласился с мнением Сийе-са, и Годен занял место, на котором в течение пятнадцати лет оказывал государству значительные услуги.
Таким образом, правительство было составлено. Еще одно назначение увенчало эти списки: Маре получил должность статс-секретаря при консулах. Это была своего рода министерская должность, которая состояла в приготовлении материалов для консулов, в редакции их решений, в передаче их распоряжений начальникам департаментов и сохранении государственных бумаг: Маре должен был часто заменять, дополнять и проверять других. Отлично образованный ум, знание Европы, твердая память и испытанная верность сделали его самым ловким и наиболее полезным сотрудником Бонапарта.
В своих подчиненных генерал Бонапарт предпочитал исправность и сметливость — уму. Это общий вкус всех гениальных людей: им нужно, чтоб их понимали и исполняли их приказания, а в замене они не нуждаются. Вот причина великих милостей, которыми пользовался генерал Бертье в течение двадцати лет. Маре же в гражданском деле отличался достоинствами, которые возвысили знаменитого начальника штаба на военном поприще.
Некоторые из членов обоих советов, которые содействовали 18-му брюмера, были посланы в провинции для объяснения и оправдания этого события и замены, в случае нужды, должностных лиц, которые вздумают упрямиться или окажутся недовольными.
Весть о новом правительстве повсюду была принята с радостью, но, несмотря на это, революционная партия находила себе ревностных поборников, которые могли сделаться опасными, особенно в южных провинциях. Везде, где показывались мятежники, молодежь готова была вступить с ними в рукопашную. Победа или поражение той или другой стороны повлекли бы за собой страшные последствия.
В военном руководстве также произошли некоторые перемены.
Генерал Моро, глубоко раздраженный против Директории, которая так дурно наградила его патриотическое увлечение во время кампании 1799 года3, согласился перейти на сторону генерала Бонапарта и помочь ему навести порядок. Бонапарт соединил Рейнскую и Швейцарскую армии и поручил Моро командование над ними. Это было самое значительное и исправное войско Республики, и его нельзя было отдать в лучшие руки.
Рейнские и швейцарские легионы включали в себя самых горячих республиканцев и многих завистников победителя Италии и Египта. Ими командовал Массена, который, несмотря на то, что подчинялся гению Бонапарта, не слишком любил его: он то поражался своему начальнику, то сердился на него. От Массены можно было ожидать какого-нибудь неприятного противоречия по поводу 18-го брюмера. А выбор Моро одним ударом уничтожал всякие возражения и отнимал у недовольной армии недовольного генерала. Выбор этот был равным образом хорош и в военном отношении: рейнские и швейцарские войска в случае войны должны были действовать в Германии, а никто из генералов не знал этот театр войны так хорошо, как Моро.
Массена же был отправлен в Итальянскую армию, в места и к солдатам, которые были ему отлично знакомы. Его самолюбию льстило, что он избран для продолжения блестящих подвигов, совершенных генералом Бонапартом. Его отозвали из армии, с которой он только что одержал победу и где создал себе опору, и перевели в новое войско, ненавидевшее Директорию и составленное из поклонников 18-го брюмера. Этот выбор, как и предшествующий, был очень хорош в военном отношении. Надлежало оспорить у австрийцев Апеннины, а для такого рода войны и на таком театре Массена не имел соперников.
Сделав необходимые назначения, консулы могли наконец приступить к делу самой настоятельной потребности: к финансам.
Чтобы получить от капиталистов деньги, надлежало сначала отменить прогрессивный принудительный заем, который, вместе с законом о заложниках, возбуждал всеобщее неудовольствие. Не производя такого зла, какое им приписывали, обе эти меры, ничтожные в смысле пользы, напоминали самые гнусные проявления террора. Даже сами революционеры, которые в порыве патриотического жара вытребовали эти меры у Директории, вдруг изменили свое мнение и восстали против них.
Вступив в должность, Годен тотчас же по приказанию консулов представил законодательным комиссиям декрет о прекращении прогрессивного принудительного займа. Прекращение этой меры было принято с всеобщим восторгом. Прогрессивный принудительный заем был заменен военным побором, состоявшим в прибавлении небольшой суммы к главным поземельным повинностям и личным податям. Эту повинность, как и прочие подати, можно было вносить деньгами и всякого рода бумагами, но по причине крайней нужды требовалось, чтобы половину непременно выплачивали наличностью. Тем не менее военный побор не мог быстро изменить ситуацию, нужны были суммы, которые следовало срочно выдавать из казны.
Годен после первого своего распоряжения, которое пришлось по душе капиталистам, составил воззвание к главным парижским банкирам и попросил у них помощи. Бонапарт тоже обратился к ним напрямую, и сумма в двенадцать миллионов звонкой монетой была немедленно отпущена правительству. Долг этот должны были выплатить из первого военного побора. Такое пособие было истинным благодеянием и делало честь усердию парижских банкиров. Но оно облегчило положение только на несколько дней. Надо было искать средства на более длительный срок.
Чтобы выйти из создавшегося положения, пришлось преобразовать сбор денежных средств и, снова открыв источники общественного дохода, восстановить общественный кредит.
Во всяком государстве, где с имений и лиц взимаются подати, должны существовать именные списки граждан с указанием их состояния и роспись имущества с оценкой дохода. Необходимо, чтобы сбор податей совершался точно и благоразумно; точно — для обеспечения дохода, благоразумно — чтобы не стеснять плательщиков.
Ничего подобного не было во Франции в 1799 году. По совету Годена консулы не побоялись снова открыть некоторые учреждения прежнего правительства, оказавшиеся полезными. На основании прежней была организована система прямых сборов. В каждый департамент назначались директор и инспектор, и, кроме того, восемь-десять контролеров распределялись, смотря по надобности, по округам. Они должны были сами составлять списки и сметы, то есть делать перепись и определять размер подати.
Надеялись, что в течение шести недель эта администрация заработает, а в два или три месяца составит полные списки.
Теперь оставалось организовать сбор и взнос податей в казну.
Годен уговорил Бонапарта принять систему хоть и заимствованную у прежнего правительства, но весьма остроумную. Система эта состояла в выпуске облигаций главных сборщиков податей. Главные сборщики, истинные банкиры казны, как мы их назвали, должны были выставлять облигации, сроком на каждый месяц, на всю сумму прямых доходов, то есть на триста миллионов из пятисот миллионов, составлявших тогдашний бюджет Франции. Облигации эти в назначенный срок должны были выдаваться из кассы главного сборщика. Чтобы представить недоимку, произошедшую от несвоевременного взноса податей, предполагалось, что каждая двенадцатая часть (т.е. подать последнего месяца) вносится четырьмя месяцами позже текущего момента. Потому облигации последнего срока, т.е. на 31 января, могли надписываться сроком до 31 мая; таким образом главный сборщик мог щадить взносящего и в то же время получал побудительную причину скорее взыскивать недоимку: взыскав подать двумя месяцами ранее, он пользовался процентами от двух последующих.
Такая комбинация была, конечно, возможна только при верном составлении списков и четком порядке сбора; главные сборщики могли в точности выплачивать, только если в точности же получали суммы.
После того как все это было устроено в вышеизложенном порядке, система облигаций заработала. Кроме всех прочих преимуществ, в первый день года в распоряжении казны оказывалось триста миллионов прямых доходов, в надежных и легкообращаемых векселях.
Такова была система сбора податей, которая за короткое время привела казну в цветущее состояние.
Все эти проекты, хотя и очень продуманные, могли бы принести лишь столько пользы, сколько в них вложило усилий само правительство. Результаты их были бы убедительны только в том случае, если б порядок действительно восстановился, а исполнительная власть придала силу и последовательность всем начинаниям и скоро и хорошо организовала новое управление прямыми доходами. Ум и твердость генерала Бонапарта были в том порукой. Он сам обсуждал все эти проекты, сам утверждал их, часто изменял и улучшал; он понимал всю их важность и строго наблюдал за точным их исполнением. Тотчас же по утверждении проекты отсылали в законодательные комиссии, которые обращали их в закон, не теряя ни минуты. Двадцати дней было достаточно для изобретения проектов, изложения, придания им законной формы и приведения в исполнение.
Все эти средства дали наконец возможность помочь войскам, истощенным и измученным, и доставить им первое облегчение, в котором они крайне нуждались. Беспорядок дошел до того, что в военном министерстве не было даже списков войск, их численности и размещения. Один артиллерийский штаб имел подробные списки своих полков. Батальоны новобранцев, составленные и экипированные в департаментах, по большей части были организованы без посредства центральной власти, она и не имела о них никакого понятия. Генерал Бонапарт вынужден был посылать штабных офицеров, чтобы собрать необходимые для него сведения на месте. Одновременно он отправил корпусам некоторое вспоможение, впрочем, весьма небольшое по сравнению с их нуждами.
В прокламации к солдатам, говоря с ними языком, которым владел с таким мастерством, он заклинал их потерпеть еще несколько дней и показать в страданиях такое же мужество, какое они показывали в битвах.
«Солдаты! — говорил он. — Нужды ваши велики, приняты все меры, чтобы помочь им. Первое достоинство солдата — сносить с твердостью усталость и лишения, храбрость — уже второе. Многие корпуса покинули позиции, — они не вняли голосу своих командиров. Разве вымерли все храбрые солдаты — кастильонские, риволийские и неймарские? Они бы скорее умерли, чем покинули свои знамена; они возвратили бы своих молодых товарищей к чести и к долгу!
Солдаты! Вам не выдают регулярно того, что вам следует, говорите вы? Что бы вы сделали, если б очутились среди степей без хлеба и воды, поедая лошадей и мулов? «Победа даст нам хлеб», — говорили те славные солдаты, а вы, вы покидаете свои знамена в мирное время.
Итальянские солдаты! Новый генерал командует вами, он всегда был в авангарде любого сражения. Подарите его доверием: он приведет победу в ваши ряды!»
Кроме финансов и армии, безотлагательного внимания новых консулов требовали и другие правительственные нужды. Надлежало прекратить строгости, недостойные мудрого и человеколюбивого правительства, к которым ожесточение партий принудило слабую Директорию; надлежало поддержать порядок, которому угрожали: с одной стороны — возмущенная Вандея, с другой — революционеры, ожесточенные переворотом.
Первая политическая мера новых консулов касалась закона о заложниках. По этому закону родственники вандейцев и шуанов должны были отвечать за все действия возмутившихся провинций. Закон этот возбуждал всеобщее негодование, и консулы поступили с ним точно так же, как с прогрессивным принудительным займом: они предложили законодательным комиссиям отменить его, и он был тотчас же отменен. Генерал Бонапарт сам отправился в темницу Тампля, где содержались многие из заложников, чтобы лично разорвать их оковы и принять бесчисленные благословения, которые вызывала исцеляющая власть Консульства.
Нужно сказать, что многие духовные лица, несмотря на то, что присягнули гражданской конституции, все-таки были преследуемы. Они скрывались и бежали из Франции или были заточены на островах Ре и Олерон. Консулы предписали освободить заточенных.
Многие эмигранты, претерпевшие кораблекрушение близ Кале, с некоторого времени возбуждали к себе всеобщее участие. Эти несчастные люди, находясь между страхом смерти и строгостью закона об эмиграции, предпочли броситься к берегам Франции, не предполагая, что отечество будет к ним строже самой бури. Приверженцы строгих мер объявили (и отчасти справедливо), что эти эмигранты отправлялись в Вандею, чтобы там принять участие в возобновляющейся народной войне, и вследствие того их непременно нужно подвергнуть всей строгости закона об эмиграции. Но чувство человеколюбия, по счастью, пробудившееся в народе, отвергло это мнение.
Консулы постановили освободить эмигрантов, но выслать их из республики. Это решение было принято с единодушным одобрением, как свидетельство твердой и умеренной политики. А между тем, если б такое решение приняла Директория, его бы непременно сочли недостойным потворством партии эмигрантов.
Политика временных консулов была не совсем благоразумна только в отношении партии революционеров. Против нее, разумеется, были возбуждены раздражение и недоверие, и среди всех примиряющих и целительных действий правительства строгость соблюдалась по отношению к ней одной.
Генерал Бонапарт, имея в руках бразды правления и войско, ничего не боялся. Он показал 13-го вандемьера, как умеет усмирять восстания, и не беспокоился о действиях нескольких выспренных патриотов, которые не имели за собой реальной силы. Но сотоварищи его, Сийес и Роже Дюко, не разделяли его самоуверенности. К ним присоединились и некоторые из министров и уверяли генерала, что необходимо принять меры предосторожности.
Склонный по характеру к действиям энергичным, хотя и вынуждаемый политикой к умеренности, генерал Бонапарт согласился наконец выслать тридцать восемь членов революционной партии и заключить восемнадцать бунтовщиков в Ла-Рошель, Общественное мнение, хотя и не расположенное к революционерам, приняло эту меру холодно, почти с порицанием. Жестокость и насилие до того всех испугали, что их не желали даже против людей, которые сами позволяли себе всевозможные неистовства в том же роде. Со всех сторон посыпались просьбы в пользу по крайней мере нескольких имен, занесенных в список изгнания.
Генерал Бонапарт послал преданного ему генерала Ланна в Тулузу. При одном появлении этого офицера все попытки к сопротивлению исчезли, Тулуза успокоилась, филиалы «клуба Манежа» были закрыты во всех городах. Революционеры увидели, что общественное мнение против них, а во главе правительства находится человек, которому никто не смеет противиться. Итак, они подчинились: самые отчаянные — с воплем бешенства, скоро задушенным, остальные — с надеждой, что под властью «нового Кромвеля» революция и Франция не будут, по крайней мере, завоеваны в пользу Бурбонов, англичан, австрийцев или русских.
Счастливое прекращение попыток к сопротивлению дало правительству возможность исправить жестокие меры. Приговор, произнесенный над революционерами, был отменен. Вместо ссылки и заточения в Ла-Рошели их отдали под полицейский надзор, а затем отменили и сам надзор. Другие разумные, искусные и властные распоряжения нового правительства вскоре изгладили эту меру из памяти.
Вандея, в свою очередь, обратила на себя все внимание консулов. К концу Директории там началось восстание, но вступление в должность Бонапарта совершенно изменило порядок вещей и указало всем республиканским партиям другое направление.
Некоторые из предводителей роялистов сражались на полях Вандеи, другие были заняты в Париже политическими интригами. Предаваясь, как и все партии, которые норовят опрокинуть правительство, деятельной игре ума и беспрестанно придумывая новые комбинации в пользу своего предприятия, они вообразили, что, может быть, есть средство поладить с генералом Бонапартом. Они полагали, что человеку с такими высокими дарованиями не может быть приятно возвыситься на шаткой сцене революции на несколько дней, чтобы потом, подобно предшественникам, навек исчезнуть в бездне, отверстой у его ног, и что он гораздо охотнее согласится занять место в мирной и правильно устроенной монархии, будучи ее украшением и опорой. Одним словом, они были до того легковерны, что надеялись угодить ролью Монка человеку, которому даже роль Кромвеля казалась слишком ничтожной.
Роялисты выбрали для этого дела барона де Невилля и генерала д’Андинье. Нужно ли говорить, до какой степени представление их о характере генерала Бонапарта было ошибочным. Этот необыкновенный человек, чувствуя свою силу и величие, не хотел быть ничьим слугой. Он ненавидел беспорядок, но любил революцию, не верил в свободу, которую она обещала, но хотел провести полную социальную реформу, которую она предполагала. Он желал полного торжества революции и искал славы ее прекращения, перевода ее в мирное русло; хотел остаться ее главой, как бы она ни называлась; но только он хотел быть орудием Провидения, а не другой власти!
Итак, Бонапарт принял господ де Невилля и д’Андинье, выслушал их более или менее ясные доводы и чистосердечно открыл им свои намерения, которые состояли в прекращении всех преследований, сближении всех партий с правительством и предоставлении преимуществ только одной из них, революционной партии, и притом самой благонамеренной ее части. Он объявил, что твердо решился или примириться с начальниками вандейской партии на разумных условиях, или истребить всех до одного.
Свидание это не привело ни к какому результату, но дало роялистам возможность лучше узнать генерала Бонапарта.
Во главе армии стоял тогда генерал мудрый, кроткий и верный, много сделавший во время первого примирения Вандеи, — генерал Гедувиль. Бонапарт приказал Гедувилю вступить с вандейскими вождями в переговоры. Вожди эти, напуганные участием генерала Бонапарта в верховной власти, изъявили готовность к примирению. Трудно было тотчас же подписать капитуляцию и согласиться на все условия, но к прекращению военных действий не оказывалось препятствий. Предложили тотчас же заключить перемирие. Это действие нового правительства, совершенное через двадцать дней после вступления в должность консулов, было принято со всеобщим удовольствием и заставило надеяться, что Вандея будет усмирена гораздо раньше, чем можно было ожидать.
Слухи в том же роде касательно иностранных держав возбудили надежду, что счастливая звезда генерала Бонапарта скоро восстановит и мир европейский.
Пруссия и Испания одни сохранили мир с Францией; первая всегда демонстрировала род равнодушия, вторая же тревожилась при всяком столкновении ее интересов с Францией. Россия, Австрия, Англия и все зависимые от них маленькие государства (в Италии и в Германии) вели с Французской республикой постоянную борьбу.
Англия, для которой война составляла прежде всего вопрос финансовый, решила дело в свою пользу, установив подоходный налог, который приносил ей обильные доходы. Но она продолжала вести враждебную политику, чтобы получить возможность захватить Мальту и ослабить таким образом французскую армию в Египте.
Австрия, овладев Италией, решилась лучше всем рискнуть, чем отдать свои завоевания. Но русский император Павел I, который принял участие в этой войне [Второй коалиции] по внушению своего доблестного и великодушного сердца, после поражения под Цюрихом сильно охладел к своей союзнице. Он взялся за оружие, как сам говорил, «чтобы защитить слабых против притеснения сильных и водворить государей, которых революция лишила престола». Австрия, между тем, водрузив в Италии свои знамена, не возвратила на престол ни одного из сверженных государей. Император Павел понял, что, действуя из чистого великодушия, становится орудием чужой выгоды. Будучи чрезвычайно пылким человеком, он с такой же живостью предался негодованию, с какой прежде увлекся великодушным порывом.
Сначала Павел объявил войну Испании за то, что она поддерживала Францию. Скоро он готов был воевать с Данией, Швецией и Пруссией за то, что эти державы оставались нейтральными, и даже прекратил с Пруссией все сношения. Но вследствие последних событий император смягчился, охладел и даже отправил надежного дипломата Криденера в Берлин, поручив постараться возобновить дружественные сношения между прусским и русским кабинетами.
В это время в Берлине находился искусный и умный уполномоченный французского двора Отто, который и известил свое правительство о новом положении дел. Можно было смело делать вывод, что ключ к миру следует искать в Берлине. Пруссия, находившаяся посередине между воюющими державами, сохранившая нейтралитет, возбудившая против себя в первую жаркую минуту все кабинеты коалиции и оцененная ими по достоинству, когда этот жар поостыл, Пруссия теперь становилась центром политического влияния, особенно с тех пор, как Россия начала опять с ней сближаться.
Между адъютантами Бонапарта был один, отличавшийся благоразумием, скромностью, сметливостью, соединявший с приятной наружностью удивительную ловкость: это был Дюрок, который прибыл с генералом из Египта и на челе своем еще носил отблеск славы пирамид.
Новый консул приказал ему немедленно отправиться в Берлин приветствовать короля и королеву, представиться ко двору, как будто прислан единственно с целью изъявить преданность и уважение, но в то же время воспользоваться этим случаем, объяснить переворот, произошедший во Франции, и объяснить его как возвращение к порядку и к мирным идеям. Дюрок должен был льстить молодому королю [Фридриху-Вильгельму III] и дать ему почувствовать, что его охотно сделают вершителем будущего мира. Республика, опираясь на победы при Текселе и Цюрихе, могла, не роняя своего достоинства, явиться с оливою мира в руках.
Генерал Бонапарт сделал несколько дипломатических назначений. Хотя Отто, поверенный в делах при берлинском дворе, был отличным агентом, но все-таки оставался простым поверенным. Ему дали другое назначение, а в Берлин был послан генерал Бернонвиль, один из небольшого числа французских дворян, в 1789 году чистосердечно высказавшихся в пользу революции. Генерал Бернонвиль был честен, прям, умерен в своих мнениях и вполне способен представлять новое правление. Австрия, где он долго был пленником, внушала ему ненависть, которая весьма кстати была в Берлине.
В Мадриде Франция имела своим представителем старого демагога безо всякого влияния, который не оставил по себе памяти на дипломатическом поприще. Его заместили человеком осторожным, умным, ученым, который с честью подвизался на дипломатическом поприще того времени, — господином Алькье.
Чтобы дать лучшее представление о политике консулов, Бонапарт обеспечил исполнение правосудия в отношении несчастных мальтийских рыцарей. В свое время им было обещано, что во Франции не будут считать эмигрантами тех из них, кто принадлежит к французскому народу по языку. Несмотря на это, до сих пор они не пользовались правами своей капитуляции ни в отношении лиц, ни в отношении имений. Генерал Бонапарт приказал восстановить для них все выгоды этого договора.
Что касается Дании, консулы приняли меры самой поразительной справедливости. Во французских портах находилось много датских судов, задержанных во времена Директории в возмездие за несоблюдение нейтралитета. Датчан упрекали в том, что они не поддерживали морской нейтралитет, дозволяя англичанам досматривать суда и забирать французские товары, на них находящиеся. Директория объявила, что их подвергнут точно такому же насилию, какое они разрешают англичанам; но эти несчастные делали, что могли, и наказывать за насилие одних насилием других было жестоко. Таким образом, многие датские корабли были задержаны, а Бонапарт приказал их выпустить в знак более справедливой и умеренной политики.
Дюрок прибыл в Берлин очень скоро и был представлен ко двору господином Отто, который еще там находился. По строгим правилам этикета Дюрок, как простой адъютант, не мог войти в прямые сношения с двором. Но все эти условия были устранены для офицера, состоявшего при особе генерала Бонапарта. Посланник был принят королем и королевой и беспрестанно приглашаем в Потсдам.
Участие к нему было возбуждено настолько же любопытством, насколько и политикой. Видеть адъютанта Дюрока, говорить с ним значило некоторым образом сближаться, хоть издали, с необыкновенным человеком, который занимал собою умы.
Успех этого посольства очень скоро отозвался в самом Париже. Мысль о близком мире овладевала всеми умами. Особенное обстоятельство, само по себе маловажное, еще более способствовало распространению этой идеи.
Армии французская и австрийская стояли друг против друга вдоль по Рейну и по хребту Альпийских и Апеннинских гор. Переход через Рейн с той или с другой стороны был трудным предприятием, о котором в декабре нельзя было и подумать. Поэтому стычки на берегах Рейна становились бесполезной тратой крови, и решили заключить перемирие по этой линии.
Во всех гражданских неустройствах встречаются зло реальное и зло воображаемое, и одно способствует тому, чтобы сделать другое невыносимым. Важно уничтожить зло воображаемое, потому что этим уменьшается реальное зло и страдальцу внушается терпение, чтобы вы-, ждать. Появление генерала Бонапарта у кормила власти изменило положение дел: болезнь воображения исчезла, родилось доверие, всё стали толковать в хорошую сторону. Правда, дела его содержали в себе много хорошего, но главное состояло в том, что все были расположены считать эти дела хорошими. На простой знак сближения, прием адъютанта в Берлине, и ничтожное перемирие, заключенное на Рейне, народ смотрел уже как на залоги мира. Такова волшебная сила доверия! Для начинающего правления в нем заключается всё, а доверие к правлению консулов доходило до невероятности. Потому и деньги лились в казну, а из казны переходили к армиям, которые, в свою очередь, довольствуясь этим предварительным пособием, терпеливо ожидали того, что им было обещано в будущем.
Повсюду распространялись слухи, основанные на словах тех, кто работал с молодым консулом: говорили, что этот безупречный воин был вместе с тем превосходным администратором и глубоким политиком. Все люди, которыми он окружал себя, которых внимательно выслушивал, часто озарял точностью и быстротой своих мнений и, сверх того, защищал от всякого противодействия, выходили от него пораженные удивлением и совершенно им покоренные. Они охотно сознавались в этом, потому что вошло в моду так думать и говорить.
Генерал Бонапарт занимался делами правления всего только месяц, а уже впечатление, произведенное этим мощным умом, стало всеобщим и глубоким. Добряк Роже Дюко не приходил в себя от удивления, а важный Сийес, хоть и неспособный увлекаться модой, сознавал превосходство и универсальность этого гения и уже тем показывал ему искреннее уважение, что предоставлял полную свободу действий.
Откровенными почитателями Бонапарта считались Талейран, Реньо де Сен-Жан д’Анжели, Редерер, Буле де Ла Мерт, Дефермон, Реаль и другие. Они везде повторяли, что такая точность в делах, широта ума и изумительная стремительность никогда еще не были виданы. И в самом деле, то, что он совершил за один месяц по всем отраслям правления, было поразительно, и в этом отношении истина вполне согласовывалась с лестью, а это большая редкость.
Итак, законодатель Сийес должен был подготовить Бонапарту место в конституции, которую составлял. Но Сийес был законодатель догматический, он трудился для дела, а не для обстоятельств, и еще менее для лица, кем бы оно ни было. Дать Франции конституцию научную, основанную на наблюдении общества и уроках опыта, было мечтой всей его жизни.
Этот оригинальный законодатель, постоянно размышлявший, но писавший гораздо менее, чем действовавший, никогда не излагал своей конституции письменно. Она находилась у него в голове, и надлежало ее оттуда вызвать. Это было нелегко, хотя он пламенно желал составить ее и обратить в закон. Наконец Сийес решился передать свои мысли одному из друзей, де Л а Мерту, который взялся набросать их на бумагу по мере совещаний с Сийесом. Только таким образом это замечательное творение могло быть с точностью схвачено и сохранено для потомства, которого оно вполне достойно.
Сийес употребил все усилия ума, чтобы свести воедино начала республики и монархии и занять у той и другой всё, что было в них полезного и необходимого. Но заимствуя у обеих, он не доверял им в равной степени и принял все предосторожности против демагогии первой и деспотизма последней.
Таким образом, он создал сложное творение, где каждая деталь стояла на прочном основании; и если бы эта конституция была перестроена генералом Бонапартом или для него и лишена какой-либо из точек опоры, то могла бы, против воли составителя, совершенно склониться к деспотизму.
Одно словосочетание, которое, может быть, впервые было на устах у всех, а именно «представительное правление», дает полную картину умов в эту эпоху. Да, нация должна принимать участие в своем правлении, но только через посредников, то есть должна быть представляема; и, как мы увидим, этого-то именно и хотел Сийес.
«Доверие, — говорил он, — должно исходить снизу, а власть — свыше». Для осуществления этого правила он придумал систему народного представительства на следующих основаниях. Каждый француз двадцати одного года был обязан, если хотел пользоваться своими правами, записаться в гражданский реестр. Таким образом составилось бы порядка пяти или шести миллионов граждан, могущих пользоваться своими политическими правами. Они должны были собираться по округам и выбрать из своей среды десятую часть. Из этих десятых частей должен был составиться первый список, в пятьсот или шестьсот тысяч человек. Эти пять или шесть сотен тысяч должны были, в свою очередь, выбрать между собой десятую часть, из которой составится второй список, включавший в себя от пятидесяти до шестидесяти тысяч граждан. Эти уже делали заключительный выбор, опять десятой части, и составляли последний список, который ограничивался пятью или шестью тысячами кандидатов. Эти три списка назывались списками выборных.
Из первого списка должны были назначаться члены муниципальных правлений, мэры, супрефекты, судьи первых инстанций и проч. Из второго списка надлежало выбирать советы департаментов, префектов, апелляционных судей и проч. Наконец, из третьего, последнего, списка выделяли членов Законодательного корпуса, всех высших чиновников, государственных советников, министров, судей кассационного трибунала и проч. и проч. Сийес выбрал геометрическую фигуру, чтоб дать точное понятие об этом народном представительстве, широком в основании и суживающемся к вершине: он назвал его пирамидой.
Мы показали, как Сийес, следуя своему проекту, ожидал вызвать доверие снизу; теперь посмотрим, каким образом власть должна была исходить свыше.
Сийес боялся выборов, потому что видел пристрастных избирателей, которые назначали столь же пристрастных представителей. Он отверг выборы и хотел, чтобы из этих выборных списков, основанных на общественном доверии, законодательная и исполнительная власти могли бы сами выбирать своих членов. Законодательная власть должна была организоваться следующим образом: с одной стороны — Законодательный корпус, поставленный между двумя противоположными учреждениями, Трибуналом и Государственным советом, с другой — отдельно и выше их — Сенат (Охранительный).
Законодательный корпус должен был состоять из трехсот членов; они выслушивают прения о законах, сами в них не вступая, и молча утверждают законы окончательно.
Законодательное учреждение, состоящее из ста членов, называемое Трибуналом и представлявшее, по конституции
Сийеса, дух либерализма, обновления и противопоставления, принимало сообщаемые ему законы, рассуждало о них публично и подавало голос единственно для того, чтобы выяснить: будет ли тот или иной закон принят или отвергнут Законодательным корпусом.
Государственный совет был поставлен возле правительства для составления законов. Он представлял их Законодательному корпусу и отряжал троих членов для возражения ораторам Трибунала. Таким образом, Государственный совет говорил в пользу, а Трибунал против нового закона; Законодательный же корпус молча утверждал или отвергал его.
Сенат, состоящий из ста членов, не принимал никакого участия в законодательном процессе, а был уполномочен — самопроизвольно или по донесениям Трибунала — уничтожить всякий закон или всякое правительственное действие, которые казались ему противными конституции. Поэтому он назывался «охранительным». Он должен был состоять из лиц зрелого возраста, лишенных, вследствие вступления своего в Сенат, всякой посторонней государственной деятельности и, стало быть, ограниченных одной ролью охранителей, в исполнении которой заключался для них особенный интерес, потому что Сийес хотел, чтобы им назначено было богатое содержание.
Исполнительная власть также сама назначала министров, государственных советников, департаментских советников, префектов, муниципальных советников, мэров и всех равнозначительных чиновников.
Таким образом, по желанию Сийеса, доверие шло снизу, а власть исходила свыше.
Но так же, как над законодательной властью было поставлено высшее учреждение, Сенат, так же точно нужна была верховная сила и над властью исполнительной. Сийес поставил во главе исполнительной власти лицо, названное им, сообразно с его назначением, великим электором. Это верховное лицо имело только одно право и одну обязанность: великий электор должен был назначать двух высших чиновников — консула мира и консула войны. А уже консулы эти впоследствии назначали министров, которые, в свою очередь, и вели государственные дела.
Великому электору назначалось великолепное содержание. Он был фактическим составителем правительства и его внешним представителем в одном лице. Бездействие, на которое Сийес обрек сенаторов, чтобы обеспечить их беспристрастие, было назначено в удел и великому электору — с той же целью — и вознаграждалось еще щедрее, поскольку ему надлежало представлять всю Республику. При нем должны были быть аккредитованы иностранные посланники; его подписью утверждались все договоры Франции с иностранными державами. Одним словом, он соединял с важным правом избирать двух главных деятелей государства весь внешний — хотя и суетный — блеск.
Еще одна вызывающая опасение деталь довершала многосложное творение Сийеса. Сенат, имевший право уничтожить всякий акт или распоряжение правительства, несообразные с конституцией, кроме того, получал привилегию лишить великого электора его сана, избрав его, против воли, в сенаторы. Для этой процедуры Сийес придумал особенный термин — «поглощение». Сенат имел право сделать то же с каждым гражданином, значительность или таланты которого могли затмить собой Республику.
Кто не узнает в этом странном, но глубоком творении бледный, может быть, с намерением затемненный образ представительной монархии? Этот Законодательный корпус, этот Сенат, этот великий электор — не что иное, как нижняя и верхняя палаты парламента и король; вся конструкция основывается на всеобщем избирательном праве, но с таким количеством предосторожностей, что элементы демократии, аристократии или монархии допускаются словно только затем, чтобы быть устраненными.
Между тем есть представительное монархическое правление, составленное с меньшим трудом и большим доверием к человеческой природе, которое доставляет в течение двух веков не разрушающую, но живительную свободу одной из первейших наций в мире. Британская конституция, простая и естественная в своих средствах, допускает и монархическую власть, и аристократическую, и демократию и предоставляет им полную свободу действий только с одним условием — управления согласованного. У нее монархическая власть и аристократия проистекают из естественного своего начала, из наследственности. Взамен того конституция предоставляет нации право составить — сообразно со склонностями и временными страстями народа — собрание, которое, имея власть дать монархизму средства к управлению или отказать в них, заставляет его, таким образом, выбирать в главы правления людей, умеющих приобрести общественное доверие.
Вот конституция простая, истинная, потому что она проистекла из естественного порядка вещей и духа времени, она не похожа на конституцию Сийеса, произведение ученое, но искусственное, произведение человека умного, испытывавшего отвращение к монархическому правлению в царствование последних Бурбонов и напуганного Республикой в течение последних десяти бурных лет.
После большого усилия над собой Сийес вызвал наконец из глубины мысли все свои комбинации и сообщил их Буле де Ла Мерту, который изложил их на бумаге, а также некоторым из членов обеих законодательных комиссий, которые стали разглашать их в своем кругу.
Сначала интерес слушателей Сийеса был совершенно удовлетворен, потому что законодатель упомянул важное распоряжение переходного периода. С целью спасти революцию он хотел, чтобы все лица, занимавшие должности с 1780 года и бывшие членами законодательных, департаментальных и муниципальных собраний, были по праву внесены в списки выборных и чтоб эти списки не менялись в течение десяти лет. Кроме того, Сийес, Роже Дюко и Бонапарт должны были сами назначить всех членов государственных собраний на основании права, данного им новой конституцией. Распоряжение это было смело, но неизбежно, ибо все вновь избранные деятели были воодушевлены всеобщим духом противоборства и, увлекаясь общей страстью порицать все, что не сами сделали, открыто ненавидели события и героев революции, даже если сами разделяли их убеждения.
Итак, Сийес принял меры против нового 18-го фрюк-тидора и обеспечивал свою конституцию на десять лет, передав ее в надежные руки. Идеи Сийеса должны были удовлетворять всеобщие интересы: каждый был вполне уверен, что будет сенатором, государственным советником или трибуном; а эти должности приносили богатое содержание.
Списки выборных казались самой счастливой комбинацией в то время, когда система выборов утратила всеобщее доверие. Государственный совет и Трибунал, имевшие голоса: один — рго, другой — соШга, особенно нравились умам, утомленным спорами и настоятельно требовавшим покоя. Сенат, поставленный так высоко и в такой полезной роли, тоже находил многочисленных поклонников.
Одна должность великого электора казалась странной людям, которые еще мало освоились с английской конституцией и не могли понять значения правительственного лица, обязанного только назначать главных агентов правления. Они находили, что тут слишком мало власти для короля и слишком много величия для обыкновенного президента республики.
Наконец, все находили, что это место не приспособлено к человеку, который должен был занять его, то есть к Бонапарту. Оно заключало в себе слишком много наружного блеска и слишком мало действительной власти: слишком много блеска, потому что явно напоминало о возвращении монархизма; слишком мало действительной власти, потому что человеку, на которого возложено преобразование Франции, следовало дать право почти неограниченное.
Сторонники генерала Бонапарта не могли говорить об этом нововведении без громких порицаний. Между ними Люсьен Бонапарт, который по какой-то прихоти то противоречил, то поддакивал главе своего семейства, настойчиво возражал против проекта Сийеса. Люсьен кричал повсюду, что Республике нужны президент, Государственный совет и при них еще кое-какие безделицы, что государство утомилось, слушая болтунов, и теперь оно нуждается только в людях действующих.
Эти необдуманные речи могли иметь самые неприятные последствия; но, по счастью, на слова Люсьена не обращали большого внимания.
Генерал Бонапарт, среди своих непрерывных занятий, собирал разные слухи, распространяемые о проекте Сий-еса. Следуя договоренности, он дал полную свободу своему товарищу и не хотел вмешиваться в конституцию до тех пор, пока не настанет срок изложить ее окончательно. Тогда он надеялся устроить назначаемое ему место сообразно своему вкусу. Однако доходившие со всех сторон известия наконец его раздражили, и он выразил неудовольствие со своей обыкновенной горячностью в речах, горячностью, в которой часто раскаивался, но с которой иногда не мог совладать.
Неодобрение, которое он выражал по поводу некоторых статей проекта, скоро дошло до его автора. Сийеса это сильно огорчило. Хотя он был неспособен к интриге, однако начал поодиночке склонять в свою пользу членов обоих законодательных отделений.
Между тем де Ла Мерт и двое из приближенных Бонапарта, Редерер и Талейран, желая сохранить согласие между этими важными людьми, начали деятельно хлопотать об их встрече.
Буле де Ла Мерт обязался письменно изложить идеи Сийеса и сделался, таким образом, доверенным его проекта. Редерер входил в состав первого Национального собрания, был человеком умным, настоящим публицистом в духе XVII века, любил много толковать о происхождении и организации обществ, составлять проекты конституций и присоединял к этому явную склонность к монархизму. Талейран, способный постигать умы, даже совершенно противоположные его собственному, был одинаково поражен и деятельным гением молодого Бонапарта, и умозрительным гением философа Сийеса, чувствуя склонность к обоим.
Итак, подготовили свидание. Оно должно было происходить у Бонапарта, в присутствии Редерера и Талейрана.
Дело сладилось, но не удалось.
Бонапарт находился под впечатлением донесений о великом электоре, а Сийес был полон неодобрительных отзывов генерала, которые, вероятно, были ему переданы в преувеличенном виде. Мужи сошлись в дурном расположении, показывали друг другу свое неудовольствие и разговаривали в самых язвительных выражениях.
Испуганные примирители снова принялись за дело, чтобы сгладить дурное впечатление от встречи. Буле де Ла Мерт и Редерер придумывали новые образцы исполнительной власти, которые бы устранили затруднения, неприятные Бонапарту, то есть бездействие великого электора. Сперва они придумали консула с двумя помощниками, потом — великого электора, с предоставлением ему права назначать двух консулов, мирного и военного, присутствовать при их совещаниях и решать возникающие между ними вопросы. Этого было недостаточно для самолюбия Бонапарта и слишком много для Сийеса, проект которого этим совершенно уничтожался.
Сийес, как и все созерцательные умы, пал духом при первой же встрече с препятствием, проистекавшим из самой природы вещей. Он говорил, что бросит все, покинет Париж, уедет в деревню и оставит молодого Бонапарта одного с его зарождающимся деспотизмом, который уже ясно обнаруживается.
«Он хочет уехать, — говорил и Бонапарт, — пусть едет; я поручу Редереру составить конституцию, предложу ее обоим законодательным отделениям и удовлетворю голос общества, который требует, чтобы это дело было кончено». Но он ошибался, говоря таким образом. Ему еще рано было показывать Франции обнаженный меч свой: он встретил бы совершенно неожиданное противодействие.
Однако эти два человека, которые, несмотря на инстинктивное отвращение друг к другу, успели сойтись на мгновение и создать 18-е брюмера, должны были сблизиться еще раз для составления конституции.
Молва о ссоре расшевелила законодательные комиссии, и они принялись за дело; отвергнуть хоть одну из идей законодателя значит огорчить его настолько же, как если бы пришлось отвергнуть их все. Но важность дела требовала, чтобы проект Сийеса был принят только за основу новой конституции. Сийес мало-помалу успокоился, а генерал Бонапарт, видя, что законодательные комиссии решительно начали работать, сам заметно смягчился. Этой минутой воспользовались примирители, чтобы снова попытаться сблизить противников.
Произошло новое свидание между Сийесом и Бонапартом в присутствии де Ла Мерта, Редерера и Талейрана.
На этот раз собеседники были спокойнее и более расположены выслушать друг друга. Вместо того чтобы показывать обоюдное неудовольствие, они, напротив, старались сблизиться и продемонстрировать сходство образа мыслей. Предмет разговора составляли настоящее положение Франции, недостатки предшествовавших конституций и предосторожности, которые нужно принять в новой конституции, чтобы предупредить беспорядки прежнего времени.
Оба противника расстались удовлетворенными, с обещанием созвать законодательные отделения, чтобы обсудить, принять или изменить их предложения, и таким образом наконец избавиться от временной формы правления, которая начинала всем надоедать.
Итак, Сийес был уверен, что за исключением его великого электора и некоторых прав Сената конституция его будет принята вполне.
В течение следующих десяти дней (с 20 ноября до
1 декабря) отделения закончили проект. Бонапарт созвал их к себе. На первом же заседании Сийес изложил свой план с силой мысли и слова, которая произвела на всех присутствующих глубокое впечатление.
«Все это прекрасно и глубокомысленно, — сказал Бонапарт, — но есть некоторые пункты, требующие внимательного рассмотрения. Займемся ими по порядку».
Работа продолжалась несколько заседаний. Наконец согласились на следующие положения.
Списки выборных были одобрены. Решили, что из списков будут избираемы только те чиновники, которых обозначит конституция. Согласно второму положению, вместо того чтобы отложить обновление списков на десять лет, как предлагал Сийес, было предложено совершить его в течение года. Вместо ежегодной ревизии была принята трехгодичная.
Потом перешли к организации власти. Правило Сийеса: «Доверие должно исходить снизу, а власть — свыше», — имело полный успех. Но Сенат подвергся значительному уменьшению своих прав; он мог выбирать сенатора не иначе, как из трех кандидатов, из которых один был назначаем консулами, другой Законодательным корпусом, а третий Трибуналом. Что касается Государственного
2 Консульство совета, то он, как часть исполнительной власти, ею и должен был избираться. Безгласный Законодательный корпус, по желанию Сийеса, должен был выслушивать трех трибунов и потом, без дальнейших прений, произносить приговор предложениям правительства.
Один Трибунал имел право публично рассуждать о законах; но его приговор, даже отрицательный, не мешал закону оставаться законом, если Законодательный корпус его принял. Трибунал не имел права сам вносить предложения, но он мог изъявлять желание, кроме того, он принимал прошения и рассылал их в те ведомства, которых они касались.
До сих пор план Сийеса был принят вполне, за исключением некоторых ограничений власти Сената. Но план этот подвергся значительным изменениям при организации исполнительной власти. В этом пункте генерал Бонапарт оказался непреклонным. Сийесу было уже известно, что эта часть его плана будет отвергнута, однако его попросили изложить ее. И он в присутствии соединенных комиссий еще раз предложил учреждение великого электора.
Бонапарт подверг предложение едкой критике. Он наговорил много колкого и умного по поводу пышной праздности великого электора, и сарказм его был извинителен. Весьма естественно, что, имея в виду преобразование расстроенного общества, усмирение кровавых бунтов, победы над врагами, он желал сохранить возможность использовать весь свой гений. Но если в эти первые дни Консульства, когда еще столь многое надлежало совершить, он был прав, не дозволив сковать свои дарования, то впоследствии благородный изгнанник Святой Елены, верно, сожалел о том, что ему была дана свобода употреблять их без меры.
Ограниченный в своих возможностях, он, конечно, не совершил бы таких великих дел, зато и не предпринял бы дел непомерных и, вероятно, умер бы со скипетром и шпагой в победоносных руках.
«Ваш великий электор, — сказал он Сийесу, — настоящий король-тунеядец, а время королей-тунеядцев миновало. Какой человек с умом и душой захочет принять на себя такую праздность за шесть миллионов и за квартиру
в Тюильрийском дворце? Как! Назначать людей, которые бы действовали, и не действовать самому?! Это невозможно! К тому же вы думаете, что этим способом заставите своего великого электора не вмешиваться в дела правления? Если б я был великим электором, я стал бы делать именно все то, чего вы не хотите, чтобы я делал. Я сказал бы консулам мира и войны: «Если вы не выберете такого-то или не примете такой-то меры, я вас отрешу». Я бы их принудил исполнить мою волю и с помощью этой уловки сделался полным властелином».
Здесь Бонапарт с обычной своей проницательностью открыл истину и понял, что бездействие великого электора не было совершенным ничтожеством, потому что в известные минуты этот верховный сановник мог сделаться полноправным хозяином на арене, где партии оспаривали друг у друга власть, мог отнять ее у одних и вручить другим. Но это высокое бдение английских королей над правительством не могло удовлетворить пылкого Бонапарта; и нам нужно простить его за то: в ту минуту ни место, ни время не допускали конституционной королевской власти.
Он одержал верх. Вот как окончательно была устроена организация исполнительной власти.
Избирали Первого консула с двумя помощниками, которые были придуманы, собственно, для того, чтобы хоть несколько скрыть всемогущество первого.
Этот Первый консул имел прямое и исключительное право назначать членов общего управления, членов департаментских и муниципальных советов, администраторов, названных впоследствии префектами, супрефектами, муниципальными агентами и проч.
Он назначал сухопутных и морских офицеров, советников заграничных министерств, гражданских и уголовных судей, но не мировых судей и не членов кассационного трибунала. Он не мог отрешать от должности раз назначенных судей; таким образом, залогом независимости стал, вместо выборов, бессрочный статус.
Кроме назначения чиновников по ведомствам административному, военному и судебному, Первый консул имел в руках всё управление республикой, все военные Дела и дипломатию: он подписывал договоры, представляя их предварительно на рассмотрение и одобрение Законодательного корпуса, по той же форме, что и законы.
Ему помогали два других консула, которые имели только совещательные голоса, но могли заносить свое мнение в протокол, нарочно для этого заведенный.
Очевидно, что эти два консула были придуманы для прикрытия огромной власти, которой облекали Бонапарта, власти, данной ему надолго и которая могла даже сделаться постоянной, потому что консулов избрали на десять лет и могли вновь избирать неопределенное количество раз.
Однако осталось и кое-что из поглощения, придуманного Сийесом. Первый консул, слагая с себя должность вследствие отставки или по другому случаю, делался сенатором, то есть отрекался на будущее время от всех общественных должностей. Двум остальным консулам, которые не пользовались полновластием, предоставлялась возможность принять или не принимать это богатое ничтожество; они делались сенаторами только тогда, когда сами того желали. Первому консулу было назначено содержание в пятьсот тысяч франков, двум остальным — по сто пятьдесят тысяч на каждого. Все трое должны были жить в Тюильри, под охраной гвардии.
Вот в чем состояли главные положения знаменитой Конституции VIII года. Конституция эта не заключала в себе определенных прав, но посредством некоторых общих положений обеспечивала личную свободу и неприкосновенность жилища гражданина, а также ответственность министров и низших чиновников. Она допускала, что новый закон в некоторых департаментах и при известных особенных обстоятельствах может приостановить действие конституции. Она определяла пенсии вдовам и сиротам воинов и, наконец, возвращаясь к давно забытым идеям, допускала народные награды людям за значительные заслуги перед отечеством.
Проект Сийеса заключал в себе две великие и прекрасные мысли: окружную перепись и Государственный совет. Сийес, таким образом, сделался родоначальником всех административных описей Франции. Некогда именно он придумал и заставил ввести разделение на департаменты; теперь пять тысяч кантонных администраций были заменены гораздо меньшим числом окружных правлений, посредничество которых между общинами и департаментом было гораздо более удобным.
Вторым созданием Сийеса был Государственный совет, совещательный орган, причисленный к власти исполнительной, при этом подготавливающий законы, поддерживающий их перед законодательной властью и осуществляющий административное правосудие. Это была самая удобоисполнимая из всех идей Сийеса. Вместе с предыдущей ей назначено было осуществиться в настоящем и быть принятой впоследствии. Скажем к чести законодателя: все эфемерные конструкции Французской революции разрушило время; основания же, созданные им, уцелели.
Бонапарт был избран Первым консулом на десять лет. Нельзя сказать, чтобы его избирали: он был назначен самими обстоятельствами. На него указывали победа и необходимость. Обозначив место Бонапарту, следовало найти место и для Сийеса. Этот великий человек не слишком любил деловитость и еще менее — второстепенные роли. Ему казалось неприличным стать помощником генерала Бонапарта, и потому он не принял звания второго консула. Вторым консулом назначили отличного законоведа Камбасереса, который благодаря своим знаниям, благоразумию и сноровке приобрел большое влияние между политическими лицами того времени. Третьим консулом избрали Лебрена. Это был выдающийся писатель, ученик Мопу4, человек весьма опытный в финансовом деле и слишком кроткий, чтобы докучать противоборством. Камбасерес мог заменять Бонапарта в управлении юстицией; Лебрен мог быть ему полезен в управлении финансами; оба вместе могли стать хорошими помощниками, нисколько не мешая действиям Первого консула.
Теперь следовало приступить к составлению совещательных государственных учреждений. Здесь сама собой открывалась роль для Сийеса. В конституции было указано, что Сенат изберет членов всех совещательных учреждений. Но кто же на первый раз составит сам Сенат?
Особенной статьей конституции постановили, что Сийес и Роже Дюко, вместе с новыми консулами Кам-басересом и Лебреном, назначат большинство сенаторов, то есть из шестидесяти членов — тридцать одного. Эти сенаторы должны потом, по баллотировке, избрать остальных двадцать девять членов.
Вследствие этой комбинации Бонапарт сделался главой исполнительной власти; а отстранением его от составления совещательных учреждений, целью которых было проверять его действия, соблюдали должное приличие.
Осуществление этой комбинации и было возложено на Сийеса, деятельная роль которого с этой минуты оканчивалась; его отсылали на покой — назначив ему место председателя Сената5.
Новую конституцию следовало предложить народному одобрению. Ее выставили во всех мэриях, мировых судах, конторах нотариусов и во всех регистратурах присутственных мест.
Народ единогласно желал прочного и правдивого правления, которое бы обеспечило силу и единство власти, не уничтожая свободы, правления, где каждый честный и способный человек нашел бы свое место. Конституция VIII года могла осуществить эти желания и осуществила бы их непременно, если б не насильственное вмешательство гения, который, впрочем, был способен ниспровергнуть и гораздо более мощные препоны, чем творение законодательного ума Сийеса.
Конституция была обнародована 15 декабря 1799 года. Она обольстила умы свежестью идей и искусством изложения. Все стали связывать большие надежды с ней и людьми, которым было поручено привести ее в исполнение.
Обнародованию конституции предшествовала следующая прокламация:
«Граждане! Вам представлена Конституция. Она завершает неопределенность временного правления в отношении внешних связей, внутреннего и военного положения Республики. Она ставит на первые места лиц, усердие которых необходимо для успеха всех начинаний.
Конституция основана на точных началах представительного правления, на священных правах собственности, равенства и свободы.
Власти, которые она учреждает, сильны и прочны: они должны обеспечить права граждан и выгоды государства.
Граждане! Революция ныне основана на тех принципах, которые ее произвели. И она завершена!»
Два человека, Бонапарт и Сийес, восклицают в 1800 году: «Революция завершена!» Какое странное доказательство заблуждений ума человеческого!
Однако надо сознаться, кое-что действительно закончилось: собственно анархия.
ВНУТРЕННЕЕ УПРАВЛЕНИЕ
Двадцать четвертого декабря новые консулы собрались, чтобы составить Государственный совет и со следующего же дня провозгласить новое правление.
После того Сийес и Роже Дюко, вместе с Камбасере-сом и Лебреном, отправились в Люксембургский дворец выбирать сенаторов, тогда и Сенат на другой день мог бы приступить к составлению главных учреждений.
Государственный совет был разделен на пять отделений: финансовое, гражданского и уголовного законодательства, военное, морское и, наконец, отделение внутренних дел. В каждом отделении был свой председатель, а всем советом управлял Первый консул или, во время его отсутствия, один из его сотоварищей.
Каждое отделение занималось составлением законов по своей части или регламентов для приведения их в действие. На некоторых сотрудников этого учреждения, кроме того, были возложены побочные обязанности, — вверены те специальные полномочия, которым хотели придать больше веса или на которые было обращено особенное внимание: как, например, управление народного просвещения, государственного казначейства, государственного имущества, колоний и общественных проектов.
Государственные советники, которым поручались эти управления, находились под непосредственным началом соответствующих министров. Каждый государственный советник получал двадцать пять тысяч, а каждый председатель отделения — тридцать пять тысяч франков содержания.
Места в Государственном совете тогда были гораздо значимее сенаторских мест, потому что при одинаковом жалованье государственные советники пользовались гораздо большим влиянием и наравне с министрами принимали участие в важнейших государственных делах.
Главными лицами этого важного учреждения были назначены: по отделению военному — Лакюэ, Брюн, Мармон; по морскому — Шампаньи, Гантом, Флерье; по финансовому — Дефермон, Дюшатель, Дюфрен; по отделению юстиции — Буле де Ла Мерт, Берлье, Реаль; по отделению внутренних дел — Редерер, Крете, Шапталь, Реньо де Сен-Жан д’Анжели, Фуркруа.
Президентами были: Брюн, Гантом, Дефермон, Буле де Ла Мерт и Редерер. Нельзя было составить совет из более почетных имен, из более разнородных и истинных дарований.
В тот же день (24 декабря) Сийес, Роже Дюко, Кам-басерес и Лебрен собрались для выбора сенаторов. Само собой разумеется, что список их был заготовлен заранее и заключал в себе, между прочими, следующие почетные имена: Бертолле, Лапласа, Монжа, Траси, Вольнея, Каба-ниса, Келлермана, Дюси. Последний, кстати, не принял звания сенатора6.
На следующий день, 25 декабря, Государственный совет в первый раз открыл свое заседание, консулы и министры обсуждали законы, касающиеся взаимоотношений главных государственных учреждений.
Сенат также собрался в Люксембургском дворце, избрал еще двадцать девять новых членов, а в следующие дни занялся составлением Законодательного корпуса и Трибуната. В Законодательный корпус были включены умеренные политики всех периодов Революции, члены Учредительного собрания, Законодательного собрания, Конвента и, наконец, депутаты Совета пятисот. Между этими лицами старались выбирать преимущественно тех, кто не искал шума или успехов, людей же противоположного склада сберегали для Трибуната.
Сто имен Трибуната, выбранных с весьма естественной целью — дать простор умам деятельным, тревожным, жадным к славе (что впоследствии привело к горькому, но позднему раскаянию), носили на себе в то время печать известности. В этом списке находились: Мари-Жозеф Шенье, Андриё, Бенжамен Констан и другие.
Окончив формирование учреждений, позаботились об их размещении. Тюильрийский дворец был предназначен для трех консулов, Люксембургский — для Сената; Законодательный корпус поместили в Бурбонском дворце, а Трибунат — в Пале-Рояль.
Для ознаменования начала своего правления Бонапарт совершил ряд последовательных действий, в которых можно было заметить глубокий политический смысл, очевидную радость и великодушие, внушаемое пылкому и возвышенному сердцу в моменты внутреннего удовлетворения.
Прежде всего, декрет Государственного совета от 27 декабря уничтожил законы, запрещавшие родственникам эмигрантов и прежних дворян занимать государственные должности; законы эти были противны основам новой конституции.
Некоторые лица, принадлежавшие к революционной партии и осужденные к ссылке и заточению, после оказывались под полицейским надзором. Упомянутым декретом был уничтожен и этот надзор. Сосланным без суда было дано позволение возвратиться во Францию, только с условием жить в указанных местах. К примеру, Карно, Порталис, Барбе-Марбуа, возвратившись, обязаны были поселиться в Париже, что явно показывало намерение правительства употребить их способности в дело.
Относительно вероисповеданий и свободного отправления богослужения также были приняты меры. Церковные строения и храмы должны были быть открыты для своего предназначения и возвращены священнослужителям, если были у них отняты. Некоторые местные начальники, желая повредить католицизму, запрещали отпирать церкви по воскресным дням, а совершать литургию разрешали только в будни. Консулы уничтожили эти притеснения и, возвратив храмы служителям алтаря, дали им право свободно отправлять службу в те дни, в которые она предписана исповеданием.
Было решено брать со священников простое обещание подчиняться государственной конституции; ни один из них не мог от этого отказаться, поскольку в противном случае нарушалось правило, строго предписанное католицизмом: воздавать кесарю кесарево. Эта мера тотчас же возвратила к алтарям многих священников и была названа обетом, в отличие от прежней присяги.
Наконец, к этим мерам Первый консул присоединил еще одну, которая в глазах света была отнесена к его личным заслугам, потому что была в некотором роде связана с его личной жизнью.
Он вел переговоры с последним папой римским Пием VI и в 1797 году подписал у ворот Рима Толентинский мирный договор. С тех пор Бонапарт оказывал этому первосвященнику особенное внимание и взамен получал от него знаки несомненного благоволения. Пий VI умер в Балансе и не был еще погребен с должными почестями: тело его находилось в соборной ризнице. Возвращаясь из Египта через Баланс, генерал Бонапарт виделся с кардиналом Спиной, узнал от него все подробности дела и дал слово как можно скорее исправить это неприличное забвение.
Тридцатого декабря он предложил консулам подписать распоряжение, основанное на самых благородных намерениях: повелевалось совершить почетное погребение папы и воздвигнуть над его могилой памятник.
Это повеление произвело больше эффекта, чем самые человеколюбивые распоряжения, потому что поражало и увлекало умы, привыкшие к совершенно противоположному подходу. Народ толпами стекался в Баланс, чтобы воспользоваться случаем поучаствовать в богоугодном деле.
В перечне революционных праздников был один, задуманный очень неудачно: праздник 21 января [день казни Людовика XVI]. Каковы бы ни были чувства представителей разных партий, праздник этот был варварским, ибо имел целью сохранить память о кровавом событии.
Генерал Бонапарт еще во времена Директории обнаружил живейшее отвращение к этому празднику и не хотел на нем присутствовать не потому, что уже тогда думал восстановить монаршую власть в свою пользу, а потому, что не любил явных демонстраций страсти, которой не разделял. Сделавшись теперь главой правительства, он вынудил законодательную комиссию оставить только два праздника: 14 июля, годовщину первого дня Революции, и 1-е вандемьера, годовщину первого дня Республики.
«Эти дни, — говорил он, — достойны памяти граждан; они были встречены всеми французами с единодушным восторгом и не приводят на память ни одного события, которое могло бы поселить раздор между друзьями Республики».
Надлежало иметь силу и смелость Бонапарта, чтобы отважиться на целый ряд мер, весьма справедливых, нравственных и сообразных с верной политикой, но кажущихся горячим головам предвестниками совершенной контрреволюции. Предпринимая такие шаги, Первый консул старался подать пример забвения политических распрей и возбудить в народе жажду славы, которой он увлекал людей и уводил их от мелких партийных страстей. Так, например, генерала Ожеро, который открыто противодействовал ему до 18-го брюмера, он назначил командиром Батавской армии.
В то же время он сделал первые шаги к основанию ордена Почетного легиона, учредив почетное оружие. Французская демократия, обнаружив отвращение к личным отличиям, могла в то время допустить лишь награды за военные подвиги. Первый консул постановил, чтобы за всякий блистательный подвиг давались пехотинцам — почетные мушкеты, кавалеристам — почетные карабины, артиллеристам — почетные гранаты, а офицерам всех чинов — сабли почета.
Вслед за этими действиями Первый консул принялся за дела более значительные и важные, за дела, относящиеся к Вандее и европейским державам.
Хотя с вандейцами было заключено перемирие и начаты переговоры, но дело мира вперед не продвигалось. Откровенность, с которой Первый консул высказал роялистам свое мнение, нисколько не облегчила сближения с восставшими. Предводители вандейских партий находились в нерешительности: они были поставлены между страхом, внушаемым силой нового правительства, и убеждениями лондонских эмигрантов, которые от имени Питта обещали им оружие, деньги и высадку войска.
Прусское правительство, которое начинало демонстрировать консульскому правлению явное участие, беспрестанно твердило адъютанту Дюроку и французскому поверенному в делах Отто: «Покончите дела с Вандеей: там готовят вам самые чувствительные удары».
Бонапарт знал это. Независимо от вреда, который Вандея наносила войскам Республики, истощая ее силы, междоусобица казалась ему не только несчастьем, но и позором для правительства, потому что служила свидетельством печального состояния внутренних дел в государстве.
Итак, Первый консул принял самые деятельные меры к прекращению зла.
Он вызвал из Голландии часть войска, которое под началом генерала Брюна одержало победу над соединенными англо-русскими войсками, и присоединил к нему часть парижского гарнизона, который не боялся уменьшить. Руководство этой армией было поручено генералу Брюну, а в главные помощники ему был дан умный и сговорчивый Гедувиль, в руках у которого находились все нити переговоров с роялистами.
Имя генерала Брюна служило ответом для тех, кто надеялся на новую высадку англичан и русских7. Но прежде чем нанести решительный удар, получив отказ в мирных предложениях, Первый консул хотел обратиться к вандейцам с воззванием, в самый день утверждения своего в должности консула.
Двадцать девятого декабря он отправил в западные провинции прокламацию и декрет консулов. В прокламации было сказано:
«Позорная война вторично угрожает объять западные провинции своим пламенем. Долг первых представителей Республики — предупредить ее успех и потушить ее в самом зародыше. Но они не хотят прибегнуть к силе, пока не истощат всех средств убеждения и справедливости».
Разделив виновных на непримиримых врагов Республики, то есть преступников, продавших себя иноземным властям, и граждан заблудших, которые с помощью войны хотели лишь избежать преследований, Первый консул перечислял постановления, которые могли их успокоить и обратить к новому правительству. Он упоминал об уничтожении закона о заложниках, о возвращении церквей служителям алтаря, о дозволении праздновать воскресные дни; обещал полное прощение всем, кто покорится, покинет сборища мятежников и сложит оружие, предоставленное Англией. Но затем прибавлял, что сила будет немедленно употреблена против тех, кто станет упорствовать в восстании.
В конце прокламации было сказано:
«Правительство простит, оно пощадит раскаяние, снисхождение его будет полным и всеобщим. В то же время правительство поразит каждого, кто после этой прокламации осмелится противиться верховной власти народа... Но нет! Мы непременно во всех увидим одно общее чувство: любовь к Отечеству!
Служители Бога, любви и мира будут первыми сторонниками согласия и примирения. Да обратятся они к сердцам словами своего божественного Учителя; да принесут они в храмах, снова для них открытых, жертву во искупление преступлений войны и пролитой в ней крови!»
Эта прокламация, подкрепляемая грозной силой, могла иметь хорошее действие, особенно при новом правительстве, совершенно чуждом неистовства и ошибок, которые послужили поводом к междоусобной войне.
Первый консул решился, кроме того, торжественно обратиться к врагам внешним, к Австрии и Англии, двум державам, которые не подавали и признака сближения с Францией и, казалось, стремились вести с ней бесконечную войну.
В самый тот день, когда конституция облекла его в новое звание, Бонапарт решился обратиться к враждебным державам с мирными предложениями, желая тем самым, в случае отказа, публично показать их несправедливость и предвзятость. После того он мог смело взяться за оружие, в твердой уверенности, что на его стороне будет мнение целого света.
Все французские агенты, представленные к иностранным дворам, находились еще в Париже, потому что их хотели аккредитовать именем правительства, только что окончательно утвержденного. Теперь Бонапарт отдал приказ, чтобы они отправились к местам своего назначения.
Генерал Бернонвиль поехал в Берлин, Алькье — в Мадрид, де Семонвиль — в Гаагу, Бургоэн — в Копенгаген.
На Бернонвиля была возложена ловкая лесть: ему поручили выпросить у Фридриха-Вильгельма бюст Фридриха Великого, для помещения его в Галерее Дианы Тюильрийского дворца. Первый консул украшал эту галерею изображениями тех великих людей, которых особенно любил.
Алькье вез в Мадрид самые льстивые приветствия королю и королеве и подарок князю Мира, который имел большое влияние при дворе, хотя и не был министром. Подарок этот заключался в прекрасном оружии, сделанном на Версальской мануфактуре, которая в то время славилась по всей Европе превосходным качеством своих изделий.
Бонапарт, обращаясь к Англии и Австрии, хотел, чтобы его слышал целый мир, поэтому ему нужно было открытое, торжественное действо, которое выходило бы из принятых форм и, трогая сердца монархов, могло польстить их самолюбию или поставить их в затруднительное положение. Он написал письма прямо английскому королю и германскому императору, поручив министрам этих дворов вручить их своим государям.
Письмо к английскому королю Георгу III было такого содержания:
«Париж, 5-го нивоза VIII года.
Ваше Величество!
Будучи призван, по желанию французского народа, к занятию первой правительственной должности в Республике, я почел приличным, при вступлении моем в управление, известить об этом Ваше Величество.
Неужели война, которая восемь лет уже опустошает все четыре части света, должна продлиться вечно? Неужели нет никаких средств к соглашению?
Возможно ли, чтобы две образованнейшие нации Европы, которые гораздо могущественнее и сильнее, чем того требуют их безопасность и независимость, жертвовали плодами своей торговли, внутренним благосостоянием и счастьем своих подданных пустым идеям о суетном величии? Как можно не чувствовать, что первая потребность и величайшая слава народов заключаются в мире?
Но чувства эти не могут быть чужды Вашему Величеству; Вы правите народом свободным и с единственной целью составить его счастье.
Ваше Величество должны видеть в этом письме только искреннее мое желание вновь способствовать всеобщему примирению поступком скорым, полным доверия и чуждым тех форм, которые, может быть, необходимы для прикрытия зависимости слабых государств, но в государствах сильных обличают одно желание обмануть друг друга.
Франция и Англия, имея избыток сил, способны еще, к несчастью всех народов, надолго отсрочить свое сближение, но я смею сказать, что судьба всех просвещенных наций зависит от окончания войны, пламя которой охватило уже весь свет.
Бонапарт,
Первый консул Французской Республики».
В тот же день Первый консул отправил письмо и австрийскому императору:
«Вернувшись в Европу после восемнадцатимесячного отсутствия, я нахожу Французскую Республику в состоянии войны с Вашим Величеством.
Французский народ призвал меня для исполнения первой государственной должности.
Я чужд всякого чувства суетной славы, и первое мое желание — остановить кровопролитие. Из всего видно, что в будущей кампании, случись таковая, многочисленные и искусно управляемые войска утроят число жертв, павших уже при возобновлении враждебных действий.
Я слишком хорошо знаю характер Вашего Величества, чтобы усомниться в желании Вашего сердца. Если Вы последуете только его внушениям, я вижу возможность согласовать интересы обеих наций.
В предшествовавших отношениях я был лично удостоен некоторой благосклонности Вашего Величества. Прошу принять мой теперешний поступок как желание сделаться достойным этой благосклонности и как знак моего особенного уважения к Вашему Величеству.
Бонапарт,
Первый консул Французской Республики».
Если бы сила действия, которую новый законодатель обозначил в своей конституции, создав Первого консула и выбрав для этого звания величайшего полководца своего времени, не согласовалась со свободой, все готовы были пожертвовать для нее даже свободой; но общее желание все же клонилось к тому, чтобы силу власти по возможности согласовывать с силой свободы. Так думали не низкие возмутители, не отъявленные республиканцы, но все люди умные и образованные, которым не хотелось, чтобы революция так скоро и так положительно сама себя изменила.
Всякая реакция, какой бы она ни была всеобъемлющей, не может увлечь всех и каждого; она даже раздражает и возмущает тех, кого не увлекает. Шенье, Андриё, Дону, Бенжамен Констан, заседавшие в Трибунате, и Тра-си, Вольней, Кабанис из Сената хотя и сожалели о преступлениях террора, но отнюдь не расположены были думать, что Французская революция демонстрировала несправедливость к своим противникам. Их оскорбляло возвращение к монархическим и религиозным началам прежнего времени, а в особенности — неумеренная быстрота, с которой старинные идеи водворялись вновь. Неудовольствие их было так велико, что они даже не старались скрыть его. В большинстве своем они были искренни: привязанные к революции всей душой, они хотели ее победы во всем, кроме кровопролития и грабежей, и решительно не желали того, что многие предвидели в глубоком замысле будущего диктатора.
Они были согласны не преследовать священников, но не могли перенести, чтоб «святошам» покровительствовали, возвращали их к алтарям; это было уже слишком для верных последователей философии восемнадцатого века. Придать единства и силы правительственной власти — на это они соглашались, но довести ее до монархического единодержавия в пользу полководца — это уже было излишним в их глазах.
Первое предложение правительства имело целью определить порядок, по которому проекты законов должны предлагаться, обсуждаться и утверждаться. Это был один из предметов, упущенных из виду Конституцией VIII года.
Проект определил, чтобы каждый закон был предложен тремя государственными советниками Законодательному корпусу, потом сообщен Трибунату, и чтобы Трибунат в день, назначенный правительством, был готов обсуждать его с помощью трех своих ораторов в Законодательном корпусе.
Надо сознаться, что в этом случае с Трибунатом обходились чрезвычайно неуважительно: указывали, чтобы он исполнял свои обязанности ровно в срок, чего нельзя было требовать даже от отделения Государственного совета или канцелярии министра. А потому оппозиция Трибуната по поводу этого проекта была вполне справедлива. Но, к несчастью, законодатели вынуждены были бороться с первым предложением консулов вскоре после своей неприличной сцены8, и это давало повод предполагать, что они решились нападать на все подряд; к тому же бросалась в глаза и весьма неловкая форма, в которую была облечена оппозиция.
Самое сильное нападение было произведено Конста-ном9. В иронической и остроумной речи он просил, чтобы Трибунату давали на рассмотрение проектов законов определенное время и не понуждали его рассматривать их «с курьерской скоростью». Он напомнил об опасности скороспелых решений, упомянув, что во время революции такие законы всегда приносили несчастья.
Много резких суждений было примешано к этой речи, которая произвела сильное впечатление. Констан употребил все усилия, чтобы доказать, что Трибунат не есть орган противоборства, что он будет противоречить только в тех случаях, когда его к тому вынудит выгода общества. Но оратор произносил эти слова таким тоном, что им нельзя было верить, тем самым явно показывая намерение систематической оппозиции, от которой старался отречься на словах.
Выступивший затем Шовелен признавал недостатки нового закона, «но обстоятельства, — говорил он, — обстоятельства, нас окружающие, положение многих департаментов, требующее скорых и крайне необходимых мер, важные политические причины, злословие, которое следит за нами и уже предвидит раздоры, настоятельная необходимость согласия между властями, — все побуждает нас просить об утверждении представленного нам проекта».
И действительно, проект поставили на голосование, и он был принят большинством. Это должно было убедить и успокоить правительство.
Законодательный корпус принял его еще благосклоннее и утвердил большинством в двести три голоса против двадцати трех.
Все шло как нельзя лучше. Большинство в Трибунате и Законодательном корпусе должно было удовлетворить и Первого консула, и его приверженцев и сделать их снисходительными к этому последнему выражению либерализма и к недостаткам его формы, которая, впрочем, была, не что иное, как право самой свободы.
Но Бонапарт, которому, в сущности, не о чем было тревожиться, казалось, был оскорблен и высказывал свое неудовольствие довольно резко. Он начал часто прибегать к помощи прессы, и хотя не любил журналы, но умел использовать их для своей пользы.
Он велел напечатать в «Мониторе» статью, в которой сам постарался обнаружить ничтожество этой оппозиции и доказать, что она основана совсем не на решительном намерении противодействовать правительству, а на желании одних видеть в человеческих законах невозможное совершенство, а других — просто пошуметь.
«Итак, — прибавлял официальный листок, — по всему видно, что в Трибунате нет обдуманной и систематической оппозиции, то есть оппозиции истинной. Но каждый жаждет славы, каждому хочется передать имя свое стоустой молве, и весьма многие еще не знают, что гораздо труднее достигнуть известности старанием хорошо говорить, чем служа с постоянством и пользой той публике, которая рукоплещет и судит».
Такое обращение с важным государственным сословием было весьма неприлично. Оно доказывало, что Первый консул все готов себе позволить, а Франция все готова снести.
Впрочем, эти впечатления скоро были заглажены другими. Обширные труды правительства, которые разделяли Законодательный корпус и Трибунат, привлекли к себе умы и заняли их целиком.
Первый консул представил Законодательному корпусу проекты двух весьма важных законов. Один из них касался управления департаментами и муниципалитетами и установил во Франции административную централизацию, другой имел предметом устройство судопроизводства, которое существует и доныне.
К этим двум проектам присоединились и другие — об эмигрантах, участь которых нужно было решить, о праве завещания, восстановления которого требовали все семейства, об арбитраже призов (захваченных судов), необходимом в переговорах с нейтральными державами, и, наконец, о доходах и расходах текущего года.
Конституция поставила во главе государства две власти: исполнительную и законодательную; исполнительная власть была почти вся сосредоточена в одном представителе; власть законодательная делилась на несколько совещательных собраний.
Очень естественно было поставить на каждой ступени правительственной лестницы по представителю исполнительной власти, уполномоченному действовать по полному праву, а возле него, для контроля и информирования, по маленькому совещательному собранию, типа департаментского, окружного или общинного совета.
Первый консул хотел, чтобы в каждом департаменте был свой префект. И не для того, чтобы выпрашивать у правительства содействия в местных делах, но затем чтобы направлять их самому. Кроме того, на префекта возлагалось управление делами департамента, сообща с советом департамента и сообразно средствам, назначаемым этим советом путем голосования.
Поскольку система кантонных муниципалитетов всеми давно осуждалась, Сийес в новой конституции предлагал подразделение страны на округа. Первый консул решился этим воспользоваться для отмены кантонных управлений. Общинные управления были перенесены в настоящее их место, то есть в саму общину, в город или селение, а между общиной и департаментом была учреждена еще одна административная ступень — округ.
Между префектом и мэром должен был находиться супрефект, обязанности которого состояли в управлении, под надзором префекта, известным количеством общин — шестьюдесятью, восьмьюдесятью или более, смотря по важности департамента.
Наконец, в саму общину назначался мэр, также причисленный к исполнительной власти, и рядом с ним помещался муниципальный совет с совещательным голосом. В делах государственных мэр был прямым представителем верховного начальства, в делах местных — становился представителем общины, заботящимся о ее выгодах вместе с нею, но только под надзором префекта и супрефекта, а следовательно, и государства.
Оставался вопрос об административном судопроизводстве, которое должно было наблюдать за тем, чтобы на платящего подати не налагали повинностей свыше его сил, не отрезали земли у владельца прибрежных и придорожных участков, чтобы подрядчик городских или государственных работ мог найти справедливый суд для своих сделок с общиной или с правительством. Вопрос этот был труден, а обыкновенные суды признавались неудобными для такого рода разбирательств. Правило мудрого распределения властей и здесь было употреблено с большой пользой.
Префекты, супрефекты и мэры, действуя именем правительства, могли быть пристрастны, склонны к самовластию, потому что обиженный проситель обыкновенно жалуется на их же собственные действия. Департаментские, окружные и общинные советы могли тем более вызывать подозрения, потому что их выгоды всегда противоположны выгодам просителя. Притом судопроизводство — дело продолжительное и беспрерывное, а правительство не хотело более иметь постоянно заседающих советов, ни в департаментах, ни в общинах. Первый консул желал, чтобы они собирались не более чем на две недели в году, именно на время, которое нужно, чтобы представить им зависящие от них дела, собрать их мнения и обсудить нужды. Итак, нужен был род административного суда, заседающего беспрерывно. Учредили трибунал из четырех (или пяти) судей, которые должны были заседать и судить вместе с префектом: нечто вроде маленького государственного совета, следящего за правосудием префекта, как Государственный совет наблюдает и исправляет действия министров. Посредством апелляционного порядка этот трибунал был также подчинен Государственному совету. Эти суды и теперь еще называются префектур-ными советами; они всегда отличались исправностью и точностью.
Вот полное устройство провинциального и общинного управления Франции: одно главное лицо — префект, супрефект или мэр — ведало всеми делами; один совещательный совет — департаментский, окружной или общинный — решал большинством голосов вопросы о местных расходах; наконец, маленькое судилище, помещенное возле префекта, занималось правительственным разбирательством. Управление это было вполне подчинено главному правительству в делах государственных, но под надзором и направлением правительства имело свои собственные виды в делах департаментских и общинных.
Первый консул весьма естественно желал, чтобы назначение префектов, супрефектов и мэров зависело от исполнительной власти; но было бы весьма неестественно, если б исполнительная власть вздумала назначать членов департаментских, окружных и общинных советов, обязанность которых состояла в проверке действий чиновников и в выделении им расходных сумм.
Несмотря на то, что сама конституция навела Первого консула на присвоение себе этого права и оправдывала его, Сийес сказал: «Доверие исходит снизу, власть — свыше!» По этому правилу, народ оказывал свое доверие, внося имена в списки выборных, а верховная власть составляла правительство, избирая из них своих представителей.
Судебная организация была также хорошо продумана. Она имела двоякую цель: поставить судебную власть как можно ближе к подсудимым и в то же время дать им возможность апелляции к правосудию — более отдаленному, но зато высшему, просвещенность и беспристрастие которого соразмерны с его высоким положением.
Первый консул, одобряя мысль Камбасереса, которому сам много способствовал своим здравым суждением и смелостью, распорядился принять организацию, которая существует и доныне. Разделение на округа, придуманное для лучшего управления департаментами, представляло большие удобства и для судебной администрации. Итак, в каждом округе учредили по суду первой инстанции; потом, не боясь возобновить старинные парламенты, решились основать и апелляционные суды. Основать по одному в каждом департаменте — было бы слишком много по числу и слишком мало по важности и значению судопроизводства. Их основали двадцать девять: это придало им почти такой же вес, какой имели старинные парламенты.
Таким образом, некоторым городам возвратили выгоды, которых они были лишены. Суды в Э, Дижоне, Тулузе, Бордо, Ренне и Париже пользовались славой древних школ юридических знаний и талантов, — их следовало возобновить.
Суды первой инстанции, основанные в каждом округе, уделяли внимание и полиции, что делало их вдвойне полезными и определило первую степень гражданского и уголовного судопроизводства в каждом округе.
Одно уголовное судопроизводство, по-прежнему порученное присяжным, должно было находиться в главном городе департамента; им управляли судьи апелляционных судов, которые в известное время сзывали присяжных на заседания.
Над всем этим судебным зданием был сохранен, с некоторыми изменениями и с правом полицейской власти над всеми судами, кассационный трибунал, одно из лучших учреждений французской революции. Трибунал этот не был обязан в третий раз судить то, что суды первой инстанции и апелляционный уже два раза судили; но, устраняя предмет тяжбы, он действовал только в тех случаях, где возникало сомнение насчет смысла закона. Трибунал растолковывал смысл закона рядом указов и, таким образом, к единству определения, проистекшего от законодательства, присоединял и единство его толкования, общего для всего государства.
Двадцать или тридцать голосов, составлявших основу Трибуната, были против этих законов, но остальные три четверти высказались в их пользу. Законодательный корпус принял их почти единогласно.
Первый консул, не желая оставить их мертвой буквой в законодательном протоколе, тотчас же назначил префектов, супрефектов и мэров. Он мог наделать множество ошибок, как это обыкновенно бывает, когда вдруг и наскоро выбирают большое количество чиновников. Но просвещенное и бдительное правительство быстро поправляет ошибки своего первого выбора; довольно, если общий дух его будет хорош.
Впрочем, эти назначения были превосходны: они отличались одновременно твердостью, беспристрастностью и желанием согласия. Первый консул отыскивал во всех партиях людей способных и честных; он обходил только людей жестоких, но и их иногда принимал, если время и опытность привели их к умеренности, которая в то время составляла главный характер политики Бонапарта. На должности префектов, должности важные, со значительным содержанием10, он выбрал людей, которые с честью участвовали в больших политических собраниях; это ясно обнаруживало цель его выбора, потому что люди хотя сами по себе не составляют сущности и основы любого дела, но в глазах народа всегда служат представителями и того и другого.
Для парижской префектуры Первый консул избрал Фрошо и дал ему в сотоварищи, по полицейской части, Дюбуа, чиновника, ревностное усердие которого было необходимо, чтобы очистить столицу от злодеев, сохранивших партийный дух.
В том же духе были сделаны и назначения по ведомству судебному. Почетные имена из прежних присутственных мест были по возможности примешаны к именам людей новых, известных своей честностью. Первый консул старался назначать чиновников с блестящими именами, потому что любил блеск во всем, и к тому же настала минута, когда можно было безопасно заимствовать славу у прошедшего.
В этом совершенно расстроенном обществе надо было за все браться в одно время. Эмиграция, столь виновная и вместе с тем столь несчастливая, предмет истинного участия и отвращения, потому что в рядах ее находились и люди несправедливо преследуемые, и вероломные граждане, восставшие против своего отечества, — эмиграция заслуживала особенного внимания правительства.
По последнему законодательству, достаточно было приказа Директории или решения департаментских управлений, чтобы внести всякое отсутствующее лицо в список эмигрантов; имение отсутствующего конфисковали, а его самого закон приговаривал к смерти, если он опять покажется во владениях Республики.
Многие лица, которые действительно оставили отечество или только скрылись, не были внесены в роковой список: или оттого, что их забыли, или оттого, что они не имели врага, который мог бы на них донести. Но найдись такой враг, их могли бы еще вписать и они погибли бы под ударами закона об изгнанниках. Потому многие французы жили в постоянном страхе. Те же, кто были внесены в список, справедливо или несправедливо, каждый день являлись толпами и просили, чтобы их вычеркнули. Их дерзкое рвение свидетельствовало о доверии к человеколюбию правительства, но и оскорбляло некоторых революционеров, из которых одни были виновны в насилии по отношению к возвращавшимся эмигрантам, а другие завладели их имениями. Это была новая причина к беспорядкам, и если не следовало более изгонять из отечества, то не следовало и оставлять в беспокойстве людей, которые принимали участие в революции. Необходимо было даровать полную безопасность всем, кто в ней участвовал.
Правительство представило проект закона, первая статья которого имела целью закрыть список эмигрантов. С 25 декабря 1799 года список был объявлен закрытым, то есть с этого времени всякая отлучка не могла уже считаться эмиграцией и не подлежала наказанию. Впредь дозволено было отлучаться, ездить из Франции за границу и из чужих краев во Францию, не подвергаясь преследованию законом; всем гражданам снова была дана свобода выезда и въезда.
К этой мере была присоединена другая: лица, по счастливому случаю не попавшие в список эмигрантов, могли быть внесены в список не иначе, как вследствие решения суда присяжных.
Исключение из списка лиц, которые действительно были вписаны несправедливо или сами утверждали это, осуществляла исполнительная власть. В этом было ясно видно снисхождение к ним правительства: чтобы доказать, что обвинение в отлучении несправедливо, стоило только представить свидетельство, нередко подложное, о пребывании своем в том или другом месте Франции. При общей готовности нарушать тиранические законы такое нововведение было обречено на успех. Сверх того, эмигрантам, желавшим быть исключенными из списка, было дозволено возвращаться во Францию, но следовало состоять под надзором высшей полиции. На языке того времени это значило получить «льготу надзора»; таких льготных видов выдавалось много, и эмигранты получили возможность возвращаться до исключения из списка. Для большей части пользовавшихся этими льготами они стали даже окончательным дозволением остаться на родине.
Что касается эмигрантов, имена которых не могли быть исключены из списка по гласности их участия в эмиграции, то в отношении них были соблюдаемы прежние законы. Нельзя было поступить иначе, ибо если несчастные возбуждали сожаление, то, напротив, виновные, оставившие отечество, с тем чтобы идти против него с оружием в руках или накликать на него врагов, возбуждали всеобщее негодование.
Впрочем, ни в одном случае возвращавшиеся эмигранты не имели права отыскивать свои проданные имения. Продажа была признана неотменимой.
Закон, предложенный правительством, приняли огромным большинством, несмотря на некоторые замечания, сделанные в Трибунате теми, кто находил его или слишком строгим, или недостаточно милостивым для эмигрантов.
В числе существовавших тогда законов, казавшихся нестерпимой тиранией, было и запрещение завещаний. Перед смертью позволялось располагать только одной десятой долей имения, если у умирающего были дети, и одной шестой, если детей не было.
Это являлось и в самом деле нарушением всех прав собственности, одним из самых чувствительных угнетений революционного правления; смерть поражает каждый день, и тысячи умирающих, кончая жизнь, не могли исполнить желания сердца и наградить тех, кто служил им и утешал их в старости.
Для этого преобразования нельзя было ждать издания Гражданского кодекса. Начертали закон, которым право завещания было восстановлено, но в известных границах. По этому закону, отец, если оставлял, умирая, менее четырех детей, мог в духовном завещании располагать четвертой долей своего имущества, если менее пяти — пятой частью, и так далее, в той же пропорции. Если у него были только восходящие или боковые родственники, то он мог располагать половиной; если же вовсе не было родственников, имевших право на наследство, то он располагал всем имуществом.
Наконец, внимание обоих собраний было обращено на законы о финансах. Немногое мог сказать об этом предмете Законодательный корпус, потому что обе законодательные комиссии уже издали все нужные законы. Административные меры, принятые на основании этих законов правительством для преобразования финансового управления, не могли подлежать разбору. Однако же, хотя бы Для виду, надо было утвердить бюджет на 1799 год.
Если бы подати исправно выплачивались и честно взносились сборщиками, то положение государственных финансов было бы сносно. Постоянные подати могли доставить до четырехсот тридцати миллионов; к этому числу думали снова привести государственные расходы в мирное время; надеялись даже ограничить их гораздо меньшей суммой. Опыт скоро доказал, что даже в мирное время нельзя ограничиваться суммой менее пятисот миллионов; но в то же время оказалось, что нетрудно повысить до этой суммы и доход, притом не увеличивая тарифов. Бюджет того времени доходил до шестисот или шестисот двадцати миллионов.
Недостаточность доходов была значительна и несомненна только в отношении военных расходов; в этом нет ничего удивительного, так бывает везде. Никогда и нигде нельзя вести войны с помощью обычных доходов, вполне удовлетворяющих потребности в мирное время. Если бы это было возможно, то означало бы, что в мирное время подати без нужды увеличены. Но теперь, из-за прошедших беспорядков, неизвестно было, дойдет ли бюджет, со включением военных издержек, до шестисот, семисот или восьмисот миллионов. Опыт показал, что, прибавив к обычному бюджету около ста пятидесяти миллионов, можно будет вести войну, но с тем условием, чтобы войска одерживали победы и жили на неприятельской земле.
Итак, имелся недостаток в сто семьдесят миллионов. Но не в том заключалось главное затруднение; странно было бы требовать, чтобы тотчас по выходе из финансового хаоса доходы и расходы пришли в равновесие. Надо было сначала обеспечить взнос прямых податей. По достижении этого первого результата правительство могло надеяться, что скоро будет в состоянии удовлетворить самым необходимым потребностям, ибо от этого кредит должен был подняться, а при помощи различных кредитных билетов правительство получало от капиталистов деньги на все государственные потребности. Над этим без отдыха трудился Годен, поддерживаемый во всех встречавшихся ему затруднениях сильной и непоколебимой волей Первого консула.
Недавно учрежденное управление прямых податей обнаруживало необыкновенную энергичность в работе.
Податные списки значительно подвинулись вперед, уже приступили к взысканию по ним. В казначейство стали приходить облигации главных сборщиков, их начинали пускать в оборот за довольно умеренные проценты.
Тогда же был введен новый род чиновников, их назвали окружными сборщиками. До тех пор между непосредственными сборщиками, принимавшими деньги от податных лиц, и главным сборщиком, находившимся в первом городе департамента, не было других посредников, кроме приставов по сборам, агентов главного сборщика, вполне зависевших от него и открывавших истину ему одному. Сейчас в каждом округе учредили особых сборщиков, зависящих только от правительства и отдающих ему отчет в суммах, которые получали и передавали главным сборщикам; это были сведущие и бескорыстные свидетели движения денежных сумм.
Это нововведение давало возможность в точности узнавать количество собранных денег и представляло дополнительные ручательства в получении наличных, что было очень важно; кроме того, оно придавало новое значение недавно введенному разделению на округа. Гражданская и судебная власть и значительная часть общинного управления уже были сосредоточены в округе; размещение там же части финансового управления продемонстрировало очевидную пользу этого разделения, которое многие находили произвольным. Префектам и супрефектам приказано было присутствовать при работе сборщиков, лично проверять списки и следить за исправным поступлением сумм.
Ко всем перечисленным нами учреждениям присоединили еще одно, о котором нельзя не упомянуть: это Французский банк. Все прежние кредитные учреждения пали среди беспорядков революции; не мог же Париж оставаться без банка. В каждом центре торговли, если есть в нем какое-нибудь движение, необходимы удобные для платежа, то есть бумажные, деньги, а следовательно, нужно и учреждение, занимающееся учетом торговых векселей. В самом деле, банк должен принимать только надежные векселя и не выпускать бумажных денег выше потребного количества, словом, соразмерять свои действия с точными потребностями места, где находится. Вот что нужно было сделать в Париже, и нельзя было сомневаться в успехе, если хорошо приняться за дело.
Новый банк, кроме дел с частными лицами, должен был вести дела и с казначейством, следовательно, приобретая выгоды, оказывать и услуги. Правительство побудило главных банкиров в столице составить для устройства Французского банка сообщество богатых капиталистов. В банк положен был капитал в 30 миллионов; управление им вверили пятнадцати директорам и правительственному комитету из трех членов; впоследствии этот комитет был заменен управляющим.
Банк должен был принимать только торговые векселя по законным и честным сделкам, выпускать билеты, обращавшиеся наравне с монетой, и не входить ни в какие торговые предприятия, кроме учета и денежной торговли.
Между тем как консульское правительство вместе с Законодательным корпусом предпринимало столько усилий по внутреннему управлению, с иностранными державами, дружественными и воюющими, безостановочно велись переговоры.
На письмо Первого консула английскому королю вскоре последовал ответ. Первый консул писал 26 декабря; ему отвечали 4 января; это означало, что английский кабинет уже наперед решился и ему не о чем было рассуждать. Теперь, когда установление подоходного налога увеличило благосостояние английского казначейства, когда Австрия снова была в состоянии войны с Францией и дошла до самых ее границ, когда предстояло отнять у нее важные позиции, Мальту и Египет, и отомстить за Тексельское поражение, мир не мог прийтись по нраву Англии. Но была еще более веская причина отказаться от мира: война вполне согласовалась со страстями и выгодами Питта. В войне с Францией этот знаменитый представитель английского кабинета видел свое предназначение, свою славу, основу своего политического существования. В случае мира ему, может быть, пришлось бы оставить министерство.
Первого консула даже не удостоили прямого ответа: опираясь на прекрасный обычай сообщать через министров, ему отвечали нотой лорда Гренвиля к Талейрану.
Эта нота неловко высказывала досаду, причиненную Питту вызовом Бонапарта не на войну, а на мир. В ней было беспрестанно повторявшееся уже несколько лет перечисление первых военных действий: Англия взваливала первые неприязненные действия на Французскую республику; дерзко упрекала ее в опустошении Германии, Голландии, Швейцарии и Италии, говорила даже о грабежах ее полководцев в последней стране; укоряла Францию в том, что она везде хочет опрокинуть престолы и алтари; наконец, приступая к последним предложениям консула, английский министр заявлял, что лицемерные миролюбивые уверения для него не новы: все революционные правительства, попеременно учреждавшиеся и низвергавшиеся в течение десяти лет, не раз говорили то же самое; что одно только восстановление дома Бурбонов может вполне успокоить и обезопасить общественный порядок. Хотя, впрочем, для заключения мира с Французской республикой Англия не требует непременно восстановления Бурбонов, но до новых, более ясных и удовлетворительных явлений будет упорно сражаться как за собственную безопасность, так и за безопасность союзников.
Эта неприличная нота, которая подверглась осуждению благоразумных людей всех стран, делала Питту мало чести; она показывала более заносчивости, чем образования, и доказывала, что для соискания общего уважения новое правительство должно одержать еще неимоверно много побед, потому что нынешнее правительство Франции уже имело на своем счету немало блистательных побед, но, видно, нужны были еще большие.
Первый консул не смутился. Желая воспользоваться выгодным положением, доставленным ему в глазах всех держав его умеренностью, он отвечал коротко и твердо, но уже не письмом к королю, а депешей на имя министра иностранных дел лорда Гренвиля. Припоминая вкратце первые военные действия, он в весьма умеренных выражениях доказывал, что Франция взялась за оружие только с целью сопротивления заговору, замышленному всей Европой против ее безопасности.
«Но, — продолжал он, — к чему все эти воспоминания? Нынешнее правительство готово прекратить войну;
неужели ей не будет конца, потому что тот или другой был зачинщиком? А если не желают, чтобы она была вечной, не пора ли положить конец и этим беспрестанным упрекам? Вероятно, никто не надеется уговорить Францию возвратить престол Бурбонам; можно ли в таком случае делать намеки, какие позволяет себе Англия? А что сказали бы, если бы Франция вздумала требовать от Англии восстановления на престоле дома Стюартов, сошедшего с него только в прошлом веке?
Но оставим эти раздражающие вопросы, — продолжал Первый консул. — Если вы, подобно нам, оплакиваете бедствия войны, то заключим перемирие, назначим город, например, Дюнкерк, или другой, какой вам угодно, пусть в нем сойдутся уполномоченные для переговоров; французское правительство предлагает Англии паспорта для министров, которых последняя уполномочит».
Это спокойствие произвело действие, какое обыкновенно производит хладнокровный человек на разгневанного: лорд Гренвиль возразил нотой, превосходившей первую заносчивостью и необдуманностью. В этом ответе английский министр старался скрасить прежние опрометчивые слова о доме Бурбонов, говорил, что война ведется не за них, а за безопасность всех правительств, и снова объявлял, что военные действия будут продолжаться безостановочно.
Более нечего было и говорить. Бонапарт сделал все, что мог: полагаясь на свою славу, он не побоялся предложить мир, предложил его без большой надежды, но добросовестно, и этой попыткой доставил себе выгоду, открыв Франции и английской оппозиции безрассудное пристрастие Питта. Счастлив был бы Наполеон, если бы всегда умел с могуществом столь же благоразумно соединять и расчетливую умеренность!
Ответ Австрии был пристойнее, хотя подавал на мир не больше надежды. Эта держава, не воображая, что Первый консул, при всем своем расположении к миру, согласился отказаться в ее пользу от Италии, решилась продолжать войну; но, зная Кастильонского и Риволий-ского победителя, зная, что с таким противником трудно надеяться на победу, не хотела совершенно закрыть себе путь к дальнейшим переговорам.
Австрия как будто условилась с Англией насчет формы ответа. Император 15 января 1800 года отвечал Первому консулу депешей [министра иностранных дел] Ту-гута к Талейрану. В сущности, содержание ее было сходно с нотами английского кабинета. Говорили, будто войну ведут только для предохранения Европы от всеобщего потрясения, что очень рады расположению Франции к миру, но спрашивают: что может быть гарантией ее нового отношения? Сознавались, однако, что под управлением Первого консула можно было надеяться на большую умеренность во внутренних и внешних делах, на большее постоянство в видах на будущее, большую точность в исполнении обещаний, и что из этого последует больше поводов к прочному и долговременному миру. Таким образом, ожидали счастливого поворота; наконец, не говоря этого прямо, давали понять, что когда этот поворот будет вполне совершен, тогда и подумают о переговорах.
Первый консул не довольствовался этим уклончивым объяснением и решился поставить венский кабинет перед необходимостью объясниться основательнее и дать решительный ответ, принимает он мир или отказывается от него. Двадцать восьмого февраля Талейран написал Тугуту и предложил ему в качестве основания для переговоров Кампо-Формийский договор: австрийский дом получит в Италии вознаграждения, которые обещаны ему по условиям договора в Германии.
В отношении второстепенных европейских держав будет определена «система гарантий, способная восстановить во всей их силе права наций, на которые существенно опираются безопасность и счастье жителей». Это был намек на завоевание Швейцарии, Пьемонта, Тосканы, Папской области и Неаполитанского королевства, в котором столько упрекали Директорию и которое послужило предлогом для второй коалиции; это было довольно ясное предложение восстановить эти владения и успокоить Европу насчет мнимых завоеваний Французской республики. Невозможно было сделать больше уступок; даже к таким предложениям Первого консула могла побудить только крайняя необходимость мира.
Двадцать четвертого марта Тугут отвечал, впрочем, в очень умеренных выражениях, что Кампо-Формийский
3 Консульство
договор, нарушенный вскоре по заключении, основан не на системе умиротворения, могущей успокоить воюющие державы, а истинное начало всех предшествовавших переговоров состоит в принятии за основу положения, в котором оставили каждую державу успехи оружия, и на другое основание Австрия согласиться не может. Тугут добавлял, что вынужден просить объяснения касательно формы переговоров: согласна ли Франция на допуск полномочных от всех воюющих держав для утверждения общего мира, единственного благоразумного и добросовестного мира, на какой может согласиться Австрия.
Эти слова доказывали два обстоятельства: во-первых, Австрия питает обширные надежды относительно Италии, а во-вторых, не отделяет себя от Англии, с которой ее связывали договор о субсидиях.
Итак, ответ, хотя и был выражен пристойным образом, давал мало надежды на согласие, потому что подчинял действия державы, готовой обратить внимание на слова мира, действиям другой державы, решившей не слушать никаких предложений. Однако Бонапарт велел еще раз ответить, что предложения, сделанные им Англии, доказывают его желание основать общий мир, и хотя он мало надеется на общие переговоры всех воюющих держав, потому что Англия решительно не хочет мира, но в то же время он допускает чистосердечие предложений Австрии и потому ждет назначения места, где можно провести переговоры.
Австрия объявила, что если расположение французского кабинета действительно таково, то она обратится к союзникам, но, не посоветовавшись с ними, не может дать никакого решительного ответа. Это значило отсрочить переговоры на неопределенное время.
Питт между тем успел добиться огромных денежных средств, около тысячи ста миллионов (почти вдвое больше всего бюджета Франции в то время), позволения предоставить пособие Австрии и южногерманским владениям, значительного увеличения подоходного налога, который и без того уже давал сто восемьдесят миллионов в год, нового приостановления НаЬеаз согриз и, наконец, важнейшей меры — присоединения Ирландии.
Но в Англии все были глубоко потрясены основательными и красноречивыми возражениями оппозиции, во всей Европе рассудительные люди были поражены несправедливыми действиями Англии против Франции, и скоро, когда к правоте присоединилась победа, Питту пришлось горьким унижением заплатить за свою хвастливую политику в отношении Первого консула.
В этих важных обстоятельствах Первый консул вздумал извлечь из прусского двора всю пользу, какую можно было ожидать от него в то время. Водворить мир между такими могучими противниками прусский двор мог бы только вооруженным посредничеством; эта роль была возможной, но не согласовалась с видами молодого короля, занимавшегося восстановлением своей казны и армии, между тем как вокруг него истощались последние силы. Он уже взялся было выяснить расположение воюющих держав, но нашел их столь далекими от желаемой цели, что отказался от всякого посредничества.
К тому же у прусского кабинета были свои корыстолюбивые виды. Было бы неплохо, чтобы Франция изнурила Австрию и себя продолжительной борьбой, но при этом отказалась от рейнской линии, чтобы она довольствовалась Бельгией и Люксембургом и не требовала рейнских провинций. Прусский кабинет давал Первому консулу настоятельные советы, говоря, что Франция и Пруссия лучше будут между собой ладить, если не станут слишком близкими соседями, и что европейские кабинеты, избавленные этой умеренностью от всякого опасения, легче склонятся к миру. Но, несмотря на осторожность, с которой Первый консул объяснялся в этом деле, было очень мало надежды склонить его на такую жертву, а прусский кабинет находил, что иначе мир для него не слишком выгоден, чтобы особенно о нем хлопотать. Итак, Пруссия давала множество советов наставническим, дружеским тоном, но не действовала.
Однако же прусский кабинет мог очень пригодиться, чтобы поддержать нейтралитет в Северной Германии, побудить большее число немецких владетелей принять тот же нейтралитет и совершенно отделить Павла I от коалиции. Русский император с каждым днем все более негодовал на Австрию и Англию; он открыто говорил, что принудит Австрию возвратить итальянским владетелям престолы, которые она покорила, а Англию — отдать Мальтийскому ордену Мальту: он чувствовал к этому рыцарскому ордену особенную привязанность и принял звание гроссмейстера. Павел I осуждал прием, который встретило предложение Первого консула в Вене и в Лондоне, и в своих откровенных разговорах с Пруссией дал понять, что очень желал бы подобных предложений с ее стороны. Пруссия, узнав все эти подробности, передала их французскому кабинету, который принял их к сведению.
До открытия похода, ибо уже наступала пора военных действий, Первый консул 5 марта вызвал к себе прусского министра Сандоза и имел с ним полное объяснение. Перечислив подробно всё, что он сделал для восстановления мира, и все нанесенные ему обиды и непреодолимые препятствия, Бонапарт изложил свои приготовления и, не открывая глубоких соображений, дал, однако же, прусскому министру заметить значительность средств, которыми еще владела Франция; потом объявил ему, что, полагаясь на Пруссию, он ждет от нее новых усилий к сближению воюющих держав. Не надеясь на общий мир, которого трудно желать до новой кампании, он ожидает от короля Фридриха-Вильгельма две услуги.
«Помирите нас с Павлом I, — заявил генерал Бонапарт, — и уговорите баварского курфюрста не давать союзникам войск и не позволять действовать в своих владениях; вы этим окажете нам две услуги, за которые мы будем благодарны. Если курфюрст согласится на наши желания, можете обещать ему всевозможную защиту во время войны и выгоды — при заключении мира».
Первый консул объявил, что независимость Голландии, Швейцарии и итальянских государств будет гарантирована формальным образом. Не определяя точки, до которой французская граница отступит от Рейна, он сказал только, что никто не может надеяться, чтобы Франция не потребовала Рейна по крайней мере до Майнца; ниже Майнца границей может быть Мозель или Маас. О Бельгии и Люксембурге не было и спору. В заключение Бонапарт прибавил, что, если Пруссия окажет Франции услуги, какие имеет возможность оказать, он дает слово предоставить берлинскому кабинету значительное влияние в мирных переговорах. Этим Пруссия дорожила более всего; ей хотелось вмешаться в переговоры, чтобы немецкие границы были определены согласно собственным ее видам.
Это откровенное объяснение, полное ловких намеков, произвело в Берлине превосходное впечатление. Король отвечал, что уже употреблял свое влияние на императора Павла и готов возобновить старания для сближения его с Францией; но касательно Баварии он ничего не может сделать, потому что Бавария со всех сторон окружена Австрией. Однако если император Павел решится, то, может быть, усиленными стараниями Пруссии и России удастся отделить от союза и курфюрста.
После этих хорошо продуманных мер оставалось только как можно скорее открыть военные действия. Франции надо было преобразовать свои частично распущенные войска, а Австрии — пополнить недочет в войсках союзников, вызванный уходом России.
Первый консул счел, что наконец настало время покончить с Вандеей. Во-первых, для того, чтобы прекратить ужасную междоусобную войну, а во-вторых, чтобы освободить и перевести в Альпы или на Рейн превосходные войска, которые эта война удерживала внутри республики. Прокламации, написанные им к возмущенным областям в одно время с мирными предложениями к воюющим державам, произвели сильное действие, поскольку были подкреплены значительными силами, войском в шестьдесят тысяч человек, взятым из Голландии, из внутренних провинций и из самого Парижа.
Первый консул имел смелость остаться в Париже, где находились в то время отбросы из всех партий, всего с гарнизоном в 2300 человек. И сделал это публично: в качестве ответа английским министрам, утверждавшим, что консульское правление не тверже предшествовавших, он велел напечатать сравнительную таблицу сил, находившихся в Лондоне и в Париже. Из нее было видно, что Лондон охраняли 14 600 человек, а Париж — только 2300. Этого едва хватало на заполнение караулов у важных общественных заведений и домов высших сановников. Очевидно было, что Париж охраняет само имя генерала Бонапарта.
Как бы то ни было, возмущенные области вдруг увидели себя окруженными сильным войском; им оставалось выбрать или немедленный великодушный мир, или войну, которая могла кончиться только их совершенной гибелью. Нельзя было колебаться в выборе.
Д’Андинье и Невилль, узнав Первого консула лучше, оставили прежние мечты и уже не думали, что он когда-либо восстановит Бурбонов. Ги де Невилль, посланный графом д’Артуа, освоился с положением дел и решился ехать обратно в Лондон; сам он не хотел бросать сторону Бурбонов, но видел, что продолжать войну невозможно, и перед отъездом советовал предводителям восставших действовать, как укажут обстоятельства времени и места. Д’Андинье вернулся в Вандею и рассказал все, что видел.
Перемирие подходило к концу. Предводители роялистской партии должны были или окончательно подписать мирный договор, или решиться немедленно вступить в смертельно опасную борьбу с многочисленной армией. Вся древняя Вандея, испытывающая нехватку в людях и всевозможных средствах, чувствовала крайнее изнурение. На правом берегу, около Манса, в области, также бывшей театром отчаянной борьбы, преобладал тот же образ мыслей. Нижняя Нормандия, в которой восстание открылось гораздо позднее и где предводительствовал молодой, деятельный, хитрый и честолюбивый полководец Фротте, была более расположена к продолжению войны. Так же как и Морбиган, которому огромное расстояние от Парижа, близость моря и особенности местности давали больше средств к войне и где предводитель Жорж Кадудаль, человек свирепого, непоколебимо твердого характера, поддерживал бодрость в приверженцах.
Был в старой Вандее простой священник, аббат прихода Сен-Ло Бернье, которому суждено было вскоре принять деятельное участие в делах Республики и Империи и который редким умом и дарованием приобрел сильное влияние на роялистских предводителей. Он видел вблизи все восстание, не приведшее ни к чему, кроме бедствий; он заключил, что дело Бурбонов проиграно, по крайней мере на время, и полагал, что одни только христианские алтари можно спасти от всеобщего переворота, порожденного революцией. Действия Первого консула и частые сношения с генералом Гедувилем совершенно развеяли его сомнения на этот счет, и он стал надеяться, что покорностью можно будет приобрести спокойствие, прекращение преследований и если не покровительство богослужению, так по крайней мере веротерпимость. А посему аббат Бернье советовал предводителям левого берега покориться и своим влиянием заставил замолчать всех краснобаев, разъезжавших взад и вперед между Вандеей и Лондоном.
В Монфоконе было назначено собрание; и там, на совете роялистских предводителей, Бернье уговорил д’Оти-шана, молодого дворянина, отличавшегося храбростью, но послушного благоразумным советам, сложить оружие от имени всей области. Капитуляция была подписана 18 января 1800 года. Республика обещала полное прощение всем и уважение к обрядам богослужения; кроме того, она обязалась устранить на некоторое время налоги с разоренных областей и исключить имена всех предводителей из списка эмигрантов. Роялисты, со своей стороны, обещали безусловно покориться и немедленно сдать всё оружие.
Пример не остался без последователей. Через два дня мятежники правого берега, бывшие под начальством старого и храброго дворянина Шатильона, отказываясь, как и он сам, служить более своекорыстным видам Англии, чем делу прежних королей, сдались; вся Вандея была усмирена.
Радость была всеобщей — и в селениях, верных роялизму, и в городах, где, напротив, преобладал дух Революции. В некоторых городах, например, в Нанте и Анжере, жители торжественно встречали роялистских предводителей, надевших трехцветную кокарду, и радовались им как братьям. Везде стали сдавать оружие и покоряться от чистого сердца, под влиянием все более и более распространявшегося мнения, что войной не вернуть Бурбонов, что она приведет только к кровопролитию и разорению страны, а покорность, напротив, принесет спокойствие и безопасность и восстановит богослужения, чего желали ревностно.
Усмирение Бретани и Нормандии встретило гораздо больше препятствий. Мы уже говорили, что в этих областях война началась позднее и оказалась не так утомительна; к тому же там она доставляла постыдные выгоды, между тем как в Вандее навлекала одни страдания. В Бретани и около Нормандии укрылись шуаны, так привыкшие к грабежу, что не могли жить без него. Они воевали скорее со сборщиками податей, с проезжими, со скупщиками народного имущества, чем с Республикой. Сообщаясь с негодяями в Париже, они получали оттуда всю информацию, необходимую для набегов.
В Морбигане, наконец, где восстание было всего упорнее, Жорж Кадудаль получал от англичан деньги и любые материальные средства, которые могли поддержать его борьбу, и тем более не был расположен к покорности.
Но уже были приняты меры для покорения силой тех из роялистских предводителей, которые не сдадутся добровольно. Двадцать первого января генерал Шабо, прекратив перемирие, пошел на отряды, находившиеся в Бретани под началом Бурмона и Превале. Близ общины Меле настиг он Бурмона с тысячей шуанов; они защищались чрезвычайно упорно, однако вынуждены были уступить войскам, привыкшим иметь дело не с крестьянами. Сам Бурмон, пережив много опасностей, с трудом успел спастись. Скоро он вынужден был сознаться, что уже нет возможности поддерживать дело, и сложил оружие 24 января.
Потом генерал Шабо пошел к дальним частям Бретани, где генерал Брюн собирал значительные силы. Двадцать пятого января несколько отрядов встретили отряды Жоржа. Республиканские генералы перед тем отправили к Банку транспорты хлеба и скота, взятые в восставших селениях. Шуаны вздумали отнять эти транспорты; прикрывавший их конвой окружил шуанов и, несмотря на упорное сопротивление, убил четыреста человек, несколько предводителей и разбил их на голову. Двадцать седьмого числа последовал жестокий бой в Геннебоне, там полегло еще триста шуанов. Это окончательно разрушило все надежды мятежников. Жорж был вынужден сложить оружие и сдать 20 тысяч мушкетов и 20 орудий, только что полученных из Англии.
Кроме Жоржа, упорнее всех в продолжение войны был молодой предводитель Фротте, из Нижней Нормандии. Убедившись, как и другие, но, к сожалению, поздно, что невозможно далее противиться многочисленным войскам, окружившим область, он решился уступить. Фротте написал генералу Гедувилю, прося мира; но Гедувиль в это время был в Анжере. В ожидании его ответа Фротте предложил республиканскому генералу Шамбарлаку перемирие. Генерал отвечал, что не имеет полномочий на ведение переговоров и будет просить таковых у правительства, а между тем не может остановить военных действий, разве если Фротте согласится немедленно сдать оружие.
Этого-то Фротте боялся больше всего. Он согласен был покориться и подписать мир на время, но с тем чтобы оставаться вооруженным и, выждав первый удобный случай, снова объявить войну. Он написал своим помощникам, приказывая им покориться, но сохранять оружие.
Между тем Первый консул, разгневанный упорством Фротте, велел не щадить его и наказать, в назидание другим. Фротте, обеспокоенный тем, что не получает ответа на свои предложения, вздумал войти в сношения с генералом Гидалем, начальствовавшим в Орнском департаменте; Фротте схватили с шестью приверженцами, найденные при нем письма, в которых он приказывал своим приверженцам покоряться, удерживая оружие, были сочтены изменой, его отвезли в Вернёль и предали военному суду.
Когда в Париж пришло известие о его поимке, толпа просителей окружила Первого консула, умоляя отложить суд, что значило почти то же, что помиловать. Но предписание правительства пришло слишком поздно: поскольку действие конституции в восставших департаментах было приостановлено, то, когда пришло предписание об отсрочке, молодой предводитель был уже казнен за свое упорство.
Первый консул понимал, что вырвать оружие из рук бунтарей было недостаточно, что надлежало завладеть этими восторженными душами и направить их к благородной цели. Он думал завлечь роялистских предводителей на обширное поприще, открывавшееся всем французам, вести их к счастью и славе привычным для них путем опасностей. Бонапарт велел пригласить их к себе.
Слава Первого консула, внушавшая желание видеть его всем, кто имел такую возможность, великодушие, о котором уже много говорили в Вандее и к которому приходилось прибегнуть в пользу многих жертв междоусобной войны, — все это предоставляло роялистским предводителям необходимые и уважительные предлоги явиться к нему. Первый консул очень хорошо принял сначала аббата Бернье, потом Бурмона, д’Отишана, Шатильона и, наконец, самого Жоржа Кадудаля.
Он отличил аббата Бернье и решился привязать его к себе, используя его в трудных вопросах церкви. Он часто беседовал с предводителями, тронул их своими благородными речами и даже уговорил некоторых из них поступить на службу во французские войска. Он успел снискать любовь Шатильона, который с тех пор удалился от дел, женился и был обычным ходатаем за своих сограждан, когда они желали прибегнуть к правосудию и человеколюбию Первого консула, и притом ходатаем, не знавшим отказа. Только славой, милостью и великодушием можно заканчивать революцию.
Один Жорж не поддавался этому влиянию. Когда он вошел в Тюильрийский дворец, вид его внушил такие опасения адъютанту, который должен был доложить о нем, что тот никак не решался затворить дверь кабинета Первого консула, беспрестанно подходил к ней и заглядывал исподтишка, чтобы знать, что там делается. Свидание было продолжительным.
Генерал Бонапарт тщетно рассказывал Жоржу об отечестве и славе, старался даже честолюбием завлечь сердце этого свирепого рыцаря междоусобной войны, — ничто не удавалось, и, взглянув в лицо собеседнику, он сам убедился, что не преуспел. Простившись с ним, Жорж отправился в Англию с Невиллем. Не раз, описывая спутнику свое свидание, он показывал свои мощные руки и говорил: «Как я оплошал, что не задушил этого человека собственными руками!»
Усмирение Вандеи было самым счастливым событием, обещавшим более важный и трудный мир с Европой.
Первый консул поспешил до начала кампании закрыть заседания Законодательного корпуса и поторопить его с принятием множества предложенных им проектов.
Все стремилось к цели, которую себе определил Бонапарт. Принятые законы приводились в исполнение, назначенные сановники вступали в должность. Новые префекты принимались за свои обязанности, управление везде оживлялось невиданным дотоле согласием и деловитостью. Недоимки быстро выплачивались в казну, с тех пор как составление сметы и списков давало возможность являться с законным требованием к платящим. С каждым днем новые меры яснее обозначали политическое направление правительства.
Второму списку изгнанников было также объявлено помилование. В нем встречалось множество имен писателей. Фонтан, Лагарп, Сюар, Сикар, Мишо были возвращены из изгнания или получили возможность выйти из своих убежищ. Знаменитый изгнанник 18-го фрюктидо-ра, бывший директор Бартелеми, заключивший и подписавший первый мирный договор Республики, был по предложению консулов назначен сенатором. Другой изгнанник того же времени, Карно, недавно возвращенный из ссылки и назначенный генерал-инспектором, теперь получил должность военного министра.
Имя Карно принадлежало в то время к славнейшим именам на военном поприще; с ним была связана память о победе Конвента в 93-м году, и хотя одно имя генерала Бонапарта приводило в ужас союзников, тем не менее имя Карно, соединившись с его именем, произвело еще более сильное действие на иностранные штабы.
Последние заседания проходили совершенно спокойно, даже в Трибунате. Предложения правительства принимались таким большинством, что нужно было быть чересчур обидчивым, чтобы питать неприязнь к депутатам за оппозицию в каких-нибудь двадцать голосов. Первый консул, как ни был расположен ничего никому не спускать, решил не обращать на них внимания. Поэтому первые заседания, известные под названием «заседаний VIII года», нисколько не оправдали опасений недоброжелательных наблюдателей.
Незадолго до закрытия сессии Первый консул принял меры в отношении периодических изданий, меры, которые ныне показались бы несбыточным чудом, но тогда благодаря молчанию конституции были вполне законными, а благодаря духу времени казались даже ничтожными. В самом деле, конституция ничего не говорила о предмете периодических изданий, хотя довольно странно, что такое важное обстоятельство, как свобода печати, не удостоилось даже упоминания в основном государственном законе. Но в то время трибуна — как на собраниях, так и в клубах — была любимым способом распространения мыслей, и все настолько активно пользовались правом говорить, что мало обращали внимания на право писать.
Первый консул, еще будучи обычным командиром Итальянской армии, уже не слишком терпеливо выносил нападки роялистских журналов; теперь же он начал беспокоиться из-за их нескромности по поводу военных действий и их жестоких выступлений против иностранных правительств. В то время как он всеми силами старался уладить отношения Франции с Европой, республиканские журналы, жестоко нападавшие на европейские кабинеты, могли обратить в ничто все его старания к сближению.
Первый консул, желавший изгладить все следы насилия и не стесненный свободой печати, издал постановление, которым запретил многие печатные издания и определил те, которым будет дозволено выходить по-прежнему. Эти распоряжения должны были оставаться в силе до общего мира. Дозволенных изданий оказалось тридцать.
Сверх того, этим изданиям дали понять, что, если они будут публиковать статьи против конституции, против армий, их славы или выгоды, или же дурно отзываться об иностранных правительствах, состоящих в союзе с Францией, то будут немедленно запрещены.
Эта мера, которая ныне показалась бы необыкновенной, была принята без ропота и удивления, потому что одни идеи дают цену вещам.
Потребованные по случаю новой конституции голоса граждан были собраны и сосчитаны, а результат этого исчисления сообщен Сенату, Законодательному корпусу и Трибунату через консульскую повестку. Ни одна из прежних конституций не снискала в свою пользу такого множества голосов.
Подано было более трех миллионов голосов, из них три миллиона в пользу конституции и только 1500 голосов против нее. Разумеется, эти пустые формы ничего не значат для мыслящих людей. О воле общества должно судить не по этим внешним и часто обманчивым признакам, а по его духовному состоянию. Но разность в числе подававших голоса имела в этом случае неоспоримое значение. Она показывала, до какой степени простиралось общее желание сильного и целительного правления, могущего упрочить порядок, победу и мир.
Перед отъездом в армию Первый консул наконец решился на важный шаг: он поселился в Тюильрийском дворце. При общей готовности всех умов видеть в нем Цезаря или Кромвеля, назначенного положить конец анархии неограниченной властью, переселение его во дворец древних королей было шагом смелым и щекотливым не потому, что могло возбудить сопротивление, но по впечатлению, производимому на умы.
Перед тем Первый консул распорядился устроить величественное и хорошо продуманное торжество. В это время умер Джордж Вашингтон. Смерть этого знаменитого человека, украсившего конец прошедшего столетия славой своего имени, наполнила скорбью всех почитателей свободы в Европе. Первый консул, находя, что очень кстати будет обнаружить и свое участие к этому событию, на следующий день написал такое воззвание к армии:
«Вашингтон умер! Этот великий человек сражался против насилия и утвердил независимость своего отечества. Память его навсегда останется драгоценной для французского народа, как и для всех свободных людей Старого и Нового света, а тем более для французских воинов, потому что они тоже, подобно ему и американским солдатам, сражаются за равенство и свободу!»
Был объявлен десятидневный траур, ко всем знаменам Республики подвесили черный креп. Первый консул этим не довольствовался; он приказал подготовить простое, но величественное торжество в соборе Дома инвалидов. Знамена, добытые в Египте, еще не были поднесены правительству, и вот генералу Ланну поручили передать их военному министру под великолепным куполом, построенным Людовиком XIV в честь заслуженных воинов.
Девятого февраля Ланн торжественно передал министру Бертье девяносто шесть знамен, взятых у пирамид, в битве у горы Тавор и в Абукире. Он произнес короткую и воинственную речь. Бертье отвечал ему в том же духе. Министр сидел между двумя столетними инвалидами; напротив него стоял бюст Вашингтона — под навесом из тысячи знамен, добытых войсками Французской республики в войнах со всей Европой. На некотором расстоянии была приготовлена трибуна. На нее взошел изгнанник, обязанный своим освобождением политике Первого консула: это был Фонтан, писатель блистательный и безупречный, последний из говоривших на том французском языке, который когда-то был совершенен, а вместе с XVIII столетием сгинул в безднах прошедшего. Фонтан произнес надгробное слово в честь американского героя. Он прославлял воинские доблести Вашингтона, его мужество, мудрость, бескорыстие; гораздо выше воинского гения ставил он гений восстановителя, умеющего прекращать междоусобные войны, лечить раны отчизны и даровать мир свету. Он вызывал тени Тюренна, Катины, Конде и, говоря их именем, высказывал похвалы, но похвалы самые благородные, потому что они были исполнены мудрых наставлений.
По окончании речи на все знамена повязали черный креп, и Французская республика облачилась в траур по основателю Американской республики, точно так же, как монархия носит траур по потерям своих собратьев. Чего недоставало в этом торжестве, чтобы оно было так же величественно, как те надгробные зрелища, на которые приходил Людовик XIV слушать похвалу своим военачальникам из уст Флешье или Боссюэ?
Недоставало того, чего не смог придать торжеству и величайший из людей: во-первых, недоставало веры, не той, которую стараются выказывать, а той, которую чувствуют на самом деле и без которой прощание с умершими всегда будет холодно. Недоставало искренности: эта похвала герою, преимущественно прославившемуся своим бескорыстием, была очевидно натянута. Однако же не должно думать, будто все это торжество было одним чистым лицемерием; разумеется, присутствовало тут и лицемерие, но было и обыкновенное увлечение времени, как бывает везде и всегда! В самом деле, люди гораздо чаще сами ошибаются, нежели обманывают других. Многие французы, подобно римлянам во времена Августа, еще верили в существование Республики, потому что это слово беспрестанно повторялось; и нельзя с уверенностью утверждать, что сам организатор торжества, Бонапарт, не обманывался, когда, прославляя Вашингтона, думал, что во Франции, как в Америке, можно быть первым, не будучи ни королем, ни императором.
Это торжество было подготовкой к переселению трех консулов в Тюильрийский дворец. В нем уже давно производились необходимые переделки; устранялись следы, оставленные Конвентом, выкидывались красные шапки, которые он расположил среди золоченых карнизов.
Первый консул должен был занять бельэтаж. Жена его и дети должны были поместиться в нижнем этаже. Галерея Дианы служила преддверием, через которое входили в покои главы Республики. Первый консул украсил ее целым рядом бюстов великих людей и в выборе их старался выразить свои собственные воззрения; тут были Демосфен, Александр Великий, Ганнибал, Сципион, Брут, Цицерон, Катон, Цезарь, Густав Адольф, Конде, Мальборо, маршал Сакс, Вашингтон, Фридрих Великий, Мирабо, Дюгомье, Дампьер, Марсо, Жубер и т.д., то есть воины и ораторы, защитники свободы и завоеватели, герои монархии и республики, наконец, четыре полководца революции, погибшие на поле сражения. Собирать около себя знаменитостей всех времен и всех земель, так же, как стараться собрать вокруг себя все партии, — вот политика, которую Бонапарт любил демонстрировать при каждом удобном случае.
Но он не один должен был занимать Тюильри. Тут же должны были проживать два его товарища. Консул Лебрен поместился в павильоне Флоры. Камбасерес, имевший преимущество перед Лебреном, отказался от королевского дворца. Со своей необыкновенной осмотрительностью он, может быть, один в то время не предавался обманчивым мечтам; он говорил Лебрену: «Мы неблагоразумно поступим, если переедем в Тюильри; он для нас не годится, и я не стану в нем жить. Генерал Бонапарт скоро захочет жить там один, и нам придется выехать. Лучше вовсе не поселяться». Он не переехал в Тюильрийский дворец, а выхлопотал себе на площади Карусель прекрасный дом, который оставался за ним все время, пока Империя оставалась за Наполеоном.
Когда все было таким образом приготовлено, Бонапарт оставил Люксембургский дворец и поехал в Тюильри; на несколько улиц растянулся величественный поезд. Он открывался прекрасными полками, которые входили из Голландии в Вандею, а из Вандеи в Париж и теперь собирались в сотый раз прославиться на немецких и итальянских полях; ими командовали Ланн, Мюрат и Бессьер. За ними в каретах ехали министры, члены Государственного совета и других собраний, наконец, в великолепной карете, запряженной цугом белых лошадей, — сами консулы. Эти белые лошади имели особенное значение; это были те самые скакуны, которых германский император подарил генералу Бонапарту по случаю Кампо-Фор-мийского мира. Франц I подарил ему также великолепную саблю, которую Бонапарт не забыл надеть в этот день. Таким образом, Первый консул окружил себя всем, что напоминало воина-миротворца.
Толпа, собравшаяся по улицам и по набережным, ведущим ко дворцу, встречала его громкими криками радости. Восклицания эти были искренни: в нем видели славу Франции и начало ее благоденствия. У площади Карусель консулов встретила стража, затем карета проехала между двух караульных помещений, расположенных по правую и по левую сторону дворца. На одном из них была надпись: «Королевская власть во Франции уничтожена и никогда не будет восстановлена».
Въехав во двор, Первый консул тотчас пересел на коня и сделал смотр войскам, построенным перед дворцом. Поравнявшись с черными и простреленными пулями знаменами трех полубригад, он отдал им честь; солдаты отвечали громкими приветствиями. Бонапарт проехал по рядам, потом остановился перед павильоном Флоры, а войска прошли перед ним маршем. Над ним, на балконе дворца, стояли консулы, сановники и его семейство, которое уже начинало приобретать в государстве влияние. После смотра Бонапарт вошел в свои покои; министр внутренних дел представил ему гражданские власти, военный министр — военных, а морской — всех офицеров флота, находившихся в то время в Париже. В тот же день был дан обед и у министров.
Штат в консульском дворце распределили следующим образом. Общее управление дворца было возложено на государственного советника, прежнего министра внутренних дел Бенезеша. Адъютанты, и преимущественно Дю-рок, должны были принимать посетителей и заменить собой толпу всякого рода чиновников, наполняющих обыкновенно обширные покои европейских венценосцев. Раз в две недели, каждое 2-е и 7-е число, Первый консул принимал дипломатический корпус. Раз в декаду, в разные дни и в определенные часы, он принимал сенаторов, членов Законодательного корпуса, Трибуната, кассационного суда. Должностные люди, имевшие в нем нужду, должны были обращаться к министрам, от которых зависели, а те уже их представляли. На второй день после своего поселения во дворце, 20 февраля, Бонапарт дал аудиенцию дипломатическому корпусу. Между двух консулов и среди многочисленной свиты принимал он посланников от тех держав, которые не были в состоянии войны с Республикой. Позже всех их представили госпоже Бонапарт.
Каждые пять дней Первый консул делал смотр войскам, проходившим через Париж во время своего перехода к границам. Тут он показывался войску и народу, сбегавшемуся посмотреть на него. Бонапарт был в то время худощав, бледен, сидел на коне слегка сгорбившись; он внушал участие и благоговение своей важной и задумчивой, но прекрасной наружностью и, по-видимому, слабым здоровьем, о котором уже начинали сильно беспокоиться, ибо, пожалуй, ничем в стране не дорожили так, как его жизнью.
После смотров офицеры приглашались к столу. Иностранные посланники, члены собраний, местные начальники и чиновники также участвовали в этих обедах, на которых господствовала умеренная роскошь. При этом рождающемся дворе не было еще ни статс-дам, ни камергеров; все имело вид строгой простоты, но уже видна была некоторая изысканность. Здесь избегали обычаев Директории, во времена которой нелепое подражание древним костюмам в сочетании с развращенностью нравов отнимало все достоинство у внешней представительности государства.
Все были молчаливы, внимательны друг к другу, все следили за каждым движением необыкновенного человека, который уже совершил так много великих дел и внушал надежду на еще большие перемены.
На другой день генерал Бонапарт, осматривая дворец со своим секретарем Бурьеном, сказал ему: «Ну, Бурьен, вот мы и в Тюильри. Теперь нам надо позаботиться о том, чтобы здесь остаться».
УЛЬМ И ГЕНУЯ
После обращения к Европе с мирными предложениями, и притом с предложениями, которые мог сделать только полководец, покрытый славой, Первому консулу оставалось только приступить к войне. К войне, впрочем, очень деятельно готовились всю зиму, с 1799-го по 1800 год. Это была и самая справедливая, и одна из славнейших войн той знаменитой эпохи.
Австрия хотя и оставалась, по-видимому, умереннее Англии, однако пришла к одинаковому с ней заключению и отказалась от мирных переговоров, что привело австрийский кабинет к важнейшей политической ошибке: он не воспользовался выгодным положением для переговоров. Следовало быть крайне ослепленным, полагая, что и теперь, в борьбе с новым правительством, совершенно преобразованным, деятельным донельзя и руководимым первым полководцем своего века, можно завоевать такой же успех, какой случался прежде благодаря неспособности Директории.
Эрцгерцог Карл11, соединявший с истинным воинским дарованием замечательную скромность и умеренность, описал всю опасность продолжения войны со знаменитым противником. В ответ Австрия лишила его главенства над войсками, а себя — единственного полководца, который мог бы вести войну хоть с тенью надежды на успех. Опала была прикрыта титулом правителя Богемии. Императорская армия сильно сожалела о нем, несмотря на то, что в преемники ему назначен был барон Край, отличившийся в последнюю итальянскую кампанию. Край был храбрым воином, человеком способным
и опытным, и оказался достойным вверенного ему начальства.
Чтобы восполнить нехватку солдат, возникшую в рядах союзной армии в результате удаления русских, Австрия, с помощью денежных пособий Англии, уговорила некоторые немецкие герцогства поставить значительное количество войск. Отдельным договором, подписанным 16 марта английским министром при баварском дворе, курфюрст обязался, кроме обычного своего контингента, поставить еще дополнительный двенадцатитысячный корпус. Такой же договор с герцогом Вюртембергским доставил союзной армии еще шесть тысяч солдат. Наконец, 30 апреля было получено согласие курфюрста Майнцского на выдвижение корпуса в четыре или шесть тысяч человек.
Англия взяла на себя все издержки по набору, амуниции и содержанию этих войск, а кроме того, ручалась немецким князьям, что без них не станут вести переговоры с Францией. Каким бы ни был исход войны, немецким княжествам будет возвращено их имущество. Со своей стороны Англия обязывала их не принимать самостоятельно мирных предложений.
Майнцские полки состояли из милиции, необученной и боязливой. Кроме этих регулярных вспомогательных войск, уговорили еще взяться за оружие шварцвальдских крестьян, стращая их грабежами французов, которые в это время разоряли поля несчастной Германии гораздо меньше самих имперцев.
Таким образом, швабская императорская армия со всеми вспомогательными войсками, доходила почти до 150 тысяч человек; из них 30 тысяч были распределены по крепостям, а 120 тысяч — составляли действующую армию, которая была снабжена многочисленной артиллерией, впрочем, уступавшей французской, и в особенности превосходной кавалерией, которой австрийские войска издавна славились. Кроме того, у императора имелось 120 тысяч человек в Ломбардии, под началом барона Меласа.
Английский флот, собравшийся в Средиземном море и беспрестанно курсировавший в Генуэзском заливе, поддерживал все действия австрийцев в Италии. Он должен был перевезти к ним вспомогательный корпус англичан и эмигрантов, собранный в Магоне и доходивший, как говорили, до 20 тысяч человек.
Следовательно, войну против Франции собирались вести без малого с тремястами тысячами войска и с помощью всего английского флота. Это были очень значительные силы, с которыми многое можно было сделать, — если бы умели ими пользоваться. Это обстоятельство очень важно, потому что новое войско и без того с трудом выдерживает первые военные трудности, а если вдобавок ему до сражения надо совершить продолжительный переход, оно уменьшается в соразмерности с расстоянием, которое проходит.
Теперь опишем расположение союзных войск и план, по которому они должны были действовать.
Край со своим войском занимал Швабию, сторожил все точки на Рейне, через которые французы могли войти в Германию. Он не думал переходить через реку и вторгаться в пределы республики; ему, по крайней мере в начале кампании, предстояла не такая деятельная роль.
Начало военных действий было предоставлено Итальянской армии, она должна была блокировать Геную, овладеть ею, перейти через Апеннинские горы и реку Вар и появиться перед Тулоном, где к австрийцам должны были присоединиться англичане и южные эмигранты.
Новое вторжение в ту часть Франции, в которой находился главный ее морской порт, пришлось по душе англичанам; им и нужно приписать главное участие в этом плане, который потом так много осуждали.
Вот весь план австрийцев. В Швабии медлить, в Италии открыть действия очень рано и пройти до Вара, потом, когда французы, привлеченные на Вар, очистят берега Рейна, перейти через него и, наконец, двинуться двумя массами на восток — через Базель, на юг — через Ниццу и, таким образом, без боя уничтожить сильную швейцарскую преграду.
Нельзя было придумать никакого вполне верного плана, имея соперником Бонапарта и при наличии выгод, которые доставляла французам оставшаяся в их руках Швейцария. Часть Альп, ближайшая к Франции, образует Швейцарию, а продолжение их — Тироль, издавна принадлежащий Австрии. Если австрийские войска идут к Франции, они должны разделиться на две действующие отдельно части и проходить по обеим сторонам Альпийского хребта, с одной стороны вверх — по Дунайской долине, а с другой — по долине реки По. Пока они в Баварии и Ломбардии, эти две армии могут сообщаться между Альпами через Тироль, принадлежащий императору, но когда они дойдут до Швабии, они окажутся совершенно отрезаны одна от другой, без всякой возможности сообщения, потому что вход в Швейцарию, независимую и нейтральную, им воспрещен.
Нейтралитет Швейцарии — это то препятствие, которое европейская политика благоразумно поставила между Францией и Австрией, чтобы уменьшить число пунктов, удобных для наступления.
Упорствуя в мнении, что французские войска истощены, а Германская армия не в состоянии начать наступательные действия и перейти Рейн в виду стопятидесятитысячной австрийской армии, стоявшей в Шварцвальде, особенно же — не ожидая, что французы осмелятся перейти Альпы без дорог и во время снегов, наконец, не видя даже третьей армии, которая могла бы на это покуситься, австрийцы погубили себя своей самонадеянностью.
У французов было две армии: Германская, увеличенная соединением рейнского и швейцарского войска, в 130 тысяч, и Лигурийская, уменьшенная до 40 тысяч. В войсках, стоявших в Голландии, в Вандее и во внутренних областях, были размещены начальные силы и для третьей армии; но нужно было необыкновенное искусство в управлении, чтобы сосредоточить ее в том пункте, где ее присутствие могло понадобиться. Генерал Бонапарт вздумал воспользоваться этим средством следующим образом.
Массена с Лигурийской армией, не усиливая ее, а снабдив только жизненными припасами и амуницией, приказано было держаться в Апеннинских горах, между Генуей и Ниццей, как в Термопилах. Германская армия под предводительством Моро, усиленная, насколько это возможно, должна была по всему берегу изображать, будто собирается перейти Рейн, а потом, укрывшись за рекой, поспешно отступить, выйти во фланг генералу Краю, напасть на него врасплох, оттеснить до верховья Дуная, если получится — обогнать, отрезать ему путь на Вену и даже, в случае удачи, окружить и подвергнуть одному из тех достопамятных сражений, примеры которых мы не раз наблюдали.
После того Моро было предписано отрядить правое крыло в Швейцарию, для содействия трудному предприятию, исполнение которого генерал Бонапарт взял на себя.
Резервная третья армия, которая существовала пока в зачаточном состоянии, должна была сформироваться между Женевой и Дижоном и ждать там, готовая содействовать Моро. Но если бы Моро хоть отчасти преуспел в своем плане, резервная армия должна была под началом Бонапарта соединиться с отрядом, отделенным от Германской армии, перейти через Сен-Бернар по льдам и снегам, очутиться в Пьемонте, в тылу барона Меласа, окружить его, дать решительное сражение и, в случае удачи, принудить его сложить оружие.
Разумеется, если бы исполнение соответствовало плану, это была бы прекраснейшая мысль, когда-либо родившаяся в голове гениального полководца древних или новых времен. Но великим военным планам придает цену лишь исполнение, без него это только пустые мечты.
Первой заботой Бонапарта было пополнить войско. Побеги, болезни и урон уменьшили его до 250 тысяч. По счастью, это были 250 тысяч опытных солдат, способных выдержать сражение с двойным количеством неприятелей. Первый консул просил, к тому же, у Законодательного корпуса 100 тысяч рекрутов. Эти 100 тысяч новичков, слитые с 250 тысяч старых солдат, должны были составить превосходную армию. Вновь назначенные префекты придали набору небывалую до тех пор энергичность. Но новобранцев можно было доставить на место, обучить и пустить в дело не раньше, чем через пять или шесть месяцев.
Первый консул решил оставить в бездействии все корпуса, изнуренные войной, и использовать их в качестве кадров для обучения рекрутов. А корпуса, способные тотчас выступить в поход, он отправил на границу. В итоге в распоряжении Бонапарта оказалось не более 200 тысяч человек, которых можно было немедленно пустить в дело. Но в его могучей и искусной руке и этого было довольно.
В то же время обратился он к патриотическим чувствам французов. Обращаясь к солдатам первых наборов, которые разошлись по домам при всеобщем унынии, произведенном неудачами, он приказал тех из них, кто ушел без отпусков, брать силой, а получивших законные отпуска звал во имя их усердия, стараясь возбудить воинский дух в молодых людях, воображение которых разгоралось при одном имени генерала Бонапарта. Энтузиазм первых дней революции уже остыл, но вид неприятеля на границах отечества пробуждал все сердца, и из усердия добровольцев можно было извлечь немалую выгоду.
Очень важные перемены внес Бонапарт в артиллерию. Фурлейтами в артиллерии были в то время наемники из транспортных рот. Не удерживаемые, подобно прочим солдатам, понятием о чести, они при первой опасности резали постромки и бежали, оставляя пушки в руках неприятеля. Первый консул справедливо рассудил, что тот, кто везет пушку на место сражения, оказывает родине такую же услугу, как и канонир, который эту пушку потом применяет, что он подвергается такой же опасности и должен быть поддерживаем тем же нравственным чувством, честью. Поэтому он дал фурлейтам мундиры и причислил их к артиллерийским полкам12.
Бонапарт еще прежде послал Массена деньги в помощь несчастной Лигурийской армии. Армию в шестьдесят тысяч человек после кровопролитного сражения при Требии нищета уменьшила до сорока тысяч, и из тех только тридцать с небольшим годились в сражение. Несчастные солдаты бродили по дорогам из Ниццы в Геную, истощенные голодом и лихорадкой, представляя жалкое зрелище храбрых защитников отечества, оставленных умирать от нищеты.
Массена заключил несколько контрактов в Марселе, скупил весь хлеб, находившийся в городе, и отправил его в Геную. К несчастью, этой зимой дули беспрестанные ветры, они замедляли прибытие в Геную марсельских судов и отчасти заменили собой блокаду, которую англичане вынуждены были снять по причине суровой погоды. Однако же несколько судов успели дойти, и хлеб был роздан Лигурийской армии. Ей прислали оружие, обувь, обмундирование и много надежд. Что касается воинского воодушевления, не было надобности внушать его: никогда еще Франция не видела войск, которые бы с таким мужеством выдерживали жесточайшие бедствия; удары судьбы не могли разрушить приобретенной солдатами твердости. Впрочем, для полного их ободрения достаточно было видеть Бонапарта во главе правления, а Массена — предводителем армии. Стоило только этих солдат одеть, вооружить и накормить, — и можно было ожидать от них величайших услуг.
Однако надо сознаться, что Лигурийская армия отчасти была назначена в жертву: ни души не передали ей для пополнения, снабдили только военными снарядами, да и то в обрез. Не туда обращалось преимущественное внимание правительства, не там думали наносить решительные удары. Лигурийская армия фактически предназначалась к гибели, чтобы дать другим время победить.
Особенное внимание было обращено на армию под началом Моро, которой предстояло действовать в Швабии. Ей отдали все, что нашлось, — и людей, и снаряды, снабдили полным артиллерийским парком и достаточными средствами для переправы, чтобы дать ей возможность перейти через Рейн, если можно, в одном пункте.
Следовательно, генералу Моро, которому, как говорили, Первый консул будто бы завидовал, была вверена лучшая и самая многочисленная армия Республики, около ста тридцати тысяч человек, между тем как Массена получил только тридцать шесть, а Первый консул — не более сорока тысяч человек.
Бонапарт, как ни уважал Моро, себя ставил гораздо выше и думал, что если одному из них нужно довольствоваться малыми средствами, то сам он скорее сумеет выкрутиться, нежели Моро. Чувство, руководившее им в этом важном государственном деле, было гораздо уважительнее, чем великодушие: это было стремление к общему благу, которому он давал преимущество как перед своими личными выгодами, так и перед выгодами других.
Во главе армии стоял Моро, человек медлительного ума, иногда даже робкого, но основательного. Присущая ему нерешительность ввиду опасности быстро заканчивалась мудрыми и твердыми мерами. Опытность необыкновенным образом изощрила и развила его взгляд. Но между тем как его воинское дарование в испытаниях войны развивалось, гражданский характер Моро, слабый и покорный всякому влиянию, уже изнемогал в политических испытаниях, которые выносят одни сильные души и истинно высокие умы. Впрочем, зависть тогда еще не запятнала чистоты его сердца и не подавила в нем любви к отечеству. По опытности, по привычке начальствовать и по громкой славе он был единственным после Бонапарта полководцем своего времени, способным предводительствовать стотысячной армией.
Позаботившись о войсках лигурийских и германских, Первый консул обратил свои помыслы на создание нового войска, которое вскоре совершило величайшие подвиги под названием Резервной армии.
Для того чтобы она выполнила свое предназначение, следовало не только создать эту армию, но и приняться за дело так, чтобы никто не верил в ее существование.
Первый консул нашел в Голландии и в Париже (в войсках, собранных еще Директорией) средства для успокоения Вандеи; в уже успокоенной Вандее он отыскал средства для составления армии, которая, будучи внезапно выведена на место военных действий, должна была изменить весь ход дела.
Кроме того, Первый консул оставил в Голландии, с целью охраны этой дорогой для Франции страны, отрад, составленный поровну из французских и голландских войск, а начальство над ним вверил Ожеро. Когда последующие военные действия совершенно успокоили бы противника насчет высадки, корпус Ожеро должен был отправиться вверх по Рейну и охранять в Германии тыл Моро.
Из шестидесяти тысяч человек, собранных от берегов Нормандии до берегов Бретани, Первый консул выбрал самые изнуренные полубригады и вверил им охрану восставших областей. Кроме того, он еще уменьшил их силы, переведя в действующую армию всех солдат, способных к службе, и тем дал возможность заменить их большим числом новобранцев, которых они должны были обучать, не упуская в то же время из виду охрану берегов. Он распределил этих солдат по пяти небольшим лагерям, готовым по первому знаку выступить в поход. Два таких лагеря находились в Бельгии, для охраны этой страны, волнуемой духовенством, а в случае нужды — и для защиты Голландии. Третий лагерь стоял в Лилле, готовый идти на Сомму и в Нормандию, четвертый — в Сен-Ло, пятый — в Ренне. Во всех пяти лагерях насчитывалось до тридцати тысяч войска, и по прибытии новобранцев число это должно было увеличиться вдвое. На них же был возложен полицейский надзор в покоренных странах и в усмиренных провинциях.
Вследствие этих распоряжений из шестидесяти тысяч человек, собранных для водворения спокойствия внутри республики, оставалось тысяч тридцать отличных солдат, которые были размещены по наиболее пострадавшим по-лубригадам. Первый консул составил из них три отличные дивизии: две в Бретани, в Ренне и Нанте, третью в Париже. Эти дивизии должны были со всей возможной поспешностью запастись теми военными снарядами, какие найдутся под рукой, и закончить свое вооружение уже в дороге. Им приказано было идти на восточную границу и к апрелю месяцу непременно оказаться в Швейцарии.
Оставался еще резерв в недрах Египетской армии, расположенной в Южной Франции: эти войска не могли быть отправлены по назначению из-за невозможности перебраться через море, занятое английскими крейсерами. Дополнив эти резервы новобранцами, можно было получить четырнадцать хорошо вооруженных батальонов. Было отдано приказание пополнить резерв и отправить его в Лион. Это была четвертая дивизия, от которой можно было ожидать важных услуг.
При формировании армии всего труднее удается и более всего требует времени организация артиллерии. Первый консул из запасных магазинов Оксона, Безансона и Брианкона взял до шестидесяти орудий с людьми и снарядами. Два искусных и преданных ему артиллериста, генералы Мармон и Гассенди, вытребованные в Париже, получили предписание снарядить из этих магазинов шестьдесят орудий, не открывая, в каком месте предполагается их сосредоточить.
Оставалось назначить сборное место всем этим разбросанным силам. Старание скрывать приготовления могло возбудить всеобщее внимание. А потому Первый консул задумал наделать побольше шума и тем вернее обмануть врагов. Он поместил в «Мониторе» решение консулов о формировании Резервной армии в 60 тысяч человек в Дижоне. Бертье отправился в Дижон, чтобы приступить к формированию. Журналистам, которым позволялось только с крайней осторожностью говорить о военных делах, была дана полная свобода рассуждать об армии, формируемой в Дижоне. Они наполняли свои листки разными подробностями, и этого было достаточно, чтобы привлечь туда шпионов из всей Европы, которые и в самом деле приехали во множестве.
Все отряды были отправлены в Женеву и Лозанну разными дорогами, чтобы не привлекать внимания. Распустили слух, что они назначаются в подкрепление Рейнской армии; а так как она была растянута от Страсбурга до Констанца, то казалось вполне вероятным, что они идут именно к ней.
Первый консул отправил в Женеву запас коньяка; этим также мало открывалась его основная цель, потому что опорный пункт Германской армии располагался как раз в Швейцарии. Кроме того, Бонапарт для прокорма Резервной армии заказал в департаментах на Роне два миллиона порций сухарей.
Таким образом, дивизии были уже в походе и медленно, не утомляясь, продвигались к Женеве и Лозанне, дорогой получая все, в чем нуждались: обувь, обмундирование, оружие, лошадей.
Тайна, известная только Первому консулу, Бертье и двум-трем инженерным и артиллерийским генералам, которым нужно было сообщить план кампании, была сохраняема как нельзя лучше. Ни от одного из них нельзя было ожидать измены: сохранение тайны всегда зависит от влияния на умы правительства, а потому Первый консул на этот счет мог быть совершенно спокоен.
Иностранные лазутчики, съехавшиеся в Дижон, видя только горсть рекрутов и волонтеров и несколько старых офицеров, не могли нарадоваться своей проницательности, догадываясь, что эти приготовления одна хитрость и Первый консул хочет только напугать барона Меласа и уверить его, что в Южной Франции он встретит армию, которая будет в состоянии остановить его. Так рассуждали все, кто считал себя знатоками дела, и английская пресса скоро наполнилась тысячей насмешек. Рисовальщики даже пустили в ход карикатуру на Резервную армию: она изображала ребенка, водившего за руку инвалида с деревянной ногой.
Это и нужно было Первому консулу; он об одном только и заботился — чтобы над ним смеялись.
Между тем дивизии продвигались к восточным границам, снаряды изготовлялись, и в первых числах мая никому не известная армия готова была или содействовать Моро, или перейти через Альпы и придать там совсем другой ход делам.
Первый консул не забыл и флот, который находился в Бресте. Эскадра состояла из пятнадцати испанских судов и двадцати французских, всего без малого судов из сорока, и в тот момент была заперта двадцатью английскими кораблями. Генерал Бонапарт употребил первые же финансовые средства, какие успел добыть, на отправку этому флоту продовольственных припасов и части задержанного жалованья. Он приказал не терпеть блокаду, хотя бы пришлось тридцать неприятельских судов на двадцать, и при первом же случае выйти в море, даже если придется дать сражение. Потом, если эскадра будет в состоянии держаться в открытом море, пройти пролив, явиться в Тулон, собрать тут несколько судов, предназначенных для доставки подмоги Египетской армии, и снять блокаду с Мальты и с Александрии.
План, предписанный Моро, совершенно смутил его холодный и нерешительный ум. Он ужаснулся смелости предложенных ему действий.
Австрийская армия имела то преимущество, что ей гораздо легче было стянуться к месту, которое Моро избрал бы для переправы через Рейн, будь оно между Страсбургом и Базелем или между Базелем и Констанцем. Это-то именно и беспокоило французского полководца. Он опасался, что Край явится с огромными силами к месту переправы и сделает ее не только невозможной, но даже гибельной.
Первый консул не боялся ничего подобного. Он полагал, напротив, что французская армия легко может сосредоточиться против левого фланга Края и пробить его. Для этого он желал, чтобы она внезапно прошла вверх по реке, собралась между Базелем и Шафгаузеном, навела за одно утро четыре моста и вышла во фланг Краю, отрезала его от резервов и левого крыла и отбросила бы к верховью Дуная. Бонапарт думал, что если этот маневр произвести быстро и решительно, то можно совершенно раздавить австрийско-германскую армию.
Но этот план озадачил Моро, непривычного к таким смелым замыслам. Он боялся, как бы Край, уведомленный вовремя, не пошел со всеми своими силами навстречу французской армии и не опрокинул ее в реку. Он считал правильным воспользоваться тремя уже существующими мостами, в Страсбурге, Брейзаке и Базеле, и выйти на правый берег несколькими колоннами. Таким образом он думал отвлечь внимание австрийцев и направить их преимущественно к шварцвальдским ущельям.
План Моро был не без достоинств, но имел и важные недостатки. Он устранял опасность переправы огромной массой войск в одном пункте, но зато разделял силы, впускал на неприятельскую землю несколько отдельных колонн и подвергал их опасному фланговому маршу.
Любопытное для истории зрелище представляют эти два человека, противопоставленные друг другу в важных обстоятельствах, так ярко отражающих различие их ума и характеров. План Морб, как и большая часть планов людей не очень дальновидных, только с первого взгляда казался осмотрительным, но в исполнении мог удаться легче. Надо согласиться, что исполнение все искупает; но иногда оно губит самые верные расчеты и дает успех самым ложным.
Итак, Моро упорствовал в своих мыслях. Первый консул, желая убедить его при помощи хорошо избранного посредника, вызвал в Париж генерала Дессоля, начальника штаба Германской армии, человека тонкого и проницательного ума, достойного быть посредником между двумя сильными и раздражительными людьми. Бонапарт вызвал его в первой половине марта и удержал на несколько дней. Дессоль понял план Первого консула и отдавал ему преимущество перед планом Моро, но тем не менее советовал принять последний, потому что «полководцу должно предоставить свободу действовать сообразно с его понятиями и характером, если он только человек, достойный вверенного ему начальства».
Первый консул, так же хорошо понимавший людей, как и военное искусство, оценил благоразумные советы Дессоля и уступил.
«Вы правы, — отвечал он. — Моро не может ни понять, ни исполнить моего плана. Пускай действует как знает, лишь бы отбросил маршала Края на Ульм и Ра-тисбон и вовремя прислал правое крыло в Швейцарию. А план, которого он не постигает и не смеет взять на себя, исполню я сам, в другом месте. Что он боится сделать на Рейне, сделаю я в Альпах. Со временем он, может быть, станет жалеть о славе, которую теперь уступает мне».
Глубокое, пророческое изречение, как мы скоро увидим.
Первый консул хотел, чтобы Моро открыл военные действия во второй половине или не позже конца апреля, но его настояния оказались напрасны: Моро не был готов и не обладал той деятельной находчивостью, которая заменяет недостаток в средствах. Пока он медлил, австрийцы, согласно своему плану, наступали на Массена и начали с ним борьбу, которую неравенство сил сделало достойной вечной славы.
В Лигурийской армии было 36 тысяч человек, способных к действительной службе. Против этих 36 тысяч французов стояли 120 тысяч австрийцев, свежих и сытых благодаря богатствам Италии и денежным пособиям Англии. Опасность состояла в том, что барон Мелас мог со всем войском двинуться вперед, разрезать французскую армию пополам и отбросить одну половину к Ницце, другую — к Генуе.
Заметив эту опасность, Первый консул в письмах к Массена (от 5-го до 12 марта) с редкой предусмотрительностью давал ему следующие наставления:
«Берегитесь, — писал он, — слишком растягивать линии. В Альпах и в ущелье Тенд не оставляйте много войска, там вас защищают снега. Разместите небольшие отряды в Ницце и окрестных крепостях; четыре пятых всей армии удержите в Генуе и вокруг нее. Неприятель выйдет против правого вашего фланга, около Генуи, и против центра, около Савонны, вероятно, разом в обоих местах. Одну из двух атак вы отклоните и, собрав все свои силы, идите на одну из неприятельских колонн. Местность не позволит австрийцам воспользоваться превосходством своей артиллерии и конницы, они будут атаковать вас одной пехотой; ваша пехота гораздо лучше, а удобство местности заменит недостаток в численности. Мелас не одарен ни вашей энергичностью, ни вашими способностями, — вам нечего бояться. Если он пойдет к Ницце, а вы будете в Генуе, пускай себе идет, не трогайтесь с места: далеко уйти не посмеет, пока вы будете оставаться в Лигурии, угрожая ударить ему в тыл или кинуться на войска, которые он оставит в Пьемонте».
Разные обстоятельства не позволили Массена последовать этим мудрым советам. Во-первых, неожиданное наступление австрийцев застигло его прежде, чем он успел изменить расположение армии и сделать окончательные распоряжения; во-вторых, в Генуе было недостаточно продовольственных припасов, чтобы сосредоточить в ней все силы. Боясь истребить запасы, которые нужны были на случай осады, он хотел воспользоваться гораздо более обильными запасами Ниццы. Наконец, надо сознаться в том, что и Массена не постигал всей глубины наставлений своего начальника, чтобы для них пренебречь неудобствами, впрочем, очень значительными, которые доставляло сосредоточение всей массы войск в Генуе. На поле битвы Массена, может быть, мог называться первым полководцем своего времени, — по твердости характера он не уступал ни одному полководцу
времен прошедших, — но, несмотря на природный ум, сила предусмотрительности и интеллекта далеко не равнялась в нем быстроте взгляда и твердости характера.
Австрийцы выступили 5 апреля, то есть гораздо раньше, чем этого ожидали. Мелас с 50 тысячами войска пошел вверх по реке Бормиде и одновременно атаковал все позиции по дороге, которая выходила через перевал Кадибона к Савонне. Намерение его состояло, как и предвидел Первый консул, в том, чтобы прорвать центр французской армии и отрезать генерала Сюше от Сульта, который с ним соединялся около этого места.
Завязалась жестокая битва. Солдаты Республики, пользуясь гористой местностью, укрывались за возвышениями, защищались с необыкновенным мужеством и отняли у неприятеля втрое больше людей, чем сами потеряли, потому что огонь их встречал плотные массы людей. Но, сражаясь с беспрестанно возобновляющимся войском, они вынуждены были уступить, побежденные более изнурением и усталостью, нежели оружием австрийцев.
Одна половина Лигурийской армии была отброшена к Ницце, другая вынуждена была запереться в Генуе.
Под самой Генуей успех австрийцев был поколеблен, но генерал Отт, с пятнадцатью тысячами, разбил дивизию Миолиса, состоявшую из четырех тысяч человек, спустился на приморский склон Апеннин и, окружив все форты, защищающие город, показал испуганным генуэзцам австрийские знамена. Английская эскадра, развернувшись в то же время, подняла британский флаг. Жители города были патриотами и приверженцами французов, но жители соседних долин, преданные аристократической партии, восстали при появлении союзных войск.
Несчастные жители Генуи, видя на соседних горах австрийские огни, а на море — английский флаг, стали бояться, как бы через несколько дней олигархия не восстановила своего господства. Но с ними был неустрашимый Массена. Хотя атака на центр отделила его от генерала Сюше, однако же у него оставалось от 15 до 18 тысяч войска, а с таким гарнизоном он никакому врагу не разрешил бы ворваться в Геную.
4 Консульство
Для прояснения действий французского полководца во время этой замечательной осады надо описать место, в котором они происходили. Укрепления Генуи представляли собой треугольник, склоняющийся на пятнадцать градусов к горизонту, вершиной сходившийся с Апеннинскими горами, основанием упиравшийся в море и омытый с обоих боков реками Бизаньо к востоку и Польчеве-рой к западу. Если бы в таком укрепленном месте и при таком гарнизоне было достаточное количество продовольствия, Массена был бы непобедим. Мы увидим, как личный характер в военное время может исправить ошибку в расчете и недостаток предусмотрительности.
Решившись встретить неприятеля сильным сопротивлением, Массена задумал немедленно сделать два важных дела: во-первых, отбросить за Альпы австрийцев, слишком теснивших Геную, а во-вторых, восстановить сообщение с генералом Сюше.
Для исполнения первой части предприятия ему следовало оттеснить австрийцев на противоположный склон, откуда они пришли. Не теряя времени, на другой же день после их первого появления, то есть 7 апреля, Массена вышел из Генуи с восточной стороны и прошел долину Бизаньо с остатками дивизии Миолиса. Он подкрепил ее частью резерва и повел тремя колоннами.
Все три колонны с такой точностью осуществили маневр, что стрельба их послышалась в одно время на всех пунктах. Генералы Арно и Миолис стремительно подступили с разных сторон к высотам Монте Ратти. Присутствие самого Массена и желание отомстить за прежнюю неудачу воспламеняли войска. Австрийцы были опрокинуты в потоки и сбиты со всех позиций. Генерал Арно пошел дальше и по гребню гор понесся на самую вершину Апеннинского хребта, к Скоферскому ущелью. Массена, с несколькими резервными ротами, сошел в долину Бизаньо и соединился с дивизией генерала Петито.
Вечером, когда Массена, избавив генуэзцев от присутствия неприятеля, возвратился в Геную и было объявлено о скором прибытии взятого в плен генерала, безграничная радость воодушевила многочисленных приверженцев патриотической партии. Генерала Массена приняли с восторгом. Жители готовили для раненых
носилки, вино и бульон, везде оспаривали честь дать им пристанище.
После решительных действий с восточной стороны, очистить которую было нужнее всего, Массена решил попробовать очистить западную сторону, в направлении к Савонне, и тем восстановить сообщение с генералом Сюше.
С силами около 10 тысяч человек Массена предпринял попытку подойти к Савонне, тайно приказав генералу Сюше также двинуться к этому пункту. Утром 9 апреля французское войско двинулось. Барон Мелас, разрезав пополам французскую армию, намеревался запереть Массена в Генуе и стянуть свою линию, слишком растянутую. Обе армии столкнулись в своих передвижениях, оттого на этой неровной местности произошла самая живая и запутанная борьба.
Массена долго двигался вдоль берега и на следующий день, 10 апреля, был около Вараджио. Он шел двумя колоннами и старался через горы приблизиться к корпусу генерала Сульта, которого предполагал найти в Сасел-ло. Неприятель с силами вдесятеро большими старался окружить две небольшие колонны Массена, преимущественно левую, которую он вел сам. Массена долго продержался с 1200 храбрецами против десятитысячного корпуса и продемонстрировал необыкновенную твердость. Видя необходимость отступления и потеряв из виду правую колонну, отставшую вследствие несвоевременной раздачи продовольствия, он отправился отыскивать ее по ужаснейшим оврагам и среди толп восставших крестьян. Он нашел своих солдат и повел их к другому отделению дивизии генерала Гардана.
Трудность согласования передвижений посреди такого множества врагов и на такой неровной местности не позволила отряду Сульта вовремя сойтись с отрядом Массена. Поэтому Массена решил подняться на вершину Апеннинских гор, там соединиться с Сультом и вместе напасть на австрийские отряды, разбросанные по долинам. Но изнуренное войско рассеялось по дорогам и не могло собраться вовремя. Тогда генерал решился послать в подкрепление Сульту всех, кто был еще в состоянии продолжать движение, а с остальными, то есть с ранеными и изнуренными солдатами, сам стал приближаться к Генуе, чтобы прикрыть отступление главной части армии и обеспечить ее вступление в город.
Со своей стороны Сульт, оттесненный в горы, подвергался крайней опасности среди гораздо более многочисленных неприятельских отрядов и после славных подвигов, вероятно, был бы смят, если бы не подоспело подкрепление, которое Массена так кстати послал к нему. С помощью этого подкрепления Сульт успел выйти на генуэзскую дорогу, наконец нагнал главнокомандующего, и оба они возвратились в Геную, пробивая себе дорогу оружием и ведя перед собой до четырех тысяч пленных.
Генуэзцы пришли в восторг, видя, как французский полководец во второй раз возвращается в их город с толпой пленных. Влияние его сделалось огромным. Армия и жители повиновались ему с глубочайшей покорностью.
По возвращении в город, 18 апреля, Массена тотчас занялся устройством полиции и снабжением города продовольствием. Боясь измены со стороны генуэзских дворян, он принял меры предосторожности. Национальной гвардии, состоявшей из лигурийских патриотов, приказано было при первой тревоге явиться на главную городскую площадь на помощь французскому отряду, стоящему там с зажженными фитилями. Не принадлежавшие к гвардии жители города при этом сигнале должны были убираться по домам, только войска имели право оставаться на улицах. В обычное время жителям велено было возвращаться домой в десять часов вечера, а многочисленные сходки были строго запрещены.
Массена отдал приказание собрать весь хлеб, находившийся в Генуе, обещая платить за него; он и в самом деле платил, когда его приносили добровольно, но в случае отказа делал обыски в домах и забирал хлеб насильно. Собрав весь хлеб, он определил порции армии и народу, таким образом добыв средства прокормить солдат и бедный народ в продолжение первых двух недель осады.
Надеялись, что благоприятный ветер отгонит англичан и откроет дорогу транспорту с хлебом, который должны были пригнать лигурийские и корсиканские корсары, получившие патенты на то, чтобы забирать суда, груженые хлебом. Словом, Массена решил дойти до последней крайности и скорее употребить на прокорм войска какао, которым были наполнены магазины в Генуе, но не сдаваться. Имея немного денег, присланных Первым консулом, он прибегал к ним в крайних случаях, а иногда употреблял их в утешение несчастным своим солдатам в их жестоком страдании. Несколько тысяч уже выбыли из рядов в беспрестанных стычках, несколько сот лежали в госпиталях. В целом же оставалось около 12 тысяч человек, годных в дело.
Среди этих тяжелых испытаний вид генерала Массена, всегда уверенного и спокойного, передавал и другим поддерживавшую его бодрость. А между тем адъютант Массена Франчески в простом челноке перебрался на берег Ниццы для свидания с Первым консулом, чтобы уведомить его о страданиях и подвигах Лигурийской армии и угрожавшей ей опасности.
Утром 30 апреля общая канонада, раздавшаяся вдруг со всех сторон, возвестила важное предприятие со стороны неприятеля. В самом деле, австрийцы в этот день выставили огромные силы. Граф Гогенцоллерн атаковал плато Двух Братьев, на котором стоял форт Диамант. Храбрый офицер на требование сдачи отвечал, что сдаст вверенный ему пост только в том случае, если его отнимут силой оружия.
Этот форт был очень важен, потому что оттуда можно было командовать всеми укреплениями. Из австрийского лагеря открыли сильный огонь, и в то же время было предпринято несколько атак, чтобы уменьшить пространство, занимаемое французами. С другой стороны австрийцы овладели деревней Сан-Мартино д’Альбаро и почти заняли грозную Мадонну дель Монте, позицию, с которой можно было громить город. Уже дивизия генерала Арно очистила последние дома деревни; уже солдаты покидали ряды; многие из них перестреливались врассыпную. Массена поспешил на место, сам собрал их, возобновил бой и удержал неприятеля.
Прошло полдня, надо было поправить дело. Массена немедленно возвратился в Геную и отдал нужные приказания. Он дал генералу Сульту 73-ю и 106-ю полубри-гады и приказал возвратить плато Двух Братьев.
Дивизия Арно, снова посланная вперед, обошла деревню Сан-Мартино д’Альбаро, отбросила занимавший ее неприятельский отряд, взяла несколько пленных и прикрыла правый фланг французских колонн, шедших на форт Квецци. Храбрый полковник Мутон с двумя батальонами 3-й дивизии атаковал форт с фронта. Несмотря на невероятные усилия, он был отбит, но не отступал, пока пуля не ранила его навылет в грудь и не положила полумертвого на поле битвы.
Массена из оставшихся у него двух батальонов один послал на правый, а половину другого — на левый фланг неприятельской позиции. Упорный бой завязался около форта Квецци. Будучи на слишком близком расстоянии, чтобы перестреливаться, противники бились камнями и ружейными прикладами. Французы готовы были поддаться превосходящему числом противнику. Тогда Массена сам кинулся вперед с последним батальоном и решил исход битвы. Форт Квецци был возвращен французам.
Австрийцы, теснимые с позиции на позицию, оставили множество убитых, раненых и пленных. Массена, до сих пор медливший идти на приступ Двух Братьев, воспользовался впечатлением, произведенным его успехом, и в ту же минуту дал приказание Сульту овладеть высотой. Неприятель долго и горячо защищался, но французы наконец овладели высотой.
Таким образом, после жаркой битвы, длившейся целый день, они возвратили плато Двух Братьев, форт Квецци и посты в Сан-Мартино д’Альбаро и в Мадонна дель Монте, словом, все важные позиции, без которых осада Генуи была невозможна.
Вечером Массена возвратился в Геную, за ним несли лестницы, припасенные неприятелем, чтобы влезать на стены. Австрийцы лишились в этот день 1600 человек пленными и 2400 убитыми и ранеными. С начала военных действий Массена истребил и взял в плен от двенадцати до пятнадцати тысяч человек и, что всего важнее, довел неприятеля до того, что он пал духом.
Пятого мая прибыло небольшое судно, груженное хлебом, которого хватило бы на пять дней. Это была драгоценная посылка, потому что продовольствия оставалось очень мало. Городу была необходима скорая помощь, иначе он не мог долго держаться.
Получив из Лигурии эти известия, Первый консул начал настаивать, чтобы Моро открыл военные действия. Уже целый месяц все было улажено между ними, и со стороны правительства не существовало никакой задержки для начала действий Рейнской армии. Но Моро, от природы довольно медлительный, не решался ступить на неприятельскую землю, пока не был уверен в успехе, и понапрасну откладывал начало операции. Каждое промедление с его стороны задерживало выступление Резервной армии и увеличивало бедствия, которые терпел со своим войском Массена. «Поспешите, — писали Моро из Парижа, — и быстрым успехом дайте возможность поскорее выручить генерала Массена. Он лишен продовольствия и уже две недели с изнуренным войском выдерживает отчаянную борьбу. Мы обращаемся к вашей любви к отечеству и собственной вашей пользе: если Массена сдастся, надо будет взять у вас часть войска и послать на Рону, для защиты южных департаментов». Наконец, посредством телеграфа, Моро было дано формальное приказание переправиться через Рейн.
Причины, удерживавшие Моро без действия, были бы уважительны в менее стесненных обстоятельствах. Эльзас был разорен; Швейцария, которую уже два года топтали войска всей Европы, не предоставляла никаких средств для поддержания сил войска. Моро содержал армию запасами рейнских крепостей. Однако же не в этом заключалась настоящая причина его медлительности, — напротив, это скорее побудило бы его искать продовольствие на неприятельской земле, — но его артиллерия и кавалерия испытывали недостаток в лошадях. У него не было ни рабочих, ни оружия, едва хватало оборудования, чтобы навести мост.
Однако же он согласился обойтись без необходимого, в надежде добыть все дорогой. Армия его была так хорошо составлена, что могла справиться с задачей без всего или, в случае нужды, завоевать все необходимое. В конце апреля Моро решился открыть кампанию, которая стала лучшей в его жизни и одной из самых славных в истории Франции.
У него, как мы видели, было 130 тысяч человек. Тысяч тридцать занимали крепости и мостовые укрепления. В действующей армии оставалось 100 тысяч, готовых выступить в поход. Особенно превосходна была пехота: она состояла из 82 тысяч, артиллерии было 5000 при 116 орудиях, конницы — 13 тысяч единиц. Как видим, артиллерия и конница были в гораздо меньшей пропорции, чем обыкновенно принято, но они были очень хорошо составлены, к тому же превосходство пехоты позволяло обойтись без всякого другого рода войск.
Моро давно принял систему деления армии на отдельные корпуса, имеющие полный состав в пехоте, артиллерии и коннице и способные действовать без помощи других корпусов. Опыт скоро показал их неудобство — именно в том, что они увлекаются и начинают действовать порознь, отдельно друг от друга, особенно когда главнокомандующий не настолько тверд, чтобы беспрестанно связывать их операции в один общий план. Это неудобство в данном случае еще более увеличилось от странного распоряжения. Моро принял непосредственное руководство над одним из корпусов, а именно — над резервным. Сен-Сир, который давно уже служил у Моро и имел на него довольно большое влияние, долго сопротивлялся этому распоряжению. Но его возражения не произвели желаемого действия, Моро упорствовал в своем намерении из снисхождения к частным выгодам некоторых лиц. Он уже назначил начальником своего штаба генерала Дессоля; желая дать место генералу Лагори, одному из тех опасных друзей, которые впоследствии погубили его13, он назначил его своим помощником по Резервной армии. Это обстоятельство дало Сен-Сиру повод к недовольству, которое скоро превратилось в явную размолвку между ним и Моро.
У Края, поставленного против Моро, как мы видели, было 150 тысяч человек. Пехота, составленная из баварцев, вюртембергцев и уроженцев Майнца, была незавидна, конница превосходна, — в рядах ее насчитывалось до 26 тысяч. Артиллерия, многочисленная и исправная, имела триста орудий.
Главные силы австрийской армии стояли за шварцвальдскими ущельями, в Донау-Эшингене и Виллингене, на точке соединения дорог, ведущих от Рейна к Дунаю. Тут было собрано сорокатысячное войско. Край разместил в лесу сильный авангард под началом эрцгерцога Фердинанда, предписав ему сторожить дорогу на Базель.
План Моро, состоявший в том, чтобы, переправляясь по трем мостам, свернуть вправо и идти вверх по Рейну до Шафгаузена, был принят без изменения. Двадцать пятого апреля Моро двинул свое войско, а сам отправился в Страсбург с корпусом Сент-Сюзанна, чтобы своим присутствием обозначить, будто намерен действовать по Страсбургской дороге, через Шварцвальд. Чтобы вернее скрыть свое движение, он не собирал корпуса, полубри-гады снимались со своих квартир и прямо шли к месту, назначенному для переправы через Рейн; к своим корпусам они присоединялись уже дорогой. В результате всех этих распоряжений три грозные колонны одновременно перешли через Страсбургский, Бризахский и Базельский мосты. Это произошло 25 апреля.
Весь день 26 апреля Сент-Сюзанн оставался на позиции перед Страсбургом, а Сен-Сир — рядом с Бризахом. Резервный корпус вышел из Базеля, развернулся и ждал движений двух корпусов, которые должны были приблизиться к нему по Рейну, а сам Моро выехал из Страсбурга и отправился в главную квартиру, находившуюся в резервном корпусе.
Весь следующий день был вновь употреблен на фальшивые маневры для сокрытия от неприятеля настоящего направления французских колонн. Австрийцы должны были поверить решительному движению через реку Кинциг и Адскую долину. Вполне естественно было предположить, что две сильные колонны, показавшиеся у входа в эти ущелья, и в самом деле вступят в них для соединения с Лекурбом. Для лучшего наблюдения за ними Край отрядил из Виллингена двенадцать эскадронов и девять батальонов.
В ночь 27-го и весь день 28 апреля, в то время как Край поддавался обману, французские колонны меняли направление своего движения. Сент-Сюзанн занял место Сен-Сира перед Фрейбургом, как будто был намерен идти в Адскую долину. Сен-Сир, со своей стороны, повернул вправо, пошел по Рейну, по немецкому берегу, с артиллерией, конницей и обозом, между тем как тяжелый транспорт шел по равнине, а большая часть пехоты — по склону гор. Моро распорядился таким образом для того, чтобы не загораживать берегов Рейна, очистить высоты Шварцвальда от наполнявших их австрийских отрядов и перейти у самого истока все речки, которые изливаются с этих высот и текут в Рейн.
К несчастью, рассчитывали на наличие дорог, которых не оказалось. Сен-Сиру пришлось идти по самым страшным косогорам, все время в виду неприятеля и без артиллерии. Однако он не слишком задержался и успел в назначенный день явиться в Сен-Блез.
Моро шел вверх по Рейну, тоже по немецкому берегу, как и Сен-Сир. Двадцать девятого апреля центр под руководством Сен-Сира и резерв под началом Моро уже стояли на Альбе, а Сент-Сюзанн подходил к ним. Наконец 1 мая армия сделала последний шаг, самый решительный, и сделала его удачно. Край начинал уже замечать свою ошибку и стягивал назад корпуса, слишком далеко ушедшие в ущелья Шварцвальда.
К вечеру 1 мая вся армия была за Рейном. Главные три корпуса, Сен-Сира, Моро и Лекурба, от семидесяти пяти до восьмидесяти тысяч человек, готовы были двинуться на Энген и Штоках, угрожая разом и неприятельским магазинам, и линии отступления австрийцев. Сент-Сюзанн с левым крылом, до двадцати тысяч, шел вслед за австрийцами по ущелью Адской долины, готовясь присоединиться к главным силам французской армии, как только она двинется вперед и освободит ущелье.
Итак, движение армии Моро было завершено в шесть дней и самым удачным образом. Показав на мостах три колонны, Моро привлек неприятеля к этим трем пунктам;
потом, вдруг скрывшись из глаз, пошел одним корпусом по французскому берегу Рейна, двумя — по немецкому и, поравнявшись с Шафгаузеном, прикрыл переправу Лекурба. Между тем было взято полторы тысячи пленных, шесть полевых орудий с упряжью, сорок крепостных орудий и несколько магазинов. Войско все время демонстрировало твердость и решимость, какие только можно было ожидать от старых солдат, полных уверенности в себе и своих начальниках.
Однако план благоразумного Моро был по крайней мере столь же опасен, как и план Первого консула, отвергнутый генералом за излишнюю смелость, ибо Сен-Сир и Моро в продолжение нескольких дней подставляли неприятелю свой фланг, идя по берегу Рейна, в теснине между рекой и горами. Сен-Сир шел даже некоторое время отдельно от своей артиллерии, а Сент-Сюзанн и теперь еще был оставлен один в Адской долине.
Если бы маршал Край догадался напасть на Сен-Сира, Моро или Сент-Сюзанна, он мог надеяться смять отдельный корпус и тем принудить французскую армию к общему обратному движению. Но Моро благоприятствовали два счастливых обстоятельства: во-первых, он действовал наступательно, что всегда расстраивает неприятеля, и во-вторых, у него было отличное войско, которое могло твердостью исправить всякую непредвиденную неудачу и которое, как мы увидим, не раз исправляло своим мужеством ошибки главнокомандующего.
Наконец наступало время, когда обе армии, после обоюдного движения, с одной стороны — для переправы через Рейн, с другой — для предупреждения этой переправы, должны были столкнуться за Рейном.
Моро готовился к этой встрече, но поскольку он не ждал ее так скоро, то распоряжения его о сосредоточении войск были недостаточно быстры и четки. Он вздумал отправить Лекурба с его 25 тысячами человек на Штоках, где находился арьергард австрийцев. Это было точное исполнение условленного с Первым консулом плана: отрезать Края от Штокаха значило отделить его от Боденского озера, а следовательно, и от Альп. Сам Моро пошел со всем резервом на Энген, не спуская глаз с Лекурба, чтобы в случае нужды немедленно идти к нему на помощь.
Моро шел в боевом порядке, тылом к Рейну, фронт был слишком растянут; перед деятельным и решительным противником французская армия подверглась бы большой опасности. По счастью, армия Края была еще менее сосредоточена.
Хотя положение Края сначала было выгоднее положения французов для сосредоточения армии, ибо он занимал основание треугольника, от Констанца к Базелю, между тем как французы занимали его бока, но теперь, застигнутый врасплох движением Моро и имея на левом фланге три четверти французской армии, успевшей переправиться через Рейн, он был в довольно затруднительном положении. Он отдал австрийским отрядам, бывшим на Рейне, поспешный приказ немедленно стянуться через Шварцвальд к верховьям Дуная; но только быстрое и глубоко обдуманное движение могло выручить его из опасности. Действуя по обоим берегам Дуная, он мог быть уверен, что соединится с правым крылом, но зато должен был отделиться от левого, под началом принца Рейнского, впрочем, не обрекая его на гибель, потому что крыло это нашло бы себе убежище и занятие в Тироле. Правда, в этом случае Край, не ведая того, содействовал бы желаниям Первого консула.
Планом более удобным и согласным с обычной системой императорских войск было стянуться к верховьям Дуная. Но чтобы преуспеть в этом, следовало приступить к делу скоро и решительно. На беду, у Края были огромные магазины в Штокахе, близ Боденского озера, с двенадцатитысячным арьергардом под началом принца Лотарингского. Следовательно, надо было немедленно перевести арьергард из Штокаха к верховьям Дуная и самому Краю идти туда же, бросив магазины, которые он ни в каком случае не мог успеть собрать.
Но генерал Край поступил не так. Думая все-таки действовать на Дунае, но позднее, он двинул на Энген, для выручки Штокаха, генерала Науендорфа. Туда же велели идти эрцгерцогу Фердинанду, стоявшему в Шварцвальде, а правому крылу — оставить Рейн и поспешить присоединиться к нему.
Огромные провиантные магазины немцев имеют то важное неудобство, что им иногда должны подчиняться движения армий. У французов нет магазинов; вечером они разбредаются по окрестностям и отыскивают себе продовольствие; дисциплина от этого не слишком страдает. Они деятельны и искусны, могут оставаться в строю и в то же время слегка заниматься мародерством. Немецкие же войска, подвергаясь такому испытанию, редко его выдерживают, не расстроив своих рядов. Однако магазины имеют и важное преимущество: войска меньше угнетают занимаемую ими страну и не раздражают против себя жителей.
Итак, Моро должен был встретиться с арьергардом Края в Штокахе и пройти мимо отряда эрцгерцога Фердинанда, спешившего на соединение с главными силами австрийской армии. В результате этой встречи должно было последовать неожиданное сражение, какие часто случаются в войне, где обстоятельствами не управляют превосходные умы, способные их предвидеть и давать им направление.
Лекурб с самого утра пошел к Штокаху по большой дороге из Шафгаузена с дивизией Монришара и резервной конницей Нансути. Наблюдая из чащи леса окрестности, можно было в то же время видеть, как стягивались пехота и конница. Наконец Монришар подошел к позициям, которые австрийцы, казалось, намерены были защищать. Они стояли в боевом порядке за деревней Штейс-линген, прикрываясь сильным отрядом конницы.
Французская пехота прошла через селение двумя колоннами и построилась справа и слева, угрожая неприятелю с флангов. В то же время кавалерия монришаров-ской дивизии, поддерживаемая всем резервом Нансути, вышла из Штейслингена, атаковала и опрокинула императорские войска, которые отступили к Нейцингену. Это была вторая и самая важная из позиций, закрывавших Штоках. В глубине деревни показалась многочисленная пехота и перегородила ее, опираясь справа и слева на леса и прикрываясь пушками. Сбить ее оттуда было бы чрезвычайно трудно. Монришар велел обойти ее по пригорку, между тем как Вандам уже выходил на зады Нейцингена.
Взяв эту позицию, уже весь корпус Лекурба, соединившись, одной массой пошел к Штокаху и овладел им.
Австрийцы хотели было остановиться за Штокахом и дать отпор. Они вывели в бой 4000 пехоты, прикрыв ею всю кавалерию. Полки Нансути бросились на нее и опрокинули в беспорядке на пехоту, которая уже не смела думать ни о чем, кроме сдачи.
Лекурб захватил четыре тысячи пленных, восемь пушек, пятьсот лошадей и огромные штокахские магазины.
Дивизия Лоржа, предназначенная осуществлять связь между Лекурбом и Моро, разделилась на две бригады. Одна пошла на Аах, держать под контролем территорию между Штокахом и Энгеном, но, не встретив никого, продолжала марш до Штокаха, где и осталась без всякой пользы. Лорж с остальной частью своей дивизии присоединился к корпусу Моро и с ним пошел к Энгену.
Моро с резервным корпусом с утра отправился к Энгену. Край в то же время проходил это местечко, спеша к Штокаху на защиту своих магазинов. Заметив по множеству показывавшихся войск, что это не простая рекогносцировка, а приготовление к сражению, Край остановился в ожидании его, надеясь на бывших у него под рукой 40 тысяч солдат и крепкую позицию, в которой он оказался по счастливой случайности.
Чтобы подойти к Энгену, надо было перебраться через целый ряд возвышений, довольно крутых и поросших лесом. Австрийцы заняли эти возвышения пехотой. Кавалерия их оставалась в Энгенской долине. Моро оказался вынужденным сначала овладеть высотами, потом сойти на равнину и опрокинуть императорскую конницу. В случае успеха все дивизии должны были соединиться у Энгена.
Лорж, немного опередивший резерв, встретил близ Ватердингена неприятельский отряд. Не начиная боя, он дождался дивизии Дельма которая скоро подошла. Они вместе бросились в атаку и вытеснили австрийцев. Тут представились им высоты, окружавшие Энген; им следовало взойти на довольно значительные высоты, которые контролировали: справа — Маульбергская позиция, а слева — высокая отвесная гора Гогенхевен.
В результате нескольких атак и рукопашной схватки французское войско овладело главными позициями, защищавшими вход в Энгенскую долину, теперь оставалось только спуститься в нее. Неприятель отступил на Гогенхе-вен, поставил на склон горы артиллерию и пехоту, а в долине выстроил двенадцатитысячную конницу.
Моро решился овладеть вершиной Гогенхевен и приказал дивизии Дельма атаковать гору. Вышедшая из лесу дивизия мужественно выдержала жестокий огонь. Таким образом, все высоты Энгенской долины оказались в руках французов: войско могло свободно на них развернуться.
Неприятель отступил на другой край долины, выстроил впереди многочисленную конницу и большую часть артиллерии, а за ними, в лощине, у входа в которую лежит деревенька Эхинген, поставил сильный отряд гренадеров. Чтобы выиграть сражение, французам следовало опрокинуть всю эту массу.
Между тем за Гогенхевеном слышалась частая перестрелка. Дивизия Ришпанса сражалась с отрядами, которые генерал Край расставил на этой части поля. Генерал Ришпанс выдержал, с переменной удачей, весьма упорный бой, когда, на его счастье, показались первые отряды корпуса Сен-Сира. Он очень запоздал по причине несообразности распоряжений Моро. Сен-Сиру пришлось ждать Нея, задержанного недостатком продовольствия, ждать своей артиллерии; к тому же на каждом шагу натыкался он на эрцгерцога Фердинанда и потому, не желая вступать в сражение с одной дивизией против трех, вынужден был соблюдать чрезвычайную осторожность. Сен-Сир подоспел на помощь Ришпансу в ту самую минуту, когда Край решился на последнее отчаянное усилие, чтобы не допустить его к Энгену.
Понимая по живости перестрелки всю опасность положения Ришпанса, Моро вздумал привлечь австрийцев на левое крыло. Для этого он счел нужным атаковать деревеньку Эхинген, бывшую опорой их позиции на другом конце равнины. Генерал Бонтан пошел на нее со своими эскадронами, генерал д’Опуль следовал за ним, попал под огонь, мужественно подступил к Эхингену и овладел им. Но тут на французов выпустили восемь резервных гренадерских батальонов, а австрийская конница поддержала атаку.
Французы, при такой неожиданной угрозе, вынуждены были уступить деревню. Императорская конница
отбила кавалерию генерала д’Опуля. Храбрый генерал Бонтан был опасно ранен. Усиливавшаяся за горой Го-генхевен перестрелка по-прежнему возвещала об опасности, в которой находился Ришпанс, упорствовавший в безуспешных попытках взобраться на высоту.
Моро, который в трудных обстоятельствах умел показать твердость истинно воинской души, понял опасность положения и решился употребить самые отчаянные усилия, чтобы удержать за собой поле битвы. Он берет несколько гренадерских рот, ведет их вперед, опрокидывая все на пути, и снова вводит свое победоносное войско в Эхинген. Ришпанс, со своей стороны, показывает чудеса храбрости и все-таки овладевает высотой, которую неприятель так яростно отстаивал.
Дело решилось в пользу французов, но стоило огромных усилий и большой крови. Одна 4-я полубригада лишилась в этом бою от пяти до шести сотен человек.
Наступала ночь. Французы удваивали свои усилия, между тем как австрийцы, узнав о поражении принца Лотарингского при Штокахе, начинали падать духом. Край, боясь, чтобы его не обошли из Штокаха, приказал отступить и поспешил к Дунаю.
Потери, понесенные французской армией в этих продолжительных и упорных битвах, были очень значительны. Две тысячи выбыли из строя убитыми и ранеными; у австрийцев убито и ранено было три тысячи, а взято в плен от четырех до пяти тысяч человек.
Французское войско своим мужеством искупало недостатки плана, а недостатки действительно имелись. В наше время легко оценить слабые стороны плана. Во-первых, по самим результатам легко судить о недостатках переправы, совершенной в нескольких пунктах. Вследствие такого образа действия только три корпуса могли двинуться совокупными силами, и из них один, корпус Сен-Сира, действовать не мог, потому что должен был поддерживать сообщение с отставшим четвертым. Эта переправа и была причиной того, что артиллерия Сен-Сира отстала и лишила его возможности помочь Ришпансу. В итоге Сен-Сир оставался почти совсем без дела или ограничивался одним наблюдением. Когда его потом упрекали, что он пришел слишком поздно, он утверждал, что за весь день к нему не было послано из главной квартиры ни одного адъютанта. Такие случаи чрезвычайно редко встречались в сражениях, где войском управлял Бонапарт.
Несмотря на все перечисленное, действовать, как действовал Моро, мог только полководец с великим дарованием. Оказавшись лицом к лицу с опасностью, он распоряжался с хладнокровием и твердостью и, поддерживаемый храбростью войск, одержал над неприятелем решительную победу.
Если бы на следующий день он стал сильнее теснить Края, то, по всей вероятности, опрокинул бы его в беспорядке в Дунай. Но характеру Моро недоставало огня, притом он слишком берег войска, чтобы решиться на отважное и быстрое движение, которое, разумеется, утомляет людей в минуту совершения, но зато сберегает им кровь и силы, ускоряя ход дела.
Весь день 4 мая был употреблен на приведение в порядок армии и медленный поход к Дунаю. Край еще не решался отступить без боя. Армия его была очень расстроена и ослаблена потерей почти десяти тысяч человек. Чтобы поднять упавший дух императорской армии, требовались несколько дней отдыха и подкрепления и защита большой реки. Позиция у Мёскирха, на которой Моро дал Краю утвердиться, внушила ему неосторожную, но мужественную решимость еще раз вступить в сражение.
Мёскирхская позиция и в самом деле была очень мощной. Большая дорога, идущая через Мёскирх к Дунаю, пролегает под огнем высокого пригорка, потом углубляется в лес и выходит на открытое место, снова под огонь с возвышений, которые тянутся от Мёскирха к Гейдорфу.
Край вооружил эту позицию сильной артиллерией. Принц Лотарингский, образуя левое крыло австрийцев, занимал Мёскирх и окружавшие его высоты; генерал Науендорф, образуя центр, развернулся над Гейдорфом, имея позади себя гренадерский резерв. Полковник Вреде составлял правое крыло императорской армии и расположился у Крумбаха.
Моро почти так же мало ждал сражения при Мёскирхе, как перед тем при Энгене. Догадываясь, однако, о возможном сопротивлении в Мёскирхе, он предупредил Ле-курба, который должен был следовать по описанной нами большой дороге, что тут его может ожидать опасность, но не дал ему четкого приказания сосредоточиться, что следовало бы сделать в ожидании неминуемого большого сражения.
Лекурб, согласно данному приказу, тронулся с самого утра. Поравнявшись с Крумбахом, он оставил эту высоту левее и прошел по ущелью. Тогда перед ним предстала открытая равнина, в глубине которой находился Мёскирх, окруженный со всех сторон высотами с австрийской артиллерией.
Как только показались передовые отряды французов, орудия австрийцев осыпали их ядрами и картечью. Громимая двадцатью пятью орудиями, французская кавалерия вынуждена была отступить. Большая часть из пятнадцати орудий были сбиты, даже легкая пехота была вынуждена укрыться в лесу. Австрийская конница в свою очередь совершила нападение, но была отбита.
Между тем Лекурб решился атаковать Гейдорф с тыла и двинулся левым флангом вдоль опушки леса. Но вторая попытка подступить к Мёскирху с левой стороны оказалась такой же неудачной, как и первая.
Ободренные неудачами французов, австрийцы решились действовать наступательно, выйти из деревни Гейдорф и атаковать дивизию Лоржа. Но это был слишком дерзкий замысел. Тридцатая легкая полубригада строится в колонну и выступает вперед. Восемь орудий покрывают ее картечью, но она идет с удивительным хладнокровием и штыками прокладывает себе дорогу в Гейдорф. Высоты за деревней покрыты лесом, в котором стоят тесные ряды австрийской пехоты. Превосходящие силы напали на храбрую полубригаду; подавленная численностью, она уступает. Но другая полубригада поспевает к ней на помощь, присоединяется к ней, и обе полубригады опять идут в атаку. Вся дивизия поспешно подходит, огибает деревню, взбирается на грозные высоты и овладевает лесом, из которого неприятель посылал на французов смертоносный огонь.
В то время как эта страшная битва завязывается на левом фланге, на правом наконец выходит к Мёскирху Вандам. Он искусно распределяет свою дивизию в атаке, несмотря на убийственный огонь австрийской пехоты из Мёскирха. Храбрый отряд идет в атаку и врывается в Мёскирх, между тем как два батальона обходят позицию по высотам.
Монришар, до сих пор запертый в лесу, пользуется этим прорывом и выходит на открытую равнину. Он четырьмя колоннами выступает против артиллерии австрийцев, уже несколько смущенных этими соединенными атаками с разных сторон. Колонны подходят, перебираются через овраг у подошвы холмов и взбираются на Мёскирхскую высоту в ту самую минуту, когда отряд Вандама, вторгшийся в Мёскирх, выходит из него с противоположной стороны.
Австрийцы, теснимые со всех сторон, обращены в бегство. Французы овладели всей линией от Мёскирха до Гейдорфа. Но Край, с замечательной верностью взгляда, заметил слабый пункт их позиции. Он тотчас отряжает против левого крыла французов часть своих сил к Крум-баху, откуда может угрожать им с фланга и тыла.
Дивизия Лоржа, занимавшая Гейдорф, подверглась опасности быть уничтоженной. Весь австрийский гренадерский резерв бросился на эту несчастную дивизию, изнемогавшую после неоднократного взятия, потери и возвращения Гейдорфа. Ее в одно и то же время губили огонь австрийской артиллерии и масса австрийской пехоты.
К счастью, Моро, извещенный сильной пальбой, ускорил марш своих частей. Наконец и он поспевает к месту событий и немедленно отправляет дивизию Дельма к Гей-дорфу, на помощь Лоржу. Этот храбрый отряд изменяет ход дела, опрокидывает австрийских гренадеров и снова овладевает Гейдорфом и лежащим над ним лесом.
Но и к Краю также подоспело подкрепление. Он быстро подтянул на поле битвы свое правое крыло и направил его во фланг дивизии Дельма, грозя окружить ее. Часть дивизии тотчас уходит влево.
Пятьдесят седьмая полубригада, снискавшая в Италии название «Грозной», строится в боевом порядке. Слишком часто борется она с превосходящими силами австрийцев, под огнем шестнадцати орудий, которым генерал Дельма мог противопоставить только пять, да и те были скоро сбиты. Мужественный отряд непоколебимо стоит под этим страшным огнем и успевает остановить неприятеля. Моро переходит от корпуса к корпусу, размещает и подкрепляет их. Он подоспел в то самое время, когда австрийцы, не успев опрокинуть дивизию Дельма, старались лишить ее помощи.
Таким образом, сражение, начавшееся в Мёскирхе, растянулось до Гейдорфа, а из Гейдорфа — до Крумбаха, и охватило всю эту обширную позицию, покрывая ее огнем, кровью и обломками.
К счастью, дивизия Ришпанса, вовремя выведенная в опасное место, построилась в колонны, под сильным огнем, направленным сверху, забралась на Крумбахскую высоту и окружила эрцгерцога Фердинанда, который сам надеялся окружить французское войско. После этого усилия Краю уже некого было посылать против Ришпанса, и он вынужден был дать отбой.
От Крумбаха до Гейдорфа и от Гейдорфа до Мёскир-ха французы на всех пунктах остались победителями.
В продолжение этих действий корпус Сен-Сира стоял в нескольких милях, в Нойхаузене-об-Эк. Какая же роковая причина удерживала его без пользы на таком расстоянии от места, где он мог бы решить участь войны? Это очень трудно объяснить. Сен-Сир после рассказывал, что ему не было дано никаких указаний. Моро отвечал, что посылал к нему несколько адъютантов. Сен-Сир возражал, что был так близко от поля битвы, что, если бы к нему отравили хоть одного офицера, он непременно подоспел бы на помощь. Приверженцы Моро отвечали, что Сен-Сир плохой сотоварищ и хотел дать неприятелю средство подавить своих сторонников.
Сен-Сир, ссылаясь на близость битвы, сам себя обвинил: на таком близком расстоянии ему было непростительно не прийти хоть с одной дивизией на место, где страшная пальба давала повод предполагать жестокую битву и большую опасность. Впрочем, он скоро огромными заслугами загладил порицание, которое навлек на себя.
И французы, и австрийцы были крайне утомлены после этого дела. Среди беспорядка сражения никогда нельзя в точности выяснить число убитых и раненых. В данном случае и тех и других было очень много. Во французской армии легло примерно 3000 человек, а в австрийской — почти вдвое больше. Но французская армия была воодушевлена надеждой; за ней осталось поле сражения. Напротив, австрийская армия, крайне расстроенная, была уже не в состоянии долго продолжать такую борьбу.
Из нашего описания сражения каждый легко поймет, в чем действия Моро заслуживали упрека. Он пошел на поле битвы, не сделав предварительно рекогносцировки; он направил на главный пункт недостаточные силы, сам тронулся слишком поздно; спрятал все свои дивизии в лес, из которого нельзя было выбраться без значительной потери людей; наконец, не вывел Сен-Сира на место, где присутствие его могло бы все решить.
Край, со своей стороны, действовал очень хорошо, направлял главное свое усилие на слабый пункт французской армии, на ее левый фланг, но, на беду, позволил отнять у себя Мёскирх. Впрочем, в оправдание его должно заметить, что войска его далеко не равнялись французским в отношении сметливости и твердости.
На следующий день, 6 мая, Край поспешил переправиться за Дунай. Французам следовало идти за ним и преградить ему переправу или по крайней мере затруднить ее. Моро двигался, растянувшись в линию и опираясь левым крылом на Дунай. Это крыло составлял Сен-Сир. Не приняв участия в сражении накануне, он теперь видел возможность действия и желал действовать. На его глазах императорские войска с какой-то торопливостью собирались к Зигмарингену, спеша переправиться на противоположный берег. Сен-Сир мог различать, с расстояния не более пушечного выстрела, австрийскую армию, зажатую на отрезке местности, едва достаточном для одной дивизии. Австрийцы так были поражены появлением французов, что при виде одной только бригады Нея остановили переправу, построились в боевой порядок и прикрылись огнем шестидесяти орудий. Видя смятение противника, Сен-Сир был уверен, что одной атакой опрокинет его в Дунай. Он выдвинул несколько орудий, которые каждым выстрелом косили целые ряды, но, разумеется, не могли долго устоять против шестидесяти орудий Края.
Сен-Сир надеялся пушечной пальбой привлечь внимание Моро и побудить его перейти из резервного корпуса на левый фланг. Однако видя, что тот не появляется, послал к нему офицера с рапортом о положении неприятеля, прося позволения атаковать его. В главном штабе думали, что Сен-Сир хочет уклониться влево только затем, чтобы еще более отделиться и действовать самостоятельно, и отвечали приказанием держать правее, чтобы связаться более тесно, чем он обычно делал, с резервным корпусом, составлявшим центр армии. Смысл этого приказания довольно ясно выказывал неудовольствие главнокомандующего и окружавших его лиц.
Таким образом, Край мог безопасно уйти и собрать свою армию на другом берегу Дуная.
Армия Моро нашла в Штокахе и Донау-Эшингене огромные магазины; она ни в чем не имела недостатка; ее поддерживали беспрестанные успехи и постоянное наступательное движение. Седьмого и восьмого мая Моро продолжал свой марш, опираясь левым флангом на Дунай. А 9-го, узнав, что Сент-Сюзанн, шедший левым берегом Дуная, поравнялся с ним, Моро на один день оставил главную квартиру и переправился за Дунай для обозрения вновь прибывших войск. По всей вероятности, Край, желая дать отдых своей армии, собирался остаться за Дунаем, и французам можно было 9 мая сделать еще один переход без встречи с неприятелем.
Но мнение австрийского военного совета, считавшего необходимым спасти огромные магазины в Биберахе и не отдавать их французам, побудило Края решиться на новое и неожиданное движение. Он со всей армией переправился обратно на правый берег Дуная и встал впереди и позади Бибераха. Это местечко лежит в долине, орошаемой Риссой. Долина так болотиста, что нельзя безопасно проехать по ней верхом, и через Биберах нужно проходить по мосту. В долину попадают через ущелье, через Рисское болото проходят по мосту, прилегающему к городу, а за мостом открывается превосходная позиция, гора Меттенберг, на которой может очень долго держаться артиллерия.
Край не думал вставать перед ущельем, потому что в случае неудачи ему пришлось бы отступать по узкой дороге; он мог встать только позади Бибераха, на самом Меттенберге. Но невозможно было оставить и Биберах совершенно открытым. Поэтому, поместив главную часть армии на меттенбергской позиции, он поставил восемь или десять батальонов и с дюжину эскадронов перед ущельем, чтобы тем замедлить наступление французов и успеть очистить или истребить большую часть магазинов.
План был опасен, особенно с армией, упавшей духом. Сен-Сир, которому приказано было сделать привал на ночь за Биберахом, скоро открыл позицию, которую заняли австрийцы. Он был в отчаянии, что при нем не было главнокомандующего или по крайней мере начальника главного штаба, чтобы дать надлежащие приказания и воспользоваться встречей. Моро отсутствовал; генерала Дессоля также не могли найти.
Если бы Сен-Сир имел под рукой все свое войско, он бы не колебался и попробовал провести атаку с одним своим корпусом; но, к несчастью, силы его были по большей части разбросаны. Он послал несколько офицеров отыскивать Нея, но тот шел вдоль извилин реки, по непроходимым дорогам, и потому не так легко было его найти.
Уныние неприятеля сильно искушало Сен-Сира, но он еще колебался, видя неравенство сил, когда послышались выстрелы корпуса Ришпанса, который в это время подходил к тому же пункту по перекрестной дороге. Имея в своем распоряжении превосходную дивизию Ришпанса, Сен-Сир больше не колебался. Не теряя времени на дальнейшее распределение своих войск, он быстро двинул бывшие у него под рукой восемнадцать батальонов и двадцать четыре эскадрона на десять тысяч австрийцев, заграждавших вход в ущелье.
Австрийцы, опрокинутые этим стремительным натиском, в беспорядке бросились в Биберах и долину Риссы. Легко было взять их всех в плен, но Сен-Сир не позволил их преследовать, опасаясь, что нельзя будет потом собрать солдат для главного дела. Он удовольствовался тем, что вошел в Биберах, утвердился в нем и обеспечил сохранность магазинов.
Усиленный дивизией Ришпанса, Сен-Сир перешел по Биберахскому мосту через Риссу и стал сам осматривать неприятельскую позицию. В это время отряд, так стремительно опрокинутый в Риссу, взбирался между рядами австрийской армии, расступившейся, чтобы дать ему дорогу. По виду ее легко было догадаться, до какой степени армия была смущена.
Сен-Сир послал несколько застрельщиков, которые стали дразнить неприятеля, но никто не появлялся, чтобы сбросить их в овраг. Стрелкам отвечали лишь общими залпами, как обыкновенно бывает, когда испуганный отряд старается ободрить себя шумом.
На поле сражения Сен-Сир был одним из первых тактиков Франции. Видя, в каком состоянии находится австрийская армия, он решился действовать немедленно. Построил дивизии Тарро и Барагэ в две колонны, образовал третью колонну из дивизии Ришпанса, а кавалерию расставил уступами по флангам. Развернув таким образом свои силы, он разом двинул все колонны.
При виде этих войск, с таким спокойствием взбирающихся на укрепленную позицию, с которой втрое превышающая их в численности армия могла бы скинуть их в рисские топи, австрийцы были поражены удивлением и ужасом. Край приказал отступить, войска исполнили этот маневр не так, как он желал: после нескольких выстрелов они отдали Меттенберг и затем побежали в беспорядке, оставив Сен-Сиру несколько тысяч пленных и огромные магазины. Ночь остановила преследование.
Между тем приехал Моро и, несмотря на свое нерасположение к Сен-Сиру, в присутствии военного министра Карно торжественно выразил генералу свое удовольствие.
Французы остались полными победителями. Австрийцы уже не могли остановить их; следовало идти только вперед.
Одиннадцатого и двенадцатого мая Край решительно отступал на Ульм, а Моро по-прежнему шел, растянувшись в длинную линию, почти перпендикулярно Дунаю. Тринадцатого мая он был уже за Иллером, при переправе через который не встретил сильного сопротивления.
Сен-Сир встал у слияния Иллера с Дунаем, на обоих берегах Иллера, заняв Кирхбергский мост и поддерживая связь с Сент-Сюзанном, следовавшим по левому берегу Дуная.
К этому времени к обеим армиям присоединились все их отдельные корпуса. Обе армии понесли значительные утраты, но урон австрийцев далеко превосходил потери французов; общую убыль считали до 30 тысяч человек пленными, убитыми и ранеными.
История в этом отношении должна довольствоваться одними догадками, потому что в день сражения полководец всегда скрывает потери, а когда просит пособия от своего правительства, преувеличивает число умерших, раненых и больных. Поэтому никогда нельзя с точностью знать численность войск, действительно находящихся под ружьем. Край, насчитывавший при открытии похода 110 или 115 тысяч человек в действующей армии и 35 или 40 тысяч в крепостях, теперь должен был иметь не более 80 тысяч, и те были изнурены и лишены бодрости.
Потери французской армии насчитывали четыре тысячи убитыми, шесть или семь — ранеными, некоторое количество больных и пленных, всего — от двенадцати до тринадцати тысяч человек, выбывших из строя, из которых четыре или пять тысяч после непродолжительного отдыха должны были вернуться в армию.
Но Моро предстояло скоро, согласно договору, заключенному в начале похода с Бертье, отделить от своего войска сильный отряд. Предполагалось, что, как только Край будет отброшен от Боденского озера на восемь или на десять переходов, Лекурбу следовало вернуться к Альпам и присоединиться к Резервной армии. Опасное положение Массена требовало исполнения этого условия, и у Моро забирали корпус Лекурба не из пустого желания остановить его среди успехов, но с самой справедливой целью — для спасения Генуи и Лигурии.
В Резервной армии, собранной с таким трудом, было не более 40 тысяч человек, привыкших к войне; ей необходимо было подкрепление, чтобы приступить за Альпами к секретному делу, для которого она предназначалась.
Первому консулу хотелось поскорее начать военные действия в Италии. Стараясь не раздражать Моро, но в то же время желая обеспечить исполнение своих приказаний, он отправил Карно в главную квартиру Рейнской армии с решительным повелением отрядить Лекурба к перевалу Сен-Готард. К приказу прилагалось полное искренней приязни письмо к Моро. Оно заключало в себе неопровержимые доказательства необходимости этого требования. Первый консул очень хорошо знал, что ему пошлют не Лекурба и не 25 тысяч человек; но он готов был довольствоваться и меньшим.
Моро встретил Карно с досадой, однако в точности исполнил предписание, привезенное ему министром. Карно, как верный слуга отечества, рассеял тучи, которые могли бы образоваться в этом колеблющемся уме, легко поддающемся подозрениям. Он укрепил в нем доверие к Бонапарту, которое низкие сплетники старались разрушить.
У Моро оставалось около 72 тысяч человек, к которым скоро должно было еще присоединиться пополнение из госпиталей. Этого было вполне достаточно для разгрома восьмидесятитысячной армии австрийцев. Чтобы не уменьшить своей армии в глазах неприятеля, Моро оставил ее в прежнем составе, а 16 тысяч человек, предназначенных для Первого консула, выделил из всех существующих корпусов. Каждый корпус поставил только малую часть, и этим уменьшение сил было мастерски замаскировано.
Моро хотелось удержать Лекурба, он один стоил многих тысяч войска. Лекурба оставили, а начальство над отрядом было вверено храброму генералу Лоржу. Тотчас же по выступлении корпуса Карно отправился в Париж.
Это происходило И, 12 и 13 мая.
Край встал в Ульме, где для императорской армии уже давно был приготовлен укрепленный лагерь. Из двух систем обороны, одна из которых состояла в том, чтобы идти вдоль подошвы Альп, прикрываясь всеми реками, впадающими в Дунай, а другая — в том, чтобы занять оба берега Дуная и действовать по его течению, военный совет избрал первую, и Край в точности ей следовал.
Ульм лежал у подошвы высот левого берега, на самом Дунае. Стены города были восстановлены, на противоположном берегу построено мостовое укрепление, а все высоты за Ульмом уставлены батареями.
Если бы французы подступили с правого берега, позиция австрийской армии, опиравшейся одним флангом на Ульм, а другим — на высокий Эльхингенский монастырь и покрывавшей ядрами правый берег, была бы решительно неприступна. Но и в случае, если бы французы подступили с левого берега, австрийская армия оказывалась на такой же крепкой позиции. Австрийцы могли просто повернуться к Дунаю тылом и прикрыться рекой Блау. Для обхода этой позиции французам понадобилось бы сделать несколько переходов на левом берегу и совсем оставить правый, что было невозможно, ибо открывало путь на Альпы. Таков был лагерь, в котором войска Края на некоторое время нашли приют.
Сен-Сир расположился в Виблингенском монастыре, из окон которого можно было ясно разглядеть позицию австрийцев. Полагаясь на смелость французов, он и некоторые другие генералы предлагали атаковать неприятельский лагерь и овладеть им. Они отвечали за успех головами, и если нельзя было положиться на смелость некоторых из них, например, Нея или Ришпанса, то Сен-Сир, как глубокий тактик и человек хладнокровный, с основательным, методическим умом, заслуживал полного доверия.
Но Моро был слишком осторожен, чтобы отважиться на такое дело и предоставить Краю возможность выиграть оборонительное сражение. В случае неудачной атаки французам пришлось бы отступать; результат всей германской кампании был бы поставлен под сомнение, и что всего хуже — решительная кампания в Италии сделалась бы невозможной.
Моро действовал на войне не блестящим образом, но верно. Он дал храбрецам, обещавшим опрокинуть австрийцев, возможность рассуждать сколько им угодно, но в попытке штурмовать лагерь отказал наотрез.
Оставалось маневрировать. Моро решил совершить маневр, которого требовали обстоятельства: идти к Аугсбургу, то есть оставить Дунай, перейти через впадающие в него реки, направиться в сердце империи и, таким образом, уничтожить все оборонительные линии австрийцев. Этот маневр, если бы его исполнили решительно, непременно отвлек бы Края от Дуная, вывел бы его из лагеря и заставил идти вслед за французами.
Действие это было смелым, но не открывало Альп, ибо приводило Моро к самой их подошве. Однако следовало проявить решительность: или остаться перед Ульмом, или тотчас же идти на Аугсбург и Мюнхен. Одна демонстрация не могла обмануть Края, а только подвергала опасности корпуса, оставленные близ Ульма для наблюдения. Моро тут совершил ошибку, которая могла бы иметь весьма серьезные последствия. Три дня, 13, 14 и 15 мая, он переходил Иллер. Странной расстановкой сил, позицией, растянутой на двадцать миль и с одной стороны касавшейся Ульма, а с другой — грозившей Аугсбургу, он никак не мог обмануть Края по поводу опасности своего движения на Мюнхен, а должен был только внушить ему мысль броситься всеми силами на корпус Сент-Сюзанна, оставленный на левом берегу Дуная. Если бы Край покусился на такую меру и употребил на это все свои силы, Сент-Сюзанн несомненно бы погиб.
Утром 16 мая Сен-Сир приводил в исполнение данные ему накануне приказания, как вдруг Сент-Сюзанна атаковал сильный отряд неприятельской кавалерии.
Сражение началось тем, что туча всадников окружила со всех сторон французские колонны. В то врнмя как многочисленные эскадроны налетали на французов, сильные отряды пехоты, маршируя вверх по Дунаю, готовились к более решительной атаке. Одна колонна пехоты и конницы пошла к Эрбаху, чтобы атаковать и окружить две бригады Леграна, другая двинулась к Папелау — отрезать Леграна от дивизии генерала Суама.
Легран велел своей дивизии отступить. Войско совершило это отступление с замечательной твердостью и спокойствием. Солдаты дрались за каждую пядь земли; отступление продолжалось около двух часов; отряд беспрестанно останавливался, строился в каре и сильным огнем отбрасывал преследовавшую его конницу.
Дивизия Суама, атакованная с обоих флангов, вынуждена была последовать примеру Леграна.
Дивизия Леграна подвергалась опасности более всех, потому что стояла у самого Дуная. Неприятель хотел смять ее и отрезать ей всякое сообщение с противоположным берегом, откуда могло подоспеть к ней подкрепление. Две бригады, составлявшие ее, храбро защищались, как вдруг, в то самое время, когда пехота уже отступала, а легкая артиллерия клала орудия на передки, собираясь также отступить, неприятельская кавалерия, возобновив атаку, неожиданно напала на несчастную дивизию. Храбрый адъютант Левассер, под которым в одной из атак убили лошадь, схватил чьего-то коня, помчался за кавалерийским полком, удалявшимся с поля сражения, возвратил его, повел на неприятельскую конницу, вдесятеро более сильную, и остановил ее. Артиллерия успела увезти орудия, занять позицию немного дальше и в свою очередь прикрыть спасшую ее кавалерию.
Между тем Сент-Сюзанн подоспел на помощь дивизии Леграна, и таким образом сражение было возобновлено; но возникало опасение, что на корпус Сент-Сюзанна бросится вся австрийская армия. К счастью, Сен-Сир, стоявший на другом берегу Дуная, на этот раз не позволил своему товарищу проиграть, в чем его не раз обвиняли, а поспешил к нему на выручку. Слыша пальбу на левом берегу Дуная, он отправлял адъютанта за адъютантом, приказывая дивизиям возвратиться с Иллера на Дунай. Сам он стоял на Иллере и, как только подходил какой-либо отряд, посылал его усиленным маршем на подмогу, предпочитая временный беспорядок потере времени. А потом наконец и сам отправился на Дунай.
Неприятель, догадываясь, что Сент-Сюзанну будут помогать, разрушил все мосты на Дунае до самого Ди-шингена. Видя, что Сен-Сир старается отыскать брод или восстановить мост, Край расставил часть своих войск вдоль левого берега, чтобы встретить войска, сходившиеся на правом берегу. Более того, он открыл сильную канонаду, на которую Сен-Сир поспешил ответить тем же.
Эта пушечная перестрелка с одного берега на другой заставила австрийцев, вышедших из Ульма, обеспокоиться насчет своего отступления. Они попятились назад, освободили Сент-Сюзанна и внушили живейшую радость и новое мужество несчастным французам, которые уже двенадцать часов выдерживали отчаянный бой. Солдаты просили у Сент-Сюзанна позволения снова идти вперед; он согласился. Тогда все дивизии тронулись разом, австрийцы вынуждены были отступить под ульмские пушки. Но, перебегая поле, возвращение которого так их обрадовало только что, французы обнаружили, что оно усеяно ранеными и трупами их товарищей. Впрочем, урон австрийцев был столь же велик, как и французский. Пятнадцать тысяч французов боролись с тридцатью шестью тысячами австрийцев. Край все время оставался на поле битвы.
Если бы не храбрость войска, не твердость и талант полководцев, ошибка Моро могла бы стоить французам всего их левого крыла. Моро немедленно приехал на место и, будто по случайному внушению, решил перевести всю армию на левый берег. Восемнадцатого мая вся армия сделала шаг влево. На следующий день движение это стало еще яснее. Сент-Сюзанн обогнул Ульм, Сен-Сир стоял на обоих берегах Блау, резервный полк перешел Дунай, а Лекурб готовился к переправе.
Казалось, все предвещало штурм укрепленного лагеря австрийцев на Ульме. Край стоял тылом к Дунаю и защищал заднюю сторону ульмской позиции.
Моро, проведя подробную рекогносцировку, обманул ожидания своих корпусных генералов, которые в этом движении влево видели смелую попытку нападения на австрийский лагерь, чего сами желали, почитая успех несомненным. Сен-Сир стал опять настаивать на атаке, но тщетно. Моро решился отступить вдоль реки Блау, не смея пуститься в обход неприятельской позиции, чтобы не открыть Швейцарию. Он приказал всей армии опять переправиться на правый берег. Двадцатого мая и в последующие дни армия отступала, к крайней досаде генералов и солдат, надеявшихся на штурм, и к удивлению австрийцев, которые боялись атаки.
Эти обманные маневры имели тот важный недостаток, что возвратили бодрость австрийским войскам, не уронив, впрочем, духа французских солдат, который трудно было поколебать, до того они были уверены в своем превосходстве.
Моро боялся открыть дорогу на Альпы, поэтому вздумал демонстрацией похода на Аугсбург снова обмануть австрийцев, уверив их, будто оставляет Ульм и решительно идет к Баварии, а может быть, и к Австрии.
Двадцать второго мая вся французская армия уже была за Дунаем, Лекурб с правым крылом угрожал Аугсбургу, а Сент-Сюзанн встал неподалеку от Дуная, возглавив левое крыло.
Край не поддался обманному маневру и оставался в Ульме. Вообще надо сказать, что это оказалось лучшее его дело и более всего продемонстрировало его твердость и рассудительность.
С этой поры Моро оставался в умышленном бездействии. Он поправил и улучшил расположение своей армии, переменил фронт и, обратившись к Дунаю, построил войска параллельно реке, но на значительном от нее расстоянии, опираясь левым флангом на Иллер, а правым — на Гунц; арьергард занимал Аугсбург. В этом положении французская армия представляла собой довольно плотную массу и не боялась отдельной битвы на одном из флангов, разве что подвергаясь опасности большого сражения, чего в рядах ее все пламенно желали.
В этой позиции Моро намерен был ждать результатов кампании, которую Первый консул в это время вел за Альпами. На беспрестанные просьбы генералов выйти из бездействия он упорно отвечал, что неблагоразумно было бы двигаться далее, не зная, что делается в Италии; когда генерал Бонапарт преуспеет в той части театра войны, тогда можно будет предпринять решительные действия и против Края; а вот в случае неудачи французской армии в Италии успехи в Баварии поставят ее в очень затруднительное положение.
Предприятие Бонапарта, тайна которого была Моро известна, казалось ему чем-то необыкновенным и несбыточным, и потому неудивительно, что он боялся за него и не решался идти вперед, пока не уверится в участи Резервной армии.
В результате принятия такого решения Моро часто спорил с некоторыми из генералов, в особенности с Сен-Сиром. Последний жаловался на бездействие, а более всего — на пристрастное отношение в раздаче провианта для разных корпусов армии. Его корпус, говорил он, часто нуждается в хлебе, между тем как корпус главнокомандующего, стоящий с ним рядом, живет в изобилии. В итоге Сен-Сир попросил увольнения под предлогом слабости здоровья, и армия лишилась в его лице самого искусного генерала. Впрочем, Сен-Сир был человеком, которому следовало командовать самому, а не повиноваться. Генерал Сент-Сюзанн также уволился из армии вследствие таких же разногласий. Его послали на Рейн формировать войско, предназначенное для прикрытия тыла Германской армии и для противодействия силам барона Альбини.
Место Сен-Сира занял генерал Гренье, место Сент-Сюзанна — Ришпанс. Моро, имея достаточные запасы продовольствия, укрепился на своей новой позиции и решился ждать. Он написал Первому консулу следующее письмо, превосходно выражающее его положение и намерения:
«Бабенхаузен, 27 мая 1800 года.
Гражданин Консул! С нетерпением ждем известий о ваших успехах. Мы здесь действуем ощупью: Край старается удержаться в Ульме, а я норовлю сманить его с позиций...
Перенести войну на левый берег Дуная было бы опасно, особенно для вас.
Если Край вздумает меня атаковать, я отступлю к Ме-мингену, притяну к себе генерала Лекурба, и мы станем биться. Если он пойдет на Аугсбург, я пойду туда же; он тогда, по крайней мере, оставит ульмскую позицию, а там мы увидим, что можно сделать для вашего прикрытия.
Нам было бы выгоднее воевать на левом берегу Дуная и брать контрибуции с Вюртемберга и с Франконии; но это будет невыгодно для вас, потому что неприятель может в таком случае предоставить нам возможность разорять имперских князей, а между тем послать войско в Италию.
Прошу вас, известите меня о себе и скажите, что я могу для вас сделать.
Примите уверения в моей преданности.
Моро».
Прошел месяц, а Моро все еще не достиг быстрых и решительных результатов, которые разом завершают удачную кампанию. Тем не менее он исполнил главное условие плана, удачно переправился через Рейн, дал австрийской армии два больших сражения и, несмотря на недостаточное сосредоточение сил, твердостью и умением одержал верх в обоих. Наконец, несмотря на свои робкие действия перед Ульмом, он успел запереть австрийцев, отрезав им путь в Баварию и Тироль, и сам, стоя на крепкой позиции, мог спокойно ожидать успеха военных действий в Италии.
В этих действиях виден если не творческий гений, составляющий непременное качество великого полководца, то по крайней мере основательный, спокойный ум, исправляющий своей твердостью ошибки не слишком обширного интеллекта и не слишком решительного характера. Словом, мы видим в Моро отличного полководца, каких можно пожелать всякому народу и каких в то время не было в Европе.
МАРЕНГО
Май — июль 1800 года
Первый консул ожидал успехов Рейнской армии, чтобы наконец спуститься в итальянские долины, потому что до того он не мог потребовать у Моро отдельной части войска, да и Край не был совершенно отрезан от Меласа, а значит, нельзя было ничего предпринять у него в тылу.
Итак, удостоверившись в успехе Моро, Бонапарт решился тотчас же выехать из Парижа и принять на себя руководство Резервной армией. И действительно, медлить далее было невозможно, потому что Массена в Генуе был доведен до последней крайности.
Мы оставили его в борьбе со всеми силами австрийцев, с армией хоть и истощенной усталостью, но, несмотря на превосходящие силы неприятеля, заставляющей его ежедневно нести значительные потери. Солдаты его были истощены до такой степени, что едва могли держать оружие.
Тринадцатого мая этот энергичный военачальник по совету своих генералов и почти против собственной воли согласился на операцию, последствия которой оказались самыми несчастливыми. Цель этой операции состояла в том, чтобы овладеть Монте-Крето, весьма важной позицией, которую, разумеется, было выгодно отнять у австрийцев, потому что они тогда были бы вынуждены отойти далеко от Генуи; но, к несчастью, предвиделось очень мало надежды на успех.
Хотя Массена был вполне уверен в своей армии, которая ежедневно совершала неимоверные подвиги, но боялся, что она будет не в состоянии овладеть позицией, которую неприятель станет защищать всеми силами. Он предпочел бы совершить экспедицию вдоль морского берега, к Портофино, и овладеть большим транспортом
с припасами, который там в это время находился. Но, против своего обыкновения, он согласился с мнением генералов и 13 мая рано утром выступил на Монте-Крето.
Сначала битва разыгрывалась блистательно, но, к несчастью, страшная гроза, которая продолжалась несколько часов, истощила силы французских войск. Неприятель сосредоточил в этом пункте многочисленные отряды и оттеснил умиравших от голода и усталости французских солдат в долины.
Генерал Сульт объединил вокруг себя третью полу-бригаду и мужественно повел ее против неприятеля еще раз. Может быть, он и успел бы, если бы ядро, раздробив ему ногу, не положило его на поле битвы. Солдаты хотели его спасти, но не успели, и этот генерал, который был правой рукой Массена во время всей осады, остался в руках неприятеля.
Армия возвратилась назад в унынии, однако привела с собой пленников. В то время, пока шло сражение, женщины внутри города устроили бунт. Побуждаемые голодом, они бегали по улицам с колокольчиками, требуя хлеба. Их разогнали, но с тех пор французский военачальник должен был почти исключительно заниматься тем, чтобы прокормить население Генуи, которое, впрочем, испытывало к нему самую искреннюю привязанность.
Сначала он достал хлеба на две недели, потом еще на столько же. Наконец, судно с грузом хлеба, пришедшее в Геную совершенно неожиданно, предоставило возможность кормиться еще пять дней. Всего этого запаса хватило на месяц с лишком, от 5 апреля, когда началась блокада Генуи, и до 10 мая.
Видя, что запасы истощаются, Массена уменьшил порции, отпускаемые ежедневно жителям и армии. Недостаток хлеба возмещали травяным супом и небольшим количеством говядины, остававшейся еще в городе. Богатые жители находили выход из положения: они на вес золота покупали припасы, укрытые от бдительных поисков полиции и потому не попавшие на общие склады. Массена должен был заботиться только о бедных, для которых голод становился ощутимым. Он наложил на класс зажиточных людей контрибуцию в пользу бедняков и таким образом привязал последних к французской партии. Впрочем, большинство генуэзского населения, боясь австрийцев и защищаемого ими образа правления, решилось всеми силами поддерживать французского генерала. Народ, пораженный твердостью его характера, удивлялся ему и выказывал полное повиновение. Но партия олигархов, возбуждая нескольких голодных несчастливцев, причиняла ему всевозможные беспокойства. Массена, чтоб удержать бунтовщиков в повиновении, расположил часть своих батальонов бивуаками на главных площадях города и приказал всегда находиться при орудиях с зажженными фитилями.
Но запас хлеба подходил к концу, говядина также заканчивалась. К 20 мая не должно было остаться ничего, пригодного к употреблению в пищу.
Итак, необходимо было освободить Геную к 20 мая. Адъютант Массена Франчески, которому поручено было известить обо всем правительство, с ловкостью и отвагой пробрался сквозь лагеря австрийцев и представил Бонапарту печальную картину положения Генуи.
Первый консул принял все меры, чтобы дать Резервной армии возможность перейти Альпы. Для этого он послал Карно в Германию с формальным приказанием от консулов отправить назад отряд, предназначенный для перехода через Сен-Готард. Сам он работал день и ночь, переписывался с Бертье, который формировал пехотные и кавалерийские дивизии, с Гассенди и Мармоном, которые обновляли артиллерию, и с Мареско, который производил рекогносцировку по всей альпийской линии. Бонапарт побуждал всех к деятельности с теми увлечением и жаром, с какими он потом будет заставлять французов носиться от берегов По к берегам Иордана, а от Иордана — к Дунаю и Днепру.
Сам он хотел оставить Париж только в последнюю минуту, не желая упускать из виду гражданское управление Францией и стараясь оставить как можно меньше простора заговорщикам и их интригам.
Между тем дивизии, вышедшие из Вандеи, Бретани, Парижа и с берегов Роны, проходили по землям республики, а передовые колонны уже показывались у границ
Швейцарии. В Дижоне по-прежнему оставались новобранцы, депо и волонтеры, посланные в этот город, чтобы укрепить Европу во мнении, будто дижонская армия — чистая басня, придуманная, чтобы напугать барона Меласа. До сих пор все шло как нельзя лучше: австрийцы оставались в полном заблуждении. Благодаря раздельности корпусов движение войска к Швейцарии было незаметным; корпуса эти считали подкреплением, посланным Германской армии.
Наконец все было готово. Бонапарт сделал последние распоряжения. Сенат, Трибунат и Законодательный корпус прислали к нему депутации с изъявлением желания народа, чтобы он возвратился скоро, победителем и миротворцем. Первый консул отвечал с умышленной торжественностью: ответ его должен был доказать, что путешествие, возвещенное с такой пышностью, было, подобно мифу о Резервной армии, не чем иным, как военной хитростью. Консулу Камбасересу он поручил председательствовать вместо себя в Государственном совете, консул Лебрен должен был заниматься финансами. Бонапарт сказал каждому из них: «Будьте тверды, если что-нибудь случится, не смущайтесь. Я, как молния, явлюсь для наказания дерзких, которые вздумали бы посягнуть на правительство». Затем он поручил своим братьям, которые были с ним связаны выгодами личного характера, извещать его обо всем и тотчас подать знак, если присутствие его сделается необходимым.
В то время как он возвещал в печати о своем отъезде, консулы и министры должны были, напротив, открывать разносчикам вестей большую тайну о том, что Первый консул оставляет Париж только на несколько дней, единственно затем, чтобы устроить смотр армии, выступающей в поход.
Бонапарт отправлялся, полный надежды и уверенности в успехе. Войско его состояло из рекрутов, но включало, кроме того, в еще большем числе опытных бойцов, привыкших побеждать, под командованием офицеров, выросших в его школе.
Согласно последним известиям, барон Мелас продолжал углубляться в Лигурию, направляя одну часть своих войск против Генуи, а другую — к департаменту Вар. Не сомневаясь более в успехе своего предприятия, Первый консул в своем пылком воображении уже видел точку, где он встретит и уничтожит австрийскую армию. За день до отъезда, наклонясь над картами и делая на них разноцветные пометки, чтобы означить позиции французских и австрийских отрядов, он сказал при своем секретаре, который слушал его с удивлением и любопытством: «Бедный Мелас пойдет на Турин, отступит к Алессандрии... Я перейду По, настигну его по дороге к Пьяченце и разобью его вот тут...» — И говоря это, он поставил пометку на Сан-Джулиано. Мы скоро увидим, как точен был этот необыкновенный дар предвидения.
Бонапарт выехал из Парижа 6 мая еще до рассвета, взяв с собой адъютанта Дюрока и секретаря Бурьена. Прибыв в Дижон, он осмотрел депо и сделал смотр рекрутам, которые там были собраны без амуниции, необходимой армии, готовой выступить в поход. После этого смотра он отправился в Лозанну, где все принимало серьезный оборот, где нужно было образумить легковерных, но оказалось слишком поздно для того, чтоб они могли еще дать венскому кабинету полезные советы.
Тринадцатого мая генерал Бонапарт начал совещания с офицерами, которые явились к нему с отчетом о том, что сделали, и для получения последних его приказаний. С величайшим нетерпением ожидал он генерала Марес-ко, которому была поручена рекогносцировка Альп. Сравнив все горные перевалы, этот инженер отдавал преимущество Сен-Бернару, но почитал переход через него чрезвычайно трудной операцией.
— Трудная! Пусть так! — воскликнул Бонапарт. — Однако она возможна?
— Полагаю, что возможна, — отвечал Мареско, — но только при чрезвычайных усилиях.
— Так идем! — оборвал его Первый консул.
В случае перехода через Сен-Бернар нужно было только пройти незначительное пространство от Вильнёва до Марти-ньи, то есть от оконечности Женевского озера до подошвы ущелья. Сен-Бернар спускался в долину реки Аосты между двух дорог, Туринской и Миланской, в направлении, весьма удобном для обхода неприятеля. Хотя этот проход был труднее и даже опаснее, он заслуживал предпочтения по причине краткости пути.
Итак, Первый консул решился провести основную массу войска через Сен-Бернар. Он взял с собой весь цвет Резервной армии, около сорока тысяч человек, тридцать пять — пехоты и артиллерии и пять тысяч конницы. Но, желая отвлечь внимание австрийцев, он решил отправить другими переходами несколько отрядов, которые не успели присоединиться к главной армии.
Таким образом, французская армия должна была перейти Альпы четырьмя проходами, через Сен-Готард, Большой и Малый Сен-Бернары и через Мон-Сени. Основная армия в сорок тысяч человек, действуя в середине этого полукружья, была уверена, что к ней присоединятся пятнадцать тысяч германского войска, а также отряд генерала Шабрана, что должно было смутить неприятеля, который, при виде всех этих корпусов, не будет знать, на какой пункт направить свое сопротивление.
Выбрав пункты перехода, надлежало заняться самой операцией, состоявшей в том, чтобы переправить шестьдесят тысяч человек, со всеми их обозами, на ту сторону Альп, без проторенных дорог, через скалы, ледники и в самое опасное время года, во время таяния снегов.
Даже и без того очень трудно везти с собой артиллерийский парк, потому что при каждом орудии находится несколько повозок, а при шестидесяти пушках надо было тащить за собой до трехсот повозок; кроме того, нельзя было найти никакого продовольствия на этих высотах. Надлежало везти с собой хлеб для людей и фураж для лошадей.
От Женевы до Вильнёва все шло гладко благодаря скорому и удобному преодолению восемнадцати миль по озеру Леман. Но от Вильнёва до Ивре следовало пройти уже сорок пять миль, из них десять — по скалам и ледникам большой горной цепи. Дороги от Вильнёва до Сен-Пьерре были удобны для экипажей, но дальше начинались горные тропы, покрытые снегами, с пропастями по краям, шириной не более чем в два или три фута, подверженные, в период дневной жары, стремительным ударам срывающихся глыб снега. Надлежало пройти около десяти миль по этим тропам, чтобы достичь деревни Сен-Реми, расположенной в долине Аосты, по ту сторону Сен-Бернара. Здесь опять начиналась проезжая дорога, которая вела на Пьемонтскую равнину.
Бонапарта предупреждали о возможной опасности только в одной точке всего пути: это был городок Бард. По рассказам итальянских офицеров, там находилась крепость, которая, впрочем, по-видимому, не могла служить серьезным препятствием.
Вот распоряжения, которые Первый консул сделал для переправы обозов и тяжестей и которые были выполнены под надзором генералов Мареско, Мармона и Гассенди.
По Женевскому озеру в Вильнёв были отправлены огромные запасы крупы, сухарей, овса. Генерал Бонапарт, зная, что выносливых альпийских горцев можно будет побудить к содействию с помощью денег, отправил в разные пункты значительные суммы звонкой монетой. Таким образом привлекли в Вильнёв все повозки, всех мулов и множество крестьян со всех окрестностей. С ними отправили к подножию ущелья хлеб, сухари, фураж, вино и коньяк. Туда же пригнали огромное количество скота. Привезли и артиллерию с пороховыми и зарядными ящиками.
Отряд артиллерийских работников, отправленный к подножию ущелья, должен был снимать орудия с лафетов, которые разбирали и нумеровали для перевоза на мулах. Сами пушки были положены на катки, изготовленные в Оксоне. Для снарядов пехоты и артиллерии были сделаны небольшие ящики, удобные для перевоза на мулах.
Другой отряд рабочих, с походными кузницами, должен был вместе с транспортом перейти гору и остановиться в Сен-Реми, у проторенной дороги, чтобы привести в порядок повозки и опять поставить пушки на лафеты. Труд предстоял непомерный.
К армии была присоединена также рота понтонеров для наведения понтонных мостов из материалов, какие удастся добыть в Италии.
Сверх того, Первый консул решил привлечь к делу монахов странноприимного монастыря, находящегося на Большом Сен-Бернаре. Всем было известно, что набожные отшельники этой обители, существующей уже несколько столетий, живут в полном уединении, выше обитаемой земли, и помогают путешественникам, которых застигает гроза или засыпают снега. Первый консул отправил им деньги, чтобы они могли собрать у себя побольше хлеба, сыра и вина.
У подножия горы Сен-Пьерре, на выходе из ущелья, был поставлен госпиталь; другой устроили по ту сторону гор, в Сен-Реми.
Все распоряжения были сделаны; начали подходить войска; Бонапарт, обосновавшись на квартирах в Лозанне, делал войскам смотры, говорил с солдатами, воодушевлял их огнем, согревавшим его самого, и готовил к бессмертному подвигу, которому суждено было занять почетное место в истории. Он приказал совершить два инспекторских смотра, один в Лозанне, другой в Виль-нёве. Там осматривали каждого пехотинца, каждого кавалериста, при помощи наскоро устроенных в этих городах магазинов солдат снабжали башмаками, одеждой, оружием — всем, чего у них недоставало.
Эта предосторожность была очень полезна, потому что, несмотря на все свои заботы, Первый консул замечал, что старые солдаты часто ходят в изношенных мундирах и с оружием, негодным к употреблению. Он был этим крайне недоволен и приказал тотчас исправлять упущения, которые происходили от нерадения или злоупотребления военных комиссионеров — зла, до некоторой степени неизбежного почти всегда.
Он простер свою предусмотрительность до того, что даже приказал устроить у входа в ущелье шорные мастерские для починки артиллерийской упряжи. Первый консул писал об этом, по-видимому, маловажном предмете собственноручные письма, и мы приводим этот пример в поучение полководцам и правителям, которым поручается жизнь людей и которые иногда, из лености или из тщеславия, пренебрегают такими мелочами.
Чтобы избежать тесноты, все дивизии были разделены на эшелоны, начиная от горы Юрб и до подошвы
Сен-Бернара. Первый консул поселился в Мартиньи, в бенедиктинском монастыре, откуда мог свободно всем распоряжаться и не переставать сноситься с Парижем и остальными армиями Республики.
Получив сведения из Лигурии, Бонапарт узнал, что Мелас все еще находится под влиянием своей обманчивой уверенности и употребляет все средства на овладение Генуей и мостом через Вар. Успокоившись насчет этого важного обстоятельства, Первый консул отдал приказ начать переход. Сам он остался по эту сторону Сен-Бернара, чтобы как можно дольше поддерживать связь с правительством и лично начать переправу всей армии. Бертье, напротив, должен был по ту сторону хребта принимать дивизии и орудия, которые будут к нему пересланы.
Ланн первый, во главе авангарда, отправился в путь в ночь с 14-го на 15 мая. Он командовал шестью отлично вооруженными отборными полками. Под началом этого энергичного, иногда даже непокорного, но всегда искусного и храброго вождя солдаты весело пустились в опасный поход. Полки тронулись с места между полуночью и вторым часом, чтобы предупредить время, когда солнце, растопив снега, могло обрушить на головы отважных путников целые горы льдин. Чтоб достигнуть вершины, самого монастыря, надо было потратить восемь часов, и только два часа, чтобы спуститься оттуда в Сен-Реми. Стало быть, можно было успеть совершить переход до наступления самого опасного времени дня.
Солдаты мужественно преодолевали все трудности пути. Они были очень обременены, потому что их заставили взять с собой запас сухарей на несколько дней и огромное количество патронов. Взбираясь по крутым тропинкам, они распевали среди пропастей песни, мечтая о завоевании Италии, где уже раз вкусили плоды победы, и предчувствуя бессмертную славу, которая их ожидала.
Пехотинцам было легче, чем конным. Последние шли пешком, ведя лошадей в поводу. Восходить таким образом на гору было неопасно, но при спуске они были вынуждены, из-за слишком узкого пространства, идти впереди лошадей и, если лошадь оступится, рисковали слететь вместе с ней в пропасть. Такие случаи действительно происходили, но их было немного: погибло несколько лошадей, однако люди все уцелели.
К утру прибыли в монастырь. Здесь сюрприз, приготовленный Первым консулом, оживил силы и развеселил храбрых воинов. Монахи, вдоволь запасшиеся всеми необходимыми припасами, расставили столы и каждому солдату поднесли по порции хлеба, сыра и вина. После краткого отдыха опять двинулись вперед и счастливо спустились в Сен-Реми. Ланн тотчас же разбил лагерь и сделал все нужные распоряжения для принятия остальных дивизий и в особенности военных снарядов.
Каждый день должна была переходить одна из дивизий. Стало быть, операция должна была продолжаться несколько дней.
Сначала отправили съестные припасы и снаряды. При этой переправе больших затруднений не возникло: весь этот груз можно было разделить и в небольших ящиках навьючить на мулов. Затруднение состояло только в недостатке средств для перевозки, ибо, несмотря на то, что деньги сыпали горстями, так и не смогли добыть достаточного количества мулов для переправы всех тяжестей на ту сторону Сен-Бернара.
Наконец принялись и за артиллерию. Лафеты и зарядные ящики навьючили на мулов. Оставались сами пушки, тяжести которых нельзя было уменьшить раздроблением. Катки, изготовленные в арсеналах, оказались непригодными. Придумали новое средство, которое тотчас же испытали и которое удалось: оно состояло в том, что стволы пихт раскалывали пополам, выдалбливали изнутри, обкладывали орудие двумя или тремя половинками ствола и таким образом на веревках тащили их через овраги. При такой осторожности перемещения никакой толчок не мог их повредить. К орудиям впрягали мулов, которые втаскивали тяжесть до вершины. Но спуск был гораздо труднее: здесь надо было действовать руками, что было сопряжено с большой опасностью; спуская орудие, надлежало его придерживать, чтобы оно не скатилось в пропасть.
К несчастью, сказался недостаток в мулах. Погонщики мулов, которых требовалось большое количество, выбились из сил. Тогда начали придумывать другие средства. Окрестным селянам было предложено до тысячи франков с орудия, чтобы перетащить его из Сен-Пьерре в Сен-Реми. Для этого требовалось до ста человек на каждую пушку, день на то, чтобы поднять ее на высоту, и день на спуск.
Явилось несколько сотен крестьян, которые действительно, под руководством артиллеристов, перетащили несколько пушек. Но скоро даже приманка корысти не могла принудить крестьян опять приняться за дело. Они все исчезли, и, хотя за ними посылали офицеров с предложениями безмерной платы, не явился ни один. Оставалось просить солдат, чтобы они сами тащили свою артиллерию. От этих ревностных вояк можно было ожидать всего. Чтобы поощрить их, им предложили ту же плату, какую давали истощенным селянам, но они ее отвергли, говоря: долг чести требует, чтобы войско спасло свои орудия. И с жаром принялись за оставленные пушки.
Их тащили по сто человек, попеременно выходя из рядов. В трудных местах небольшой оркестр играл воодушевляющие песни, и музыка поддерживала солдат в этих новых трудностях. Достигнув вершины горы, они находили там пищу и вино, приготовленные отшельниками обители, отдыхали несколько минут и потом опять принимались за подготовку гораздо более трудного и опасного спуска.
Таким образом, дивизии Шамберлака и Монье сами перетащили свою артиллерию. Не успев спуститься в тот же день, они предпочли лучше разбить бивуаки среди снегов, чем разлучиться со своими орудиями. По счастью, небо было ясно, и непогода не увеличивала и без того немалых затруднений.
Вплоть до 19 мая дивизии продолжали свой поход, перевозя съестные припасы, снаряды и артиллерию.
Первый консул, предусмотрительность которого никогда не ослабевала, решился тотчас же направить к перевалу генерала Данна, который объединил уже свой отряд и имел несколько исправных орудий. Бонапарт приказал ему идти на Ивре и овладеть городом, чтобы, таким образом, обеспечить выход на Пьемонтскую равнину.
Семнадцатого мая Ланн подошел к Аосте, где встретил хорватов и оттеснил их в глубину долины; потом он повернул к замку Шатильон, куда и прибыл 18-го числа. Неприятельский батальон, который тут находился, был опрокинут, причем было взято много пленных. Потом Ланн стал углубляться в долину, которая заметно расширялась и представляла глазам обрадованных солдат жилища, деревья, обработанные поля, словом, все признаки итальянского процветания.
Солдаты весело шли вперед, как вдруг долина, снова сузившись, явилась перед ними в виде тесного ущелья, защищенного крепостью с грозным рядом пушек. Это была крепость Бард, на которую уже прежде указывали итальянские офицеры как на препятствие, но, впрочем, как на препятствие преодолимое. Армейские инженеры, находившиеся в авангарде, тотчас осмотрели укрепления и объявили, что крепость решительно запирает выход из долины и выбраться можно не иначе, как уничтожив эту преграду, которая с первого взгляда казалась неприступной. Это известие произвело на дивизию самое неприятное впечатление.
Ланн, не любивший остановок, тотчас отрядил несколько гренадерских рот, которые сорвали подъемные мосты и ворвались в Бард, несмотря на сильный огонь. Комендант крепости обрушил на несчастное поселение град пуль и артиллерийских снарядов, но наконец, из сочувствия к жителям, прекратил стрельбу.
Дивизия Ланна стояла вне стен города. Было ясно, что нельзя провезти орудия под огнем крепости, которым была охвачена дорога во всех направлениях. Ланн тотчас рапортовал об этом Бертье, который прибыл немедленно и с ужасом увидел, как трудно преодолеть это совершенно неожиданное препятствие. Потребовали генерала Мареско. Тот осмотрел крепость и объявил, что взять ее невозможно, причем не по причине ее конструкции, которая была совсем не блестящей, но из-за ее убийственного расположения. Крутизна скалы делала приступ невозможным; что же касается стен, в них никак нельзя было пробить бреши, потому что некуда было поставить батарею, огонь которой до них бы добрался. Впрочем, представлялась возможность внести несколько орудий мелкого калибра на соседние высоты просто на руках.
Сообразуясь с этими данными, Бертье отдал нужные приказания. Солдаты, привыкшие к самым отважным предприятиям, принялись за работу и понесли вверх две четырехфунтовые пушки и два восьмифунтовика. Их действительно удалось водрузить на гору Альбаредо, которая господствует над скалой и крепостью.
Продолжительный огонь в направлении сверху вниз на некоторое время озадачил гарнизон крепости. Несмотря на это, комендант не терял бодрости, отвечал и сбил одно из французских орудий, слишком мелкого калибра.
Мареско объявил, что нет никакой надежды взять крепость и надо думать о другой возможности преодолеть препятствие. Вдоль изгибов горы Альбаредо провели новую рекогносцировку и слева наконец нашли тропинку, которая, предполагая много опасностей, тем не менее сбегала в долину, на большую дорогу, расположенную ниже крепости.
Эта тропинка хоть и пролегала по горе не очень высокой, но была столь же труднодоступной, как и Сен-Бернар, по ней ходили одни только пастухи. Не стоило во второй раз проводить такую же операцию и снова проходить ущельем, снимая и опять снаряжая артиллерию и перетаскивая ее с такими же усилиями: солдаты могли окончательно обессилеть, да и сами орудия, столько раз разобранные и прилаженные, сделались бы негодными к употреблению.
Встревоженный Бертье тотчас приказал остановить людей и обозы, чтобы не утруждать понапрасну армию, если ей суждено вернуться назад. Мгновенно его тревога передалась до последних рядов, и все уже думали, что славное предприятие может не удаться. Бертье отправил к Первому консулу нескольких курьеров, чтобы известить его об этом неожиданном препятствии.
Бонапарт все еще находился в Мартиньи и не хотел переходить через Сен-Бернар, пока не переправит последние орудия. Известие о непреодолимом препятствии даже немного испугало его, но вскоре он ободрился и решительно не хотел слышать о возвращении. Ничто на свете не могло побудить его к такой крайности. Он думал, что если его не остановила одна из величайших гор Земного шара, то ничтожная и малозначимая скала не победит его мужество и гений. Крепость, думал он, можно взять отвагой; а если не взять, то обойти. Лишь бы только пехота и конница пробрались с несколькими четырехфунтовыми пушками; они дойдут до Ивре и у входа в долину подождут, пока к ним присоединится тяжелая артиллерия. А если тяжелая артиллерия не в состоянии будет преодолеть препятствие, так можно ее бросить и захватить неприятельскую: французская пехота достаточно многочисленна и отважна, чтобы броситься на австрийцев и отнять у них пушки.
Впрочем, Бонапарт снова принялся изучать свои карты, расспрашивать итальянских офицеров и, узнав у них, что есть другие дороги, которые также прилегают к долине Аосты, стал отправлять Бертье письмо за письмом, запрещая ему останавливать движение войск. Он с удивительной точностью указывал в этих письмах, где именно около Барда надо делать рекогносцировку, а признавая опасность только в появлении неприятельского корпуса, который вздумал бы запереть выход на Ивре, он предписал Бертье отправить туда Ланна и приказать ему занять выгодную позицию, которая защищала бы от австрийской артиллерии и конницы.
«Когда Ланн уже сторожит врата долины, — прибавлял Первый консул, — что бы ни случилось, это будет несущественно, вся беда в этом случае состоит только в потере времени. Продовольствия у нас довольно, надо ожидать еще больше; стало быть, мы всегда возьмем свое: или обойдем, или уничтожим препятствие, которое нас теперь останавливает».
Отдав эти приказания Бертье, он наконец и сам решился переправиться через горы. Перед отъездом с Вара было получено известие о том, что 14 мая барон Мелас все еще находился в Ницце. Поскольку это было уже 20 мая, представлялось маловероятным, чтобы австрийский полководец в шесть дней успел добраться из Ниццы до Ивре. Итак, Первый консул отправился в путь через ущелье 20 мая, рано утром. С ним были адъютант Дю-рок и секретарь Бурьен.
Живописцы часто изображали Бонапарта переезжающим через альпийские снега на ретивом скакуне; но в действительности он въехал на Сен-Бернар на муле, одетый в серый сюртук, который носил всегда; его сопровождал обыкновенный проводник, житель горного селения. В опасных местах Бонапарт оставался рассеянным, как человек, мысли которого заняты совсем другим. Он вступал в разговоры с офицерами, попадающимися ему по дороге, и по временам, подобно праздному путешественнику, которому нечего больше делать, расспрашивал своего проводника, заставляя его рассказывать о своей жизни.
Когда Первый консул добрался до монастыря, усердные монахи приняли его со всем радушием. Едва сойдя с мула, он написал записку, которую отдал своему проводнику, приказав доставить ее непременно начальнику армии, оставшемуся по ту сторону Сен-Бернара. Вечером молодой человек, возвратясь в Сен-Пьерре, с изумлением услышал, какого важного путешественника провожал утром, и узнал, что генерал Бонапарт приказал дать ему поле, хижину и, наконец, средства для женитьбы, таким образом осуществив все мечты его скромного честолюбия.
Этот горец умер совсем недавно, на своей родине, счастливо владея тем, что подарил ему властитель мира. Такой акт благотворительности в минуту столь важных событий достоин особенного внимания. Даже если это была просто прихоть завоевателя, разбрасывающего наудачу добро и зло, с одинаковой легкостью ниспровергающего царства и возводящего хижины, такие прихоти не мешает приводить на память хотя бы в назидание владыкам мира; но поступок этот показывает еще и другое. Душа человеческая в минуты пламенных желаний расположена к благу: она творит добро и смотрит на него как на средство заслужить то, чего просит у Провидения.
Первый консул пробыл у монахов несколько минут, поблагодарил их за попечения об армии и оставил большое вознаграждение — для вспомоществования бедным и путешественникам. Затем Бонапарт совершил быстрый спуск, скользя прямо по снегу, и к вечеру прибыл в Этрубль.
На следующее утро, отдав несколько распоряжений касательно артиллерийского парка и съестных припасов, он отправился в Аосту и к крепости Бард. Убедившись лично, что все, о чем ему доносили, совершенно справедливо, он решился провести пехоту, конницу и четырехфунтовые орудия по той самой тропинке через Аль-баредо, что легко стало бы возможным, если хорошенько отремонтировать дорогу. Нужно было предпринять попытку захвата крепости или отыскать средства миновать ее, переправив артиллерию через какое-нибудь соседнее ущелье.
Французы завладели единственной улицей, составляющей город в крепости, но пройти по ней могли только под таким сильным дождем ядер, что невозможно было и думать провезти артиллерийские снаряды, хотя идти было совсем недалеко. От коменданта потребовали сдачи, но он отвечал с твердостью, как человек, вполне понимающий всю важность вверенного ему поста. А значит, только силой можно было пробить себе дорогу. Пушки, поставленные на горе Альбаредо, не производили большого действия. Попробовали взять приступом первую стену крепости; но несколько отважных гренадеров были только понапрасну изранены и убиты.
В это время войска проходили по тропинке Альбаредо. Тысяча пятьсот человек, где было нужно, наскоро поправили дорогу. Армия проходила гуськом; кавалеристы вели за поводья лошадей. Австрийский комендант крепости был в отчаянии, видя, как французские колонны проходят мимо, и чувствуя, что не может остановить их. Он известил о происходящем Меласа и поклялся, что французам не удастся переправить ни одной пушки.
В это время французская артиллерия пустилась на одну чрезвычайно отважную авантюру; пользуясь темнотой ночи, она хотела провезти орудие под выстрелами крепости. К несчастью, неприятель, пробужденный шумом, выбросил несколько зажигательных снарядов, которые вполне осветили дорогу, и вслед за тем засыпал ее ядрами. Из тринадцати канониров, которые отважились провезти орудие, семеро было убито или ранено. Это могло обескуражить и самых отважных солдат, но они придумали новую хитрость, хотя тоже чрезвычайно опасную.
Улицу покрыли соломой и навозом, орудия обложили паклей и выпрягли, и добрые артиллеристы повезли их на себе вдоль по улице, под самыми батареями крепости. Эта уловка им удалась. Неприятель, который стрелял по временам из предосторожности, поразил нескольких канониров; но скоро, несмотря на стрельбу, вся тяжелая артиллерия была вывезена, и страшное препятствие, которое озаботило Первого консула гораздо более, чем трудный переход через Сен-Бернар, было преодолено.
Пока совершалась эта смелая операция, Ланн во главе своей пехоты продвигался вперед. Двадцать второго мая он приступом взял город Ивре.
Там находилось от пяти до шести тысяч австрийцев, Ланн многих забрал в плен, остальных вытеснил из долины и занял выход на Пьемонтскую равнину на всех пунктах, указанных Первым консулом. Через несколько дней город Ивре, защищенный австрийцами, перестал быть препятствием, но сделался, напротив, предметом особых забот. В нем нашли орудия и съестные припасы; его начали вооружать и снабжать продовольствием, чтобы в случае неудачи обратить в опорный пункт отступающей армии.
Ланн с авангардом вышел из долины Аосты 26 мая. Австрийскому генералу Хаддику поручили запереть выход из Альп, который был прикрыт маленькой речкой с мостом. Ланн быстро пошел к мосту. Внезапный и хорошо направленный батарейный огонь встретил французские батальоны пехоты, но не остановил их.
Три раза возобновлялась атака, и все три раза неприятельские эскадроны были отражены штыками. Австрийский генерал, видя невозможность противостоять авангарду французов, велел ударить отбой и, потеряв множество людей ранеными и убитыми, очистил Пьемонтскую равнину и отступил за Орко.
Ланн продолжал свой поход и 28 мая направился к местечку Кивассо, к берегу реки По. Австрийцы, пораженные этим неожиданным маневром, поспешили очистить Турин. Барки, груженные хлебом, рисом, снарядами и ранеными, были отправлены по течению реки, но
Ланн перехватил весь этот транспорт. Так довольствие, приготовленное австрийцами для их армии, сделалось достоянием французских войск.
Прошло всего тринадцать дней, и колоссальное предприятие Первого консула завершилось. Армия в 40 тысяч человек, состоящая из пехоты, конницы и артиллерии, перешла без проторенных дорог через высочайшие горы в Европе, перетащила на себе все свои орудия по глубоким снегам и провезла их под убийственным огнем крепости. И этот чрезвычайный переход не был безумной выходкой полководца, который, желая окружить неприятеля, сам подвергается опасности быть окруженным. Теперь, владея долиной Аосты, Симплоном и Сен-Готар-дом, Бонапарт был уверен, что, проиграв битву, сможет возвратиться к точке, из которой вышел.
Не имея больше причин действовать скрытно, он сам приехал в Кивассо, обратился с речью к воинам, поблагодарил их за твердость и предсказал великие последствия их подвига, который уже предвидел. Он показывался не только своим солдатам, но и итальянцам и австрийцам, чтобы напугать одним своим присутствием неприятеля, которого доселе убаюкивал в глубоком неведении.
Но что же в это время делал Мелас?
Постоянно убеждаемый венским кабинетом и своими собственными агентами в мифичности существования Резервной армии, барон Мелас продолжал осаду Генуи и атаки на мост Вара. Известие, которое он получил в середине мая, заставило его несколько озаботиться насчет своего тыла, но вскоре он успокоился и опять начал думать, что собранные в Дижоне войска должны спуститься по Саоне и Роне для соединения с корпусом генерала Сюше на Варе. Вместо того чтобы отрядить войско в Пьемонт, он соединил все свои силы перед мостом, поставив во главе армии генерала Эльсница. Точные донесения генерала Вукасовича о том, что французские колонны устремляются в долины изо всех альпийских ущелий, вырвали его наконец из мечтательного состояния, но не разуверили вполне. С десятитысячным отрядом Мелас пошел обратно к городу Кони, и 22 мая прибыл туда.
До сих пор австрийский военачальник думал, что французские войска, показавшиеся из ущелья, — это не что иное, как горсть рекрутов, которых использовали для ложной демонстрации в тылу, чтобы отвлечь его от осады Генуи. Он еще и не подозревал, что тут сам Бонапарт, во главе огромной армии. Но скоро и это последнее заблуждение исчезло. Один из его офицеров, хорошо знавший генерала в лицо, был отправлен в Ки-вассо, увидел собственными глазами победителя при Риволи и Кастильоне и известил о том главнокомандующего, который тогда только постиг весь объем угрожавшей ему опасности, ибо знал, что Первый консул не принял бы начальства над рекрутами. Почтенный старец, имевший неоспоримые заслуги в предшествовавшей кампании, предался жестокой грусти. С каждым днем беспокойство его возрастало; скоро узнал он, что передовые отряды генерала Монсея уже спускаются с Сен-Готарда.
И действительно, барон находился в необыкновенно трудном положении. Из 120 тысяч человек по крайней мере 25 тысяч находились под Генуей и перед Варом. Остальные его силы были разбросаны еще больше; что он мог сделать, находясь в Турине всего с 10 тысячами солдат? Бонапарт мог внезапно броситься на все эти разрозненные войска, разбить их одно за другим и совершенно уничтожить. Может быть, и была еще возможность принять спасительные меры, только их следовало тотчас же придумать и привести в исполнение. Но австрийский полководец несколько дней оправлялся от испуга, потом терял время, стараясь угадать намерения противника, придумывал планы и не решался на жертвы, сопряженные с необходимостью сосредоточить все силы.
Пока он раздумывал, Бонапарт с обычной своей быстротой и решимостью определил, что ему следовало предпринять. Французы были так же разбросаны, как и австрийцы. Надо было их соединить, потом отрезать пути отступления Меласу и, наконец, выручить Массена, который дошел уже до последней крайности.
Спустившись с Сен-Бернара, генерал Бонапарт имел по правую руку Мон-Сени и Турин, по левую — Сен-Го-тард и Милан, а в пятидесяти милях перед собой — Геную и генерала Массена. На что решиться? После некоторого размышления оставалось только одно средство: уклониться влево, к Сен-Готарду и Милану, и соединиться с пятнадцатью тысячами генерала Монсея. Таким образом, вся армия сливалась в 60 тысяч человек; можно было занять столицу Верхней Италии, побудить жителей к восстанию в тылу австрийцев, захватить все их магазины и овладеть линией реки По и всеми ее мостами; наконец, действуя на обоих берегах, можно было остановить барона Меласа, по какой бы дороге он ни вздумал уйти.
Правда, следуя этому плану, можно было помочь генералу Массена не ранее чем через восемь или десять дней, что было весьма прискорбно. Но Бонапарт полагал, что одного его присутствия в Италии достаточно, чтобы освободить Лигурийскую армию, поскольку барон Мелас поторопится подтянуть к себе все корпуса, которые осаждали Геную.
Приняв решение, Первый консул с величайшей скоростью сделал нужные распоряжения и направил всю свою армию по левому берегу По. Намерением его было вновь обмануть Меласа, и он преуспел в этом, как и в первый раз. Видя передвижения генерала Бонапарта, барон Мелас тешил себя до последней минуты надеждой, полагая, что французы могли сойти с Альп только в весьма малом количестве и Бонапарт намерен переправиться через По и идти к Турину, чтобы около Мон-Сени соединиться с генералом Тюро. В этом случае Мелас думал отрезать все мосты и, с тридцатью тысячами, воспротивиться его переправе. Первый консул не старался разрушить новое заблуждение своего противника и, оставив его у Турина, вдруг повернул к Милану. Вся армия последовала этому общему движению на Милан. Тридцать первого мая прибыли к реке Тичино. Река эта широка и глубока, У французов не было барок для переправы, а по ту сторону открывалась многочисленная кавалерия Вукасовича, которая сторожила Симплон. Неприятельская кавалерия, стесненная на весьма узкой полосе земли, была чрезвычайно затруднена в своих движениях и не могла развернуть силы как следует.
Первого июня вся армия двинулась к Милану. Вука-сович, боясь попасть между главной армией, которая входила в Ломбардию, и корпусом Монсея, который спускался с Сен-Готарда, поспешно отступил за Алду, оставив в миланском замке гарнизон в 2800 человек.
Теперь никакое препятствие не останавливало французскую армию, и она могла вступить в столицу Ломбардии, которая уже около года страдала под игом австрийцев. До сих пор несчастным итальянцам рассказывали только об успехах Меласа и о неудачах французов. Карикатуры на Резервную армию были распространены в Милане так же, как в Вене и Лондоне. В то же время все сколько-нибудь влиятельные, богатые и просвещенные жители Ломбардии томились в темницах или в изгнании, а несчастный народ испытывал самое жестокое угнетение. Поэтому, за исключением нескольких прислужников австрийского правительства и немногочисленных дворян, преданных партии олигархов, все итальянцы желали возвращения французов. Но никто не смел надеяться на это возвращение, особенно видя, как далеко барон Мелас проник в Лигурию. В народе даже распространили слух, что генерал Бонапарт, столь известный в Италии, умер в Египте и что тот, имя которого гремит теперь в Париже, — один из его братьев.
Можно себе представить изумление итальянцев, когда им вдруг сказали, что французская армия показалась в Ивре, прошла по берегам Тичино и переправилась через эту реку. Весь Милан пришел в волнение; в продолжение двух суток ничего не было известно точно: одни подтверждали, другие отрицали. Но когда известие это подтвердилось личным появлением генерала Бонапарта, который сам вел авангард, радости людей не было предела.
Второго июня весь народ ринулся навстречу французской армии, встретил знаменитого полководца изъявлениями восторга и принял как избавителя, ниспосланного Небом. Чувства итальянцев, и без того всегда живописные и выразительные, никогда еще не выказывались с такой силой, потому что никогда не соединялось столько обстоятельств, способных внезапно и глубоко потрясти радостью душу народа.
Вступив в Милан, Бонапарт поспешил отпереть темницы и вручить управление краем приверженцам Франции.
Затем он составил для Цизальпинской республики временную администрацию из самых уважаемых людей. А после первых забот о Миланской области Первый консул поспешил разослать свои колонны по всем направлениям, стараясь всюду распространить восстание в пользу французов, завладеть неприятельскими магазинами, отрезать врагам все пути к отступлению и лишить их связи.
До сих пор дела шли как нельзя лучше. Ланн 1 июня вошел в Павию и захватил огромные магазины. Он нашел в городе австрийские госпитали, большие запасы хлеба, фуража, снарядов, оружия, триста пушек, и из них половину — полевых. Дивизия Шабрана, которая была оставлена перед крепостью Бард, первого же июня овладела ею и нашла там восемнадцать орудий. Таким образом, армия Ланна занимала теперь все пространство до Павии.
Отныне ничто не останавливало генерала Монсея, кроме трудностей с продовольствием в бесплодных долинах Верхней Швейцарии. Первые его колонны уже спустились, но несколько дней следовало ждать остальных, что составляло большое неудобство, потому что надо было торопиться, если хотели спасти Геную.
Бонапарт был теперь уверен, что соединит все свои колонны. Французская армия окончательно утвердилась в Миланской области, использовала австрийские запасы и готовилась вступить с австрийцами в решительную битву.
Сдача Генуи, если бы она произошла, могла сделаться весьма неприятным обстоятельством, во-первых, для храброго войска, которое защищало Геную, во-вторых, потому, что осаждавший ее корпус подкрепил бы барона Меласа и затруднил генеральное сражение, которым должна была кончиться кампания. Но если бы Бонапарт одержал победу, — Генуя и Италия были бы завоеваны одним ударом. Тем не менее присоединения корпуса Монсея нельзя было ожидать ранее 5-го или 6 июня, а до той поры Генуя продержаться не могла.
Барон Мелас, которого последние известия совершенно разочаровали, видя, что противник занял Милан, наконец осознал обширный план, который против него замыслили, а в довершение несчастья узнал о неудачах, постигших генерала Края, и о его отступлении на Ульме. Тогда барон оставил наконец свою систему полумер и отдал генералу Эльсницу решительный приказ уйти с моста на Варе, а генералу Отту — снять осаду Генуи и соединиться в Алессандрии.
Этого-то генерал Бонапарт и ждал для спасения Генуи. Но, очевидно, было предопределено свыше, чтобы благородная и несчастная Лигурийская армия до конца заплатила кровью и страданиями и претерпела прискорбную сдачу — для торжества Резервной армии.
Массена выдержал характер до последней минуты. «Прежде чем сдаться, — говорили солдаты, — он даст нам съесть свои сапоги!» Говядину прикончили, стали есть конину; жалкий хлеб, изготовленный из овса и бобов, также был съеден весь. С 23 мая Массена, собрав крахмал, льняное семя и какао, еще сохранившиеся в генуэзских магазинах, приказал из всего этого готовить похлебку, которую солдаты едва могли проглотить и переваривали с большим трудом. Почти все слегли. Народ, питающийся одним травяным супом, испытывал все муки голода. Улицы были запружены несчастными, умиравшими от истощения, а женщины, совершенно изнуренные, оставляли общественному милосердию своих младенцев, не будучи в состоянии их кормить.
Еще одно зрелище приводило в ужас и город, и войско: то были многочисленные пленники, которых Массена нечем было кормить. Он не хотел их отпускать под честное слово, с тех пор как заметил, что многие, отпущенные таким образом, снова появлялись в рядах неприятеля. Он предлагал австрийским генералам поставлять продовольствие, необходимое для ежедневного питания пленных, и давал честное слово, что из этих запасов ни крохи не будет выделено гарнизону. На честное слово такого человека можно было положиться, но ожесточение оказалось так велико, что заботу о пропитании пленных предоставили Массена, хотя бы несчастным пришлось переносить самые жестокие страдания. Неприятельские генералы решились варварски осудить своих солдат на ужасные муки голода, чтобы таким образом увеличить бедствия Генуи, оставив ей несколько тысяч лишних ртов.
Массена приказал давать пленным травяной суп, который отпускали и жителям города. Этого было недостаточно для сильных, здоровых солдат, которые за время богатых итальянских походов привыкли к изобилию; они ежедневно готовы были взбунтоваться. Чтобы они не помышляли о бунте, Массена приказал содержать их в старых остовах кораблей, поставленных посередине порта; на них была наведена сильная батарея, готовая при первом знаке грянуть смертельной картечью. Несчастные испускали страшные вопли, которые глубоко потрясали даже народ, измученный собственными страданиями.
С каждым днем число французских солдат уменьшалось. Они умирали прямо на улицах и были до того истощены, что генерал вынужден был позволить им нести караул сидя. Обескураженные генуэзцы не хотели больше нести службу в национальной гвардии, опасаясь наказания, как только австрийцы возьмут город и восстановят партию олигархов. По временам глухое негодование возвещало, что народное отчаяние готово вспыхнуть: чтобы предупредить этот взрыв, целые батальоны вынуждены были с зажженными фитилями дежурить на главных площадях города.
Массена владычествовал над народом и армией своей непоколебимой твердостью. Уважение, которое внушал к себе этот герой, разделявший с солдатами их ужасный хлеб, живший с ними под неприятельским огнем и переносивший, кроме физических страданий, и все заботы управления с неослабным мужеством, — это уважение удерживало всех в повиновении. Над отчаявшейся Генуей властвовало величие его души.
Впрочем, надежда все еще поддерживала осажденных. Несколько адъютантов Массена с огромным риском пробрались сквозь блокаду неприятеля и принесли отрадные новости. Например, они узнали, что Первый консул отправляется в поход и уже переходит через Альпы. Но с 20 мая в Генуе не получали известий. Десять или двенадцать дней, проведенных в таком положении, показались столетиями, и все с отчаянием спрашивали друг друга: «Возможно ли, чтобы генерал Бонапарт в десять дней не прошел расстояния, отделяющего Альпы от Апеннин?» Зная его, все говорили: «Или он уже победил, или побежден; если он не появляется, это значит, что он пал в своем отважном предприятии». Другие утверждали, что Бонапарт смотрит на Лигурийскую армию как на корпус, приносимый в жертву великой операции, что он желал только удержать Меласа в Апеннинах, а достигнув этого, он и не подумает больше о Генуе и будет стремиться к более великой цели. «Так что же, — говорили генуэзцы и даже французские солдаты, — нас приносят в жертву славе Франции, пусть так. Но теперь эта цель достигнута, неужели хотят, чтобы мы погибли все до единого? Пусть бы еще на поле битвы, с оружием в руках, но от голода, от болезней — этого не будет! Настала пора сдаться».
Некоторые солдаты в отчаянии переломали свои мушкеты. В то же время открыли заговор, затеянный людьми, доведенными страданием до крайности. Массена обратился к солдатам с прокламацией; он напоминал им об обязанностях воина, состоящих столько же в перенесении лишений и страданий, сколько в преодолении опасностей. Он ставил им в пример офицеров, которые ели ту же пищу и ежедневно у них на глазах падали мертвыми. Он говорил, что Первый консул идет к ним на выручку со значительной армией, что сдаться теперь означало бы потерять все плоды многомесячных усилий. «Еще несколько дней, может быть, только несколько часов, — говорил он, — и вы будете освобождены, оказав отечеству чрезвычайную услугу!»
При каждом шуме, при каждом отдаленном гуле полагали, что это грохочут пушки Бонапарта. Однажды показалось, что пальба раздалась у Бокеты, неистовая радость овладела всеми, сам Массена поспешил на вал. Тщетная надежда! То была гроза. Все снова впали в мрачное уныние.
К 4 июня оставалось на человека только по две унции отвратительного пойла, приготовленного из крахмала и какао. Надо было сдавать город, нельзя было довести несчастных людей до того, чтобы они пожирали друг друга. К тому же солдаты считали, что сделали все, что требовалось от их мужества. Массена разделял чувства своих солдат, хотя явно их не обнаруживал, но он полагал, что долг его до тех пор не будет выполнен до конца, пока он не дойдет до последней точки сопротивления. Когда последние две унции хлеба, приходившиеся на брата, были съедены, настал срок сдачи. С горечью в сердце Массена наконец решился.
Генерал Отт прислал к нему парламентера, поскольку австрийцы вынуждены были так же торопиться с окончанием дела, как и французы. Некоторые историки полагают, что предложения генерала должны были открыть Массена истину. Но, разумеется, он знал, что через пару дней к нему придут на выручку, но и этих двух дней у него уже не было. «Дайте мне, — говорил он генуэзцам, — продовольствия на два дня, даже на один, и я спасу вас от австрийского ига, спасу мою армию от горькой необходимости сдаться!»
Наконец 3 июня Массена был вынужден приступить к переговорам. Начали с мысли о капитуляции, но Массена отверг это предложение с такой решительностью, что далее о нем не смели и заикаться. Он настаивал на том, чтобы войско его могло выступить с оружием в руках, со всеми обозами, распущенными знаменами, с правом, при переходе линии осаждающих, служить и сражаться. Гарнизон пропустить соглашались, но требовали, чтобы он сам сдался в плен. Австрийцы боялись, что с таким вождем гарнизон, выйдя из Генуи направится к Савон-не, соединится там с корпусом Сюше и отважится на какое-нибудь опасное предприятие в тылу барона Мела-са. Чтобы успокоить негодование Массена, ему признались в этом лестном для него предположении. Но он не хотел о нем и слышать. Тогда потребовали, чтобы гарнизон удалился морем. На это и подобные предложения Массена отвечал угрозой, что силой пробьется сквозь австрийские линии.
Наконец согласились выпустить 8 тысяч человек, то есть всех, кто был еще способен держать в руках оружие. Оставалось 4 тысячи больных: австрийцы обязывались кормить и лечить их, а потом возвратить их французской армии.
Массена радел и за выгоду генуэзцев: он поставил непременным условием, чтобы ни одного из них не потребовали к ответу за мнения, высказанные во время французского управления Генуей, чтобы имущество и лица оставались неприкосновенными. Сверх того, Массена настаивал, чтобы жителям оставили их привычный образ правления, установленный Французской республикой. На этот пункт австрийские генералы не согласились. «Ну хорошо, — ответил им Массена, — делайте что хотите, только я вам объявляю, что через две недели я опять возвращусь в Геную». Пророческие слова, на которые австрийский генерал Сен-Жюльен отвечал с благородством и деликатностью: «Генерал, вы найдете здесь людей, которые у вас научились защищать ее!»
Последнее совещание происходило 4 июня утром. Было договорено, что конвенция об очистке Генуи (причем слова «капитуляция» тщательно избегали) будет подписана в тот же вечер. Впрочем, неприятельские офицеры поражались характеру французского генерала и осыпали его всевозможными знаками своего уважения.
Наступил вечер, а Массена по-прежнему медлил, надеясь, что еще может подоспеть избавитель. Наконец, когда нельзя было дольше медлить без нарушения данного слова, он подписал все необходимые бумаги. На следующее утро французские солдаты вышли из Генуи и получили рационы у аванпостов. Сам Массена, чтобы поскорее успеть на главную квартиру генерала Сюше, отплыл на корабле под трехцветным флагом, сопровождаемый английской канонадой.
Так закончилась эта достопамятная осада, которую французская армия ознаменовала великими доблестями и неимоверными заслугами. Она захватила в плен и уничтожила гораздо больше неприятельских сил, чем насчитывала солдат в своих рядах. Пятнадцать тысяч французов лишили возможности сражаться более восемнадцати тысяч австрийцев. В особенности они расстроили австрийскую армию в нравственном отношении, принуждая ее к непрерывным и чрезвычайным усилиям. Но не угодно ли знать, какой ценой храбрый гарнизон Генуи совершил все эти подвиги? Из пятнадцати тысяч солдат он потерял на поле боя три тысячи, четыре были ранены, и только восемь присоединились к действующей армии. Генерал Сульт остался в руках неприятеля с раздробленной ногой. Из трех дивизионных генералов один умер от заразы, другой был тяжело ранен. Из шести бригадных командиров четверо были ранены. Из семнадцати полковников одиннадцать лишены возможности продолжать кампанию или взяты в плен. Из этих цифр видно, что начальники лично поддерживали храбрую армию среди испытаний, подавая пример самоотверженности. Впрочем, и армия оказалась достойна своих командиров, и никогда еще французские солдаты не обнаруживали столько твердости и героизма.
В то время как генерал Отт соглашался на условия Массена, генерал Эльсниц, отзываемый приказами барона Меласа, наконец оставил мост на Варе. Движение австрийцев у этого пункта было очень замедленным, потому что они вынуждены были долго ждать свою тяжелую артиллерию, подвозимую морем. Несколько атак было проведено 22-го и 27 мая; последняя была истинным подвигом отчаяния со стороны генерала Эльсница, который хотел совершить все возможное, прежде чем оставить мост. Французы мужественно отразили эти атаки.
Эльсниц, видя, что на успех никакой надежды нет, начал думать об обратном пути через мосты. Сюше, быстрым и верным взглядом оценив намерения своего противника, принял все меры, чтобы затруднить ему отступление, и австрийскому генералу оставалось одно средство: по склону Апеннинских гор дойти до Онеля, а оттуда повернуть в долину Танаро. Он должен был пробираться через страшные горы с войском, и без того обескураженным этим бегством, зная, что по стопам его следует неприятель, который с радостью перешел от оборонительных действий к наступательным.
В продолжение целых пяти суток австрийцев преследовали постоянно; наконец 6 июня генерал Эльсниц прибыл в город Ормею, потеряв в этом отступлении десять тысяч человек.
Генерал Сюше, столь долго отделенный от генерала Массена, встретил его у берега, в окрестностях Савонны. Двенадцать тысяч французов, двинувшихся с Вара, соединились с восемью тысячами, выведенными из Генуи, и таким образом составили корпус в 20 тысяч человек, находящихся в прекрасной позиции для нападения на тыл Меласа. Но Массена во время отплытия был жестоко ранен и не мог сесть на лошадь; 8 тысяч человек, которых он привел, были истощены усталостью; к тому же надо сказать, что храбрые защитники Генуи тайно осуждали Первого консула: они узнали, что он торжествовал в Милане, в то время как Лигурийская армия вынуждена была сдаться.
Массена не хотелось подвергать генерала Сюше опасности, позволив ему проникнуть в Италию, не зная, что задумали оба враждующих военачальника. А потому он рекомендовал Сюше только перейти Апеннины и занять выгодную позицию перед Акви, оттуда наблюдать за австрийцами и, так сказать, повиснуть у них над головой как дамоклов меч.
Массена полагал, что храбрая Лигурийская армия, завершив достопамятную защиту Генуи таким славным образом, сделала для торжества Первого консула все, что могла. И в самом деле! Массена отдавал австрийцев, изможденных, потерявших две трети своего состава, прямо в жертву генералу Бонапарту. Из семидесяти тысяч австрийцев, перешедших Апеннины, возвратилось не более сорока тысяч, считая даже отряд, приведенный Меласом в Турин. Пятидесятитысячная армия, оставшаяся в Ломбардии, также была значительно уменьшена и чрезвычайно разбросана. Быстро объединив своих оставшихся в деле генералов, Мелас мог еще составить армию в семьдесят пять тысяч человек. Но ему нужно было оставить гарнизоны в Генуе, Савонне, Турине, Алессандрии, то есть для решительной битвы имелось не более пятидесяти с небольшим тысяч солдат.
Положение австрийского главнокомандующего оставалось затруднительным еще и потому, что трудно было найти выход из тесных пределов Пьемонта, в которые его заключил Бонапарт. И действительно, Меласу следовало переправиться через По в виду французов и, пробравшись через Ломбардию, которую они занимали, достигнуть большой дороги через Тироль или Фриуль. Затруднение было непомерным, особенно лицом к лицу с противником, который славился искусством своих маневров. Оставался один путь: к низовьям реки По, то есть следовало направиться к Пьяченце или Кремоне, чтобы выйти на дорогу к Мантуе.
Таким образом, Пьяченца стала главной точкой, которую оба противника желали занять. Для Меласа она представляла почти единственное средство избежать большого унижения, а для Бонапарта была возможностью в полной мере насладиться плодами своего дерзкого перехода через Альпы.
Вследствие этих причин Мелас назначил для сосредоточения своих войск два пункта: Алессандрию — для войск, которые находились в Верхнем Пьемонте, и Пьяченцу — для тех, кто оставался возле Генуи. Три корпуса австрийцев, соединившись в Алессандрии, должны были перейти в Пьяченцу оттуда. Маленький отряд, ранее оставленный на произвол судьбы в Тоскане, также получил инструкцию подойти туда. Итак, пока главная часть австрийской армии сосредотачивалась у Алессандрии, чтобы двинуться на Пьяченцу, ближайшим к ней корпусам было приказано тотчас же идти к этому пункту прямым путем.
Но едва ли можно было опередить генерала Бонапарта в таком важном деле. Он потратил в Милане пять или шесть дней, стараясь собрать весь корпус, переходивший Сен-Готард, — драгоценное время, потому что в этот момент пала Генуя. Но теперь, когда генерал Монсей перебрался через Сен-Готард, Первый консул не терял ни минуты. Находясь на дороге, по которой курьеры ездили из Вены в Турин к барону Меласу, а от него с депешами — в Вену, он разузнавал все замыслы австрийского правительства. Так, он прочел своеобразную депешу Тугута, в которой этот министр советовал главнокомандующему оставаться спокойным, не отвлекаться от своей цели басней о Резервной армии, поскорее овладеть Генуей и линией Вара и потом отделить корпус для армии генерала Края, которая приперта к Ульму.
Первый консул прочел также депеши Меласа, вначале полные самоуверенности, а потом обнаруживавшие видимое смущение и беспокойство. Однако вскоре приятное его занятие было прервано: 8 июня из той же самой корреспонденции он узнал, что Массена вынужден был сдать Геную. Известие это, впрочем, нисколько не изменяло общего плана кампании. Намерением Бонапарта было зайти в тыл неприятеля, окружить его и вынудить сложить оружие; если бы этот план удался, Италия и Генуя могли быть возвращены одним ударом. Главная неприятность сдачи Генуи состояла в том, что теперь войско генерала Отта освободилось.
Но в перехваченной депеше заключалось и утешение: в ней было сказано, что армия Массена не сдалась в плен. А это означало, что если, с одной стороны, могло подоспеть с Апеннин значительное австрийское войско, то, с другой, и французский корпус, на который прежде не рассчитывали, должен был последовать за австрийцами также через Апеннины.
Теперь, когда Генуя открыла свои ворота, Первый консул уже не слишком торопился встретиться с Мела-сом. Пока он соединял в Милане войска, сошедшие с разных точек Альп, и продвигал армию, переведенную им через Сен-Бернар, по течению По.
Шестого июня Ланн, собрав в Павии, на Тичино, все суда, какие мог достать, вывел их в По и велел начать переправу. Генерал Ватрен, находившийся под его командованием, первым перебрался через реку со своим отрядом. Едва поднявшись на правый берег, он вынужден был вступить в перестрелку с войсками, которые немедленно подлетели к Пьяченце из Алессандрии. Ему угрожала опасность быть сброшенным в реку, но Ватрен держался изо всех сил, пока ему не подвезли подкрепление, а затем наконец овладел берегом. Остальная часть дивизии Ватрена, переправившись через По во главе с Данном, заняла позицию немножко выше, угрожая дороге из Алессандрии в Пьяченцу.
В тот же день к Пьяченце подошел Мюрат. В этом городе находились все австрийские власти и несколько сотен человек для их защиты. При приближении опасности австрийский офицер выдвинул пушки к мосту через По и постарался держать оборону, пока подоспеют на помощь корпуса, которые стягивались уже со всех сторон.
На следующее утро, 7-го, к Пьяченце прибыл австрийский генерал О’Рейли со своей кавалерией. Однако
один он не в силах был защищать город. Австрийский комендант приказал вывести артиллерию и сорвать мост, построенный с помощью судов. Однако несколько судов остались после атаки на месте, и Мюрат смог завладеть ими и переправить бригаду Монье через По. Бригада бросилась к Пьяченце и после жаркого боя проникла в город. Генерал О’Рейли поспешил отступить, чтобы вовремя спасти артиллерийский парк, который мог попасть в руки французов. Орудия успели отправить в Тортону.
С этой минуты французы господствовали по всему течению реки По и владели двумя главными переправами, у Бельджиозо и у Пьяченцы. Вскоре они заняли и третью, Кремону.
Бонапарт управлял всеми этими операциями из Милана. Он отправил Бертье на берега По и ежедневно, часто даже ежечасно, посредством переписки указывал ему, какие распоряжения следует выполнять. Дело в том, что в этот момент французы действительно преграждали австрийцам дорогу через По. Но если бы теперь они, для встречи с Меласом, перешли реку, оставив, таким образом, Милан и ослабив Тичино, Меласу удалось бы пройти через Турин или Валенцу, пробраться в тыл французов и отплатить им почти таким же уроном, какой они нанесли ему переходом через Альпы. Мелас мог бы также, пожертвовав частью обозов и тяжелой артиллерией, возвратиться назад, в Геную, и напасть на По выше Пьяченцы, таким образом снова отвоевав Мантую и австрийские владения.
Бонапарт использовал все меры для предупреждения подобных покушений. В истории совсем немного примеров таких искусных, глубоко обдуманных распоряжений, какие он отдал в эту судьбоносную минуту. Надлежало решить тройную задачу: во-первых, непреодолимой преградой запереть главную дорогу, которая ведет от Алессандрии к Пьяченце; во-вторых, занять дорогу через верховья По, пролегавшую на Тичино, так, чтобы в случае нужды можно было подоспеть на помощь; наконец, оставить себе возможность спуститься вовремя к низовьям По, если бы австрийцы вздумали перейти реку ниже Пьяченцы, около Кремоны или Пармы.
Генерал Бонапарт постоянно размышлял над картой Италии, чтобы отыскать позицию, способную соответствовать
6 Консульство всем этим трем условиям, и наконец сделал выбор, достойный вечного удивления. Трудно сдвинуть с места войско, поставленное перед городком Страделла, в начале узкого длинного прохода, если левое крыло этого войска занимает высоты Апеннин, центр находится на дороге, правое стелется вдоль реки По, а сверх того, оно еще и окружено болотами. В случае столкновения с императорской армией, которая обладала мощной конницей и артиллерией, эта позиция представляла еще и ту выгоду, что делала эти два рода войск совершенно бесполезными.
На позиции, образуемой Апеннинами и реками По, Тичино и Аддой, Бонапарт и распределил свои силы. Во-первых, сам встал у Страделлы с тридцатью тысячами лучших солдат своей армии. Девять или десять тысяч человек должны были растянуться вдоль берегов Тичино, до последнего мешать переправе австрийцев через реку и тем дать возможность Бонапарту подоспеть к ним на помощь. Отдельная дивизия отряжалась для защиты Милана, что было необходимо потому, что в замке этого города находился австрийский гарнизон. Для этой цели выделили три или четыре тысячи человек. Еще десять или одиннадцать тысяч человек были использованы на Адде и для защиты Пьяченцы и Кремоны.
Таково было распределение пятидесяти с лишком тысяч солдат, которыми Первый консул мог располагать в эту минуту. Все эти войска были размещены так, что могли с величайшей скоростью поспевать друг к другу на подкрепление.
Казалось, что здесь Бонапарт решительно оставил свою обычную систему сосредоточения всех сил накануне большой битвы. Хотя такая концентрация войск в решительную минуту, когда два противника идут друг на друга, почитается верхом военного искусства, она не может быть применена, когда один из воюющих старается спастись бегством: тут главное искусство состоит в том, чтобы сначала остановить его, а потом уже вступать в битву.
Здесь был именно такой случай. Бонапарт должен был раскинуть около австрийской армии сеть, и притом такую сеть, которая была бы в силах удержать ее. Если бы на Тичино и в низовьях По были расставлены одни авангарды, способные только подать знак к тревоге, а не преградить неприятелю дорогу, вся цель была бы потеряна.
Обдумав свой план, генерал Бонапарт сделал сообразные с ним распоряжения. Он отправил Бертье, Лан-ну и Мюрату следующее предписание:
«Сосредоточьтесь около Страделлы, 8-го, или не позднее 9-го, вам придется столкнуться с пятнадцатью или восемнадцатью тысячами австрийцев, идущих от Генуи. Идите к ним навстречу и уничтожьте их. Тогда у нас будет настолько меньше врагов в день решительной битвы с главной армией Меласа».
Отдав это приказание, он сам выехал 8 июня из Милана, чтобы переправиться через По и на следующее утро быть у Страделлы.
Невозможно было с большей точностью предугадать движение неприятеля. Девятого июня рано утром генерал Отт, который вел свой главный корпус по дороге от Генуи к Тортоне, подходил к Страделле, как это и предвидел Бонапарт. Он вел с собой и дивизии Готтесгейма с О’Рейли, которых встретил во время их отступления, желая атаковать Пьяченцу и не представляя себе, что почти вся французская армия расставлена эшелонами в ущелье у Страделлы. Считая отряды, которые к нему присоединились, у него было от семнадцати до восемнадцати тысяч человек.
Ланн к утру 9-го числа мог объединить под своим началом только от семи до восьми тысяч, но благодаря беспрестанным распоряжениям главнокомандующего к нему в течение дня должны были подоспеть еще пять или шесть тысяч.
Поле битвы было то самое, которое мы описали. Левое крыло армии Ланна было расположено на Апеннинских высотах, центр стоял на дороге, правое крыло располагалось в долине реки По. Ланн сделал ошибку, слишком вытянувшись в направлении к Кастеджо и Монтебелло, где дорога выходит из ущелья вследствие расширения равнины. Но французы, полные уверенности в своих силах, хоть и оказались в меньшинстве, но готовы были на величайшие подвиги, особенно руководимые таким вождем, как Ланн, который в высшей степени обладал искусством воодушевлять их.
Итак, Ланн, направив на Кастеджо дивизию Ватре-на, заставил аванпосты О’Рейли растянуться. План его состоял в том, чтобы завладеть городком Кастеджо, который лежал перед ним на дороге. Многочисленная австрийская артиллерия, расставленная на ней, простреливала окрестности во всех направлениях. Два батальона старались обойти эту убийственную артиллерию справа; в то же время слева третий батальон и еще одна полу-бригада взбирались на соседние возвышения, а оставшаяся часть дивизии Ватрена пошла на сам Кастеджо, где находился центр неприятельских войск.
Отчаянный бой завязался на всех пунктах. Французы уже завладели было всеми атакуемыми позициями, но генерал Готтесгейм подоспел со своей пехотой на помощь к О’Рейли и опрокинул батальоны, которые взобрались на возвышения. Ланн под страшным огнем удерживал солдат и не давал им отступить перед превосходящими силами. Несмотря на это, они готовы были бежать, как вдруг на помощь явилась дивизия Шамберлака.
Генерал Риво снова взобрался на высоты, собрал батальоны, которые были оттуда изгнаны, и после неимоверных усилий сумел там удержаться.
Во время этих нападений на оба неприятельских крыла храбрый Ватрен должен был выдерживать отчаянный бой в Кастеджо; несколько раз он брал и опять отдавал город. Но Ланн, который повсюду успевал на своем коне, дал делу решительный поворот. По его приказанию генерал Риво спустился к Кастеджо с противоположной стороны, а в это же время нескольким отрядам удалось обойти оспариваемый городок. Теперь и тот и другие направились к Монтебелло. Между тем и генерал Ватрен, сделав последнее усилие, пробил неприятельский центр и наконец перешел за Кастеджо.
Австрийцы, атакованные со всех сторон, бросились к Монтебелло и оставили в руках французов множество пленников.
Сражение длилось с одиннадцати часов утра до восьми вечера. Те же самые австрийцы, которые осаждали Геную и были приучены генералом Массена к самым жестоким битвам, с отчаянием дрались теперь на равнинах Пьемонта, чтобы проложить себе дорогу. Их поддерживала сильная артиллерия, но и сами они сражались с необычайной храбростью.
Первый консул прибыл в ту самую минуту, когда заканчивалось сражение, место и время которого он так хорошо предусмотрел. Он нашел Ланна, покрытого кровью, но упоенного восторгом, и войско, которое было восхищено своим первым успехом. «Они чувствовали, — говорил Бонапарт впоследствии, — что действовали достойно». Новобранцы на деле показали, что могут соперничать со старыми солдатами. Французы захватили в плен четыре тысячи человек и около трех тысяч ранили или положили на месте. Победу эту трудно было завоевать, потому что двенадцатитысячное войско боролось с восемнадцатью тысячами.
Таким было сражение при Монтебелло, которое подарило Ланну и его потомкам титул, отличавший их перед всеми фамилиями Франции того времени, славный титул, которым сыновья его должны гордиться.
Эта первая встреча была прекрасным началом, которое показало барону Меласу, что дорога перед ним так легко не откроется. Генерал Отт, потеряв семь тысяч человек, в смущении отступил к Алессандрии. Нравственное чувство французской армии поднялось до высших ступеней энтузиазма.
Первый консул поспешил соединить свои дивизии, чтобы наконец занять дорогу от Алессандрии к Пьяченце, дорогу, по которой барон Мелас, по всей видимости, должен будет пройти совсем скоро. Десятое и одиннадцатое июня прошли в наблюдении за передвижениями австрийцев, в заботах о сосредоточении армии, отдыхе солдат и организации артиллерии, потому что до сих пор еще не было возможности соединить в одном пункте более сорока полевых орудий.
Одиннадцатого июня из Египта прибыл в главную квартиру один из величайших генералов той эпохи, Дезе, который военными талантами равнялся, может быть, Моро, Массена, Клеберу, Ланну, но затмевал их всех редкими свойствами своего характера. Дезе, задержанный у берегов Франции англичанами, испытал самое гнусное к себе отношение и прибыл в армию, воспламененный негодованием, прося позволения отомстить за себя с оружием в руках14.
Он был страстно предан Бонапарту, и Первый консул, неравнодушный к привязанности такого благородного человека, платил ему за нее живейшей дружбой. Они провели вместе целую ночь, рассказывая друг другу о событиях в Египте и Франции, и Бонапарт тотчас же дал Дезе начальство над несколькими дивизиями.
Не видя появления австрийцев и на следующий день, 12 июня, Первый консул был изумлен, и у него даже стали зарождаться некоторые опасения. Удивляясь, что барон Мелас в таком положении еще медлит, теряет время и позволяет запереть вокруг себя все выходы, он начал судить о своем противнике по себе: не может быть, чтобы Мелас провел эти драгоценные часы в бездействии, он, верно, успел ускользнуть, или возвратившись к Генуе, или переправившись в верховьях По, чтобы пробиться к Тичино.
Заскучав от ожидания, 12-го числа Бонапарт со всей армией снялся с позиции при Страделле и пошел вперед до высот Тортоны. Он приказал осадить это место и устроил главную квартиру в городе Вогера.
Ранним утром следующего дня он переправился через Скривию и вышел на обширную равнину, которая ныне называется равниной Маренго. Это была та самая равнина, на которой несколько месяцев назад предусмотрительное воображение рисовало ему большое сражение с бароном Меласом.
Бонапарт предполагал, что неприятель, вздумав идти по большой дороге от Пьяченцы к Мантуе, поджидал бы французов именно здесь. Здесь его многочисленная артиллерия, его превосходная конница имели бы большее преимущество, и он мог бы действовать всеми своими соединенными силами. А потому по окрестностям разослали на рекогносцировку легкую кавалерию, но нигде не нашли и следа австрийцев. Бонапарт перестал сомневаться: барон Мелас, очевидно, сумел ускользнуть. Он не покинул бы равнину и в особенности деревню Маренго, которая составляет как бы ее ворота, если бы хотел пройти по ней, дать сражение и завоевать дорогу от Алессандрии к Пьяченце.
Обманутый этой очень справедливой догадкой, Первый консул разместил генерала Виктора в Маренго, дивизии Ланна расставил по равнине эшелонами, а сам отправился в главную квартиру, чтобы собрать сведения о том, куда девался барон Мелас. Но Скривия вышла из берегов, и он, по счастью, вынужден был остановиться в Торре-ди-Гарофоло. Рапорты с Тичино и с По, привезенные в тот же день, извещали о полном спокойствии, царящем на равнине. Барон Мелас ничего не предпринимал. Но куда же он делся?..
Решив, что Мелас мог возвратиться в Геную, где, поддерживаемый англичанами, имел возможность длить кампанию до бесконечности, Бонапарт предписал Дезе идти на Ривольту и Нови, где Мелас должен был пройти по дороге к Генуе. Но по какому-то счастливому предчувствию он удержал вторую дивизию Дезе в виде резерва в главной квартире и оставил при себе Мюрата со всей его конницей. Таким образом, если представить себе распределение французских сил в эту минуту, то невольно изумишься их разбросанности. Но это было неизбежным следствием общего положения дел.
В это время в Алессандрии царствовало величайшее смятение. Австрийская армия была в отчаянии. Собрали военный совет, и ни один из планов, которых опасался Первый консул, не был одобрен. Австрийские генералы, как люди храбрые, предпочли последовать советам чести. «В течение восемнадцати месяцев дрались мы как добрые солдаты! — говорили они. — Мы снова завоевали Италию, мы шли к границам Франции; правительство нас к этому побуждало, и именно его делом было известить нас об опасности, угрожавшей нам с тыла. Если поражение наше произошло вследствие ошибки, так, уж конечно, ошибки правительства. Все предлагаемые им способы избежать встречи с французской армией сложны, трудны и опасны; остается только одно простое и честное средство: пробиться с оружием в руках. Завтра мы откроем себе путь ценой крови. Если удастся, мы возвратимся с победой в Пьяченцу и Мантую, а если нет — мы по крайней мере исполним свой долг».
Первый консул и не воображал, что в подобных обстоятельствах можно терять время на рассуждения. Но никто не равнялся ему в быстроте и решимости, и барон Мел ас был в слишком опасном положении, чтобы простить ему мучительное беспокойство, замедляющее окончательное решение. Осмелившись, наконец, дать сражение, австрийский военачальник показал, что он честный воин; но его можно было упрекнуть за то, что он оставил 25 тысяч человек в Италии, особенно после урона, который понес генерал Отт при Монтебелло. Удерживая 25 тысяч в укрепленных местах, три тысячи в Тоскане и двенадцать — между Мантуей и Венецией, Мелас смог вывести на поле битвы, где решался исход войны, не более сорока тысяч человек, хоть и с могучей кавалерией и двумястами орудиями.
Было решено, что наутро вся армия перейдет через Бормиду. Генерал Отт с десятью тысячами пехоты и конницы возьмет за Бормидой влево, к деревне, называемой Кастель-Чериоло; генералы Хаддик и Кайм с главными силами армии, составляющими около двадцати тысяч человек, овладеют Маренго, а О’Рейли с пятью или шестью тысячами солдат пойдет вправо, вдоль по Бормиде. Сильная артиллерия должна была поддерживать эти передвижения.
Между Сан-Джулиано и Маренго пролегала прямая дорога, которую войска и намеревались оспаривать друг у друга; а с обеих ее сторон расстилалась равнина, покрытая пашнями и виноградниками. Едва начало светать, как австрийская армия перешла через Бормиду. О’Рейли перешел первым и наткнулся на дивизию Гар-дана. Имея вдвое большее войско и сильную артиллерию, австрийский генерал принудил ее отступить и запереться в Маренго. По счастью, он не бросился вслед за ней тотчас же, а решил подождать, пока подойдет Хаддик. Наконец генералы Хаддик и Кайм развернули свои полки, и Виктор послал сказать Первому консулу, что вся австрийская армия приближается с явным намерением вступить в битву.
Одно обстоятельство очень кстати поддержало мужество французских солдат. Перед Маренго, между французами и австрийцами, протекала стремительная и мутная речка Фонтаноне. Хаддик подошел к ней под прикрытием двадцати пяти орудий и отважно бросился в ее воды. Австрийцев встретили сильным ружейным огнем, и жестокий бой завязался на всем протяжении Фонтаноне. Хаддик несколько раз пытался перебраться, но Риво постоянно останавливал его корпус и в конце концов заставил в беспорядке вернуться на противоположный берег. Во время отступления несчастный генерал Хаддик был смертельно ранен.
Тогда барон Мел ас двинул войска Кайма, а генералу О’Рейли приказал подняться вдоль Бормиды, чтобы совершить кавалерийскую атаку на левое французское крыло. Но генерал Келлерман с кавалерией был уже наготове и наблюдал за движением неприятельских эскадронов, а Ланн построил свои войска одной линий, между Маренго и Кастель-Чериоло.
Австрийцы сделали вторую попытку, но французы непрерывным огнем рассеяли войско Кайма. В это время австрийский генерал Пилати успел перебраться через Фонтаноне с двумя тысячами всадников. Храбрый Келлерман ринулся на эскадроны Пилати и сбросил их в речку, которая в деле обороны французов пришлась как нельзя более кстати. Хотя французская армия, застигнутая врасплох, в эту минуту могла выставить только от пятнадцати до шестнадцати тысяч человек, но, благодаря ошибке австрийцев, которые накануне не заняли Маренго, она получила возможность дождаться своего военачальника и резервы.
Таково было общее положение дел, когда барон Ме-лас решился на последнее усилие, чтобы спасти честь и свободу австрийской армии. Всемерно поддерживаемый своими солдатами, ветеранами, дух которых был возвышен победами предшествовавшей кампании, он приказал снова атаковать французскую линию. С левого крыла наконец начал действовать генерал Отт: он прошел через Кастель-Чериоло и напал на Ланна. А в это время соединенные корпуса О’Рейли, Хаддика и Кайма снова направились к Фонтаноне. Сильная артиллерия поддерживала все их передвижения. Гренадеры Латтермана перешли на другой берег речки, но дивизия Шамберлака открыла по ним опустошительный огонь. Несмотря на это, один батальон гренадеров удержался на берегу, а Мелас удвоил канонаду против дивизии Шамберлака.
В это время австрийцы стали наскоро выстраивать мост-эстакаду. Тогда храбрый Риво вышел из Маренго и, наступая на атакующих, уже готов был потопить их в Фонтаноне, но страшные артиллерийские залпы остановили его отряд, а сам Риво был ранен. Воспользовавшись этой минутой, гренадеры Латтермана навалились уже всей массой и наконец ворвались в Маренго. Риво, весь покрытый кровью, опять повел свою полубригаду, с силой ударил по гренадерам и вытеснил их из деревни, не сумев, однако, прогнать их за речку, ибо, едва выйдя из-за прикрытия домов, был встречен страшным батарейным огнем. Ослабленный потерей крови, едва держась на ногах, этот храбрый офицер был вынужден приказать, чтобы его отнесли за ряды сражающихся.
Итак, австрийские гренадеры удержали позицию, а дивизия Шамберлака оказалась почти полностью истреблена градом картечи. Генерал О’Рейли оттеснил бригаду от левого французского крыла и начал выбивать ее с позиции. А около правого крыла Ланн боролся с генералом Каймом и уже готов был опрокинуть его в Фонтаноне, как вдруг увидел, что генерал Отт с огромной конницей обходит его из Кастель-Чериоло.
Французская армия, сбитая с позиций на обоих крыльях, оттесненная от Маренго, в котором утвердилась было так крепко, не имела более никакой опоры и могла быть отброшена вглубь равнины.
Было десять часов утра. Страшная масса раненых и убитых покрывала дорогу между Маренго и Сан-Джу-лиано. Казалось, все потеряно без подкрепления новым, еще свежим войском и без великого вождя, способного снова выхватить победу из рук врага.
Генерал Бонапарт, узнав, что австрийская армия напала на него врасплох в долине Маренго, вчера еще совершенно пустой, прискакал из Торре-ди-Гарофоло, благословляя Скривию, которая своим разливом помешала ему отправиться ночевать в Вогере. Он привел с собой консульскую гвардию, немногочисленную, но знаменитую своей храбростью, дивизию Монье и велел еще следовать за собой двум кавалерийским полкам. Наконец, он отправил адъютанта к Дезе с приказанием как можно скорее идти к Сан-Джулиано.
Возглавив этот резерв, Бонапарт во весь опор поскакал на поле сражения. Окинув взглядом происходящее, он тотчас же понял, что следовало сделать, чтобы возобновить битву. Разбитое левое крыло было совершенно расстроено, но правое еще держалось, хоть и находилось в опасности: вот ему-то и надо было помочь. Утвердив его в Кастель-Чериоло, он приобретет точку опоры посреди этой обширной равнины; уже тогда можно будет вывести за линию разбитое крыло, чтобы спасти его от неприятельских ударов. Кроме того, заняв правую сторону равнины, он будет во фланге австрийцев, которые, если захотят воспользоваться своей победой, непременно пойдут по дороге от Маренго к Сан-Джулиано.
Сообразив все это с быстротой молнии, Бонапарт тотчас же привел свое решение в исполнение. Он выдвигает на равнину, вправо от Ланна, восемьсот гренадеров гвардии и приказывает им задержать австрийскую конницу до прибытия трех полубригад Монье. Эти удальцы, построившись в каре, с удивительным хладнокровием выдерживают неоднократные атаки драгун Лобковича. Немного правее от них генерал Бонапарт строит две полубригады Монье и направляет их на Кастель-Чериоло. Эти две полубригады, геройски овладев потерянным местом, располагаются за заборами и в садах Кастель-Чериоло.
В это же время сам генерал Бонапарт с 72-й полубри-гадой спешит на помощь к левому крылу Ланна. Присутствие Первого консула, вид меховых шапок его гвардии немедленно ободряют войска. Битва возобновляется с еще большим ожесточением. Храбрый Ватрен со своими полубригадами идет в штыковую атаку и опрокидывает солдат Кайма в Фонтаноне. Ланн, воодушевляя героическим пылом свои отряды, также устремляет их на австрийцев. Гардан снова пытается завоевать Маренго, а Ланн хочет овладеть речкой, которая сначала так хорошо прикрывала французское войско. Но барон Мелас, воодушевляемый отчаянием, направляет соединенные массы на Маренго, выходит из деревни и выгоняет утомленных солдат Гардана, которые цепляются за всякое препятствие.
Нет более возможности держаться, надо уступить позицию. Бонапарт велит отступать понемногу, но стойко защищаясь. Однако в то время как левое крыло спешит укрыться в Сан-Джулиано, сам он старается удержать правую сторону равнины и защищается благодаря опоре на Кастель-Чериоло, энергии гвардии и в особенности Ланну, который прилагает неимоверные усилия. Теперь, если Дезе, отправленный накануне к Нови, успеет вовремя возвратиться, можно будет опять овладеть полем битвы и склонить победу на свою сторону.
Консульская гвардия, которую не смогли поколебать кавалерийские атаки, теперь подвергается атакам артиллерии. В массе гвардии стараются пробить ядрами брешь, как в стене, а потом пускают на нее эскадроны Фримона. Она теряет много людей, отступает, но не расступается.
Французы удерживают дорогу от Кастель-Чериоло к Сале. Вся равнина представляет собой обширное поле кровопролитной сечи; к грому орудий присоединяется треск взрывов, потому что Ланн взрывает пороховые ящики, которые не может захватить с собой.
Проходит полдня, и Мелас наконец решает, что победа осталась за ним, хоть он и купил ее дорогой ценой. Усталый старец удаляется в Алессандрию, показав в этот достопамятный день, что по мужеству в полной мере достоин своего противника. Он передает командование начальнику своего штаба и через курьеров спешит известить всю Европу о своей победе и о поражении генерала Бонапарта при Маренго.
Начальник штаба, которому поручено командование, строит на большой дороге из Маренго в Сан-Джулиано главную часть своей армии в колонну. В авангарде помещает он два пехотных полка, за ними ставит колонну гренадеров и, наконец, обоз. Слева располагается генерал О’Рейли, справа — Кайм и отряды Хадцика. В этом порядке австрийцы стараются выбраться на большую дорогу к Пьяченце, предмету всех усилий и единственному спасению императорской армии.
Уже три часа пополудни; если не явится на помощь какое-нибудь новое обстоятельство, сражение можно считать проигранным для французов, разве что завтра они успеют поправить неудачу нынешнего дня новыми войсками, вызванными с Тичино и с Адды. Однако в запасе есть еще и Дезе. Подоспеет ли он вовремя? От этого обстоятельства зависит участь сражения.
С самого утра адъютанты Первого консула пустились разыскивать Дезе. Но гораздо раньше, чем они его настигли, генерал остановил свой марш, услышав первые залпы при Маренго. Он заключил, что неприятель, которого его послали атаковать в Нови, оказался у Маренго. Убедившись, с помощью курьеров, в отсутствии в Нови и следа австрийцев, Дезе, не теряя времени, пошел к Маренго, отправив вперед несколько адъютантов, чтобы известить Первого консула о своем приближении.
Он шел с утра, и к трем часам колонны его начали показываться у входа на равнину, в окрестностях Сан-Джу-лиано. Сам он, опередив их, галопом прискакал к Бонапарту. Счастливое вдохновение подчиненного, столь же сметливого, как и преданного! Счастливая молодость! Если бы пятнадцатью годами позже Первый консул нашел на поле битвы при Ватерлоо второго Дезе, он сохранил бы корону, а Франция не утратила бы своего величия!
Присутствие Дезе резко изменило положение дел. Его окружают, ему рассказывают события дня. Большая часть генералов советует отступление. Первый консул не согласен и торопит Дезе высказаться. Тот, окинув медленным взором опустошенное поле битвы, вынимает из кармана часы и, взглянув на них, отвечает генералу Бонапарту следующими простыми и благородными словами: «Да, сражение проиграно, но теперь только три часа, есть еще время выиграть новое!»
Бонапарт, восхищенный решимостью Дезе, предлагает воспользоваться свежими силами, которые тот привел с собой, и выгодами занятой утром позиции.
И действительно, Дезе с шестью тысячами свежего войска, возвращаясь через Сан-Джулиано прямо во фронт австрийцев, может преградить им дорогу, в то же время остальная армия, соединив главные силы, ударит австрийцам во фланг. Тотчас же были приняты все меры к исполнению этого плана. Небольшое возвышение местности скрывает полубригады Дезе от неприятеля. Слева от них находятся вновь собранные и несколько приведенные в порядок остатки дивизий Шамберлака и Гардана, под командованием Виктора. Справа, на равнине, расположился Ланн, приостановив свое отступление, за ним — консульская гвардия. Между Дезе и Данном, немножко поодаль, стоит кавалерия Келлермана. Батарея в двенадцать орудий, единственное, что осталось от всей французской артиллерии, расставлена перед фронтом корпуса Дезе.
Сделав эти распоряжения, Первый консул объехал верхом ряды солдат и обратился к каждому корпусу с воодушевляющими словами: «Друзья мои! Полно отступать! Вы знаете, что я привык ночевать на поле битвы».
Внушив бодрость войскам, подкрепленным пришедшим резервом, и видя, что они жаждут сразиться, Бонапарт дал знак начать дело. По всем рядам забили барабаны.
Австрийцы, скорее по-походному, чем в преддверии битвы, продвигаются по большой дороге. Колонна генерала Цаха выступает впереди, за ней, немного поодаль, идет центр, полуразвернутый на равнине фронтом к Данну. И в этот момент генерал Мармон внезапно открывает огонь из своих двенадцати орудий. Австрийцы останавливаются в изумлении, они никак не ожидали нового сопротивления, полагая, что французы решительно отступили. Не успели еще австрийцы прийти в себя от этого внезапного потрясения, как поднялся со своей полубригадой Дезе. «Доложите Первому консулу, — сказал он своему адъютанту Савари, — что я иду в атаку и мне нужна поддержка кавалерии».
Верхом на коне он сам ведет своих солдат в дело: обойдя неровность местности, которая скрывала его от глаз неприятеля, Дезе быстро кидается на австрийцев, поражая их на самом близком расстоянии ружейной стрельбой. Австрийцы отвечают тем же, и храбрец, раненный пулей в грудь, падает с лошади. «Скройте мою смерть, — говорит он Буде, своему дивизионному генералу, — она может поколебать войско!»
Напрасная предосторожность героя! Все видели, как он упал, и солдаты его, как воины Тюренна, громко требуют права отомстить за своего начальника. Девятая легкая полубригада, которая в этот день заслужила название «Несравненной», сохраненное до конца французских войн, перестреляв все патроны, строится в колоцну и с неистовством кидается на густую массу австрийцев. При виде ее первые два полка австрийцев в беспорядке бросаются назад, на вторую линию пехоты, и исчезают в ее рядах. Тогда гренадеры Латтермана одни остаются лицом к лицу с этим отборным войском и грудью принимают его удар.
Сражение завязывается по обе стороны большой дороги. «Несравненной» помогают собранные полки Виктора и полубригады Буде. Гренадеры держатся крепко, но вдруг над их головами разражается гроза. Генерал Келлерман пускается во весь опор и направляет часть своих эскадронов против австрийской кавалерии, а с остальными ударяет во фланг гренадеров, поражаемых, между тем, с фронта пехотой Буде. Эта атака, произведенная с необыкновенной силой, разрезает австрийскую колонну надвое. Драгуны Келлермана рубят вправо и влево, пока несчастные гренадеры, стесненные со всех сторон, не признают явную необходимость сложить оружие. Две тысячи из них сдаются в плен. Сам генерал Цах также вынужден отдать свою шпагу.
Итак, австрийцы лишились главного начальства на все время сражения, потому что барон Мелас, как мы видели, полагая победу несомненной, отправился на отдых в Алессандрию.
Келлерман не останавливается на первом подвиге: он кидается на драгун и обращает их в бегство, затем врывается в центр австрийцев и расстраивает его. Тогда выходит вперед Ланн и с живостью атакует смятенный центр. По всей линии французы вновь возобновляют наступление. Они с восторгом идут вперед, радуясь, что победа вновь обратилась к их знаменам, а смятение и уныние перешли на сторону австрийцев. Удивительна сила человеческого духа, когда он противится самому течению событий и возвращает на свою сторону счастье!
Карра-Сен-Сир вскоре овладевает Кастель-Чериоло, а генерал Отт поспешно отступает. Панический страх охватывает его конницу, она обращается в бегство, восклицая: «К мостам, к мостам!» Все наперегонки спешат к мостам через Бормиду. Генерал Отт, отступая через Кастель-Чериоло, вынужден оружием прокладывать себе дорогу. Он успевает ускользнуть и спешит к берегам Бормиды.
Отряды Кайма и Хаддика напрасно хотят удержаться в центре: Ланн отбрасывает их в Маренго, теснит к Фон-таноне, а оттуда опрокидывает в Бормиду. Но гренадеры еще отчаянно сопротивляются, чтобы дать время вернуться генералу О’Рейли, который ушел уже довольно далеко.
Австрийская кавалерия, со своей стороны, проводит несколько атак, чтобы удержать французов. Но атаки отражает конная гвардия, которой руководят Бессьер и Евгений Богарне. Ланн и Виктор, соединив наконец свои корпуса, наступают на Маренго и опрокидывают О’Рейли и гренадеров.
Смятение на мостах через Бормиду увеличивается с каждой минутой. Пехота, всадники, артиллерия — всё теснится к ним в беспорядке. Но мосты не могут вместить такого множества людей; солдаты бросаются в Бормиду, чтобы перейти ее вброд. Один артиллерист пробует перебраться через нее со своим орудием, это ему удается. Тогда вся артиллерия собирается последовать его примеру, но большая часть орудий и повозок застревают в реке. Французы, яростно преследующие неприятеля, хватают людей, лошадей, пушки, обозы.
Несчастный барон Мелас, за два часа перед тем оставивший свою армию победоносной, вернулся обратно при вести об этом сражении и не поверил своим глазам. Глубокое отчаяние овладело им.
Таким было кровопролитное сражение при Маренго, которое, как мы скоро увидим, оказало большое влияние на судьбы Франции и всего мира. Оно обеспечило мир Французской республике, а несколько позднее — императорское достоинство Первому консулу. За победу сражались жестоко, но она и стоила того, потому что никогда еще не означала более важных последствий как для одного, так и для другого противника.
Потери, относительно к числу сражавшихся, были огромны и превышали обыкновенные пропорции. Австрийцы потеряли около восьми тысяч убитыми и ранеными и более четырех — пленными. Штаб их тоже жестоко пострадал: генерал Хаддик был убит, пятеро генералов и множество офицеров ранены. Итак, австрийцы потеряли фактически треть своей армии.
Было ранено и убито шесть тысяч французов; до тысячи человек взято в плен, что также составляет четвертую долю из 28-тысячной армии, участвовавшей в сражении. Их штаб пострадал так же, как австрийский. Пять славных генералов были ранены, но величайшую потерю составлял Дезе. В глазах Первого консула потеря эта была так важна, что даже приуменьшила радость его при мысли о победе. Секретарь Бурьен, поздравляя главнокомандующего с этим дивным торжеством, сказал: «Какой прекрасный день!» — «Да, — ответил Первый консул, — он был бы истинно прекрасен, если бы я сегодня вечером мог обнять Дезе на поле битвы. Я хотел сделать его военным министром, — прибавил он, — и сделал бы его монархом, если бы мог».
Победитель при Маренго еще не подозревал, что скоро сможет награждать преданных людей коронами.
Несчастный Дезе лежал в широком поле, где-то близ Сан-Джулиано. Савари, преданный ему всей душой адъютант, отыскивая начальника между убитыми, узнал его по длинным волосам. С трепетным чувством поднял он его с земли, закутал в гусарский плащ и, положив на лошадь, перевез в главную квартиру, в Торре-ди-Гарофоло.
Хотя равнина Маренго была залита французской кровью, радость воодушевляла всю армию. От солдата до генерала, все чувствовали цену своего подвига и важность победы, одержанной в тылу неприятеля. Австрийцы, напротив, были убиты горем: они знали, что окружены со всех сторон и должны подчиниться воле победителя.
Барон Мелас, под которым в этот день были убиты две лошади и который, несмотря на почтенный возраст, вел себя как самый юный и отважный солдат австрийской армии, пребывал в глубочайшем унынии. В довершение всех несчастий начальник его штаба Цах, к которому он питал неограниченное доверие, находился в руках неприятеля. Напрасно останавливал барон взор на своих генералах: ни один не хотел подать спасительного совета, все негодовали на венский кабинет, который, поддерживая их обманчивые мечты, вверг их теперь в бездну несчастья.
Однако надо было все же на что-нибудь решиться. Но на что? Пробить себе дорогу оружием? Это испробовали — не. удалось. Отступить к Генуе или перейти верховья По и пробиться через Тичино? Но эти задачи было трудно выполнить и до сражения, а теперь, когда битва была проиграна, они сделались решительно невозможными. Генерал Сюше стоял в нескольких милях позади австрийцев, около Акви; генерал Бонапарт стоял перед Алессандрией, с победоносной Резервной армией. Оба могли соединиться и отрезать дорогу в Геную. Итак, спасения не было ни с одной стороны; надлежало покориться страшной мысли о капитуляции. Но в таком случае австрийская армия могла еще почитать себя счастливой, если, покинув Италию, спасет свою свободу и великодушием победителя не будет признана плененной!
Итак, было решено отправить к Первому консулу парламентера для начала переговоров. Выбрали для этой миссии князя Лихтенштейна. На следующее утро, 15 июня, он должен был поехать в главную квартиру французской армии.
Бонапарт, со своей стороны, имел много причин для вступления в переговоры. Главной своей цели он достиг: Италия была освобождена в одной битве. Он мог даже потребовать, чтобы австрийцы сложили оружие и сдались в плен. Но, унизив этих благородных людей, можно было довести их до отчаянного поступка. Это значило бы напрасно пролить кровь, а что еще важнее — потерять время. Первому консулу было необходимо как можно скорее возвратиться в столицу, в которой он отсутствовал вот уже более месяца.
У французов имелся пленник, который мог стать превосходным посредником в переговорах, — это был генерал Цах. Первый консул ему открылся: изъявил чистосердечное желание мира и готовность пощадить императорскую армию и предложить ей самые уважительные условия. Когда прибыл австрийский переговорщик, Бонапарт выказал ему то же самое расположение и поручил вместе с Бертье и Цахом отправиться к барону Меласу и договориться об условиях капитуляции. По своему обыкновению, Бонапарт с самого начала объявил, что никакие переговоры не заставят его изменить уже составленных в уме условий и принятых однажды решений. Он соглашался не принуждать австрийскую армию признавать себя плененной и отпустить ее со всеми военными почестями, но требовал, чтобы немедленно были возвращены Франции все укрепленные места Лигурии, Пьемонта и Ломбардии и австрийцы очистили всю Италию вплоть до реки Минчио15.
Переговорщики тотчас же отправились в главную квартиру австрийцев. Хотя условия, ими предлагаемые, были жесткими, но в то же время они были естественны и, даже можно сказать, великодушны. Одно было тягостно и унизительно, а именно: возвращение Генуи, которая стоила австрийцам столько крови и которой они владели только несколько дней. Но победитель, очевидно, не мог от нее отказаться.
Мелас, в свою очередь, отправил главного своего переговорщика к Первому консулу с некоторыми возражениями на предложенное перемирие. «Мои условия неизменны, — отвечал ему Бонапарт запальчиво. — Я не со вчерашнего дня веду войну. Положение ваше мне так же хорошо известно, как вам самим. Вы сидите в Алессандрии, переполненной мертвыми, ранеными и больными, без продовольствия, без лучших сил армии, и окружены со всех сторон. Я мог бы потребовать всего, но щажу седины вашего генерала и храбрость ваших солдат. Я хочу только того, что неизбежно при настоящем положении дел. Ступайте обратно в Алессандрию; на что бы вы ни решились, других условий не получите».
В тот же день, 15 июня, в Алессандрии была подписана конвенция на предложенных генералом Бонапартом основаниях. Таким образом, в Италии заключили предварительное перемирие, вплоть до получения окончательного ответа из Вены.
По условиям договора, австрийцы, отступая, обязывались сдать французам все занимаемые ими укрепления: им надлежало разделиться на три колонны, которые выступят одна за другой, по мере того как будут сданы укрепления. Огромное количество военных орудий, собранных Мел асом в Италии, разделят пополам: орудия, отлитые в Италии, уступают французам, артиллерию австрийских литейных заводов возьмет с собой императорская армия. Австрийцы, очистив Ломбардию до реки Минчио, должны оставаться в пределах следующей линии: Минчио, Ла Фосса, Маэстра и левый берег По от Боргофорте до впадения этой реки в Адриатическое море. Пескьера и Мантуя остаются за австрийской армией.
В случае, если бы император не согласился утвердить конвенцию, был предложен десятидневный срок для объявления вновь военных действий.
Впоследствии барона Меласа неоднократно и слишком строго упрекали и из-за самой кампании, и из-за этой конвенции. Но нужно быть справедливым к несчастью, особенно когда оно искупается полным чести и благородства поведением. Мелас был обманут венским кабинетом насчет существования Резервной армии, а после раскрытия тайны его можно было упрекнуть только в том, что он не слишком скоро и не вполне соединил свои войска и слишком много людей оставил в укрепленных местах. За исключением этой ошибки, надо сознаться, что Мелас поступил, как поступают все храбрые люди, когда они окружены неприятелем: он пробивал себе дорогу со шпагой в руке. А после поражения ему оставалось только одно дело: спасти свободу и честь своей армии. Итак, пожалеем о Меласе и будем удивляться таланту победителя, который исключительными результатами этой кампании был обязан не случаю, но самым глубоким своим решениям, чудеснейшим образом выполненным.
Некоторые очернители старались доказать, что победа при Маренго и все сопряженные с ней результаты принадлежат генералу Келлерману. Но если уж непременно надо лишить Бонапарта этой славы, не лучше ли приписать ее генералу Дезе, этой благородной жертве счастливого вдохновения, который предугадывал распоряжения своего начальника и поспешил принести ему двойной дар: победу и свою жизнь? Или почему не приписать ее бесстрашному защитнику Генуи, который, удержав австрийцев на Апеннинах, дал Бонапарту время перейти через Альпы и потом сдал ему неприятеля с рук на руки наполовину истребленным?
Но в мире лишь глас народа определяет славу, а глас народа назвал победителем при Маренго того, кто своим гениальным предвидением постиг пользу перехода через Альпы в тыл неприятеля и трехмесячного обмана его бдительности, того, кто создал армию из ничего, перешел через Сен-Бернар без дорог, внезапно явился среди изумленной Италии, с чудным искусством окружил своего несчастного противника и дал ему решительное сражение, проигранное утром и снова выигранное вечером.
Впрочем, он и в самом деле был прекрасно поддержан своими генералами, и для возвеличивания его нет надобности жертвовать ничьей славой. Он наградил своих храбрых воинов блистательным образом, а смерть Дезе почтил самым благородным сожалением16.
Не покидая еще поля сражения при Маренго, Бонапарт решил вторично отправить письмо австрийскому императору. Хотя на первое письмо ответ ему был прислан не прямо, а посредством ноты Тугута Талейрану, он полагал, что одержанная победа дает ему право возобновить отвергнутые предложения.
В эту минуту он пламенно желал мира. Он чувствовал, что настоящая его роль состоит в примирении Франции извне, как он примирил ее внутри, и что исполнение этой роли придаст его зарождающейся власти больше законности, чем несколько новых побед.
К тому же, будучи склонным к сильным ощущениям, он оказался глубоко поражен видом равнины Маренго, на которой осталась лежать добрая четверть обеих армий.
Под влиянием всех этих ощущений Первый консул написал австрийскому императору довольно странное письмо.
«Среди поля битвы, — писал он, — среди страданий множества раненых и пятнадцати тысяч трупов умоляю Ваше Величество внять голосу человечности и не допустить, чтобы два благородных народа истребляли друг друга из-за интересов, им совершенно чуждых. На мне лежит обязанность склонить к тому Ваше Величество, потому что я ближе Вас к театру войны. Сердце Ваше не может быть так сильно поражено, как мое...»
Письмо было длинное. Со свойственным ему красноречием и языком не совсем дипломатическим Первый консул рассуждал о причинах, которые могут побуждать Францию и Австрию подымать друг против друга оружие.
«За что Вы сражаетесь? — говорил он. — За религию? В таком случае воюйте с русскими и англичанами, которые не признают Вашей веры, а не входите с ними в союзы. Или Вы хотите обезопасить себя от революционных идей? Но война, даруя Франции победы, уже распространила эти идеи на половину континента и распространит их еще более. Может быть, Вы деретесь за равновесие Европы? Но англичане угрожают ему гораздо более, чем мы; они сделались властелинами и тиранами торговли, и никто не смеет с ними тягаться, тогда как Европа всегда может удержать Францию, если бы она вздумала серьезно угрожать независимости народов. Или, — прибавлял воин и дипломат, — война ведется за сохранение Германской империи? Но Ваше Величество сами отдали нам Майнц и владения на левом берегу Рейна. К тому же вся империя усердно умоляет Вас даровать ей мир. Или, наконец, Вы воюете ради интересов Австрийского дома? Это естественно, но в таком случае приведем в исполнение Кампо-Формийский договор, который предлагает Вашему Величеству обширное вознаграждение за провинции, утраченные в Нидерландах, и притом предоставляет его там, где Вы сами желаете, то есть в Италии.
Благоволите прислать доверенных людей, куда Вам будет угодно, и мы прибавим к Кампо-Формийскому договору новые статьи, способные успокоить Вас насчет неприкосновенности второстепенных держав, в потрясении которых упрекают Французскую республику17.
На этих условиях мир можно считать заключенным. Постановим общее перемирие для всех армий и тотчас же начнем переговоры».
Генерал Сен-Жюльен, один из доверенных людей императора, должен был отвезти в Вену это письмо вместе с текстом конвенции.
Несколько дней спустя, когда первые впечатления поостыли, генерал Бонапарт стал жалеть о своем поступке, как часто жалел, отправив какую-нибудь значительную бумагу, не посоветовавшись с людьми более хладнокровными, чем он сам. Отдавая консулам отчет в этом своем поступке, он писал: «Я направил к императору курьера с письмом, содержание которого вам сообщит министр иностранных дел. Оно покажется вам несколько оригинальным, могу только сказать, что писано оно было на поле сражения».
Простившись с армией, Бонапарт утром 17 июня отправился в Милан, где его ожидали с живейшим нетерпением. Он прибыл в город к ночи. Народ, узнав об этом, выбежал на улицы, чтобы взглянуть на него. Везде раздавались радостные крики, карету Первого консула забросали цветами. Город был иллюминирован с тем великолепием, которое одни итальянцы умеют расточать на своих праздниках.
Ломбардийцы, в течение десяти или двенадцати месяцев испытывая австрийское иго, которое война и обстоятельства делали еще тягостнее, боялись, что опять подпадут под это невыносимое владычество. В продолжение всей кратковременной кампании до них доходили самые разноречивые слухи, они испытали страшное беспокойство и теперь были восхищены, видя, что независимость их наконец обеспечена.
Генерал Бонапарт тотчас же издал прокламацию о восстановлении Цизальпинской республики и поспешил заняться приведением в порядок дел в Италии, которой последняя его победа придала совершенно новый вид.
Мы уже говорили о том, что война, предпринятая грозным союзом России, Англии и Австрии с целью восстановления государей, свергнутых мнимым нашествием Директории, никому из них не возвратила престола. Король Пьемонтский [Карл Эммануил IV] оставался в Риме, великий герцог Тосканский [Фердинанд III] — в Австрии; папа умер в Балансе, а земли его находились во власти неаполитанцев. Одна только неаполитанская королевская фамилия, целиком преданная англичанам, осталась в своих владениях, где допускала самую кровопролитную реакцию. Неаполитанская королева Мария-Каролина, лорд Актон и адмирал Нельсон если сами не приказывали совершать, так по крайней мере разрешали самые гнусные жестокости. Победа Французской республики должна была все это изменить: она приносила столько же пользы гуманности, как и политике.
Первый консул, в ожидании преобразования Цизальпинской республики по заключении мира, предварительно учредил в Милане временное правительство. Полагая, что он никак не обязан делать в отношении короля Пьемонта больше, чем сделала Австрия, Бонапарт не поторопился восстанавливать его на престоле. Короля заменили временным правительством, к которому был прикомандирован генерал Журдан в звании комиссара. Уже давно Бонапарту хотелось вырвать из среды врагов и наградить этого честного и благомыслящего человека, неспособного быть главой французских анархистов18.
Итак, Пьемонт был оставлен до заключения мира на прежнем положении, с намерением располагать им потом, смотря по обстоятельствам: или в пользу Франции, или в качестве залога примирения с Европой при восстановлении второстепенных держав.
В Тоскане должен был оставаться австрийский корпус. Бонапарт велел наблюдать за ним и быть в полной готовности тотчас же вторгнуться в пределы Тосканы, если бы там вздумали высадиться англичане.
Что касается Неаполя, в отношении него Первый консул ничего не решал, ничего не говорил: он ждал, какое впечатление произведет на этот двор его победа. Испуганная королева Неаполитанская готовилась ехать в Вену и просить помощи Австрии и в особенности России.
Оставался Рим. Там светские интересы усиливались важными интересами духовными. Пий VI, как мы помним, умер в Балансе пленником Директории. Тридцатого ноября 1799 года в Венеции собрался конклав, который с большим трудом выпросил у австрийского правительства позволения избрать нового папу. Несколько месяцев протекала молчаливая, но упорная борьба сторонников разных партий. И вот наконец кардинал Консальви получил возможность предложить еще одного кандидата и свои соображения по поводу выбора.
«От Франции, — говорил он, — претерпевали мы преследования в течение последних десяти лет. От Франции же должны мы в будущем ожидать помощи и утешения. Франция со времен Карла Великого всегда была самой деятельной и наименее опасной покровительницей Церкви. Ныне в ней господствует молодой человек, необыкновенные дарования которого еще трудно обнаружить в полной мере. Поверьте мне, он скоро вновь завоюет Италию. Так давайте сделаем выбор, который не мог бы показаться враждебным Франции, но который, напротив, согласовался бы с ее выгодами. Этим мы принесем Церкви гораздо больше пользы, чем испрашивая кандидатов у всех католических держав Европы».
Консальви выставил кандидатуру кардинала Кьяра-монти, епископа Имолы. Лучшего выбора для предложенной им цели сделать было невозможно. Кардинал Кьярамонти, мужчина пятидесяти восьми лет родом из Чезены, родственник Пия VI, пользовался всеобщим уважением за свой ум, глубокие познания и множество добродетелей. При этом он отличался необыкновенной стойкостью характера. Последний и самый славный его подвиг состоял в проповеди, произнесенной им в качестве епископа Имолы по случаю присоединения его епархии к Цизальпинской республике. Он отзывался в ней о французской революции с умеренностью, которая восхитила победителя Италии и жестоко поразила приверженцев прежнего правительства. Кандидатура пришлась по вкусу всем кардиналам, утомленным продолжительностью конклава, и казалась счастливым выбором тем, кто надеялся на будущие выгоды от Франции.
Папа Пий VII был избран почти в самую ту минуту, когда генерал Бонапарт въезжал в Милан. Новый понтифик жил в Венеции, не имея возможности добиться от венского двора, чтобы его короновали в соборе Сан-Марко, а от неаполитанского — чтобы ему возвратили Рим. Наконец он уехал в Анкону и начал вести переговоры по поводу освобождения Папской области от неаполитанских войск и своего возвращения в столицу христианского мира.
В этом ненадежном положении Франция, которая стала благоволить к папскому престолу, имела все средства поддержать его своим сильным влиянием, и многозначительное предсказание монсеньора Консальви могло очень скоро осуществиться.
Едва вернувшись в Милан, Бонапарт повидался с кардиналом Мартинианой, епископом города Верчелли, другом папы Пия VII. Он объявил ему, что намерен жить в ладу с римским престолом, примирить Революцию с Церковью, даже поддержать ее в борьбе против врагов, если только новый папа поведет себя благоразумно и вникнет в настоящее положение Франции и остального мира.
Эти слова были услышаны, переданы по назначению и вскоре принесли обильные плоды. Епископ Верчелли отправил в Рим племянника, графа Альчиати, чтобы начать переговоры.
К своему призыву Бонапарт присоединил еще более смелый поступок, которого не позволил бы себе в Париже, но рад был продемонстрировать Франции издалека как знак будущих своих намерений. Итальянцы приготовили торжественную панихиду в древнем миланском соборе. Генерал Бонапарт изъявил желание присутствовать на ней и написал 18 июня консулам следующие слова: «Сегодня, как бы ни толковали об этом наши парижские атеисты, я со всей торжественностью отправляюсь слушать Те Оеит, который будут исполнять в миланской соборной церкви».
После этих общих забот о делах Италии Бонапарт сделал несколько необходимых распоряжений о размещении, снабжении и преобразовании армии на покоренных землях.
Гнев славного защитника Генуи ослабел при виде лестного приема, который ему оказал Первый консул. Массена получил руководство Итальянской армией, руководство, которого заслуживал во многих отношениях. В армию эту входили: корпус, который отстаивал Геную, корпус, защищавший Вар, войско, сошедшее с Сен-Бернара, и отряд, приведенный генералом Монсеем из Германии. Все вместе они составляли впечатляющую массу в восемьдесят тысяч испытанных ветеранов. Первый консул расположил их на плодородных равнинах реки По, чтобы дать отдохнуть после перенесенных трудов и настоящим изобилием вознаградить за прошлые лишения.
Затем Бонапарт определил, в каком объеме и каким способом должны быть взимаемы контрибуции для пропитания войска и лично проконтролировал отправку консульской гвардии, рассчитав все привалы так, чтобы она возвратилась в Париж к празднику 14 июля, который он хотел отметить на этот раз с особенной пышностью.
Еще в Милане позаботился он обо всех подробностях этого торжества. «Необходимо постараться, — писал он, — придать празднеству как можно больше блеска и позаботиться о том, чтобы оно не собезьянничало принятые у нас доселе увеселения. Состязание на колесницах могло быть очень удачной затеей в Древней Греции, где дрались на колесницах, — у нас оно не имеет никакого значения». Бонапарт не позволил воздвигать в честь своей победы триумфальные арки, говоря, что общественное благо составляет для него самый высший триумф.
Несмотря на то, что все призывало его в Париж, Первый консул пробыл в Милане еще десять дней только для того, чтобы удостовериться, исполняется ли в точности конвенция, подписанная в Алессандрии. Он не доверял австрийцам, ему казалось даже, что они нарочно медлят со сдачей крепостей. Можно было также опасаться за Геную, которую австрийцы могли сдать англичанам, прежде чем в нее вступят французы.
Князь Гогенцоллерн и в самом деле, добровольно или по наущению англичан, не хотел отдавать отряду Массе-на эту крепость, которую завоевали с таким трудом. Барон Мелас, узнав об этих затруднениях, самым благородным образом предписал своему соратнику в точности исполнить конвенцию и в случае сопротивления угрожал подвергнуть его наказанию, какое только может повлечь за собой вероломный поступок. Слова Меласа возымели свое действие, и 24 июня Генуя была наконец сдана французам под восторженные крики лигурийских патриотов, которые в столь короткое время избавились и от австрийцев, и от своих олигархов.
Таким образом, сбылись прекрасные слова Массена: «Клянусь вам, что раньше чем через две недели я опять буду в Генуе!»
Закончив дела, Первый консул выехал из Милана со своим любимым адъютантом Дюроком, начальником гвардии Бессьером, секретарем Бурьеном и Савари. В дороге он сказал им следующие значительные слова, которые прекрасно выражают его ненасытную жажду славы и величия: «Да, я менее чем в два года покорил Каир, Милан, Париж; но умри я завтра, обо мне едва ли напишут полстраницы в каком-нибудь учебнике всеобщей истории».
В ночь со 2-го на 3 июля Бонапарт прибыл в Париж. Возвращение его было необходимо. Двухмесячное отсутствие, в особенности сопровождаемое ложными слухами о битве при Маренго, опять оживило интриги. Многие полагали, что он убит или побежден, и честолюбцы тотчас принялись за работу. Одни стали помышлять о Карно, другие — о Лафайете, который благодаря благодетельному влиянию Первого консула был выпущен из тюрьмы и возвратился во Францию. Сам он не имел отношения к этим интригам, Карно — и того менее. Но Жозеф и Люсьен Бонапарты возымели против последнего подозрения и сообщили о них своему брату. Это стало причиной того, что Первый консул впоследствии, к сожалению, отнял у Карно портфель военного министра.
Полагали даже, будто Талейран и Футе, которые ненавидели друг друга, несмотря на это, стараются сблизиться, вероятно, чтобы условиться, как вместе воспользоваться обстоятельствами. Нельзя было в эту минуту проникнуть только в намерения Сийеса: этот человек имел наибольшее право сыграть важную роль в случае, если бы генерал Бонапарт действительно сошел со сцены, но он единственный и был так скрытен.
Впрочем, едва успели возникнуть эти планы, как дурные известия оказались вытеснены хорошими. Первый консул, упоенный своими успехами, не хотел, чтобы в эту минуту даже легчайшее облако омрачило всеобщее счастье. Он всех принял очень милостиво и сам был принят с восторгом, особенно теми, чья совесть была не совсем чиста.
Народ парижский, узнав о его прибытии, сбежался под окна Тюильри и весь день теснился во дворах и садах дворца. Первый консул вынужден был несколько раз показываться перед толпой. Вечером Париж был стихийно иллюминирован.
Все усердно праздновали чудную победу, верную предвестницу желанного мира. День этот так глубоко тронул виновника всех почестей, что двадцать лет спустя, одиноким пленником среди пустыни Атлантического океана, Бонапарт вспоминал его как один из лучших дней своей жизни.
На другой день во дворец были приглашены представители всех государственных сословий, подавшие первый пример поздравлений, утомительная традиция которых утвердилась во все последующее царствование. Но надо сказать, что это несколько однообразное льстивое обращение было в тот момент внушено искренним восторгом. Действительно, в течение нескольких месяцев изменился весь порядок вещей: безопасность сменила глубокую тревогу, неслыханная победа поставила Францию во главе европейских держав, уверенность в скором мире уничтожила всеобщий страх войны, наконец, повсюду развивалось благоденствие. Могли такие скорые и великие результаты не привести умы в восхищение?
Председатель Сената под конец своей речи сделал заключение, которое может дать представление и об остальных речах: «Нам приятно сознаться, — сказал он, — что отечество обязано вам своим спасением, что Республика будет вам обязана своим обустройством, а народ — благоденствием, которым вы в один день загладили десять лет самой бурной революции!»
Пока эти события происходили в Италии и во Франции, Моро продолжал на берегах Дуная свою главную кампанию против барона Края. Мы оставили его, маневрирующего вокруг Ульма, чтобы выманить австрийцев с их выгодной позиции.
Он расположился между Иллером и Лехом, опираясь правым и левым крыльями на обе эти реки, лицом к Дунаю, тылом к Аугсбургу. Он был готов встретить Края, если бы тот захотел вступить в битву, а пока заслонял ему дорогу к Альпам, что было непременным условием главного плана. Если успехи Моро были медленны и нерешительны, они все же оказывались постоянными и достаточно хорошими, чтобы дать Первому консулу возможность осуществить свои планы в Италии. Наконец наступила минута, когда главнокомандующий Рейнской армией, ободренный успехами Резервной армии, решился на значительный маневр по удалению Края с ульмской позиции.
Теперь, когда он знал о счастливом переходе через Альпы, можно было уже не опасаться открыть горы и действовать свободно. Из всех возможных маневров Моро предпочел переправу через Дунай, ниже австрийского укрепленного лагеря: это могло заставить Края покинуть наконец окопы из опасения, что отрежут линию отступления.
С 15 июня начались передвижения, призванные исполнить это новое намерение. Устройство армии Моро, как мы уже сказали, вследствие отъезда генералов Сен-Сира и Сент-Сюзанна, несколько изменилось. Лекурб по-прежнему составлял ее правое крыло и растянул свою позицию до Диллингена, Моро с резервным корпусом находился в центре, в Эслингене. Корпус Сен-Сира, перешедший под командование Гренье, составлял левое крыло и оставался у Гюнцбурга. Корпус Сент-Сюзанна, уменьшенный до размера большой дивизии и порученный отважному Риш-пансу, предназначался для фланкировки19 и должен был наблюдать за ситуацией в Ульме.
Девятнадцатого июня утром Лекурб расположил свои полки между деревнями Блиндгейм и Гремгейм, в которых мосты были только наполовину разрушены, и постарался укрыться за кущами деревьев. У него не было необходимых материалов для постройки моста, а только некоторое количество досок. Своей отвагой он заменил все, чего у него недоставало. Генерал Гюден, под надзором Лекурба, распоряжался переправой.
Выставили несколько орудий на берегу Дуная для удержания неприятеля на расстоянии. Адъютант Кено, завидев на противоположном берегу две большие лодки, бросился за ними вплавь. Храбрец притащил их под градом пуль, получив только легкое ранение в ногу.
Выбрали самых лучших пловцов дивизии; они сложили одежду и оружие в эти две лодки, а сами под неприятельским огнем кинулись в волны Дуная. Переплыв на тот берег, они, не одеваясь, схватили оружие, бросились на австрийские отряды, рассеяли их и вдобавок захватили два орудия с зарядными ящиками. После этого принялись за мосты, козлы которых еще были целы: быстро перекинули на них лестницы, стали настилать доски, чтобы обеспечить хотя бы первую связь. Несколько французских канониров воспользовались этим, тоже перешли на ту сторону Дуная и обратили против австрийцев отнятые у них же пушки. Вскоре французы овладели обоими берегами. Мосты были поправлены в достаточной степени, и большая часть войск могла совершить переход. Пехота и кавалерия начали перебираться.
Следовало ожидать, что значительные австрийские подкрепления поспешат с Донауверта и спустятся со всех возвышенных позиций. Лекурб расставил всю пехоту, которой мог располагать, и несколько взводов конницы в местечке Швеннинген, находящемся на дороге в Донауверт. Этот пост был очень важен, потому что австрийцы, отправляясь вдоль Дуная, должны были здесь появиться.
Действительно, вскоре показались четыре тысячи пехоты, пятьсот всадников и шесть орудий. Австрийцы бросились на деревню, которую французы менее чем за два часа несколько раз теряли и опять завоевывали. Наконец неприятель совсем было восторжествовал над французами и почти вытеснил их из деревни, как вдруг к Лекурбу очень кстати подоспело подкрепление, состоявшее из двух карабинерных эскадронов, и следующая атака была совершена с такой силой и быстротой, что опрокинула австрийцев.
Они оставили в руках французов все свои орудия, две тысячи пленных и триста лошадей. После этой блистательной битвы Лекурбу уже нечего было бояться низовьев Дуная, но величайшая опасность угрожала не оттуда: главные силы австрийцев находились выше, в Диллинге-не, Гундельфингене и Ульме. Надо было обратиться в ту сторону, чтобы встретить неприятеля, когда он двинется к Дунаю.
По счастью, дивизии Монришара, Гюдена и резерв д’Опуля уже перешли по исправленным мостам и заняли Гохштедтскую равнину, пользующуюся печальной славой еще со времен Людовика XIV20.
Неприятель из ближайших пунктов поспешил к Дил-лингену и расположился близ Дуная таким образом, что пехота его оказалась против левого крыла французов, около прибрежных болот, за мелкими кустарниками, а кавалерия — против правого.
Лекурб прискакал на место операции и привел с собой новые силы, почти весь кавалерийский резерв генерала д’Опуля. Итак, Лекурб во весь опор скачет через деревню впереди кирасиров и атакует австрийскую кавалерию, которая, не ожидая этого внезапного и неистового нападения, в беспорядке отступает и обнажает девять тысяч пехоты. Оставленные пехотинцы хотят укрыться в оврагах по берегам Дуная, но кирасиры пробивают
колонну, отрезают от нее тысячу восемьсот человек и берут их в плен.
Это была вторая счастливая битва в течение дня, но еще не последняя; в обоих случаях удачей отчасти обязаны коннице.
Все тот же храбрый Лекурб, заняв Лауинген пехотой, развернул конные войска на равнине, таким образом выманивая неприятеля на битву, которая должна была воодушевить австрийцев по причине большого числа и превосходства их кавалерии.
Первая австрийская линия тронулась в галоп, с единством и уверенностью, свойственными только опытной и хорошо обученной коннице. Она действительно сшибает карабинерный полк, который так отличился утром, и несколько эскадронов гусар, бросившихся с ним вместе в атаку. Но тут выдвигаются французские кирасиры, присоединяются к карабинерам и гусарам, которые, видя подкрепление, быстро разворачиваются и все вместе неистово налетают на неприятельские эскадроны, которые в свою очередь вынуждены показать тыл.
Видя это, вторая неприятельская линия бросается в атаку: на ее стороне преимущество напора, потому что французские эскадроны во время схватки расстроились. Французы опрокинуты, но их 9-й полк все еще в резерве. Маневрируя искусно и смело, он устремляется во фланг австрийской кавалерии, расстраивает ее, обращает в бегство и оставляет Гохштедтскую равнину за победоносными французскими эскадронами. Кавалерия французов решительно взяла верх над австрийской, чего еще никогда не случалось. С этой минуты все роды французских войск приобрели перевес над неприятельскими.
Было восемь часов вечера. В июне дни длинные, императорским войскам оставалось еще достаточно времени, чтобы оспорить у французов левый берег Дуная, столь славно завоеванный ими утром. Но на помощь к разбитым корпусам французов уже спешили восемь тысяч человек пехоты со значительной артиллерией. Прибыл также Моро со всем своим резервным корпусом. Тогда началось новое сражение, гораздо кровопролитнее прежних.
Французская пехота под ядрами и картечью атакует австрийскую пехоту. Солдаты Края, которые отстаивают
7 Консульство весьма важное для них дело, свою ульмскую позицию, дерутся отчаянно. Моро сам несколько раз попадает в самую гущу. Наконец, к одиннадцати часам вечера, его пехота, подкрепленная кавалерией, торжествует победу.
Французы перешли через Дунай, взяли пять тысяч пленных, двадцать орудий, тысячу двести лошадей, триста повозок и богатые донаувертские магазины. Дрались восемнадцать часов кряду.
Это событие, превратившее несчастную память Гох-штедтского поля в славное воспоминание, было лучшей операцией кампании после битвы при Маренго. Оно принесло славу и Лекурбу, и Моро. Последний очень медленно набирался отваги, но наконец, подстрекаемый итальянскими примерами, расширил круг своих действий и успел сорвать лавр с дерева, с которого Первый консул пожал так много венков. Счастливое и благородное соперничество! Хорошо, если бы оно никогда не переступало таких пределов.
После такого смелого и решительного маневра своего противника барон Край не мог дольше оставаться в Ульме, опасаясь быть отрезанным от сообщения с Веной. Идти прямо на французов и вступить с ними в битву было бы слишком рискованно, особенно после событий, сильно поколебавших дух австрийских солдат. В ту же ночь отправив вперед парк, состоявший из тысячи повозок, сам он на следующее утро с главной частью армии последовал по Нордлингенской дороге.
Погода была ужасная, и дороги оказались совершенно размыты дождем. Несмотря на это, Край двигался с такой быстротой, что через двадцать четыре часа был уже в Нордлингене. Чтобы поддержать свои изнуренные войска, он распустил слух, что в Италии заключено перемирие, которое будет распространено и на Германию, и что за этим непременно последует мир. Известие это обрадовало солдат и несколько восстановило их силы.
Моро слишком поздно узнал об отступлении неприятеля. Ришпанс только тогда заметил, что австрийцы оставили Ульм, когда из него выходили последние отряды. Он тотчас же уведомил о том главнокомандующего, но австрийцы уже далеко ушли вперед, а проливной дождь, который лил двое суток кряду, не дозволял догнать их форсированным маршем.
Несмотря на это, Моро прибыл в Нордлинген уже вечером 23 июня. Понимая, однако, что по этим дурным дорогам он не сможет нагнать австрийцев, Моро решил остановиться и выбрать позицию, сообразную с настоящим положением дел.
Барон Край, не желая радовать его известием о победе при Маренго, о которой еще не знали во французском лагере, тем не менее послал объявить ему о перемирии, заключенном в Италии, и пригласил заключить такое же для Германии. Моро, поняв из этого, что за Альпами совершились великие события, счастливые для Франции, и каждую минуту ожидая курьера с известием, не хотел вступать ни в какие переговоры, пока не узнает всех подробностей. Он решил снова перейти за Дунай, поручить Ришпансу занять два главных пункта на этой реке, Ульм и Ингольштадт, а также Аугсбург и Мюнхен, обеспечив таким образом себе продовольствие в Баварии.
Пока Моро совершал эти перестановки, враждующие армии встретились в последний раз и вступили в битву, беспредметную и неожиданную. Это произошло у Ней-бурга, на правом берегу Дуная, в то время как обе армии устремлялись к реке Изар. Французская дивизия, слишком отделившаяся от главной армии, вынуждена была выдержать продолжительное и отчаянное сражение, в котором под конец восторжествовала, но понесла чувствительную утрату, лишившись храброго Ла Тура д’Оверня. Этот знаменитый солдат, удостоенный генералом Бонапартом звания «первого гренадера Франции», пал от удара пикой в сердце. Вся армия оплакала его смерть и покинула поле битвы, лишь оставив памятный знак на его могиле.
Тринадцатого июля Моро был уже посреди Баварии, блокировал Ульм и Ингольштадт на Дунае и занял Мюнхен и Фрейзинген на Изаре. Теперь следовало подумать о Тироле и отнять у принца Рёйсского выгодные позиции, которыми тот владел вдоль гор и у истоков Иллера, Леха и Изара, позиции, посредством которых он всегда мог тревожить французов. Конечно, он был не слишком опасен, но присутствие его заставляло французского генерала отделять значительные отряды и беспрестанно заботиться о безопасности правого крыла. Поэтому генералу Молитору было послано подкрепление, все необходимые позиции были быстро и блистательно завоеваны, и положение французов на Изаре оказалось совершенно обеспечено.
Французское правительство предоставило Моро полную свободу действовать по своему усмотрению и прекратить военные действия, когда он сочтет нужным. Военачальник здраво рассудил, что воевать ему одному не имеет смысла. Отдых, которым наслаждались итальянские войска, возбуждал зависть в солдатах германских, кроме того, Рейнская армия слишком отдалилась от Итальянской и, таким образом, обнажила один из своих флангов. А потому Моро, которому барон Край делал неоднократные предложения, решился наконец их выслушать и 15 июля подписал под Мюнхеном перемирие почти на тех же условиях, что и итальянское. Обе армии должны были удалиться за демаркационную черту, которая пролегала через Тироль и достигала Майнца. Укрепленные Ульм и Инголыптадт оставались на осадном положении, но могли каждые две недели получать столько припасов, сколько нужно было для содержания их гарнизонов. В случае возобновления военных действий обе армии должны были предупредить друг друга за двенадцать дней.
Таким образом, французская армия имела для своего снабжения Франконию, Швабию и большую часть Баварии. Французские солдаты, расположенные на Минчио с одной стороны Альп и на Изаре — с другой, вполне могли вознаградить себя на обильных равнинах Италии и Германии за все лишения и труды.
Рейнская армия хотя не достигла той славы, какой покрыла себя Итальянская, но отличилась кампанией, проведенной с умом и силой. Последний подвиг ее, переход через Дунай у Гохштедта, мог занять место между блистательнейшими событиями французской военной истории.
Общее мнение о Моро, столь нелестное в 1799 году, в 1800-м сделалось вполне благоприятным. Имя Моро
называли сразу после имени генерала Бонапарта, правда, пока с большим отрывом; и так как мнение публики переменчиво, Моро теперь затмевал собой победителя при Цюрихе [Массена], как тот затмил его в предшествовавшем году.
Радость была всеобщей. Консульский декрет известил капиталистов, что за первую половину следующего года им будет все выплачено звонкой монетой, — счастливая новость, о которой давно уже не мечтали злополучные государственные заимодавцы. Все эти выгоды приписывали армиям, их военачальникам и в особенности молодому Бонапарту, который показал, что так же превосходно умеет управлять, как и сражаться.
Праздник 14 июля, одно из двух республиканских торжеств, сохраненных Конституцией, был устроен с особенным блеском. Великолепная церемония была приготовлена в церкви Дома инвалидов. Композитор Мегюль сочинил прекрасную музыку, для исполнения которой были выписаны превосходнейшие певцы Италии. Послушав величественное пение под куполом знаменитой церкви, Первый консул отправился на Марсово поле для встречи консульской гвардии. В это самое утро она вступила в Париж, покрытая пылью, в лохмотьях, и принесла с собой знамена, завоеванные в последнюю кампанию, чтобы присоединить их к общему списку французских трофеев.
Толпа, которая окружала Марсово поле, бросилась к гвардейцам, чтобы поближе рассмотреть героев. Восторг, доходивший до крайности, едва не стал причиной несчастных случаев. Первый консул возвратился во дворец в окружении народа. Весь день был посвящен народным увеселениям.
Спустя несколько дней, 21 июля, возвестили о прибытии графа Сен-Жюльена, доверенного лица императора Священной Римской империи: ему поручено было доставить в Париж ратификацию Алессандрийской конвенции и договориться с Первым консулом насчет условий будущего мира. Тогда уже перестали сомневаться, что этот всеми желаемый мир, призванный положить конец второй коалиции, наконец будет заключен.
Франция, можно сказать, никогда не видела дней более прекрасных.
ГЕЛИОПОЛЬ
В августе 1799 года генерал Бонапарт, получив известия из Европы, решил немедленно оставить Египет. Он приказал адмиралу Гантому вывести из Александрийского порта фрегаты «Мюирон» и «Карьер», единственные оставшиеся у него после уничтожения флота, и встать на якорь на небольшом рейде в Марабу. Отсюда Бонапарт хотел отплыть. Он увозил с собой генералов Бертье, Ланна, Мюрата, Андреосси, Мармона и двух наиболее любимых ученых, участвовавших в экспедиции, Монжа и Бертоле.
Двадцать второго августа он отправился в Марабу и поспешно сел на фрегат, беспрестанно опасаясь появления английской эскадры. Лошади, служившие для переезда и брошенные на берегу, во весь опор понеслись к Александрии. Вид этих коней, оседланных, но без всадников, произвел неприятное впечатление: подумали, что с гарнизонными офицерами приключилось какое-нибудь несчастье, и отрядили из укрепленного лагеря несколько кавалеристов. Но скоро конюх-турок, присутствовавший при отплытии фрегатов, объяснил, в чем дело. Генерал Мену, который один был посвящен в тайну главнокомандующего, объявил об отплытии Бонапарта и передаче им руководства Клеберу.
Эта новость сильно удивила и опечалила войско. Сначала никто не хотел ей верить, однако вскоре всякое сомнение исчезло: Клебер был официально провозглашен преемником генерала Бонапарта. Офицеры и солдаты пребывали в унынии: нужно было иметь влияние победителя Италии, чтобы увлечь их за собой в страны отдаленные и безвестные, и только его влиянием и можно было удержать армию там. Тоска по родине — страсть; она становится еще сильнее, когда ее разжигают расстояние,
новизна мест и страх перед невозможностью вернуться. Но присутствие главнокомандующего, его речи, его беспрерывная деятельность рассеивали эти мрачные облака. Привыкнув к своим постоянным занятиям и все время занимая других, Бонапарт держал умы в напряжении и не давал зарождаться тоске.
Теперь он уехал, и все изменилось. Никто не мог понять этого непреодолимого порыва патриотизма и честолюбия, который, при первом известии об опасности, угрожавшей Республике, побудил его возвратиться во Францию. Видели только, как главнокомандующий покинул несчастную армию, которая питала столько доверия к его гению, что пошла за ним.
Клебер не любил генерала Бонапарта и с трудом выносил его очевидное превосходство. Если он и воздерживался в присутствии главнокомандующего, то за глаза изливал свое негодование самым неприличным образом. Недовольный и заносчивый, Клебер в свое время пламенно желал выйти из опалы у Директории и принял участие в египетской экспедиции. Теперь же он сожалел о том, что променял Рейн на берега Нила. Этот человек, мужественный в минуту опасности, упал духом, как последний из солдат. Ожесточась против Бонапарта, он совершил ошибку, которую можно было бы назвать преступной, если бы он впоследствии не загладил ее подвигами: он сам способствовал распространению в армии недовольства, которое вскоре сделалось всеобщим. Все стали говорить, что нельзя дальше оставаться в Египте и надо во что бы то ни стало возвращаться во Францию. К этому пламенному желанию возвращения на родину присоединялись еще и другие чувства, порождающие в армии самые опасные настроения.
Давнее соперничество разделяло в то время офицеров, вышедших из Рейнской и Итальянской армий. Они завидовали друг другу, и каждая партия утверждала, что гораздо лучше умеет вести войну. Хотя это соперничество приглушалось присутствием Бонапарта, оно, в сущности, составляло главное основание разногласий. Принадлежавшие к Рейнской армии ветераны весьма неблагосклонно смотрели на египетскую экспедицию; офицеры же Итальянской армии, напротив, хоть и тосковали по Франции, но оставались сторонниками экспедиции, потому что она была делом их вождя.
По отбытии же генерала Бонапарта всякое принуждение исчезло. Около Клебера собралась шумная толпа и вместе с ним громко повторяла, что покорение Египта — просто безумное предприятие, от которого надо как можно скорее отказаться. Это мнение встретило, впрочем, и противников. Некоторые генералы, и в особенности Ланюс, Мену, Даву, Дезе, осмелились обнаружить совсем иные чувства.
С этих пор родились две партии: одна называлась колониальной, другая — антиколониальной. К несчастью, Дезе тоже отсутствовал, завершая завоевание Верхнего Египта и выигрывая славные битвы, а затем собирался, по приказу Бонапарта, и вовсе покинуть Египет. Итак, его влияние не могло быть в эту минуту противопоставлено влиянию Клебера. А ведь Дезе, имя которого было всеми любимо и уважаемо в армии, управлял бы колонией превосходно и предохранил бы себя от всех слабостей, которым, хоть и временно, предался Клебер.
Клебер, впрочем, пользовался у солдат наибольшей популярностью. Назначение его было принято с полным доверием и несколько утешило армию в потере знаменитого полководца. Генерал возвратился в Каир, принял командование со всей торжественностью и поселился на площади Эзбекие в прекрасном доме, окружив себя роскошью не столько для удовлетворения собственного вкуса, сколько для внушения уважения восточным жителям. Но скоро заботы начальствования, невыносимые для него, и опасности, которыми снова начали угрожать Египту турки и англичане, наполнили его душу самым мрачным унынием. Приказав подготовить отчет о состоянии колонии, он отправил Директории депешу, полную ошибок, и присовокупил к ней рапорт управляющего финансами, в котором все было представлено в самом ложном свете и который, сверх того, служил обвинением генералу Бонапарту. Согласно этой бумаге, армия, уже уменьшившаяся наполовину, в эту минуту заключала в себе не более 15 тысяч человек и оставалась почти раздетой, а это было весьма опасно в тамошнем климате по причине огромной разницы в температурах днем и ночью. Армия, оказывается, не имеет ни пушек, ни мушкетов, ни огнестрельных снарядов, ни пороха, а произвести их трудно, потому что чугуна, свинца, строевого леса и материалов для пороха в Египте не водится. В финансах, разумеется, большой дефицит: у солдат задержано жалованье на сумму четыре миллиона, а семь или восемь уже должны разным поставщикам, при этом все средства налогов истощены, и весь Египет восстанет, если придумать еще новые. Два знаменитых предводителя мамелюков, Ибрагим-бей и Мурад-бей, все еще держатся со многими тысячами кавалерии один в Верхнем, другой в Нижнем Египте, а паша Акры Джеззар готовится послать в подкрепление турецкой армии 30 тысяч превосходных солдат. Да еще и Россия с Англией намерены присоединить регулярное войско к нерегулярным турецким силам. В этой крайности остается только одно средство, — утверждал Клебер, — вступить в переговоры с Портой. А поскольку генерал Бонапарт в инструкциях оставил ясные полномочия своему преемнику, то с великим визирем попробуют заключить договор о совместном владении страной: Порта займет поля Египта и будет собирать поземельные подати, а Франция возьмет себе города и крепости и будет пользоваться таможенным сбором.
Кроме того, Клебер прибавлял, что Бонапарт ясно видел приближение кризиса и в этом была главная причина его быстрого отъезда. Управляющий финансами Пусьельг и вовсе заканчивал свой рапорт клеветой, утверждая, что главнокомандующий, оставляя Египет, взял с собой два миллиона. Чтобы дополнить эту картину, прибавим, что Пусьельг был осыпан благодеяниями генерала Бонапарта.
По отправлении депеш полагали, что генерал теперь подвергнется одной из двух опасностей: будет или захвачен англичанами, или жестоко наказан Директорией. Каково было бы смущение писавших эти депеши, если бы они знали, что их распечатает и прочтет тот, кого они обременяли клеветой и кто ныне сделался первым лицом правительства?
Клебер не имел намерения лгать, он был слишком беспечен, чтобы лично удостовериться в настоящем положении дел, он даже не позаботился сверить посылаемые им отчеты с собственными данными. Клебер просто передавал слухи, которые в результате всеобщего кипения страстей преувеличивались и превращались некоторым образом в единое мнение.
Эти депеши были вверены родственнику директора Барраса вместе со множеством писем, в которых офицеры армии выражали отчаяние столь же несправедливое, сколь и безрассудное. Посланец был захвачен англичанами и бросил пакет с депешами в море, но пакет всплыл, его заметили, поймали и отправили в британский кабинет (вскоре мы увидим, что произошло в результате получения англичанами этих неблагонамеренных известий). Но Клебер и Пусьельг отправили свои депеши в Париж в двойном экземпляре. Второй экземпляр, посланный другим путем, дошел до Франции и был вручен Первому консулу.
Что же было справедливо в этой картине, начертанной больным воображением? Армия, по словам Клебера, уменьшилась до пятнадцати тысяч человек; несмотря на это, в отчете, который он послал Директории, значилось 28 400 солдат. Когда через два года армия эта возвратилась во Францию, она все еще насчитывала в рядах своих 22 тысячи, а в эти два года произошло несколько больших сражений и бесчисленное множество мелких битв.
Египет страна здоровая: раны исцеляются там очень быстро. В том году было мало больных и чума не обнаруживалась. Весь Египет был полон христиан, греков, сирийцев и коптов, которые желали служить под французскими знаменами. Из них можно было набрать от пятнадцати до двадцати тысяч отличных рекрутов. К тому же Египет был покорен. Крестьяне, обрабатывавшие землю, привыкли повиноваться разным властям и не думали браться за оружие. За исключением некоторых восстаний в городах, было некого бояться, кроме турок, не знавших дисциплины и пришедших издалека, или английских наемников, в некотором количестве завезенных на кораблях. Против таких врагов французская армия была более чем сильна, если только ею будут управлять пусть не гениально, а просто со здравым смыслом.
Генерал Бонапарт оставил сукно на обмундирование солдат, и спустя месяц после отравления депеши вся армия была одета с иголочки. Да и в любом случае, Египет был богат тканями: он снабжал ими всю Африку. Легко было запастись ими, закупив или требуя в зачет части податей.
Что касается припасов, то Египет был житницей всех стран, не имеющих хлеба. Пшеница, рис, говядина, баранина, домашняя птица, сахар, кофе были там вдесятеро дешевле, чем в Европе. Дешевизна простиралась до того, что армия могла за все свои жизненные потребности платить наличными деньгами, то есть вести себя в Африке гораздо лучше, чем христианские армии ведут себя в Европе, ибо они, как известно, живут в завоеванных землях, не платя ни за что.
На вооружении армии все еще имелось 11 тысяч сабель, 15 тысяч мушкетов, до тысячи пятисот орудий и из них 180 — полевых. Последующие события доказали верность этих данных, потому что армия сражалась еще два года и оставила множество запасов англичанам. И действительно, куда бы могло деваться огромное количество снарядов, так тщательно запасенных Бонапартом на кораблях, перевезших армию в Египет?
Относительно финансов донесение Клебера было столь же ложно. Жалованье войскам выплачивалось исправно. Правда, еще не было решено, какой финансовой системы держаться, чтобы, снабжая продовольствием армию, не обременять жителей; но средства к содержанию войск уже были найдены: поддерживая только существующие налоги, можно было жить в изобилии. Стало быть, не для чего было возбуждать народ к восстанию, налагая на него новые пошлины.
Что касается опасностей нападения, картина была следующей. Павший духом Мур ад-бей скитался с несколькими мамелюками в Верхнем Египте. Ибрагим-бей, который во время владычества мамелюков разделял с ним верховную власть, находился в это время в Нижнем Египте, у границ Сирии. С ним было не более четырехсот всадников.
Джеззар-паша был заперт в крепости Сен-Жан д’Акр. Он не только не готовил подкрепления для армии визиря, а, напротив, с неудовольствием наблюдал за приближением турецкой армии, особенно теперь, когда его провинция была освобождена от французов.
Английские войска находились в Махоне: Англия предполагала использовать их в Тоскане, Неаполе или на берегах Франции. А русская экспедиция была и вовсе чистой выдумкой. Русские никогда и не предполагали пуститься в такой дальний путь для содействия английской политике на Востоке.
Итак, Клебер поддался весьма опасным преувеличениям, печальному следствию ненависти, скуки и отчуждения. Генерал Мену видел вещи, напротив, в самом радужном свете. Он полагал, что французы в Египте непобедимы, и смотрел на египетскую экспедицию как на начало значительного переворота всемирной торговли. Люди никак не могут отодвинуть свои личные впечатления, давая подобные оценки. Клебер и Мену оба были людьми честными, но один хотел ехать, а другой — непременно остаться в Египте. Самые верные, самые ясные данные в глазах их имели совершенно различное значение: один видел в них нищету и погибель, другой — изобилие и успех.
Впрочем, какое бы ни было положение дел, Клебер и его приверженцы были чрезвычайно виновны, думая об оставлении Египта, потому что не имели на то права. Хотя Бонапарт в своих инструкциях предвидел и случай, когда французская армия должна была бы оставить Египет. «Я еду во Францию, — писал он. — Буду ли я простым гражданином или сановником, но я вытребую вам вспомоществование. Но если будущей весной [он писал в августе 1799 года] вы не получите ни помощи, ни новой инструкции, если вдруг чума истребит свыше тысячи пятисот человек, если вас будет сильно теснить значительная армия, против которой вы не в силах устоять, — тогда вступите в переговоры с визирем. Вы можете даже согласиться оставить Египет, но с непременным условием — просить на то разрешение французского правительства; а пока продолжайте расширять владения. Таким образом, вы выиграете время, а между тем к вам подоспеет помощь».
Наставления эти были чрезвычайно благоразумны; но предполагаемый случай пока еще не наступил.
Следовательно, переговоры, начатые без этих условий, могли считаться преступлением.
В сентябре 1799 года генерал Дезе, оставив в покоренном Верхнем Египте две мобильные колонны для преследования Мурад-бея, возвратился в Каир по приказанию Клебера: последний хотел воспользоваться знаменитым именем генерала для начала злосчастных переговоров, которые замыслил. Между тем армия визиря [Юсуфа-паши], о которой давно уже говорили, медленно приближалась. А сэр Сидней Смит, перевозивший на своих кораблях турецкие войска, отправленные морем, доставил к Дамьетте восемь тысяч янычаров, и 1 ноября 1799 года отряд янычаров, состоявший из четырех тысяч человек, направился в шлюпках к городу.
Генерал Вердье, который стоял в Дамьетте только с тысячей солдат, вышел из города и направился к узкому мысу, где высадились турки. Не давая времени подоспеть остальным янычарам, он напал на высадившихся и, несмотря на огонь английской артиллерии, очень выгодно помещенной на старой башне, разбил их. Он потопил и положил на месте более трех тысяч, а остальных взял в плен.
При первом известии об этой высадке Клебер отрядил на подмогу Дезе с тремя тысячами солдат, но генерал напрасно прибыл в Дамьетту: победа была уже одержана, а французы полны безграничного доверия к своим силам; они лишились в этом деле только двадцати двух человек, сто человек были ранены.
Эта успешная стычка должна была ободрить Клебера, но, к несчастью, он был слишком подавлен своей тоской. В таком мрачном настроении Клебер отправил к визирю, вступившему в Сирию, одного из своих офицеров с новыми мирными предложениями. Сам генерал Бонапарт, желая рассорить визиря с англичанами, собирался уже вступить в переговоры, но с его стороны это была только хитрость. Его предложения были приняты высокомерно и с недоверчивостью, а клеберовы удостоились лучшего приема вследствие влияния сэра Сиднея Смита, которому хотелось играть важную роль в делах Египта. Этот офицер английского флота немало повредил успеху осады крепости Акры, гордился этим и теперь затеял военную хитрость, которая состояла в том, чтобы воспользоваться минутой слабости и отнять у французов их драгоценное завоевание.
И действительно, все письма французских офицеров, перехваченные англичанами, ясно доказывали, что они страстно желают возвратиться во Францию. На этом основании сэр Смит хотел подвести французскую армию к переговорам, заставить подписать капитуляцию и, прежде чем французское правительство успеет ее одобрить или отвергнуть, посадить всю армию на корабли и отправить ее на европейские берега.
С этой целью он уговорил визиря выслушать предложения Клебера, сам же обходился с французскими офицерами с величайшей предупредительностью: доставлял им все новейшие европейские известия, кроме тех, однако же, которые касались 18-го брюмера.
Клебер, со своей стороны, отправил к Сиднею Смиту переговорщика: поскольку англичане владели морем, он хотел, чтобы и они приняли участие в переговорах, надеясь тем обеспечить безопасное возвращение армии во Францию.
Сидней Смит принял посланного с полной готовностью, но прибавил, что, по условиям договора, заключенного при его посредничестве 5 января 1799 года, между Россией, Англией и Портой существует тройственный союз, по которому эти державы обязались все делать с общего согласия; следовательно, никакая сделка с Портой не будет действительна, если решена без участия всех трех дворов. В своих посланиях сэр Сидней Смит титуловал себя «полномочным министром Его Британского Величества при Порте Оттоманской, главнокомандующим эскадрой в морях Леванта». Он присвоил себе титул, которым именовался прежде, но который ему не принадлежал с момента прибытия в Константинополь в качестве британского посланника лорда Элджина. У сэра Смита оставалось только право заключать военные конвенции, перемирия и т.д.
Клебер, не рассмотрев дела поближе, не убедившись сначала, имеют ли договаривающиеся с ним лица достаточные полномочия, слепо бросился в опасное предприятие, куда его увлекало общее чувство всей армии. Он неминуемо нашел бы в этом начинании свой позор, если бы, по счастью, Небо не одарило его душой героя: Клебер смог блистательно воспрянуть, постигнув всю важность своего проступка.
Итак, он вступил в переговоры и предложил Сиднею Смиту и визирю назначить офицеров с полномочием вести переговоры. Не желая принимать турок в своем лагере, равно как и рисковать жизнью своих офицеров среди необузданной армии великого визиря, он предложил выбрать местом переговоров корабль «Тигр», на котором приплыл сэр Сидней.
Через некоторое время британец прислал ответ: он соглашался поочередно подплыть к Александрии и Да-мьетте, чтобы принять на корабль посланных Клебером офицеров. Клебер назначил генерала Дезе и Пусьельга, которого египтяне, по арабскому обычаю, величали «визирем султана Клебера». Пусьельг стоял за оставление Египта, Дезе был совершенно противоположного мнения. Этот благородный воин употребил все возможные усилия, чтобы остановить панику и воодушевить своих собратьев. Он взялся за переговоры, затеянные Клебером, только в надежде протянуть их до тех пор, пока из Франции подоспеют подкрепление или новые приказания.
Клебер, чтобы оправдаться в глазах Дезе, говорил ему, что генерал Бонапарт первый начал переговоры с турками и сам предвидел и уполномочил заключение договора об оставлении Египта. Дезе, не знавший сути дела, все еще надеялся, что первый же французский корабль принесет новые известия и, может быть, изменит жалкое решение главного штаба. Двадцать второго декабря 1799 года Дезе с Пусьельгом вступили на корабль «Тигр».
Это случилось в ту самую минуту, когда генерал Бонапарт был облечен верховной властью во Франции.
Сэр Сидней Смит, радуясь, что заполучил на свой корабль такого влиятельного полномочного, оказал ему самый льстивый прием и всеми средствами старался навести на мысль покинуть Египет. Дезе умело отклонил предложение и представил условия, которые Клебер поручил ему оговорить. Эти условия не могли быть приняты английским командиром и потому были по сердцу Дезе: они были плохо рассчитаны Клебером и до того преувеличены, что делали любое соглашение невозможным. Клебер требовал, например, чтобы французская армия, удалившись со всеми военными почестями, с оружием и обозами, могла высадиться в том пункте материка, где ей вздумается, чтобы оказать Республике помощь там, где сочтет это нужным. Он требовал, чтобы Порта немедленно возвратила острова, признанные, по Кампо-Формий-скому договору за Францией, а именно: Корфу, Закинф, Кефалонию и прочие, которые заняты турецкими и русскими гарнизонами, чтобы эти острова, и особенно Мальта, оставались за Францией; наконец, чтобы договор, объединяющий Англию, Россию и Порту, был немедленно аннулирован, а Тройственный восточный союз расторгнут.
Нужно признать, что такие условия были нелепы, и сэр Сидней дал это почувствовать Клеберу. Офицер, договаривающийся о простом перемирии, не может включать в свои условия таких обширных политических предметов. Острова были заняты русскими и турецкими войсками, стало быть, следовало снестись не только с Константинополем, но и с Петербургом. Мальта зависела от короля Неаполитанского; нельзя было располагать ею без его согласия, а он никогда не согласился бы уступить этот остров Франции. Да и высадить французскую армию в той точке континента, где она своим неожиданным появлением могла бы изменить весь ход военных действий, было бы дерзостью, которую простой коммодор морского поста не мог принять на свою ответственность. Наконец, потребовать расторгнуть Тройственный союз значило потребовать, чтобы сэр Сидней Смит, один, на своем корабле, аннулировал договор, скрепленный тремя сильными монархиями и получивший огромное значение для Востока.
Британцу стоило небольшого труда убедить в этом французских посредников. Но прежде всего надо было условиться о двух необходимейших вещах: во-первых, об отправке в Европу раненых и ученых, прикомандированных к египетской экспедиции, для которых Дезе требовал охранных грамот; во-вторых, о приостановлении военных действий, потому что армия визиря, хотя и двигалась медленно, скоро уже должна была встретиться с французской армией. Она дошла до Эль-Ариша, первого французского поста на сирийской границе, и требовала сдачи этой крепости.
Клебер, получивший о том известие, предписал генералу Дезе поставить непременным условием к началу переговоров задержку турецкой армии на границе.
Первое обстоятельство, то есть отправка раненых и ученых, вполне зависело от Сиднея Смита, и он согласился на это с величайшей охотой и вежливостью. Что же касается второго пункта — перемирия, то сэр Сидней объявил, что будет просить визиря, но за успех не ручается, потому что с турецкой армией, состоящей из нестройных и фанатически настроенных орд, весьма трудно заключать правительственные конвенции и еще труднее обеспечить их выполнение.
Чтобы устранить это препятствие, он решился лично отправиться в стан визиря, расположенный в окрестностях Газы. Пользуясь коротким штилем, сэр Сидней сел в шлюпку и поплыл, пренебрегая опасностью, к берегу. В ту минуту, когда английский коммодор прибыл к лагерю Юсуфа-паши, ужасное событие произошло в Эль-Арише.
Турецкая армия, состоявшая частично из янычар, но в основном из тех азиатских ополченцев, которые, по мусульманскому закону, находятся в полном распоряжении султана, представляла собой беспорядочную и недисциплинированную массу, грозную для всего европейского. Она была собрана во имя Пророка, в последнем усилии изгнать неверных из Египта. Туркам было объявлено, что грозный Огненный Султан (Бонапарт) покинул неверных, что они ослабели и упали духом, что достаточно появиться перед ними, чтобы одержать победу, а весь Египет готов восстать против их владычества. Эти и другие призывы собрали под знамена визиря от семидесяти до восьмидесяти тысяч мусульман.
Англичане прислали этой армии что-то вроде полевой артиллерии, в которую впрягали мулов. Аравийские бедуины в надежде ограбить побежденных, кто бы они ни были, предоставили в распоряжение визиря 15 тысяч верблюдов, чтобы помочь ему перебраться через пустыню, отделяющую Палестину от Египта. При штабе турецкого полководца состояли также несколько английских офицеров и французов-эмигрантов, которые научили Джеззар-пашу искусству защищать Сен-Жан д’Акр.
Крепость Эль-Ариш, по словам Бонапарта, представляла собой один из двух ключей к Египту, другим ключом была Александрия. Войско, приплывшее морем, могло высадиться в большом количестве только на берега Александрии. Войско же, которое является сухим путем через Аравийскую пустыню, должно непременно пройти через Эль-Ариш, чтобы утолить жажду у колодцев, которые тут находятся. Поэтому Бонапарт и велел построить значительные крепостные сооружения в Александрии и поправить укрепления Эль-Ариша.
Гарнизон крепости, снабженный продовольствием и орудиями, состоял из трехсот человек, которыми командовал храбрый офицер Казань.
Когда турецкий авангард подошел к Эль-Аришу, полковник Дуглас, английский офицер, состоящий на службе у турецкого султана, предложил Казалю сдать крепость. Начались переговоры. Солдатам наговорили, что Египет, по-видимому, придется оставить, что это дело почти решено и было бы жестоко со стороны начальства заставлять их продолжать защищаться. Тогда преступное чувство, которое начальники поддерживали во всей армии, вспыхнуло с новой силой. Солдаты Эль-Ариша, желавшие, подобно своим товарищам, покинуть Египет, объявили коменданту, что не намерены сражаться и надо сдать крепость.
Храбрый Казаль, исполненный негодования, собрал всех солдат и обратился к ним с благороднейшей речью. Он говорил, что если между ними есть трусы, то пусть они отделятся от гарнизона и перейдут к туркам, что он предоставляет им полную свободу, но сам, с французами, верными своему долгу, будет защищаться до последнего вздоха. Слова эти на какое-то время пробудили в солдатах чувство чести, и предложение о сдаче было отвергнуто. Начался приступ.
Турки не в состоянии были овладеть ни одной, даже слабо защищенной, позицией: батареи крепости сбили все их орудия. Однако, направляемые английскими офицерами и эмигрантами, они подвели свои траншеи до угла одного из бастионов. Комендант выслал нескольких гренадеров, чтобы вытеснить турок из первой линии траншей, но за капитаном Ферре, которому было дано это поручение, последовали только три гренадера. Видя, что солдаты его отстали, он возвратился.
Пока вне стен крепости происходили эти события, внутри крепости бунтовщики, мечтавшие сдаться, спустили туркам несколько веревок. Обозленные противники, проникнув в крепость, начали рубить несчастных, которые помогли им взобраться на стену, и большую часть из них перерезали. Прочие, осознав, что наделали, присоединились к остатку гарнизона, защищались отчаянно, но почти все были истреблены. Очень немногие сдались в плен и остались в живых благодаря посредничеству полковника Дугласа.
Так пала крепость Эль-Ариш. Это было первое следствие гибельного настроя умов в армии, первый плод, снятый военачальниками с древа собственных ошибок.
Это случилось 30 декабря. Письмо, отправленное Сиднеем Смитом великому визирю с предложением перемирия, не успело вовремя и не смогло предупредить несчастную участь Эль-Ариша. Сэр Сидней был человеком благородным: варварское истребление французского гарнизона возмутило его и в особенности заставило бояться прекращения переговоров. Он поспешил отправить Клеберу объяснение — как от себя, так и от имени великого визиря — и присовокупил формальное ручательство в том, что во время переговоров все враждебные действия будут прекращены.
Наблюдая за поведением турецких солдат, Смит стал всерьез опасаться за французских уполномоченных. Он потребовал, чтобы палатка, предназначенная для их приема, была разбита вблизи шатров великого визиря и рейс-эфен-ди и чтобы вокруг нее была поставлена значительная охрана из отборнейших войск. Свою палатку он приказал поставить возле французской и, наконец, составил из английских матросов отряд — для предохранения от всякого несчастного случая себя и вверенных его чести французских офицеров.
Только приняв эти меры предосторожности, он послал в Яффу за генералом Дезе и Пусьельгом.
Клебер, узнав о резне в Эль-Арише, не обнаружил такого негодования, какое нужно было ожидать. Он чувствовал, что могут прекратиться всякие переговоры, если слишком горячо настаивать на своем, а потому продолжал только призывать к прекращению военных действий. Для того ли, чтобы быть ближе к месту переговоров, или из предосторожности, генерал оставил Каир и перенес свою главную квартиру в Салайе, на расстояние двух переходов от Эль-Ариша.
Дезе и Пусьельг прибыли в Эль-Ариш 13 января 1800 года. Совещания начались тотчас же по их прибытии, но Дезе в негодовании чуть не прервал переговоры. Невежественные турки, по-своему истолковывая поступки французов, видели в их стремлении договориться не желание вернуться на родину, а страх перед новыми сражениями. Поэтому они требовали, чтобы армия сдалась в плен.
Дезе хотел тотчас же прекратить всякие переговоры, но сэр Сидней принялся за дело, призвал обе стороны к более умеренным выражениям и предложил такие уважительные условия, какие только могли существовать в подобных обстоятельствах.
Клебер сам уже не упоминал о Мальте, о венецианских островах и о снабжении их припасами. Впрочем, чтобы придать своей капитуляции больше блеска, он продолжал настаивать, чтобы Порта отказалась от Тройственного союза. Но поскольку отсутствовала высокая английская сторона, то и это условие отложили в долгий ящик, как все другие. Таковы были жалкие уловки, которыми Клебер и его советники желали прикрыть перед собой же свой недостойный поступок.
В итоге стали просто обсуждать вывод французских войск из Египта и условия этого вывода. После долгих прений было решено прекратить все враждебные действия на три месяца. Эти три месяца будут употреблены визирем на то, чтобы соединить в портах Розетты, Абукира и Александрии достаточное количество кораблей для переправы французской армии в Европу, а генерал
Клебер тем временем освободит от армии верховья Нила, Каир, окрестные области и сосредоточит войска в местах, где им нужно будет взойти на суда. Французам дозволялось удалиться с оружием и обозами, то есть со всеми военными почестями. Кроме того, французам назначалось три миллиона франков — сумма, необходимая для содержания армии во время ее выхода и переезда.
Крепости Катийе, Салайе и Бельбейс, расположенные по границе Аравийской пустыни, решено было сдать десять дней спустя после ратификации договора, а Каир — через сорок дней. Генерал Клебер обязывался ратифицировать договор в течение недели, без предварительного сношения с французским правительством. Наконец, сэр Сидней Смит обязывался сам и от имени русского уполномоченного предоставить армии свободный проход между английскими крейсерами.
В договоре оказалось важное упущение: была необходима подпись сэра Сиднея Смита, без нее море оставалось запертым. Французам следовало потребовать, чтобы сэр Сидней подписал договор, тогда обнаружилась бы реальная степень данной ему власти, выяснилось бы, что английский коммодор, прежде имевший полномочия вести переговоры с Портой, ныне этим правом не пользуется, что он не получал от своего правительства никакой специальной инструкции и может располагать лишь молчаливым одобрением лондонского кабинета.
Неопытные в дипломатических процедурах французские полномочные полагали, что Сидней Смит, предлагая пропуска, имел на это право, и что пропуска эти будут вполне легальны.
Проект договора был закончен, оставалось только подписать его. Но благородное сердце Дезе возмущалось тем, что приходилось делать. Прежде чем поставить свою подпись, он отправил к Клеберу адъютанта Савари с проектом конвенции и извещением, что он до тех пор не подпишет договор, пока не получит от него формального приказания. Савари отправился в Салайе и исполнил возложенное на него поручение. Клебер, смутно чувствуя свою ошибку, решил созвать всех генералов армии на военный совет.
Двадцать первого января 1800 года совет собрался. Протокол его сохранился доныне. Горько видеть, как честные люди, которые не раз проливали свою кровь за отечество и готовы были пролить ее вновь, старались лживыми объяснениями скрасить недостойную свою слабость! Пример этот должен послужить уроком для военных; он должен показать им, что одной храбрости в пылу сражений недостаточно, и стойкость перед неприятельскими пулями и ядрами — лишь одна из ничтожных добродетелей благородного военного ремесла.
На этом совете стало известно, что объединенный франко-испанский флот ушел из Средиземного моря в океан; из этого следовал вывод, что от Франции не стоит ожидать никакой помощи. В качестве доказательства приводили тот факт, что в течение пяти месяцев после отъезда Бонапарта в Египет не пришло от него ни одной депеши. Кроме того, утверждали, что действующая армия доведена до численности в 8 тысяч человек. Силы турецкой армии старались непомерно преувеличить: говорили о какой-то небывалой экспедиции русских, которые должны были присоединиться к великому визирю. Нужно ли повторять, что экспедиция эта существовала только в воспаленном воображении тех, кто во что бы то ни стало хотел выбраться из Египта. Уверяли, что нет никакой возможности сопротивляться. Несправедливость этого мнения вскоре обнаружилась самым героическим образом и притом с помощью тех же лиц, которые сейчас выдавали его за истину. Наконец, чтобы как можно ближе держаться инструкций генерала Бонапарта, обнаружили некоторые приметы чумы, впрочем, весьма сомнительные и не замеченные доселе в армии.
Человек, открывший на войне свойство, которое выше храбрости, а именно — характер, генерал Даву, впоследствии сделавшийся маршалом и князем Экмюльским, один осмелился восстать против этих преступных побуждений. Он не испугался спора с Клебером, которому все покорялись, и с жаром возвысил свой голос против оставления Египта. Но его не услышали, и в силу ненужной порой почтительности он наконец согласился подписать решение военного совета и дозволил занести в протокол, что оно было принято единодушно.
И тем не менее Даву отвел в сторону адъютанта Са-вари и велел передать генералу Дезе, что если тот желает прервать переговоры, то найдет поддержку в армии. Са-вари возвратился в лагерь у Эль-Ариша, рассказал генералу Дезе о том, что случилось, и сообщил ему слова Даву. Но Дезе, увидев внизу листа с решением военного совета имя Даву, запальчиво ответил: «На кого же могу я положиться, если даже тот, кто не одобряет конвенцию, боится согласовать свою подпись со своим мнением? Хотят, чтобы я не повиновался, а между тем боятся выдержать до конца суждение, которое высказали!»
Дезе хоть и с отчаянием в сердце, но увлекаемый общим потоком, 28 января поставил свою подпись на этом злосчастном договоре, известном с тех пор под именем Эль-Аришской конвенции.
Когда дело было сделано, все осознали его важность. Генерал Дезе, вернувшись во французский лагерь, говорил об этой конвенции с сожалением и не скрывал досады из-за того, что для такого малопочтительного поручения выбрали именно его. Даву, Мену и некоторые другие генералы тоже горько сетовали.
Между тем готовились к отправлению. Большая часть армии радовалась, что наконец покинет дальние берега и снова увидит Францию.
Сэр Сидней Смит возвратился на свой корабль, а Клебер возвратился в Каир, чтобы вызвать войска, охранявшие Верхний Египет, сосредоточить в одном месте всю армию и потом, в назначенный к отплытию срок, отправить ее к Александрии и Розетте.
Пока в Египте совершались эти губительные действия, которым руководство армии потворствовало, вместо того чтобы подавлять их, в Европе происходили совсем другие события, которые, впрочем, явились следствием тех же самых причин.
Письма и депеши, отправленные из Египта в двух экземплярах, как мы видели, пришли в одно время в Лондон и в Париж. Депешу, обвиняющую Бонапарта, предназначенную вниманию Директории, вручили самому Первому консулу. Он был взбешен слабостью и клеветой Клебера, но, зная, насколько этот генерал необходим Для армии, уважая в нем талант военачальника и не предвидя оставления Египта, скрыл свою обиду. Он только поспешил отправить из Франции инструкции и извещение о значительных пособиях для армии.
Британское правительство, получив свой экземпляр депеш Клебера и писем французских офицеров к их семействам, поспешило их обнародовать, чтобы показать Европе положение французов в Египте и поссорить генералов Клебера и Бонапарта. В то же время английский кабинет получил известие о предложениях, сделанных Клебером великому визирю и сэру Сиднею. Восприняв откровения Клебера и французских офицеров в буквальном смысле и полагая, что французская армия доведена до последней крайности, лондонский кабинет приказал принять от французов капитуляцию только на том условии, чтобы вся армия сдалась в плен. Приказ этот, отправленный из Лондона 17 декабря, пришел адмиралу Кейту (непосредственному начальнику Сиднея Смита) в первых числах января 1800 года. Восьмого числа Кейт поспешил сообщить сэру Сиднею предписания, полученные им от правительства; это сообщение дошло до Сиднея Смита не ранее 20 февраля.
Сэр Сидней впал в отчаяние. Он действовал без определенной инструкции, надеясь, что решения его будут одобрены правительством. Теперь он находился в затруднительном положении: французы могли обвинить его в бесчестном поступке. К тому же, лучше зная положение дел, он был уверен, что Клебер никогда не согласится сдаться в плен, а потому Эль-Аришская конвенция, согласие на которую он так искусно выманил у французов в минуту их слабости, находится в опасности.
Британец поспешил известить обо всем Клебера, выразил ему свое огорчение, просил немедленно приостановить сдачу египетских укреплений и заклинал не принимать никаких решительных мер до получения из Англии новых предписаний.
К несчастью, когда письмо дошло до Каира, французы уже отчасти выполнили условия конвенции. Они сдали туркам все позиции правого берега Нила и несколько позиций в дельте. Войска шли уже к Александрии с обозами и снарядами. Генерал Дезе, повинуясь приказанию Бонапарта поскорее явиться во Францию и не желая знать о деталях этого позорного отступления, уехал вместе с Даву, который тоже не мог долее оставаться при Клебере.
Но в то время как Дезе и Даву хотели сесть на корабль, генерал Латур-Мобург, прибывший из Франции с депешами от Первого консула, встретился с ними на берегу. Он сообщил им о перевороте 18-го брюмера и о возвышении генерала Бонапарта.
Итак, Клебер, в ту самую минуту, когда все укрепления были сданы, узнал одновременно о неисполнении Эль-Аришской конвенции и об основании консульского правления. Человек с таким сильным характером не мог дольше подвергаться влиянию слабости: бесчестное предложение, сделанное ему Англией, привело главнокомандующего в чувство, и он стал тем, кем и был в действительности, — героем. Следовало или сдаться в плен, или защищаться, находясь, впрочем, в отчаянном положении. Это был выбор между бесчестьем и смертельной борьбой; Клебер не колебался, и мы увидим, что, несмотря на критическое положение, он за несколько дней совершил невозможное.
Тотчас отменив все приказания, отданные армии перед тем, генерал возвратил из Нижнего Египта в Каир часть армии, которая уже было спустилась по Нилу, велел опять разобрать все орудия, поторопил дивизию из Верхнего Египта присоединиться к нему и возвестил Юсуфу-паше, чтобы тот остановил свое продвижение к Каиру, угрожая в противном случае начать враждебные действия. Великий визирь отвечал французскому генералу, что Эль-Аришская конвенция подписана и должна быть исполнена и что вследствие этого он идет к столице.
В это же время от адмирала Кейта прибыл офицер с письмом. Среди прочего там было сказано: «Мной получены четкие приказания от лондонского кабинета: не принимать капитуляции, пока войска не сложат оружие и не сдадут все суда, стоящие на рейде у Александрии». Клебер, исполненный негодования, заявил: «В таком случае у нас нет иного выхода, кроме победы!»
Этот благородный призыв нашел отклик в сердце каждого французского солдата. Но ситуация по сравнению с 28 января, днем подписания конвенции, изменилась в очень большой степени. Французы тогда занимали все укрепленные объекты в Египте, управляли спокойными и не склонными к бунту египтянами, великий визирь находился на другом конце пустыни. Сейчас, напротив, большая часть важных пунктов была сдана, несколько точек оставалось только на равнине, население повсюду выражало недовольство, жители Каира, с минуты на минуту предполагая появление великого визиря, ждали только знака, чтобы восстать. Таким образом, французы были вынуждены сражаться на голой равнине, имея перед собой 80-тысячную армию визиря и 300 тысяч каирцев за спиной. Поистине грозное искупление вины!
Агенты сэра Сиднея поспешили вклиниться между французами и турками и предложить новые условия перемирия. Согласно их уверениям, в Лондон уже были отправлены письма. Как только условия Эль-Аришской конвенции станут известны кабинету, они будут, вне всякого сомнения, ратифицированы. В этой ситуации лучшим выходом представляется приостановление враждебных действий и ожидание.
И Клебер, и великий визирь подождать соглашались, но на самых неисполнимых условиях. Визирь требовал, чтобы ему сдали Каир, Клебер, напротив, хотел, чтобы визирь опять возвратился к границе. При таком положении дел оставалось одно средство — сражаться.
Двадцатого марта 1800 года на рассвете французская армия вышла из Каира и развернулась на равнине, расположенной между Нилом и пустыней, впереди виднелись развалины древнего Гелиополя.
Ночь, довольно светлая в этих широтах, облегчала движение, в то же время не открывая французов неприятелю. Армия расположилась в четыре каре: два, под началом генерала Ренье, были поставлены слева, остальные, во главе с генералом Фрианом, — справа. У углов и с фронта каре защищали гренадеры, отделяясь, чтобы атаковать неприятеля, когда он хотел где-нибудь укрепиться. В центре батальной линии стояло пятое каре, которое было меньше других и служило резервом. Всего насчитывалось до десяти тысяч солдат.
Стало светать. Клебер верхом на рослом коне, одетый в роскошную форму, выехал к солдатам с тем спокойным выражением лица, которому они так привыкли доверять.
«Друзья! — сказал он им, проезжая по рядам. — Во всем Египте вы владеете только тем клочком земли, который у вас под ногами. Отступите на один шаг — и вы погибли».
Повсюду он сам и его слова были встречены с величайшим восторгом, и лишь только встало солнце, генерал отдал приказание двинуться вперед.
Пока виднелась только часть армии Юсуфа-паши. На Нильской равнине, близ деревни Эль-Матарийе, стоял авангард в пять или шесть тысяч янычар, подкрепляемый несколькими тысячами всадников. Немного подальше другая часть армии пробиралась между рекой и левым крылом французов, очевидно, чтобы поднять восстание в их тылу, в Каире. Главные же силы турок скрывали от французских солдат развалины древнего Гелиополя и пальмовая роща. Всего предполагалось от семидесяти до восьмидесяти тысяч человек.
Клебер сначала велел атаковать отряд, который двигался в направлении Каира. Французы галопом ринулись на эту нестройную толпу. Турки, которые не боятся кавалерии, выдержали удар, сами бросились на французов и готовы были изрубить их в куски, когда Клебер отправил на поле битвы подмогу. Турки исчезли из виду.
Затем решили срочно атаковать Эль-Матарийе, пока еще не подоспела главная неприятельская армия. Клебер поручил это генералу Ренье, а сам с двумя каре занял позицию между деревней и Гелиополем, чтобы воспрепятствовать турецкой армии прийти на помощь атакуемой позиции.
Ренье приказал атаковать деревню гренадерам. Храбрые янычары, не подпуская их близко, пошли им навстречу. Французские гренадеры подпустили их на выстрел, дали по ним ружейный залп, положили многих на месте, а потом бросились на них в штыки.
Пока первая гренадерская колонна атаковала янычаров с фронта, вторая ударила им во фланг и разогнала их. Потом обе колонны ворвались в Эль-Матарийе и после страшного кровопролития овладели позицией.
Турки под предводительством Насифа-паши, полководца великого визиря, в беспорядке бросились к Каиру.
Селение Эль-Матарийе принесло французам богатую добычу, но на этом не остановились: солдаты и генералы чувствовали, что опасно быть застигнутыми главной массой турецких сил, и потому армия пошла по равнине вперед, по-прежнему в несколько каре, с кавалерией посредине.
Миновав развалины Гелиополя, французы увидели вдали перед собой облако пыли, которое быстро к ним приближалось. Вдруг пыль от дуновения ветра рассеялась, и перед французами предстала турецкая армия, вытянутая в длинную подвижную линию между двумя селениями по сторонам равнины. Расположенная на небольшом возвышении, она легко могла контролировать все передвижения французов.
Тем не менее Клебер приказал двинуться вперед. Ре-нье пошел в сторону деревни Сериакос, Фриан — на Эль-Мерг.
Неприятель рассыпал между пальмами, которые окружали деревни, множество стрелков. Но такого рода защита не могла устоять перед французами. Фриан отрядил против этих стрелков несколько рот легкой пехоты, и они скоро заставили турок возвратиться к своей армии. Сам великий визирь был тут, в группе всадников, богатое оружие которых блистало на солнце. Несколько ядер рассеяли эту группу. Неприятель хотел ответить залпом из своей артиллерии, но ядра его, плохо направленные, перелетали через головы французов. Вскоре пушки его были сбиты и уже не годились в дело.
Тогда вдруг началось движение среди тысячи турецких знамен, и часть конницы ринулась на каре Фриана. Генерал, довольно близко подпустив турецких наездников, скомандовал картечный огонь и повалил их сотнями. Остальные в беспорядке повернули назад.
Но это была лишь прелюдия к главной атаке. Великий визирь подал знак, и вся масса турецкой конницы тронулась разом. Она нападает на французские каре, рассыпается по сторонам, заходит в тыл и скоро окружает их. Французская пехота не смущается криками и яростным наступлением турецкой конницы, стоит спокойно, со штыками наперевес, и метко отстреливается. Напрасно суетятся вокруг нее тысячи всадников: их сваливают пули и картечь, они редко добираются до штыков храбрых французов, падают у их ног или, поворотив коней, обращаются в бегство.
После долгого и кровопролитного сражения небо, омраченное дымом и пылью, наконец проясняется, и перед победоносным французским войском открывается масса людей и лошадей, мертвых и умирающих, а вдали виднеются толпы беглецов, рассыпающихся во всех направлениях.
Главные турецкие силы действительно отступили к лагерю, где они стояли прошлой ночью на пути к Нижнему Египту. Только несколько групп поспешили присоединиться к отрядам, которые утром направились к Каиру.
Клебер не хотел давать неприятелю ни одного шанса. Французские каре скорым маршем перешли равнину, у лагеря турок их застигла ночь. Неприятель, видя, что его преследуют, опять пустился бежать в беспорядке, оставляя французам столь необходимые им обозы и съестные припасы.
Итак, на равнине Гелиополя 10 тысяч солдат, имея преимущество только в дисциплине и хладнокровном мужестве, рассеяли семьдесят или восемьдесят тысяч неприятелей! Но, чтобы получить результат поважнее, надлежало преследовать турок, вытеснить их в пустыню и дать им там погибнуть от голода, жажды и сабель арабов.
Французская армия была истощена усталостью. Клебер дал ей отдохнуть, а наутро приказал начать преследование. Но вдруг со стороны Каира раздался пушечный залп. Стало ясно, что отряды турок добрались до города, чтобы начать подстрекать жителей к мятежу.
Действительно, Насиф-паша, сподвижник великого визиря и Ибрагим-бея, проник в Каир с двумя тысячами мамелюков, восемью или десятью тысячами турецких наездников и некоторым количеством восставших крестьян из окрестных деревень: всего насчитывалось около двадцати тысяч человек.
Клебер, между тем, оставил для охраны столицы всего около двух тысяч солдат, а потому тотчас же отдал приказ генералу Лагранжу немедленно отправиться к ним на помощь с четырьмя батальонами. Он предписал всем командующим войсками в Каире занять надежные позиции, но до его прибытия не предпринимать никаких решительных действий. Генерал опасался, что какой-нибудь неловкий маневр может понапрасну подвергнуть опасности жизни солдат, которые становились драгоценнее по мере того, как убеждались в неизбежности дальнейшего пребывания армии в Египте.
В продолжение всей битвы при Гелиополе второй предводитель мамелюков, Мурад-бей, военачальник, отличавшийся блистательной храбростью, рыцарским великодушием и сметливостью, спокойно стоял у одной из оконечностей турецкой армии с шестьюстами превосходными наездниками. Когда битва кончилась, он углубился в пустыню и исчез. Предводитель мамелюков поступил так вследствие данного Клеберу обещания. Дело в том, что, явившись в главную квартиру визиря, Мурад-бей почувствовал в себе давнюю ненависть, которая с незапамятных времен разделяла турок и мамелюков. Он понял, что турки хотят овладеть Египтом не для того, чтобы возвратить его мамелюкам, но чтобы оставить его за собой. Итак, он решился сблизиться с французами, чтобы или присоединиться к ним в случае успеха, или унаследовать после них Египет в случае поражения. Однако, действуя осторожно, он не хотел высказываться прямо, пока враждебные действия еще не начались, а только обещал Клеберу публично поддержать его после первой битвы. Битва эта была разыграна со славой для французов, приязнь Мурад-бея оттого лишь увеличилась, и Клебер надеялся через несколько дней найти в нем нового союзника.
Ночью того же дня Клебер, дав войскам отдохнуть несколько часов, приказал бить тревогу и отправился в Бильбейс, чтобы не дать туркам ни минуты покоя. Он прибыл туда рано утром 21 марта.
Визирь в это время уже миновал город, оставив в крепости корпус пехоты, а на поле тысячу всадников. При виде французских войск всадники обратились в бегство. Турок, бывших в городе, выгнали, остальных осадили в крепости. После непродолжительной перестрелки жажда, недостаток воды и испуг принудили их сдаться.
В это же время французы захватили длинный караван, который пробирался в Каир с пожитками и военными орудиями Насифа-паши и Ибрагим-бея. Этот захват открыл Клеберу настоящее намерение турок, которые собирались поднять не только Каир, но и все значительные города Египта. Узнав об этом и видя, что турецкая армия всюду бежит перед ним, он отправил в Каир еще и генерала Фриана с пятью батальонами.
На следующий день, 22 марта, он пошел к Салайе. Во время похода от великого визиря прибыл посол с просьбой о переговорах. Ему наотрез отказали.
Достигнув Караима, на полпути к Салайе, вдруг услышали пальбу и увидели дивизию Ренье, которая, построившись в каре, сражалась с группой всадников. Клебер приказал генералу Бельяру, чтобы тот ускорил марш, а сам с кавалерией поспешил на помощь к Ренье. Видя это, всадники, предпочитавшие иметь дело с французской конницей, но не с пехотой, бросились на гусар Клебера. Нападение их было так быстро и неожиданно, что легкая артиллерия не успела даже построиться в батарею, и Клебер несколько минут находился в величайшей опасности, особенно когда жители Караима, полагая, что эта горсть французов уже погибает, сбежались с косами и серпами, чтобы их прикончить. Но Ренье тотчас отправил на выручку Клеберу драгунский полк, который подоспел вовремя. Вслед за тем явился и Бельяр с пехотой, все ударили дружно, и несколько сот турок легли на месте, изрубленные в куски. Клебер, торопясь добраться до Салайе, ускорил марш, а наказание Караима оставил до своего возвращения.
День был знойный, жар становился невыносимым: ветер дул из пустыни, вместе с раскаленным воздухом люди вдыхали мелкую и едкую пыль. И солдаты, и лошади были истощены от усталости. Наконец, уже под вечер, прибыли в Салайе. Здесь проходила граница Египта, отсюда начиналась пустыня.
Клебер ожидал последнего сражения с великим визирем, но на рассвете 23 марта жители Салайе выбежали навстречу французам и объявили, что армия визиря в величайшем беспорядке обратилась в бегство. Клебер поспешил в город и сам убедился в этом. Грозный Юсуф-паша, взяв пятьсот лучших всадников, углубился в пустыню, а остальная его армия спасалась бегством по всем направлениям.
Арабы, проводив турецкую армию через пустыню, сами остались на границе, зная, что, кто бы ни победил, останутся побежденные, а следовательно — и добыча. Теперь же, видя, что турки совершенно упали духом и не в состоянии защищаться даже от них, арабы стали резать беглецов и обирать их. Как стая хищных птиц, накинулись они на покинутый лагерь визиря, но при виде французской армии мигом умчались, оставив французским солдатам богатую наживу. Здесь на пространстве квадратной мили находилось несчетное количество палаток, лошадей, пушек, множество седел и всякого рода сбруй, сорок тысяч подков, обильные запасы продовольствия. И теперь те же солдаты, одержав победу, не хотели уже покидать Египет и не почитали себя более изгнанниками, осужденными умереть в далекой ссылке!
Клебер, убедившись, что турецкая армия исчезла, решил вернуться назад, чтобы принудить к послушанию города Нижнего Египта и в особенности Каир. Генералам Рампону и Ланюсу было поручено обойти всю дельту Нила. Рампон должен был направиться к Дамьетте, которая все еще находилась во власти турок, и овладеть ею. Ланюсу поручалось очистить всю дельту от Дамьетты до Александрии, укротив восставшие селения. Генерала Ренье Клебер оставил в Салайе, чтобы не дать вернуться остаткам турецкой армии, находившимся в пустыне. Он должен был подождать у границы, пока арабы совершенно рассеют турок, а потом тоже выехать в Каир.
Сам Клебер отправился в путь на следующий день и прибыл в Каир 27 марта. Здесь во время его отсутствия совершились важные события. Население этого огромного города, которое составляло около трехсот тысяч человек, пылкое и склонное к переменам, поддалось
обольщениям турецких лазутчиков и бросилось на французов, едва только стал слышен гром гелиопольских пушек. Весь народ сбежался на городские стены во время сражения. Видя Насифа-пашу и Ибрагим-бея с несколькими тысячами всадников и янычаров, люди полагали, что турки остались победителями, а те не старались вывести народ из заблуждения, утверждая, будто французы истреблены все до одного и великий визирь одержал полную победу. При этом известии в Каире, Булаке и Гизе восстали 50 тысяч человек. Но двухтысячный гарнизон Каира, запертый в цитадели и укреплениях, господствующих над городом, имея достаточный запас продовольствия и снарядов, оказывал сопротивление, которое не так легко было побороть.
Однако же некоторое количество французов находилось в большой опасности, а именно: те двести человек, которые охраняли главную квартиру. Этот прекрасный дом, занимаемый некогда генералом Бонапартом, находился на окраине города и был обращен одной стороной на площадь Эзбекие, самую красивую во всем Каире, а другой — в сады, примыкавшие к Нилу. Турки и восставшая чернь хотели ворваться в этот дом и вырезать французов, но храбрые солдаты, то отстреливаясь, то делая смелые вылазки, удержали неистовую толпу и дали генералу Лагранжу время подоспеть к ним на выручку.
Турки, не видя средства одолеть сопротивление французов, выместили свою досаду на бедных христианах, которые оказались у них под рукой. Они начали с того, что вырезали часть жителей европейского квартала, убили многих торговцев, разграбили их дома и похитили дочерей и жен. Потом они начали отыскивать арабов, которых обвиняли в дружбе с французами, и перерезали и их, а за кровопролитием, по обыкновению, последовал грабеж.
Оттуда они перешли в квартал коптов. Несмотря на мусульманское владычество, копты владели огромными богатствами, которые накопили, собирая подати по поручению мамелюкских государей. Туркам хотелось наказать их как друзей французов, но в особенности — Разграбить их дома. К счастью для коптов, квартал их находился на левой стороне площади Эзбекие и прилегал
8 Консульство к главной квартире французов. К тому же и глава их был богат и храбр, он хорошо защищался и успел спасти собратьев от погибели.
Насиф-паша и Ибрагим-бей сами стыдились того, что делали или позволяли делать. Они с сожалением смотрели на гибель сокровищ, которые принадлежали бы им, останься они обладателями Египта. Но приходилось разрешать все черни, с которой не могли более совладать, притом им хотелось этой резней поддержать озлобление народа против французов.
В это время прибыл генерал Фриан, а вслед за тем и Клебер. Оба вошли в город через сады главной квартиры.
Победителю армии визиря здесь представилось большое затруднение: он должен был покорить огромный город, половина населения которого взбунтовалась, город, занятый двадцатью тысячами турок, построенный в восточном стиле, то есть разбитый на узкие улочки с домами, больше похожими на крепости. Эти строения, в которые свет падал сверху, наружу выставляли одни высокие голые стены, а вместо кровель имели террасы, откуда бунтовщики производили губительный огонь.
У французов было только два способа атаки: или с высоты цитадели метать разрушительные ядра и гранаты до тех пор, пока город смирится, или выйти с площади Эзбекие, ниспровергнуть все преграды, поставленные на улицах, и взять приступом, один за другим, все кварталы. Но первый способ мог повлечь за собой разрушение огромного города, столицы, которая нужна была в качестве резиденции; второй же мог стоить гораздо большего числа солдат, чем десять сражений при Гелиополе.
Клебер продемонстрировал в принятии решения столько же благоразумия, сколько обнаруживал огня и пылкости в битвах. Он решил выждать, пока бунт утихнет сам собой. Почти все свои орудия он послал в Нижний Египет, предполагая погрузить их на суда для отправления в Европу, и предписал Ренье, закончив дела, двигаться вверх по Нилу. Пока же было решено запереть все выходы, через которые город сообщался с окрестностями.
Хотя бунтовщики запаслись продовольствием, разграбив дома мирных жителей, хотя они наготовили ядер и даже отлили пушки, но голод непременно скоро дал бы о себе знать. К тому же они должны были наконец разувериться насчет общего положения дел в Египте и узнать, что французы везде остались победителями, а армия визиря совершенно рассеяна. Сверх того, они должны были в самом скором времени разделиться на партии, потому что цели их были совершенно противоположны. Турки На-сифа-паши, мамелюки Ибрагим-бея и арабы, населяющие Каир, не могли долго прожить в согласии. По всем этим причинам Клебер полагал, что всего лучше повременить, а пока вступить в переговоры.
За это время был заключен договор о союзе с Му-рад-беем, при посредничестве жены этого мамелюкского вождя, которая пользовалась уважением всего Египта и была одарена красотой и умом.
Клебер уступил Мурад-бею провинцию Саид, с условием, чтобы тот платил дань, равную большей части податей этой области. Кроме того, Мурад-бей обязался сражаться за французов, а французы обещали, если покинут Египет, предоставить ему средства занять страну.
Предводитель мамелюков в точности исполнил заключенный договор и для начала выгнал из Верхнего Египта турецкий корпус, который там обосновался.
И вот теперь, при посредничестве Мурад-бея и шейхов (старейшин), которые тайно доброжелательствовали Франции, Клебер вступил в переговоры с турками, вошедшими в Каир. Насиф-паша и Ибрагим-бей и в самом деле начинали бояться, что французы запрут их в городе, заберут в плен и расправятся с ними по-турецки. Итак, они охотно приступили к переговорам и согласились на капитуляцию, в силу которой могли удалиться по крайней мере здоровыми и невредимыми.
Но в то самое время как намеревались заключить перемирие, каирские бунтовщики, видя, что их оставляют мщению французов, в ярости и ужасе прервали переговоры, стали грозить резней всем, кто вздумает их покинуть, и даже дали туркам денег, чтобы побудить их сражаться. Стало быть, чтобы покорить Каир, необходимо было взять его приступом.
Между тем Нижний Египет был успокоен. Ренье явился со своим корпусом и обозом снарядов и обложил северо-восточную часть каирских стен, а генерал Фриан расположился на западной стороне, в садах главной квартиры, между городом и Нилом.
Третьего апреля отряд генерала Фриана начал первую атаку. Целью ее было открыть площадь Эзбекие, которая служила главным выходом французским войскам.
Начали с квартала коптов, с левой стороны площади. Войска с величайшей храбростью проходили по улицам, пересекающим этот квартал во всех направлениях, а между тем некоторые отряды взрывали дома около площади. Эти атаки вполне удались и открыли французам вход во все улицы, выходящие на площадь Эзбекие.
В следующие дни овладели возвышением, которое господствовало над коптским кварталом, и таким образом подготовились к общему и немедленному приступу. Но до начала его Клебер в последний раз предложил бунтовщикам сдаться; они не хотели ничего слышать.
Щадя город, который страдал по вине немногих фанатиков, Клебер хотел воздействовать на души непокорных ужасным примером. Он велел атаковать Булак, предместье Каира, лежащее на берегу Нила. Пятнадцатого апреля дивизия Фриана окружила Булак, и град ядер и картечи посыпался на несчастное селение. Под прикрытием огня солдаты бросились на приступ, но были встречены сильным сопротивлением: каждая улица, каждый дом представляли картину отчаянной битвы. Клебер на время приостановил резню, предлагая бунтовщикам прощение, но оно было отвергнуто. Тогда снова началась атака. Огонь распространялся от одного дома к другому, и Булак, объятый пламенем, испытал двойной ужас: и пожар, и приступ. Тогда предводители народа бросились к ногам победителя. Клебер велел прекратить кровопролитие и спас остатки несчастного селения. Это оказался квартал, где проживали торговцы, и было спасено огромное количество товаров, которые использовали для нужд армии.
Описываемое нами ужасное зрелище происходило на глазах у всего Каира. Пользуясь впечатлением, которое оно должно было произвести, Клебер приказал атаковать саму столицу. Под один из смежных с главной квартирой домов, в котором еще находились турки, подвели мину: и турки, и бунтовщики взлетели на воздух. Это послужило сигналом к атаке. Войска Фриана и Бельяра ринулись во все проходы с площади Эзбекие, в то же время отряды генерала Ренье появились у северных и западных ворот, а Вердье с высот цитадели покрывал город ядрами. Завязался смертельный бой.
Ренье, преследуя Ибрагим-бея и Насифа-пашу, столкнул их с полубригадой, которая, проникнув в город с противоположной стороны, уничтожила в своем победоносном шествии все преграды. Французские корпуса, после страшного кровопролития, соединились. Несколько тысяч мамелюков, турок и бунтовщиков погибло, четыреста домов пылали.
Это было последнее усилие восстания. Жители, прежде поддерживавшие турок, теперь умоляли их уйти из Каира и дать возможность вступить с французами в переговоры. Клебер, который с отвращением смотрел на сцены убийства и желал сберечь своих солдат, только того и ждал. Агенты Мурад-бея послужили ему посредниками, и договор был скоро заключен. Насиф-паша и Ибрагим-бей обязались, под прикрытием французского отряда, удалиться в Сирию. Вместо всех условий им была дарована жизнь. Они вышли из Каира 25 апреля, оставив на произвол судьбы несчастных жителей, которых подговорили к восстанию.
Так кончилась эта кровопролитная борьба, включающая в себя тридцать пять дней беспрерывных битв между двадцатью тысячами французов с одной стороны и всеми силами Османской империи, поддерживаемыми восстанием египетских городов, с другой.
Забудем ошибки Клебера и почтим его славные геройские подвиги. Он находил невозможным защитить от турок Египет мирный и покорный и отвоевал его в тридцать пять дней у них же, соединившихся с египетскими мятежниками!
Человеколюбивый и мудрый, Клебер никогда не решился бы отплатить жестокостью за жестокость. Он знал, что только ценой мудрого правления можно успокоить побежденных. А потому решил воспользоваться своей победой с умеренностью. Египтяне были уверены, что с ними поступят жестоко, но Клебер простил восставших, ограничившись наложением на мятежные города контрибуции. Каир заплатил десять миллионов франков — бремя не слишком тягостное для такого большого города. Жители были рады, что отделались так дешево. Еще восемь миллионов штрафа были наложены на бунтовавшие города Нижнего Египта.
Эта сумма позволила тотчас же выплатить солдатам недоданное жалованье, купить продовольствие, позаботиться о больных и закончить начатые укрепления.
В это же время представилось и другое средство, совершенно неожиданное. Семьдесят турецких кораблей вошли в египетские порты для перевоза французской армии в Европу. Последние военные действия давали право задержать их.
Благодаря этим источникам с избытком запаслись всем нужным, не прибегая к дополнительным поборам. Армия зажила в изобилии, а египтяне подчинились французской власти с полной покорностью.
Армия, гордая своими победами, чувствуя свои силы и зная, что Бонапарт стоит во главе правительства, уже не сомневалась, что скоро к ней будет прислана помощь.
Затем Клебер собрал всех руководителей армии и влиятельных жителей страны и приступил к устройству финансовой системы в колонии. Он поручил сбор прямых податей коптам, которые и прежде этим занимались, и наложил таможенные пошлины на некоторые съестные припасы. Сумма всех доходов должна была простираться до двадцати пяти миллионов и могла удовлетворить все потребности армии, которые не превышали восемнадцати или двадцати миллионов.
Клебер стал наполнять ряды французских полубригад коптами, сирийцами и даже неграми, купленными в Дарфуре. Несколько унтер-офицеров, которые немного говорили на местном наречии, принялись обучать новобранцев.
Закончив строительство укреплений около Каира, французы принялись за фортификацию прибрежных городов: Дамьетты, Бурлоса и Розетты. Клебер ускорил работы в Александрии и дал новую жизнь изысканиям ученых из Египетского Института.
Всего два месяца спустя в Каире начали появляться караваны из Сирии, Аравии, Дарфура. Гостеприимство, с которым их встречали, служило порукой тому, что они вернутся.
Если бы Клебер остался в живых, Египет был бы сохранен для Франции по крайней мере до ее великих несчастий. Но нелепый случай прервал славную жизнь этого генерала посреди его подвигов и мудрого управления.
В Египте, где видели французов вблизи, где могли оценить их человеколюбие и сравнить с солдатами Порты и в особенности с мамелюками, где, наконец, все были свидетелями их уважения к Пророку (уважения, завещанного генералом Бонапартом), отвращение к ним было не так сильно, как в других порабощенных землях; и когда французы позднее оставляли эту страну, фанатизм уже значительно остыл. В некоторых областях было даже замечено искреннее чувство привязанности к французским солдатам, что поражало английских агентов. Но в остальных странах Востока все умы были возмущены нашествием неверных на одну из обширнейших мусульманских земель и мечтали об отмщении и священной жертве.
Некий Сулейман, чрезвычайно восторженный молодой человек родом из Алепа, учившийся в мечети Аль-Азхар, знаменитейшей и богатейшей в Каире, где преподают Коран и турецкие законы, скитался по Палестине в то самое время, когда через нее проходили остатки армии визиря. Он был свидетелем страданий и отчаяния своих единоверцев, и больное его воображение оказалось сильно поражено этой скорбной картиной. Командир янычаров, имевший случай сойтись с ним, еще более разжег в нем фанатизм своими рассказами. Этот молодой человек вызвался извести султана франков, генерала Клебера. Ему дали верблюда и денег на дорогу. Он отправился в Газу, пробрался через пустыню, явился в Каир и заперся на несколько недель в большой мечети, где студенты и бедные странники находят приют за счет этого богоугодного заведения.
Молодой фанатик открыл свое намерение четырем верховным шейхам мечети. Они испугались предприятия и его последствий, говорили Сулейману, что он не успеет ничего совершить, а только причинит Египту большое несчастье, и тем не менее остереглись известить об опасности французское начальство.
Когда этот несчастный достаточно укрепился в своем намерении, то взял кинжал, несколько дней следовал за Клебером, но не мог к нему приблизиться, вздумал наконец пробраться в сад главной квартиры и спрятался там в заброшенном водоеме.
Четырнадцатого июня он возник перед Клебером, который прохаживался по саду с архитектором армии Протэном и показывал ему, какие надо сделать поправки в доме. Молодой человек подошел к генералу, как бы прося милостыни, и в то самое время, когда Клебер расположился выслушать гостя, бросился вперед и несколько раз поразил его кинжалом в сердце.
Клебер упал под этими тяжкими ударами. Протэн, в руках у которого была палка, кинулся на убийцу, несколько раз ударил его по голове, но сам был повержен следующим ударом. На крики жертв сбежались солдаты, подняли своего умирающего военачальника, а потом бросились искать убийцу. Нашли его тут же, за кучей мусора. Через несколько минут Клебера не стало.
Армия горько оплакивала своего генерала. Сами арабы, поразившиеся его милосердию после восстания, жалели о нем вместе с французскими солдатами.
Тотчас же была составлена военная комиссия для суда над убийцей, который во всем сознался. Он был приговорен к смерти и, по тамошним законам, посажен на кол. Четырем шейхам, которые знали его тайну, отрубили головы. Полагали, что эта кровавая жертва необходима для безопасности других начальников армии. Жалкая и напрасная предосторожность!
Со смертью Клебера армия лишилась вождя, а колония — основателя. Ни один из генералов, оставшихся в Египте, не мог его заменить. Сам Египет был отныне потерян для Франции. Генерал Мену, который наследовал Клеберу по старшинству, был сторонником египетской экспедиции, но, невзирая на свое рвение, оказался решительно неспособен к такому посту.
Один только человек мог сравниться с Клебером и даже превзойти его в управлении Египтом. Это был тот, кто три месяца назад отплыл из Александрийского порта в Италию и погиб при Маренго в тот же день, почти в тот же час, что и Клебер, умерщвленный в Каире. Это был Дезе! Оба пали 14 июня 1800 года, во имя славы обширных предприятий Бонапарта.
Удивительна участь этих двух людей, стоявших друг подле друга в продолжение всей жизни и даже в день своей смерти, и при всем том столь несхожих между собой.
Клебер был самым красивым во всей армии мужчиной. Его высокий рост, благородное лицо, на котором отражалась гордость души, его хладнокровная храбрость и быстрый и ясный ум, — все это придавало ему необыкновенное величие на поле брани. Он был одарен блистательным и оригинальным умом, хоть и не был хорошо образован. Он читал беспрестанно, и притом исключительно Плутарха и Квинта Курция: он искал в их произведениях историю великих душ героев древности.
Клебер был капризен, несговорчив и желчен. О нем говорили, что он не хочет ни повелевать, ни подчиняться, и это была правда. Он повиновался генералу Бонапарту, однако неохотно; иногда начальствовал, но прикрываясь именем другого, а роль начальника брал на себя только по вдохновению, в пылу битвы, и исполнял ее блестяще. А после победы он опять становился рядовым генералом и предпочитал это положение всякому другому.
Клебер был неумерен в жизни и в речах, но честен и бескорыстен, какими люди бывали только в то время, когда покорение мира не растлило еще их нравы.
Дезе был почти во всем противоположностью Клеберу. Простой, робкий, даже несколько неловкий, с лицом, всегда скрытым под длинными густыми волосами, он с виду вовсе не походил на человека военного. Но это был герой во время сражения, добродушный с солдатами, скромный с товарищами, великодушный к побежденным. Его равно обожали и армия, и все народы, покоренные французским оружием. Основательный и глубоко образованный ум, военные познания, строгое выполнение обязанностей и бескорыстие делали его совершеннейшим образцом всех воинских добродетелей.
В то время как несговорчивый и непокорный Клебер не мог вынести над собой ничьей власти, Дезе был покорен и исполнителен, как будто никогда не знал, что значит начальствовать самому.
Случайно встретившись с главнокомандующим Итальянской армией, Дезе со всей страстью пылкой души проникся к нему любовью и восхищением. Какие почести могут быть выше дружбы такого человека? Генерал Бонапарт был ею глубоко тронут. Да, он уважал Клебера за его высокие достоинства, но никогда не ставил его наравне с Дезе, ни по дарованиям, ни по характеру. Сверх того, он любил Дезе: в кругу своих товарищей по оружию, которые еще не простили ему его возвышения, хотя тщательно выказывали преданность, Бонапарт любил в Дезе приверженность чистую, бескорыстную, основанную на глубоком чувстве.
В то же время, скрывая тайну этого предпочтения, Бонапарт делал вид, что не замечает недостатков Клебера, и совершенно одинаково обходился с обоими генералами.
В заключение добавим, что после смерти Клебера в Египте сохранялось спокойствие. Генерал Мену, приняв на себя руководство армией, поспешил отправить из Александрии корабль «Осирис», чтобы возвестить Франции об удачном положении, в котором теперь находится колония, и о печальной кончине ее второго основателя.
VI
ПЕРЕМИРИЕ
В то время как корабль «Осирис» вез в Европу известия о произошедшем на берегах Нила, из английских портов отправлялись корабли с приказаниями, совершенно противоположными прежним.
Замечания сэра Сиднея Смита были услышаны в Лондоне. Кабинет не решился пренебречь распоряжениями английского офицера, который выдал себя за уполномоченного своего правительства. К тому же убедились в несправедливости захваченных французских депеш и в том, что не так-то легко вырвать Египет из рук французов. Итак, Эль-Аришская конвенция была принята, и лорду Кейту велели привести ее в исполнение.
Но было уже поздно. Конвенция оказалась уничтожена мечом, французы снова завладели Египтом и не хотели его покидать. Английские министры жалели о своем легкомыслии и теперь должны были терпеть жестокие нападки в парламенте.
Первый консул тоже с радостью узнал о прочности своего завоевания. К несчастью, весть о смерти Клебера дошла до него почти в одно время с известием о его подвигах. Сожаление Бонапарта было живо и искренне. Он редко притворялся, разве что в тех случаях, когда бывал к этому побуждаем долгом или важным интересом, но это всегда стоило ему усилий, потому что живость характера не допускала притворства. Зато в тесном кругу своего семейства и среди приближенных он сбрасывал личину, здесь он обнаруживал и любовь, и ненависть с одинаковой пылкостью.
В этом-то искреннем кругу он выразил свою глубокую скорбь о смерти Клебера. Он оплакивал в нем утрату не друга, как в случае с Дезе, а великого генерала, искусного полководца, который более всех был способен установить французское правление в Египте. А на его установление Бонапарт смотрел как на лучшее из своих творений, которое, тем не менее, лишь окончательный успех мог превратить из блистательной попытки в великое и прочное предприятие.
Первый консул уже отдал приказания флотилиям, стоявшим в Бресте и Рошфоре, чтобы они готовились выйти в Средиземное море. Хотя финансы Франции были в гораздо лучшем состоянии, чем прежде, но Бонапарт, вынужденный очень много тратить на суше, не мог в то же время устроить во флоте всего, что находил полезным. Однако он употребил все усилия, чтобы предоставить большому Брестскому флоту возможность и средства выйти в море.
Первый консул хотел, чтобы к флотилии примкнули все свободные французские корабли из Лорьяна, Рошфора и Тулона и все свободные испанские из Ферроля, Кадикса и Картахены, тем вдвое увеличив ее силы. Нужно было обмануть англичан и привести их в недоумение такой мощью, а в это время адмирал Гантом, взяв лучшие корабли, должен был тихонько отделиться и устремиться в Египет с шестью тысячами отборного войска, множеством ремесленников и огромным количеством военных орудий.
Испания охотно согласилась на выгодное предложение: эскадра адмирала Гравины, запертая на Брестском рейде, могла опять выйти в Средиземное море и вернуться в свой порт. Нужно было только учитывать, что испанский флот находился в самом плачевном состоянии. Первый консул сделал все, чтобы привести суда в порядок, и скоро корабли обеих держав были снабжены всем необходимым.
Затем Бонапарт отдал приказание, чтобы из портов Средиземного моря, в том числе и из итальянских и испанских, были отправлены бриги и пакетботы, груженные порохом, мушкетами, саблями, с деревом для постройки повозок, медикаментами, зерном, вином и всем тем, чего недоставало в Египте. Сверх того, каждое из этих судов должно было взять на борт ремесленников, каменщиков и отборных кавалеристов. Бонапарт велел нанимать их в Картахене, Барселоне, Тулоне, Генуе, Бастии, Сен-Флоране и в других городах. По его приказанию набрали труппу актеров, запаслись декорациями и готовились отправить их в Александрию. Подписались на лучшие парижские газеты, чтобы офицеры Египетской армии могли следить за европейскими событиями. Одним словом, ничего не было упущено из виду, чтобы поддержать дух воинов и сделать более прочной их связь с родиной.
Разумеется, многие из этих судов попали бы в руки англичан, но большинство их достигли бы места назначения, потому что берег Дельты был слишком обширен, чтобы его можно было сделать защищенным.
Попытка снабдить продовольствием Мальту, которую англичане обложили со всех сторон, не могла увенчаться таким же успехом. Англичане употребляли все возможные усилия, чтобы овладеть этим вторым Гибралтаром21. Они знали, что здесь блокада могла иметь успех, потому что Мальта представляет собой неприступный архипелаг: припасы доставляются к ней морем, тогда как Египет — обширная страна, которая снабжает продуктами даже своих соседей.
Окружив остров, англичане заставляли его жителей испытывать все муки голода. Храбрый генерал Вобуа с четырехтысячным гарнизоном не боялся нападения, но видел, что количество съестных припасов с каждым часом уменьшается, и, к несчастью, не получал из корсиканских гаваней достаточных средств для пополнения запасов продовольствия.
Первый консул позаботился также о выборе полководца, который сумел бы возглавить Египетскую армию. Потеря Клебера оказалась чрезвычайно значительной, в особенности потому, что его трудно было заменить. Если бы Дезе оставался в Египте, удалось бы легко помочь беде. Но Дезе возвратился во Францию, где и умер. Ни один из оставшихся в Египте генералов не казался достойным такого поста. Ренье был славным офицером, образованным, опытным, но при этом — холодным, недостаточно решительным и не имел никакого влияния на солдат. Мену был очень образован, храбр, являлся несомненным поклонником египетской экспедиции, но оказался решительно неспособен управлять армией и к тому же недавно женился на турчанке и принял мусульманство. Он заставлял называть себя Абдаллой, что казалось солдатам забавным и очень ослабляло уважение, которое следовало чувствовать к своему начальнику.
В глазах Первого консула предпочтения перед всеми заслуживал Ланюс, генерал храбрый, сметливый, полный огня и умевший сообщать свой жар другим, хотя иногда он и бывал не совсем благоразумным. Но генерал Мену уже принял начальство над армией по старшинству, а переслать в Египет прямой приказ было трудно: англичане могли перехватить его и, не передавая в точности, вызвать разные догадки насчет его содержания. Это могло породить нерешительность в командовании, разногласия между генералами и смятение в войсках. Итак, Первый консул оставил все как есть и утвердил Мену в звании главнокомандующего.
Теперь нужно возвратиться в Европу и взглянуть, что происходило на этом театре великих событий.
Письмо, которое Бонапарт отправил германскому императору из Маренго, дошло к нему вместе с известием о проигранном сражении. Тогда в Вене почувствовали, что совершили большую ошибку, отвергнув в начале зимы мирные предложения Первого консула, поскольку почитали Францию истощенной и неспособной продолжать войну и не верили в существование Резервной армии. Влияние Тугута оттого сильно пострадало, потому что все эти ошибочные распоряжения приписывали его непредусмотрительности. Однако же к этим важным ошибкам Австрия под влиянием поражения присоединила еще одну, гораздо более серьезную: она вошла в теснейшую связь с Англией.
До сих пор венский кабинет не хотел брать английских субсидий, но теперь он почитал своим долгом тотчас же возместить потери, понесенные в эту кампанию, для того чтобы можно было заключить с Францией мир повыгоднее или иметь средства снова вступить в борьбу, если ее притязания окажутся слишком велики. Поэтому Австрия приняла два с половиной миллиона фунтов стерлингов, обязуясь не заключать с Францией мира до февраля 1801 года, если только этот мир не будет общим с Австрией и Англией.
Этот договор был подписан 20 июня, в тот самый день, когда в Вену пришло известие об итальянских событиях. Итак, Австрия связала свою судьбу с судьбой Англии еще на семь месяцев, но она надеялась провести лето в переговорах и воспользоваться зимой для возможного начала военных действий.
Император Франц I отправил свой ответ с тем же самым офицером, который привез ему письмо Первого консула, то есть с Сен-Жюльеном, поскольку испытывал к нему особое доверие. На этот раз ответ был прямо адресован генералу Бонапарту и содержал в себе ратификацию обоих перемирий, заключенных в Италии и в Германии, и приглашение с полной откровенностью объясниться по поводу будущих переговоров.
Сен-Жюльену было специально поручено выведать у Бонапарта, какие условия предложит Франция для заключения мира, и рассказать о планах императора ровно столько, сколько нужно, чтобы побудить французский кабинет открыть свои намерения.
Письмо было исполнено самых лестных и миролюбивых высказываний. Вот отрывок, который довольно явно выражает цель посольства:
«Пишу моим генералам, — говорил император, — что утверждаю оба перемирия и требую исполнения всех условий. Впрочем, я отправил к Вам моего генерал-майора графа Сен-Жюльена, ему даны все инструкции и поручено передать Вам, как важно для нас не приступать к открытым переговорам, которые могли бы внушить народу преждевременные и, может быть, несбыточные надежды, до тех пор, пока не станет известно, хотя бы в общих чертах, могут ли условия мира, которые Вы хотите предложить, привести нас к столь желаемой цели.
Вена, 5 июня 1800 года».
В конце письма император давал понять, какие обязательства связывают его с Англией и насколько ему, вследствие того, желательно, чтобы был заключен общий мир со всеми враждующими державами.
Сен-Жюльен прибыл в Париж 21 июля и был принят с большой радостью. С давних пор не встречали во Франции посланников австрийского императора, в лице графа видели представителя великого монарха и вестника мира.
Мы уже сказали, как пламенно желал Первый консул положить конец войне. Никто у него не оспаривал славы побед, но теперь он желал другой славы, не столь блистательной, но в настоящее время более выгодной для его власти, — славы примирителя Франции с Европой. В его пылкой душе желания становились страстями. Ныне он жаждал мира с таким же рвением, с каким впоследствии жаждал войны.
Талейрану хотелось мира не меньше, чем Бонапарту; он любил показывать, будто играет при Первом консуле роль руководителя. Роль эта была недурна, особенно в более поздний период, но теперь побуждать Первого консула к миру значило только погонять одно нетерпение другим и излишней поспешностью подвергать опасности сам результат.
На другой же день после своего прибытия, 23 июля, граф Сен-Жюльен был приглашен на совещание к министру иностранных дел. Беседа шла о взаимном желании прекратить войну и о способах преуспеть в этом. Сен-Жюльен выслушал, что ему говорили касательно условий, на каких мог быть заключен мир, и, со своей стороны, высказал все, чего желал император.
Талейран поторопился вывести из этого заключение, что Сен-Жюльену даны тайные полномочия вступить в переговоры, и предложил не ограничиваться простыми разговорами, а вместе изложить предварительные статьи мира. Сен-Жюльен, у которого не было полномочий для таких важных решений, возразил, что не имеет права приступить к составлению договора. Талейран отвечал, что письмо императора дает ему на то полное право, и если он хочет условиться о предварительных статьях и подписать их, то французский кабинет, благодаря только одному этому письму императора, готов считать его уполномоченным.
Сен-Жюльен, как человек военный и совершенно несведущий в дипломатических обычаях, простодушно признался Талейрану в своем недоумении и спросил его, как бы тот поступил на его месте.
— Я подписал бы, — отвечал Талейран.
— Ну хорошо, — сказал Сен-Жюльен, — я подпишу предварительные статьи, но они не должны иметь никакого значения до ратификации моего государя.
— Это само собой разумеется, — возразил Талейран. — Взаимные обязательства народов тогда только и бывают действительны, когда утверждаются их правительствами22.
За основу переговоров был принят Кампо-Формий-ский договор с некоторыми изменениями. Так, император уступал Французской республике границы Рейна, от точки, где эта река вытекает из Швейцарии, до той, где она входит в Батавские земли.
Решили, что Франция не удержит за собой ни одного укрепленного места по правому берегу Рейна, но и Германия не вправе воздвигать по этой реке никаких укреплений на протяжении трех миль.
В пятой, тайной, статье Кампо-Формийского договора оговаривалось, что Австрия получит у Германии Зальцбургское архиепископство в вознаграждение за некоторые владения, уступленные на левом берегу Рейна. Император предпочел бы, чтобы вознаграждение распространялось на Италию, потому что венский двор и без того пользовался на германских землях влиянием и правами, которые почти равнялись прямому правлению. Приобретения же в Италии, напротив, распространяли границы Австрии и усиливали ее влияние в стране, которая была постоянной целью ее честолюбивых замыслов. Но именно по этим причинам Франция должна была желать, чтобы Австрия увеличивала свои владения в Германии, а не в Италии. Тем не менее на этот пункт согласились.
Австрия требовала себе Минчио, Мантую и, сверх того, и папские легатства, что было ни с чем не сообразно.
Первый консул готов был отдать ей Минчио и Мантую, но ни за что не хотел уступить папских владений. Чтобы устранить затруднение, в предварительных статьях решили отметить, что Австрия получит в Италии вознаграждение, которое прежде было ей обещано в Германии.
Надо сознаться, что было уже довольно странно вступать в переговоры с уполномоченным без власти, но еще страннее было считать предварительным договором статьи, в которых единственный важный для императора вопрос о границах Австрии в Италии не был решен даже поверхностно, ибо рейнские границы у Франции давно уже никто не оспаривал.
К этим статьям были прибавлены еще некоторые дополнительные положения. Решили, например, что немедленно будет собран конгресс, что во время конгресса военные действия будут прекращены и отправление английского флота, которым угрожали Италии, остановлено.
Сен-Жюльен, увлеченный желанием сыграть важную роль, тем не менее по временам чувствовал некоторое беспокойство. Талейран в ответ уверял его снова и снова, что предварительные статьи останутся в тайне и получат силу не иначе, как по ратификации их императором.
28 июля 1800 года эти знаменитые статьи были подписаны в министерстве иностранных дел, к великой радости Талейрана. Первый консул, не углубляясь в вопрос, соблюдены ли уполномоченными все формальности, и полагаясь в этом отношении на Талейрана, думал только о том, чтобы заставить Австрию объявить о мире или вырвать у нее согласие угрозой новой кампании.
Сен-Жюльен решил не дожидаться в Париже ответа императора, а пожелал сам отвезти в Вену предварительные статьи, вероятно, чтобы лично объяснить причину своего странного поведения. Он выехал из Парижа 30 июля вместе с Дюроком, которого Первый консул отправил теперь в Вену, как прежде посылал в Пруссию, чтобы рассмотреть вблизи тамошний двор и произвести на него выгодное впечатление умеренной политикой нового правительства. Дюрок, обладая превосходными манерами и живым умом, вполне заслуживал такого рода отличия. Впрочем, Бонапарт дал ему и письменные инструкции, в которых были предусмотрены все могущие встретиться случаи. При каждом обстоятельстве, которое давало бы повод сомневаться насчет намерений Австрии, он должен был тотчас же отправлять курьера в Париж. Если же предварительные статьи будут утверждены, он имел право решительно объявить, что мир может быть заключен в двадцать четыре часа.
Частые сношения императорского посланника с Та-лейраном были всеми замечены, и потому стали громко говорить, что Дюрок отправлен в Австрию с условиями мира.
Чрезвычайные успехи французов в Италии и Германии, естественно, должны были оказать значительное влияние не только на Австрию, но и на все враждебные и дружественные державы Европы.
При известии о победе при Маренго Пруссия, нейтральная изначально, но по мере событий все более склоняющаяся к Французской республике, изъявила Первому консулу живейшее свое удовольствие и с этих пор не возражала уже ни слова против присвоения Францией всей Рейнской линии. Она даже призывала, что надо быть твердым против Австрии и укротить ее непомерное честолюбие. Так говорили каждый день французскому посланнику при берлинском дворе.
Кроме того, прусский министр Гаугвиц и в особенности сам король Фридрих-Вильгельм, который искренно был расположен к Бонапарту, каждый день извещали генерала Бернонвиля (французского посланника) о быстром возвышении Первого консула в глазах императора Павла Петровича. В то же время возрастал гнев русского императора по отношению к Австрии и Англии. Хотя Франция из этой перемены в расположении уже извлекла пользу (Россия, не отступившая еще окончательно от союза, оставалась, тем не менее, на Висле спокойной наблюдательницей событий), Первому консулу хотелось Достичь еще больших результатов. Он желал войти с императором Павлом в прямые переговоры и подозревал, нто Пруссия нарочно затягивает двусмысленное положение обеих держав, чтобы остаться единственной посредницей в сближении Франции с могущественным двором
Севера. Бонапарт придумал средство, которое принесло полный успех.
В результате последней кампании во Франции находилось до семи тысяч русских пленных, которые не могли быть обменены, потому что в России не было французских пленников. Первый консул предлагал австрийцам и англичанам, у которых в плену оказалось много французских солдат и матросов, обменять их на русских пленников. Обе державы обязаны были это сделать для России, потому что русские подверглись пленению, содействуя их политическим видам. Несмотря на это, предложение Бонапарта было отвергнуто.
Тогда Первому консулу пришла в голову счастливая мысль возвратить этих пленников императору Павлу безо всяких условий. Это была жертва очень ловкая и не слишком обременительная для Франции. Принося ее, Бонапарт не упустил из виду ничего, что только могло подействовать на великодушное и впечатлительное сердце императора: пленников одели в новые мундиры, им возвратили офицеров, знамена и оружие. Бонапарт написал письмо в Петербург, русскому министру иностранных дел графу Панину. В нем было сказано, что поскольку Австрия и Англия не хотят возвратить свободу солдатам русского царя, попавшим в плен, защищая права этих держав, то Первый консул не желает удерживать этих храбрых воинов и без всяких условий возвращает их императору. Бонапарт прибавлял, что делает это в знак своего уважения к русскому войску, которое французы научились ценить на поле брани.
К этому жесту в отношении русского государя Первый консул присоединил еще другой, гораздо более действенный. Видя, что остров Мальта не может долго держаться и будет вынужден, из-за нехватки продовольствия, сдаться англичанам, Бонапарт решил принести его в дар Павлу Петровичу. Всем было известно, что император, особенно благоволя к древнему Мальтийскому ордену, принял титул гроссмейстера кавалеров Св. Иоанна Иерусалимского, обещал восстановить орден и основал в Петербурге его капитул, для раздачи его знаков государям и значительным лицам Европы. Предложить ему остров, принадлежавший ордену, главой которого он был, значило прямо воздействовать на сердце монарха. Теперь англичане, готовые занять Мальту, или будут вынуждены отдать ее назад, и тогда она ускользнет из их рук, или не согласятся ее отдать, и тогда император Павел, оскорбленный сопротивлением, в состоянии будет потребовать ее силой оружия.
На этот раз Первый консул отправил оба письма, как о пленниках, так и о Мальте, прямо в Петербург, с русским офицером Сергеевым, который был в числе пленников, находившихся в Париже. В Петербурге оба предложения произвели желанное действие. Император Павел был тронут вниманием Первого консула и почувствовал к нему особенную благосклонность. Он тотчас же назначил губернатором острова Мальта генерала Спренгпортена, финна, человека весьма почтенного, бывшего при русском дворе в большой милости и очень расположенного к Франции. Государь приказал ему взять командование над семью тысячами русских пленников, с этим готовым войском отправиться на Мальту и принять остров от французов. Кроме того, ему было приказано заехать в Париж и публично поблагодарить Первого консула от имени императора.
Но Павел I присоединил к этому еще более значительное действие: он повелел Криденеру, русскому посланнику в Берлине, связаться с генералом Бернонвилем, чтобы заключить с Францией мирный договор.
Гаугвиц, которому это примирение казалось слишком быстрым и который видел, что Пруссия должна будет отказаться от роли посредницы, взял на себя роль агента в этом процессе. Криденер и Бернонвиль встречались в Берлине у посланников других держав, но до сих пор ни разу не перемолвились между собой ни словом. Гаугвиц пригласил обоих к себе обедать, свел их и оставил наедине в саду, чтобы они могли свободно высказаться друг перед другом.
Криденер объявил Бернонвилю об отправлении Спренгпортена в Париж и об удовольствии императора Павла при известии о возвращении русских пленников и об отдаче острова Мальта. Наконец, от всех этих предметов перешли к саму важному, то есть к условиям мира. России и Франции не из-за чего было ссориться между собой. Они вели войну не за земли, не за торговые выгоды, но лишь из-за несходства образов правления. Стало быть, в отношении друг друга им надо было написать только одну статью, а именно, что мир между обеими державами восстановлен. Одно это обстоятельство показывало, до какой степени противостояние их было неблагоразумно.
Но война повлекла за собой союзы, и Павел I, всегда свято исполнявший свои обязательства, требовал только одного: пощады союзникам. Их было четверо: Бавария, Вюртемберг, Пьемонт и Неаполь. Он требовал неприкосновенности их владений. Сделать это было легко, только с пояснением, что статью эту следует считать соблюденной, если этим державам будут даны вознаграждения за те земли, которые у них отняты Французской республикой. На это Криденер согласился.
Таким образом примирение Франции с Россией почти совершилось. Оно сделалось гласным, потому что отъезд генерала Спренгпортена в Париж был официально объявлен.
Вот и еще один отъявленный враг Франции восставал против держав прежней коалиции. Эту удивительную перемену произвели слава и редкий такт Первого консула.
Случайное, но важное обстоятельство должно было еще больше упрочить успех: оно состояло в негодовании нейтральных держав, вызванном насилием англичан на море. Казалось, все соединилось, чтобы благоприятствовать планам Первого консула, и, право, не знаешь, чему больше удивляться в эту минуту: его счастью или его гению.
Рассматривая земные дела, невольно думаешь, что счастье любит молодость, потому что оно удивительно благоприятствует великим людям в первые их годы. Но мы не должны, подобно древним поэтам, считать счастье слепым и своенравным: если оно улыбается великим людям в молодости, как, например, Ганнибалу, Цезарю и Наполеону, так это потому, что они еще не успели употребить во зло дары фортуны.
Генерал Бонапарт был в то время счастлив, потому что заслуживал быть счастливым; он был прав перед всеми: внутри государства — перед партиями, вовне — перед европейскими державами. Внутри государства он требовал только порядка и справедливости, вовне — мира, но мира выгодного и почетного, какого вправе был требовать тот, кто, не будучи зачинщиком войны, остался победителем. Потому-то все державы с удивительной ревностью снова спешили к Франции, во главе которой стоял великий человек, мощный и справедливый. Если этот великий человек встретил счастливые обстоятельства, то не было из них ни одного, которого не породил бы он сам, которым бы искусно не воспользовался.
Итак, Фортуна, эта прихотливая любовница великих людей, не так прихотлива, как полагают. Не всё можно назвать прихотью, когда она им покровительствует, не всё прихоть и тогда, когда она их покидает; и вина мнимого ее непостоянства не всегда бывает на ее стороне. Счастье есть не что иное, как Провидение, покровительствующее гению, когда он шествует по путям праведным, предначертанным бесконечной мудростью Промысла.
Счастливое обстоятельство, о котором мы упоминали, состояло вот в чем. Англичане не могли равнодушно видеть, как русские, датчане, шведы, американцы спокойно посещают порты целого мира и способствуют процветанию торговли Франции и Испании. Они уже не раз нарушали независимость нейтрального флага, в особенности американского, и Директория хотела наказать американцев за то, что они не могли достойно защищаться, мерами почти столь же несправедливыми, как и само насилие англичан. Генерал Бонапарт исправил ошибку Директории: он устранил ее жестокие распоряжения и основал арбитраж призов, который должен был обеспечить правосудие в отношении захваченных судов. Алглия только стала еще сильнее притеснять нейтральные державы. Она совершила уже много гнусных поступков на море, но последние превосходили все меры не только справедливости, но даже просто благоразумия.
Датчане и шведы, чтобы избежать преследования английских крейсеров, решили плавать большими конвоями и брать с собой для прикрытия военные фрегаты под королевским флагом. Они очень дорожили честью своего Флота и никогда не конвоировали подложных шведов или датчан и не прикрывали военную контрабанду. Но англичане, видя в этом только попытку избежать затруднений и свободно торговать, продолжали совершать обыски даже на тех судах, которые находились под военным прикрытием.
Так, например, два шведских фрегата, «Троя» и «Галла Ферзен», сопровождавшие шведские торговые корабли, были насильственно остановлены английской эскадрой, а затем подвергнуты обыску вместе с судами, которые они сопровождали. Шведский король предал командиров обоих фрегатов военному суду за то, что они не защищались.
Этот пример на время остановил англичан, которые боялись разрыва с северными державами. Они сделались к шведским кораблям снисходительнее, однако вскоре к этому происшествию присоединилось еще одно, более гнусное и более важное. При входе на барселонский рейд стояли на якоре два испанских фрегата. Англичане вздумали их похитить. Здесь уже дело шло не о праве нейтралитета, а о низком замысле безнаказанно пробраться в неприятельский порт, не будучи узнанным. Англичане сели в шлюпки, взобрались на находившийся неподалеку шведский галиот «Надежда» и, приставив капитану пистолет к виску, заставили его тихонько подойти к испанским фрегатам. Галиот приблизился к испанцам, которые, доверяя шведскому флагу, подпустили его к своему борту. Тогда англичане бросились на абордаж, захватили оба фрегата, на которых почти не было экипажа, и вышли из порта со своей бесчестной добычей.
Это происшествие произвело в Европе страшный шум и возбудило негодование всех морских держав. Мало того, что их подвергали всякого рода насилию, но вдобавок оскорбляли их флаги, используя их для самых низких подвигов пиратства.
Испания уже вела войну с Англией и большего сделать не могла. Призвав Швецию на помощь, Испания прояснила ей всю гнусность произошедшего события, и этого оказалось достаточно, чтобы разжечь ссору нейтральных держав с Англией: Швеция потребовала удовлетворения за обиду, Дания — тоже. За эти дворы стояла Россия, которая со времени союза 1780 года считала себя партнером прибалтийских государств во всех вопросах, касавшихся морского права.
Чтобы поддержать свои притязания силой, англичане, отправив лорда Витворта в Копенгаген для переговоров, послали вслед за ним эскадру в шестнадцать линейных кораблей, которой велено было курсировать при входе в пролив Зунд. Присутствие этой эскадры испугало не только Данию, но и Швецию, Россию и даже Пруссию. Четыре союзные державы, подписавшие вооруженный нейтралитет 1780 года, начали переговоры о составлении новой лиги против самовластия англичан. Лондонский кабинет, который боялся такого результата, с живостью настаивал в Копенгагене на урегулировании конфликта, но вместо того чтобы предложить компенсацию, сам же ее потребовал. К несчастью, Дания была застигнута врасплох: Зунд не был защищен, Копенгаген мог подвергнуться бомбардировке.
При таком положении дел ей надо было уступить, хоть временно, чтобы воспользоваться зимой, когда льды защитят Балтику и дадут нейтральным державам время приготовиться к отпору.
Таким образом, 29 августа Дания была вынуждена подписать конвенцию, в которой вопрос о праве наций откладывался на неопределенный срок. Датское правительство согласилось временно не сопровождать торговые корабли военной силой.
Конвенция эта ничего не решала. Гроза, вместо того чтобы рассеяться, еще усиливалась, потому что четыре северные державы были чрезвычайно раздражены.
Итак, на севере все способствовало планам Первого консула, сами события благоприятствовали его желаниям. Дела шли с выгодой для Франции и на юге Европы, то есть в Испании. Там погибала одна из богатейших монархий Земного шара, способствуя этим серьезному нарушению европейского равновесия, к великому огорчению благородной нации, негодующей из-за роли, которую ее заставляли играть во мнении света.
Бонапарт, неутомимый ум которого охватывал разом все предметы, уже направил на Испанию усилия своей политики и старался извлечь из этого порочного двора все возможные выгоды.
Король и королева Испании и князь Мира с давних пор занимали внимание Европы и представляли собой довольно опасный пример для монархической власти, и без того уже сильно потрясенной в эту эпоху.
Испанский король Карл IV был человеком честным. Он был не так своенравен, как Людовик XVI, гораздо приятнее в обращении, но менее образован и характера еще более слабого. Это был человек кроткий, человеколюбивый, набожный, в высшей степени целомудренный. Он оставался непричастен к соблазнам своего двора и ошибкам своего правления; вся вина его состояла в том, что он позволят им совершаться, не замечая их или не веря в их существование.
Королева Мария Луиза, воспитанница Кондильяка, написавшего для нее и брата превосходные сочинения23, вела жизнь совершенно противоположную, которая сделала бы очень мало чести знаменитому философу, если бы философы могли отвечать за своих учеников. В то время ей было около пятидесяти лет, но она сохранила остатки красоты, которую старалась продлить посредством бесконечных усилий. Она употребляла на переписку с разными лицами, и в особенности с князем Мира, то время, которое Карл IV посвящал своим мастерским и конюшням. Все государственные акты, все назначения и награды шли к подписи короля через ее руки. Министр, который позволил бы себе нарушить ее волю или миновать ее, был бы тотчас отрешен.
Известно, что князь Мира в это время не был уже министром, но тем не менее играл в государстве главенствующую роль. Это был человек странный, невежественный, легкомысленный, но обладающий привлекательной внешностью, чего достаточно, чтобы иметь успех при развращенном дворе. Он сохранял неограниченную власть над королевой, которая не в состоянии была ему противиться и не могла быть счастлива, не видя его каждый день. В Испании ничего не совершалось без его воли. Он располагал всеми государственными доходами и держал у себя огромные суммы наличных денег, тогда как казна несла величайшие убытки.
Народ почти привык к этому зрелищу и приходил в негодование только в тех случаях, когда его заставлял краснеть новый постыдный скандал.
Надо прибавить, что принц Астурийский, воспитанный вдали от двора и притом с невероятной строгостью, ненавидел временщика, с преступным влиянием которого был хорошо знаком, и что справедливая его ненависть стала превращаться в невольное негодование на отца и мать.
Одним словом, испанский королевский дом начинал бояться революции. Старинная привязанность испанцев к престолу и к религии, конечно, несколько его успокаивала, но монархи опасались, что революция перешагнет в Испанию из-за Пиренеев, и старались сдержать опасность демонстрацией уважения к Французской республике. Добрый король Карл IV почувствовал даже нечто вроде дружеского расположения по отношению к Первому консулу. «Генерал Бонапарт — великий человек!» — твердил он беспрестанно. Королева говорила то же, но холодно, потому что князь Мира, казалось, порицал склонность, обнаруживаемую в Испании по отношению к французскому правительству.
Король и королева страстно любили свою дочь, инфанту Марию Луизу, которая была замужем за наследным принцем Пармским. Королева, как известно, была сестрой царствующего герцога Пармского. Выдав дочь за своего племянника, она сосредоточила на этой чете всю свою любовь, потому что имела особенную привязанность к дому, из которого сама происходила. Она мечтала об увеличении владений пармских принцев в Италии, а так как Италия зависела от победителя Маренго, то Мария Луиза возлагала на него все свои надежды.
Первый консул, узнав тайные помыслы королевы, не пренебрег этим удобным случаем и тотчас же отправил в Мадрид своего верного Бертье. Если он отправлял в Берлин или в Вену одного из своих адъютантов, то в данном случае хотел сделать большее: он оказывал испанскому двору честь, посылая туда человека, в наибольшей степени разделявшего его славу, ибо Бертье был в то время Парменионом нового Александра.
Бертье уехал в конце августа, без официального звания, но с уверенностью, что одним своим присутствием произведет большой эффект, к тому же имея тайные полномочия договориться о важнейших предметах.
Путешествие Бертье имело несколько целей: во-первых, он должен был посетить главнейшие порты Пиренейского полуострова, исследовать их состояние и отправить оттуда несколько транспортов на Мальту и в Египет. Бертье очень скоро исполнил это поручение и затем поспешил в Мадрид с предложениями Первого консула.
Бонапарт соглашался увеличить владения Пармского дома, он даже готов был присоединить к новым землям и новый титул, титул короля, но требовал, чтобы за эту щедрость ему заплатили двояко: во-первых, возвратив Франции Луизиану24, во-вторых, силой побудив португальский двор примириться с Французской республикой и прервать связь с Англией.
Итак, Бонапарт формально потребовал у Испании Луизиану в компенсацию за земли, отдаваемые ей в Италии. Кроме того, он просил, чтобы ему подарили часть испанских кораблей, блокируемых в Брестском порту. Что касается Португалии, он хотел воспользоваться родством, которое соединяло оба царствующие дома полуострова, чтобы отвлечь ее от союза с Англией. Бразильский принц, правитель Португалии, был зятем короля и королевы Испании. Стало быть, мадридский двор, кроме силы соседства, имел еще и влияние родства, и теперь очень кстати было воспользоваться этим двойным средством для изгнания англичан из этой части континента.
Вот в чем состояли условия, которые Бертье отвез в Мадрид. Он был прекрасно принят королем, королевой, князем Мира и всеми испанскими грандами, которые с любопытством смотрели на человека, чье имя в рассказах о битвах всегда ставилось рядом с именем Бонапарта.
Условия Франции показались несколько тяжелыми, однако не могли встретить большого сопротивления.
Наконец согласились заключить договор, по которому Первый консул обещал увеличить владения герцога Парм-ского в Италии на два миллиона человек и укрепить за ним титул короля. Испания за то обязывалась возвратить Франции Луизиану и, сверх того, дать ей шесть линейных кораблей, снаряженных и вооруженных, но без экипажей.
Последнее условие также не представляло затруднений, потому что одинаково соответствовало видам Испании и Франции. Первый консул в данном случае только пробуждал Испанию из ее непростительной апатии и заставлял воспользоваться влиянием, которое ей давно следовало употребить в дело.
Если бы Португалия не подчинилась, Бонапарт предлагал Карлу IV перейти с армией ее границы, овладеть одной или двумя провинциями и удержать их как залог, чтобы принудить Англию впоследствии, для спасения своей союзницы, возвратить Испании отвоеванные у нее колонии. Он предлагал даже подкрепить силы Карла IV французской дивизией. Но для доброго короля это было уже слишком. Бразильский принц был его зятем, он не желал отнимать у него провинции, даже ради возвращения собственных владений. Но Карл IV направил ему самые настоятельные требования и даже грозил войной, если они не будут услышаны.
Лиссабонский двор обещал тотчас же отправить уполномоченного в Мадрид для переговоров с французским посланником.
Бертье возвратился в Париж, осыпанный милостями испанского двора. Почти в то же время прибыли и чудесные лошади, подаренные Карлом IV. Они были продемонстрированы Первому консулу на площади Карусель, во время одного из больших смотров. Толпа любопытных сбежалась полюбоваться на превосходных коней и богато наряженных шталмейстеров, которые напоминали о старинной монархической роскоши и свидетельствовали об уважении древнейших домов Европы к новому представителю Французской республики.
В это время прибыли в Париж также трое уполномоченных из Америки. Им было поручено сблизить Францию с Северной Америкой. Первым препятствием к сближению послужила статья, по которой Америка оказывалась обязанной предоставлять Франции участие во всех коммерческих выгодах, приносимых ею другим нациям. Это обязательство не делать ничего для других, не делая того же для Франции, поставило американцев в затруднительное положение. Уполномоченные, казалось, не хотели уступать в этом пункте, но готовы были признать и защищать права нейтралитета и возобновить все положения договора, от которых отступились в период недолгого союза с Англией.
Первому консулу были гораздо важнее права морского нейтралитета, нежели торговые выгоды, которые на деле оказывались эфемерными. Он предписал своим посланникам не слишком настаивать на этом пункте и заключить договор, если американцы торжественно признают право наций на нейтралитет.
В то же время устраивалось и другое сближение, гораздо более важное, а именно: с папским престолом.
Новый папа, избранный в смутной надежде на примирение с Францией, добился осуществления этой надежды. Бонапарт обязался устроить и защитить Цизальпинскую республику против политики и видов всей Европы. Взамен он просил папу посредством своего влияния на души помочь ему водворить во Франции мир и согласие.
Папа с радостью встретил французского посланника Альчиати, которому было поручено передать слова Первого консула. Он тотчас же отправил его назад в Верчелли с поручением объявить, что готов помогать намерениям Первого консула, но сначала желал бы узнать, насколько определенны виды французского кабинета. Кардинал, в свою очередь, послал в Париж из Верчелли письмо, в котором разъяснял намерения и желания нового первосвященника.
Первый консул в ответ на это потребовал уполномоченного, с которым мог бы объясниться прямо. Папа предложил монсеньора Спину, своего нунция во Флоренции.
Нужно сказать, что Первый консул решался на весьма щекотливое дело, приглашая в Париж представителя Святого престола при тогдашнем состоянии умов. Договорились, что кардинал Спина не будет объявлять своего официального титула, а назовется просто епископом Каринтийским, имеющим поручение переговорить с французским правительством о некоторых делах римского правительства.
Пока так деятельно и искусно устраивались эти переговоры с европейскими дворами, граф Сен-Жюльен с Дюроком приближались к Вене.
Понимая все безрассудство своих поступков, граф признался Талейрану, что не знает точно, можно ли ему будет привезти Дюрока в Вену. Министр в своем обманчивом упоении не хотел верить, что тут могло встретиться какое-нибудь препятствие, однако было решено, что Сен-Жюльен и Дюрок проедут через главную квартиру Края, находившуюся недалеко от Инна, в Альт-Гёттин-гене, и там возьмут у главнокомандующего паспорт для Дюрока.
Они прибыли в главную квартиру 4 августа 1800 года, но Дюрок был остановлен и не мог переехать через линию, определенную перемирием. Это был первый неблагоприятный знак. Сен-Жюльен один отправился в Вену, обещая выхлопотать Дюроку документы. Он явился к императору и представил ему статьи, которые подписал в Париже с условием, чтобы они были утверждены его правительством, а до тех пор оставались в тайне. Император был изумлен и очень недоволен странным поступком Сен-Жюльена, перешагнувшего границы данного ему предписания. Условия предварительных статей ему нравились, но он боялся быть скомпрометированным перед Англией, которая помогла ему деньгами.
Итак, несмотря на опасность поднять волну возмущения со стороны Франции, венский кабинет почел за лучшее не признать действий графа Сен-Жюльена. Ему был сделан жестокий публичный выговор, а потом его сослали в одну из отдаленных провинций империи. Предварительные статьи были объявлены не имеющими никакой силы, ибо были подписаны агентом без титула и полномочий. Дюрок не получил паспорта и, прождав До 13 августа, вынужден был возвратиться в Париж.
Австрия, зная раздражительный характер Первого консула, могла опасаться самых дурных последствий, которые повлечет такое известие. Он, пожалуй, мог тотчас же оставить Париж, встать во главе армии и двинуться против Вены. Поэтому Австрия решилась, не признавая предварительных статей, тем не менее предложить французскому правительству немедленно созвать конгресс.
Лорд Минто, представитель британского кабинета при императорском дворе, согласился на переговоры только с тем условием, чтобы и Англия приняла в них участие. Тугут немедленно написал Талейрану, что император, не признавая неблагоразумного поступка Сен-Жюльена, не менее его желает мира, а потому предлагает немедленно открыть конгресс в самой Франции или в Люневиле, где будет угодно, что Великобритания готова отправить туда своего уполномоченного и что, если Первый консул на то согласен, общий мир в Европе может быть заключен очень скоро. Все это было высказано в выражениях, которые могли успокоить бурный нрав человека, управлявшего тогда Францией.
Первый консул был сильно раздражен при получении этих известий. Во-первых, он негодовал по поводу непризнания действий генерала, который с ним договаривался, во-вторых, с прискорбием видел, что дело мира снова замедляется. Присутствие Англии на переговорах заставляло его предвидеть бесконечные задержки, потому что заключить мир на море было гораздо труднее, чем мир континентальный.
Талейран, чувствуя, что сам во многом виноват, старался всеми средствами смягчить гнев Первого консула. Дело было отдано на обсуждение в Государственный совет, куда министр представил подробный рапорт.
«Первый консул, — говорилось в этом рапорте, — почел за нужное созвать Государственный совет на чрезвычайное заседание и, вполне полагаясь на его скромность и просвещенное суждение, поручил мне сообщить Совету все подробности переговоров, проведенных с венским двором».
Далее Талейран признавался, что австрийский посол не имел полномочий и, ведя с ним переговоры, можно было предугадать, что они не будут признаны, а потому следовало отказаться от всякой огласки и решительных
действий. Он предлагал согласиться на открытие конгресса и в то же время начать военные действия.
Действительно, умнее этого нельзя было ничего придумать. Надо было начать обсуждение, потому что враждующие державы предлагали Франции переговоры, но следовало воспользоваться и тем, что австрийские войска не успели еще опомниться от своих поражений. Только так можно было принудить Австрию к решительному миру и отвлечь ее от влияния Англии.
Было еще одно средство, также имевшее свои выгоды, и Первый консул ухватился за него с обычной своей прозорливостью. Согласно требованиям Англии, можно было допустить ее до переговоров, но с условием, чтобы она сначала заключила морское перемирие. Выгоды перемирия на море многим превзошли бы неудобства континентального перемирия: французские корабли могли бы всюду плавать беспрепятственно, снабдить Мальту продовольствием и отвезти в Египет солдат и оружие. Для достижения таких выгод Бонапарт охотно подвергся бы опасности совершить еще одну сухопутную кампанию. Морское перемирие было, конечно, делом совершенно новым, но надо же было заставить англо-австрийский союз поплатиться за жертву, которую приносила Франция, остановив шествие своих войск на Вену.
Отто, дипломат чрезвычайно благоразумный и ловкий, жил постоянно в Лондоне; он был избран французским кабинетом именно для того, чтобы при первом удобном случае использовать его таланты для переговоров о мире. Теперь ему поручили обратиться прямо к британскому кабинету с вопросом о морском перемирии. В тот же день, 24 августа, отправили довольно жесткое письмо в Вену. В письме этом презрительно сожалели о зависимости от Англии, в которую поставил себя император, соглашались на открытие конгресса в Люневиле, но прибавляли, что во время переговоров нужно будет сражаться, потому что Австрия, предлагая всеобщие переговоры, имела неосторожность не подготовить предварительно, как естественное условие, перемирие на суше и на море.
Таким образом хотели заставить и австрийскую дипломатию похлопотать в Лондоне о заключении морского перемирия.
9 Консульство
Переговоры начались в Лондоне между Отто и капитаном Джорджем, главой транспортного департамента. Они продолжались в течение всего сентября. От Англии требовали жертвы, на которую она ни за что не могла согласиться. Это значило допустить укрепление Мальты и Египта, и даже, может быть, навсегда упрочить оба эти владения за Францией. Это значило также позволить большому франко-испанскому флоту выйти из Брестского порта, переплыть Средиземное море и занять в нем позицию, которая опять возвратила бы ему господство на этом море.
Стало быть, такое предложение не могло прийтись по сердцу англичанам. Однако опасность, угрожавшая Австрии, сильно тревожила Англию: уничтожив Австрию, Бонапарт мог располагать всеми своими силами и покуситься на какое-нибудь важное предприятие против Британских островов. Вследствие этого Англия решилась на некоторые жертвы в пользу общего интереса и 7 сентября 1800 года представила контрпроект.
Англичане соглашались на открытие конгресса в Люне-виле и назначили полномочным со своей стороны Томаса Гренвиля, брата министра иностранных дел. В отношении морского перемирия Англия предлагала следующую систему:
1. Прекратить все враждебные действия на море и на суше.
2. Перемирие сделать общим не только между тремя воюющими державами, Францией, Англией и Австрией, но и между их союзниками.
3. Блокируемые порты, как то: Мальту и Александрию, уравнять в правах с германскими крепостями, то есть давать им каждые две недели продовольствие.
4. Все линейные корабли, находящиеся в Бресте и других портах, не должны выходить из них в продолжение всего перемирия.
Но затруднения остались те же, несмотря на все усилия, употребляемые с обеих сторон. Главный интерес Франции состоял в том, чтобы удержать за собой Мальту и Египет, а Англии — не допускать этого.
Итак, не было никаких шансов прийти к согласию, переговоры были прерваны. Но Бонапарт в полной мере
воспользовался двумя прошедшими месяцами и окончательно привел свои армии в порядок. Вот в чем состояли его новые распоряжения касательно этого предмета.
Была полностью укомплектована и отправлена во Франкфурт Батавская армия, находившаяся под началом Ожеро. Он составил ее из восьми тысяч голландцев и двенадцати тысяч французов, которые теперь отдохнули, были усилены рекрутами и представляли собой отличное войско.
Корпус Сент-Сюзанна, преобразованный и увеличенный почти до восемнадцати тысяч человек, опять возвратился к Дунаю и составил левое крыло армии Моро. Рейнская армия увеличилась, таким образом, до ста тысяч человек.
Когда Резервная армия была брошена в Италию, она вынуждена была оставить несколько корпусов, которые не успели сформировать. Из этих оставшихся корпусов Первый консул составил вторую резервную армию и поручил ее генералу Макдональду. Она имела в строю пятнадцать тысяч человек и была размещена в Граубиндене, недалеко от Тироля. Это позволило Моро подтянуть к себе правое крыло под началом Лекурба и соединить все его силы для решительного удара.
Итальянская армия, вследствие присутствия Макдональда, уже не имела надобности заботиться о Швейцарии и Тироле, поэтому могла приблизить оба крыла к центру и сосредоточиться так, чтобы быть всегда готовой вступить в битву. Соединив под своими знаменами войска, перешедшие через Сен-Бернар и Сен-Готард, и лигурийские, она после отдыха и пополнения рекрутами представляла собой массу в сто двадцать тысяч человек. Главнокомандующим над ней был сначала назначен Массена. Но, к несчастью, между руководством армии и гражданскими правителями Италии зародилось несогласие. Правительство жаловалось, что жители совершенно подавлены огромными контрибуциями и отказываются их выплачивать. Эти беспорядки приписывали руководству французской армии, жаловались даже прямо на генерала Массена. Скоро неудовольствие дошло до того, что Первый консул был вынужден отозвать Массена и заменить его Брюном.
Брюн, со всем своим обширным умом и беспримерной храбростью, принадлежал все же к числу самых ревностных представителей партии демагогов, что, впрочем, не мешало его искренней преданности Первому консулу, который за то и отличал его. Не сумев предоставить ему деятельную роль во время весенней кампании, Бонапарт предложил ему командование в осеннюю. Но удаление Массена было истинным несчастьем и для армии, и для самого Первого консула.
Огорченный Массена невольно должен был сделаться предметом надежд для толпы интриганов, которые в это время еще волновались. Первый консул знал это, но не хотел ни в чем терпеть беспорядка, и за это нельзя его осуждать.
К этим четырем армиям Бонапарт добавил еще пятую, составленную из войск, соединенных около Амьена.
Он отделил полубригады гренадеров, дополнил их превосходными солдатами и составил таким образом отличный корпус в девять или десять тысяч человек, который хотел немедленно отправить к берегу, если бы англичане вздумали где-нибудь совершить высадку. Начальство над этим корпусом было вверено Мюрату.
Итак, теперь Бонапарт отдал Моро и Брюну приказ отправиться на главные квартиры и подготовиться к началу военных действий. Он поручил Моро известить австрийского главнокомандующего в срок, назначенный перемирием, и позволил ему продлить перемирие только в случае, если император сдаст французам занятые им города. На таком условии он соглашался обождать еще пять или шесть недель.
Города эти действительно стоили такой жертвы. Заняв их, можно было приобрести превосходную позицию для проведения операции на Дунае и выиграть время, чтобы направить одно крыло Итальянской армии на Тоскану и Неаполитанское королевство, где по-прежнему формировали армию по наущению Австрии и с помощью английских денег.
Германский император, со своей стороны, также воспользовался временем и с большой энергией распоряжался предоставленными Англией субсидиями и торопил наборы, которые производились в Богемии, Моравии, Венгрии, Штирии и Каринтии. Две тысячи крестьян, за плату и под надзором австрийских инженеров, рыли окопы по всей линии Инна. От Вены до Мюнхена все было в движении.
Главный штаб австрийской армии был совершенно изменен. Барон Край, несмотря на свой опыт и стойкость на поле битвы, попал в опалу наравне с Меласом. Даже сам эрцгерцог Фердинанд, служивший под его начальством, был удален. Эрцгерцог Иоанн, молодой, весьма образованный принц, чрезвычайно храбрый, но неопытный в военном деле, с воображением, пораженным маневрами генерала Бонапарта, был назначен главнокомандующим императорскими войсками. Это была одна из тех попыток, на которые решаются только в минуты отчаяния.
Император лично отправился к армии, чтобы сделать смотр и воодушевить солдат своим присутствием. Он провел на главной квартире несколько дней в компании Лербаха, уполномоченного, назначенного в Люневиль, и молодого эрцгерцога. Император выяснил, что не все еще готово, что армия не полностью восстановлена в моральном отношении и в плане оснащения. Лербаху было поручено отправиться на главную квартиру генерала Моро и попытаться выяснить, нельзя ли продлить перемирие еще на несколько дней.
Моро сообщил Лербаху условия, на которых Первый консул допускает новое перемирие. Австриец с горечью согласился на эти условия и 20 сентября заключил с генералом Лагори новое перемирие в деревне Гогенлинден, которой вскоре суждено было сделаться знаменитой. Города Филинсбург, Ульм и Инголыитадт отдавались французам, взамен перемирие было продлено на сорок пять дней.
Император возвратился в Вену, весьма недовольный путешествием, которое его уговорили предпринять, потому что оно не принесло других плодов, кроме уступки французам самых лучших крепостей империи. Он был глубоко опечален. Народ разделял его чувства и обвинял Тугута в том, что тот совершенно переметнулся к англичанам.
Королева неаполитанская Каролина прибыла в Вену с адмиралом Нельсоном и леди Гамильтон, чтобы поддержать партию, желавшую войны, но общественное негодование было слишком велико. Тугута обвиняли в том, что в начале весны он не хотел согласиться на мирные предложения Первого консула, с таким упорством отвергал существование Резервной армии и обязался не вести переговоров без Англии, причем в минуту, когда, напротив, следовало сохранить полную свободу и действовать независимо. Тугут был вынужден покориться обстоятельствам и сложил с себя звание министра, но все еще сохранял сильное влияние на австрийский кабинет.
Лербах занял его место в министерстве иностранных дел; а на место Лербаха для люневильского конгресса был избран весьма известный дипломат Людвиг Кобен-цель, которого генерал Бонапарт уважал и с которым уже вел переговоры по Кампо-Формийскому договору.
Надеялись, что Кобенцель более всех подходит для установления дружеских отношений с французским правительством и, живя в Люневиле, в нескольких милях от Парижа, может иногда бывать в столице, чтобы найти возможность встреч с Бонапартом.
Сдача французской армии трех укрепленных мест — Ульма, Инголыптадта и Филинсбурга — пришлась очень кстати к празднеству 1-го вандемьера (23 сентября), потому что должна была оживить надежду на мир. Первый консул желал придать этому празднику Республики такую же пышность, как и празднику 14 июля.
Почести, отданные памяти Вашингтона, водружение славных знамен Маренго уже дали повод к двум торжествам во время правления Бонапарта; в новом и благородном действии нашел он предмет и для празднования 1-го вандемьера.
Во время осквернения гробниц в Сен-Дени тело Тюренна было найдено совершенно сохранившимся. Посреди неистовства черни невольное чувство уважения спасло его останки от всеобщего осквернения25.
Бонапарт решил поместить прах этого великого человека в церковь Дома инвалидов, под охрану французских ветеранов. Почтить знаменитого полководца и слугу древней монархии значило сблизить славу Людовика XIV со славой Республики, значило восстановить уважение к прошедшему, не оскорбляя настоящего, словом, в этом действии проявлялась вся политика Первого консула в самой благородной и трогательной форме.
Перенесение праха должно было совершиться 22 сентября, а на следующий день, 1-го вандемьера IX года, предполагалось заложить первый камень в памятник, посвященный Клеберу и Дезе.
Чтобы придать больше блеска этим торжествам, Бонапарт потребовал, чтобы все департаменты прислали своих представителей, что сообщило бы празднеству характер не только парижский, но и национальный. Департаменты поспешили исполнить его волю и выбрали именитых граждан.
Двадцать второго сентября целая процессия отправилась в музей монастыря Малых Августинцев за колесницей, на которую было помещено тело Тюренна. На этой колеснице, запряженной четверкой белых лошадей, лежала шпага героя монархии, сохранившаяся у герцогов Бульонских и предоставленная правительству для этой торжественной церемонии. Четыре старых генерала, израненных на службе у Республики, держали вожжи.
Этот необыкновенный и благородный кортеж проехал по Парижу среди бесчисленной толпы и прибыл к Дому инвалидов, где его ожидали Первый консул с депутатами от департаментов как древней, так и новой Франции: последние представляли собой Бельгию, Люксембург, Рейнские провинции, Савойю и графство Ниццу.
Драгоценные останки были установлены на постаменте в церкви Дома инвалидов. Военный министр Карно произнес простую и торжественную речь. В то время как величественная музыка оглашала своды здания, тело Тюренна было опущено в гробницу.
Если в наше холодное время, когда вера совсем остыла, что-нибудь может заменить религиозные торжества или хоть уподобиться им, то это, без сомнения, только такие зрелища!
Впрочем, в тот же день хотели доставить народу и простое удовольствие: было назначено бесплатное представление «Тартюфа» и «Сида».
На другой день Первый консул, как и накануне, отправился в сопровождении толпы придворных и депутатов на Площадь Победы.
Здесь должен был возвыситься памятник в египетском вкусе, предназначенный принять останки Клебера и Дезе, которых Бонапарт желал похоронить рядом. Он заложил первый камень и потом верхом отправился в церковь Дома инвалидов. Там его брат Люсьен произнес речь о состоянии Республики, речь произвела живейшее впечатление. Некоторые места были приняты с рукоплесканиями, особенно когда оратор воскликнул: «Счастливо поколение, которое оканчивает республикой революцию, начатую во время монархии!»
Именно во время этой церемонии Первый консул получил депешу о гогенлинденском перемирии и сдаче Филинсбурга, Ульма и Ингольштадта. Он передал депешу брату, она также была прочитана вслух и встречена живейшими рукоплесканиями; крики: «Да здравствует Бонапарт! Да здравствует Республика!» — потрясли своды священного здания.
Войны уже не боялись, все были полны доверия к гению Первого консула и мужеству французских войск, если бы пришлось продолжать ее, но после стольких битв, после стольких волнений все желали мирно наслаждаться приобретенной славой и занимавшейся зарей благоденствия.
И точно, благоденствие это развивалось чрезвычайно быстро. Надежды нации осуществлялись по очереди, и можно смело сказать, что в течение десяти месяцев, с ноября 1799 года по сентябрь 1800-го, Франция совершенно преобразилась.
Капиталисты получили проценты наличными деньгами, чего с начала революции не случалось. Этот финансовый феномен произвел большой эффект, он принадлежал к немаловажным победам Первого консула.
Но как мог он совершить такое чудо? Эту загадку толпа объясняла необыкновенной силой, которую ему приписывали, но в мире не бывает чудес сверхъестественных. Всякий истинный успех происходит от простых причин: от здравого смысла, подкрепленного мощной волей. В этом заключалась и тайна счастливых результатов правления Бонапарта.
Во-первых, он истребил главное зло — медленный сбор податей. В первый раз с начала революции могли взимать подати с первых дней года. Главные сборщики, получая повинности своевременно, могли аккуратно оплачивать выданные им ежемесячные облигации и действительно платили по ним на исходе каждого месяца.
Сверх того, поскольку прямые подати представляли 300 миллионов из бюджета в 500 миллионов, казна с первого дня имела эти 300 миллионов на руках в виде обязательств, весьма легко обращаемых в наличность. Вместо того чтобы не получить ничего, как прежде, теперь казна с 1-го вандемьера могла располагать большей частью государственного дохода.
VIII год (1799—1800) был не так легок, каким обещал стать IX. Операции следующего года не представляли больших затруднений. Теперь уже не выдавали недоимочных свидетельств, потому что отныне капиталисты могли получать плату наличными; не выпускали реквизиционных расписок, потому что армия содержалась или за счет казны, или за счет неприятелей; наконец, отменили переводы долгов, потому что Первый консул принял в отношении государственных подрядчиков неизменную систему: он или ничего не давал им, или платил наличными, и притом гораздо щедрее, чем предшествовавшие правительства.
Каждую неделю Бонапарт собирал финансовый совет; на этих заседаниях ему представляли баланс доходов и расходов по каждому министерству, из расходов он выбирал самые необходимые и назначал министерствам суммы, не превышающие их потребностей, но зато верные.
Деньги выплачивались Французским банком. Банк существовал только полгода, а успел уже выпустить на значительную сумму билетов, которые принимались как наличные деньги. Этот быстрый успех произошел благодаря вниманию правительства и удовлетворению насущных торговых нужд.
Итак, подвергая себя некоторым лишениям в течение нескольких месяцев, правительство приобрело сильное оружие, которое за полученную временно помощь в десять или двенадцать миллионов могло теперь оказать ему услуги на несколько сот миллионов.
Финансовое довольство возрождалось во всех областях. Но среди всеобщего благоденствия только недвижимое имущество продолжало оставаться в угнетенном положении. В самый разгар революционных смут владельцы земель и домов имели ту выгоду, что или не платили податей вовсе, или платили безделицу. Теперь все стало иначе. Им следовало сначала ликвидировать старые недоимки, потом внести подати за текущий год, и все это наличными деньгами. Для мелких владельцев это было тяжело.
Но одних доходов с недвижимости недостаточно для поддержания государственного обихода. Для этого нужно, чтобы и продовольствие было обложено пошлиной. Революция, уничтожив пошлину на напитки, соль и прочие припасы, закрыла один из главных источников государственного дохода. Еще не наступило время открыть этот источник, следовало прежде победить много предрассудков. Установив пошлинный сбор у городских застав (в пользу госпиталей), Бонапарт провел первый опыт, который должен был подготовить умы к восстановлению старых обычаев.
Помимо финансов, оставалось еще другое дело, столь же расстроенное и столь же важное, а именно — дороги.
Дороги во Франции были совершенно запущены. Известно, что не только нескольких лет, но даже нескольких месяцев небрежения достаточно, чтобы превратить в ухабы дороги, прокладываемые для перевозки тяжестей. А во Франции о дорогах не заботились почти десять лет.
Директория, видя, какая складывается ситуация, вздумала создать специальное средство, вполне верное: установили дорожную таксу и учредили заставы для сбора пошлины. Но пошлина эта была отдана в руки подрядчиков, за которыми не было присмотра. Они крали и при сборе пошлин, и при использовании их на ремонт дорог. К тому же сбор этот был сравнительно небольшим, составлял не более тринадцати миллионов в год. А требовалось тридцать.
Первый консул, отложив на время внедрение новой, более правильной системы, прибег к самому простому средству: решил употребить на это важное дело суммы из главных государственных доходов. Он подверг дорожных подрядчиков и приставов строжайшему надзору и тотчас же выдал 12 миллионов на IX год, что по тогдашнему времени составляло огромную сумму.
Сумма эта была назначена на ремонт главных трактов, идущих от центра к окраинам республики: из Парижа в Лилль, Страсбург, Марсель, Бордо и в Брест. Каналы Сен-Кантен и Урк, построенные к концу монархического правления, представляли собой скорее развалины, чем результат созидательного труда. Бонапарт тотчас же отправил на каналы инженеров, сам съездил на место и велел составить окончательные планы реконструкции.
Но разруха царила повсюду не только из-за состояния дорог: в большей части провинций разгулялись разбойники. Шуаны и вандейцы, оставшись без дела в результате прекращения междоусобной войны и усвоив себе привычки, которых мир не мог удовлетворить, опустошали большие дороги в Бретани, Нормандии и окрестностях Парижа. Желавшие избежать рекрутской повинности, и те солдаты Лигурийской армии, которых к побегу побудила нужда, совершали такие же разбои по центральным и южным дорогам. Жорж Кадудаль, возвратившись из Англии с огромными суммами денег, тайно управлял этими новыми игуанами.
Для прекращения разбоя нужно было посылать в леса множество мобильных отрядов в сопровождении полевых судей. Первый консул сформировал уже несколько таких отрядов, но ему все еще недоставало солдат. Бонапарт справедливо замечал, что, победив внешних врагов, он скорее справится и с внутренними. «Имейте терпение, — говорил он людям, которые с ужасом указывали ему на беспорядки. — Дайте мне месяц или два времени. Я завоюю мир, а потом уже сразу истреблю этих рыцарей больших дорог».
Итак, мир был тогда необходимым условием всякого благого дела.
Между тем обстоятельства требовали скорого устройства и церковных дел, потому что примирение с римским престолом было так же необходимо для успокоения умов, как и мир с Европой. В делах церкви оставалось множество неясностей, опасных или странных, которые Первый консул пока старался уточнять посредством отдельных постановлений.
Чтобы положить конец хаосу, нужно было соглашение с папой римским, соглашение, которое могло бы примирить между собой священников. Но кардинал Спина, папский посол, только что прибыл в Париж и, сам изумляясь, что находится в этом городе, скрывался от всех взоров. Предмет, о котором надо было переговорить, был столь же щекотлив для него, как и для французского правительства.
Бонапарт противопоставил этому хитрому итальянцу лицо, вполне способное с ним тягаться. Это был аббат Бернье, который долго управлял Вандеей и примирил ее наконец с правительством.
Первый консул вызвал Бернье в Париж и привязал его к себе самыми благородными и почетными узами: желанием способствовать общему благу и участием в его совершении. Восстановление согласия между Францией и церковью было для аббата Бернье продолжением и окончанием усмирения Вандеи. Но свидания его с монсеньором Спиной только начались, и невозможно было ожидать от них немедленных результатов.
Постановлением от 28 декабря 1799 года Бонапарт запретил местным властям чинить священникам препятствия в отправлении богослужения26. Консульское постановление, о котором мы говорим, уничтожило это затруднение, принудив местное начальство допускать священнослужителей в храмы в праздничные дни, определенные каждым вероисповеданием.
Но постановление это не разрешало всех затруднений касательно вопроса о воскресных днях. Проводя реформу, надо довольствоваться преобразованием того, посредством чего можно уничтожить реальное зло или восстановить правосудие, но устраивать преобразования для удовольствия глаз или ума, для того, чтобы провести прямую линию там, где ее нет, — значит, требовать от человеческой природы больше, чем она в силах вынести! Можно по желанию создать привычки ребенка, но нельзя переделать привычки взрослого человека. То же самое и с народами: нельзя обновлять обычаи нации, которая существует уже пятнадцать веков.
И точно, воскресенье повсюду стало опять входить в употребление. Первый консул новым постановлением от 6 июля 1800 года объявил, что каждый вправе выбрать себе день для отдыха, какой заблагорассудится, и праздновать дни, которые почитает священными по привычке или по убеждению, а только присутственные места обязаны следовать установленному законом календарю и выбирать декадии в качестве выходного дня. Это значило обеспечить торжество воскресных дней.
Первый консул был совершенно прав, поддерживая возвращение к древней и всеобщей привычке, в особенности если желал вернуть католическую религию, а он желал этого и в этом отношении также был совершенно прав.
Эмигранты снова привлекли к себе внимание Бонапарта. Он желал исправить жестокости революции по отношению к своим соотечественникам, но не хотел тревожить ни одного из интересов, порожденных ею и сделавшихся со временем законными.
Вследствие этого Первый консул счел нужным принять меры, которые несколько привели в порядок хаос поступающих в правительство просьб. Двадцатого октября 1800 года было утверждено следующее определение.
Все исключенные из списков, невзирая на степень снисхождения к ним, были признаны в действительности исключенными из числа эмигрантов. Всех внесенных в список под собирательными названиями, как то: детей и наследников эмигрантов, — следовало считать невне-сенными. Женщины, оставившие Францию по воле своих мужей, дети моложе шестнадцати лет, священники, покинувшие государство вследствие закона об изгнании, все те, кто отлучился из отечества до начала революции, мальтийские рыцари, бывшие на Мальте во время событий во Франции, — решительно исключались из списков. Также исключались из списков имена жертв, погибших на эшафоте: это было необходимо для примирения правительства с их семействами.
В списках были оставлены все поднимавшие оружие против Франции, все занимающие гражданские или военные должности при дворах изгнанных принцев, все получившие от иностранных дворов чины и звания без разрешения французского правительства.
Эмигранты, исключенные из списков, если хотели остаться во Франции или желали, чтобы с их непроданных имений был снят секвестр, должны были присягнуть конституции и находиться под надзором полиции до заключения общего мира и еще год после.
Это определение, при тогдашних обстоятельствах, было самой благородной мерой, какую только можно придумать. Оно исключало из списка большую часть изгнанников и оставляло только незначительное количество отъявленных врагов Революции, предоставляя их судьбу позднейшему времени.
Мы видим, сколько трудностей всякого рода должно было преодолеть правительство, чтобы восстановить порядок в этом расстроенном обществе и быть милосердным к одним, не будучи жестоким и несправедливым к другим. Но за эти труды Франция вознаградила его, можно сказать, единодушным одобрением.
Практически все партии были довольны Первым консулом; они чистосердечно покорились ему, или, по крайней мере, его правлению.
Патриотам 82-го года теперь казалось, что в консульском правлении они нашли осуществление своих желаний. Уничтожение феодальных прав, гражданское равенство, некоторое участие народа в делах правления, не слишком много свободы, но много порядка, блистательное торжество Франции над Европой, — все это хотя не вполне согласовалось с прежними их желаниями, но казалось удовлетворительным и вполне обеспеченным.
Что касается пламенных революционеров, которые были преданы Революции по убеждению и чувству, хоть и не принимали участия в ее неистовых заблуждениях, то эта партия была благодарна Бонапарту уже за то, что он не походил на Бурбонов и окончательно утвердил их изгнание.
Новые владельцы имений хоть и негодовали иногда на снисходительность Бонапарта к эмигрантам, не сомневались, однако, что он обеспечит неприкосновенность приобретенных ими владений, и держались за него как за непобедимый меч, защищающий их от торжества Бурбонов и эмигрантов, которым помогало европейское оружие.
Что касается умеренных роялистов, которые прежде всего желали избавиться от страха казней, ссылок и конфискаций, они были почти счастливы, потому что не бояться для них уже было блаженством. Все, чего Первый консул еще не дал, они надеялись получить от него в будущем.
Оставалась, как и всегда остается, неукротимая часть партии, которую можно усмирить, лишь увлекая ее в могилу. Эта часть обыкновенно состоит из людей или фанатически убежденных, или виновных; последние-то, как правило, и воюют.
Все, кто во время революции запятнал себя кровью и преступлениями, все те, кто по жестокости характера или по свойству ума были привлечены к стремительному потоку: бешеные монтаньяры, немногие уцелевшие члены знаменитой Парижской коммуны, прежние якобинцы и кордельеры — с каждым успехом нового правительства все более и более раздражались. Они называли Первого консула тираном, который хочет устроить во Франции контрреволюцию, уничтожить свободу, возвратить эмигрантов, восстановить духовенство, может быть, даже Бурбонов, чтобы сделаться их презренным рабом.
Другие, которые не так были ослеплены гневом, говорили, что он хочет сделаться тираном и задушить свободу из своекорыстных видов. Это Цезарь, вызывающий кинжал Брута. Они говорили о кинжалах, но тем дело и кончалось, потому что энергия этих людей, ослабленная десятилетием неистовой активности, начинала обращаться в неукротимость языка. Эти неисправимые демагоги отыскивали между реальными или мнимыми недовольными воображаемого героя для осуществления своих целей.
Неизвестно, почему им казалось, что Моро завидует Бонапарту, вероятно, потому, что он приобрел довольно славы, чтобы сделаться вторым лицом в государстве. Они тотчас же превознесли его до небес.
Но Моро прибыл в Париж, Первый консул принял его с почестями, пожаловал ему пистолеты, осыпанные драгоценными камнями, с названиями всех его битв, — и Моро подчинился ему с охотой.
Демагог Брюн, сначала столь дорогой сердцам неистовых патриотов, привлек внимание Первого консула, приобрел его доверие и получил командование Итальянской армией, — и также подчинился.
Зато Массена, которого слишком грубо лишили начальства над этой армией, был недоволен и не скрывал своего неудовольствия; демагоги тотчас провозгласили его будущим спасителем Республики и назначили главой истинных патриотов.
То же было и с Карно, которого они во времена фрюкгидора называли роялистом и который тогда по их настояниям был осужден на ссылку. Теперь, лишившись военного министерства, он сделался в их глазах великим гражданином. Или Ланн, который хоть и любил Первого консула, но был решительным республиканцем и нередко с жаром негодовал против возвращения эмигрантов и священников. Или Сийес, тот самый Сийес, которого республиканцы прежде ненавидели как главного соучастника в перевороте 18-го брюмера, над которым издевались по случаю неудовольствия Первого консула, — теперь он был им почти приятен, потому что, недовольный своим ничтожеством, имел вид холодный и осуждающий.
И вот, согласно ожиданиям демагогов, Карно, Ланн и Сийес должны были присоединиться к Массена, чтобы при первом же удобном случае восстановить Республику.
Наконец, надо сказать, что они и на министра Фуше возлагали свои надежды, на Фуше, который был одним из двух главных советников Первого консула и которому нечего было желать. Потому только, что он хорошо знал патриотов, не боялся их и даже иногда помогал им, понимая, что тут надо подкупать языки, а не обезоруживать руки, и его назначили для низвержения тирана и спасения погибающей свободы.
Партия роялистов имела так же, как и партия революционеров, своих болтунов, столь же легковерных, но их заговоры были гораздо опаснее. Это были версальские вельможи, возвратившиеся или готовые возвратиться, интриганы, жалкие посланники Бурбонов, которые ездили из Франции за границу, чтобы завязать там интриги или приобрести сколько-нибудь денег. Одним словом, усердные солдаты Жоржа, готовые на всякие злодеяния.
Первые из них, знатные вельможи, везде и всюду поносили Первого консула. Они жили в Париже как иностранцы, едва обращая внимание на то, что в нем происходило, и просили об исключении своих имен из списка эмигрантов, для чего непрерывно ездили к госпоже Бонапарт. Они являлись к ней по утрам и низкопоклонничали, пока сидели в ее гостиной, когда же выходили — стыдились, что побывали там, и в свое оправдание говорили, что делают это единственно из желания помочь своим несчастным друзьям.
Госпожа Бонапарт имела неосторожность входить в эти двусмысленные отношения, а муж ее, хоть часто был обеспокоен этим, допускал, однако, такие визиты в силу снисхождения к жене, а отчасти и для того, чтобы все знать и иметь сведения обо всех партиях.
Почти все из этих господ были обязаны правительству, но это нисколько не укрощало их языков. Все, что для них делали, по их мнению, было должным. Они издевались над всем и над всеми, даже над смущением госпожи Бонапарт, которая хоть и гордилась тем, что принадлежит к семье первого человека века, но была слишком снисходительна и слаба, чтобы раздавить этих презренных законной гордостью, которую должна был чувствовать.
Случается иногда, что ненависть предугадывает довольно верно, потому что любит предполагать ошибки, а ошибки, к несчастью, почти всегда и во всем неизбежны. Но только в жгучем своем нетерпении она предупреждает время. Эти легкомысленные болтуны сами не знали, до какой степени их слова окажутся справедливы, не знали и того, что до исполнения их мрачных предсказаний мир будет потрясаем в течение пятнадцати лет, а человек, о котором они так отзывались, совершит великие дела, но и непомерные ошибки, и что они сами еще успеют отречься от своих слов, переменить убеждения, привязаться к этому могущественному владыке, сделаться его рабами и поклоняться ему как божеству!
Гораздо тише, и уже не словами, а делами, замышляли интриганы, находившиеся на службе у Бурбонов, и еще тише их, но гораздо опаснее, — агенты Жоржа Кадудаля, сыпавшие английское золото горстями.
Жорж со времени своего возвращения из Лондона жил в Морбигане, скрываясь от всех и изображая человека, покорившегося необходимости и возвратившегося к своим полям. Но на самом деле он был непримирим и дал клятву себе и Бурбонам — или погибнуть, или уничтожить Первого консула.
Выйти на бой с гренадерами консульской гвардии было невозможно, но между шуанами можно было найти довольно людей, готовых прибегнуть к последнему средству побежденных партий, то есть к убийству. Между ними сыскалась бы целая шайка, способная на все, на самые черные злодейства, на самые отважные предприятия.
Жорж, не зная еще, какое время и место выбрать для своего замысла, не давал им остыть, общался с ними через своих приспешников и предоставил им большие дороги и часть денег, в избытке получаемых от английского кабинета.
Первый консул мало думал о заговорах против его особы: он смотрел на них как на одну из тех случайностей, которым каждый день подвергался на полях битвы, то есть с равнодушием фаталиста.
Впрочем, он ошибался насчет угрожавшей ему опасности. Он приписывал партии революционеров все, что случалось неприятного, и только на нее и негодовал. Роялисты в то время казались ему угнетенной партией, которую следовало спасти от преследования. Бонапарт знал, что среди них есть негодяи, но привык ожидать насилия только со стороны революционеров. Один из его советников старался, однако же, вывести его из заблуждения: советник этот был Фуше, министр полиции.
В эту эпоху полиция была не тем, чем стала впоследствии, то есть обычным надзорным органом, обязанным извещать власти и исполнять их предписания. Тогда полиция пользовалась неограниченной властью, сосредоточенной в руках одного человека. Министр полиции имел право ссылать одних как революционеров, других — как возвратившихся эмигрантов, назначать тем и другим места для жительства, а иногда заключать их в темницы, не опасаясь огласки прессы. Он мог снимать секвестр или оставлять его на имениях изгнанников, отдавать священникам и отнимать у них приходы, запрещать журналы и газеты, — словом, обращать, на кого захочет, доверие или подозрение правительства.
Фуше, католик и член Конвента, был человеком смышленым и хитрым, ни добрым, ни злым, хорошо знавшим людей, особенно дурных, и презирал всех без различия. Он использовал деньги полиции для надзора за смутьянами и всегда был готов дать кусок хлеба или место всякому, кто был утомлен политическими волнениями. Таким образом министр приобретал друзей правительству, а особенно — себе, создавая не легковерных и склонных к обману шпионов, но людей обязанных, которые никогда не упускали случая извещать его обо всем, что ему было нужно знать. Имея таких приверженцев во всех партиях, даже между роялистами, он всегда узнавал обо всем вовремя, но никогда не преувеличивал опасности ни в собственных глазах, ни перед своим повелителем.
Он умел отличать людей безрассудных от действительно опасных, предостерегал одних и преследовал других. Одним словом, он управлял полицией так, как ей еще никогда не управляли, потому что дело полиции состоит столько же в обезоруживании ненависти, сколько в преследовании ее.
Он был бы превосходным министром, если бы его чрезвычайная снисходительность основывалась на более возвышенных правилах, а не на равнодушии к добру и злу, и если бы его деловитость происходила не от страсти во все вмешиваться, что делало его в глазах Первого консула подозрительным и часто придавало ему вид обычного интригана.
Первый консул был скуп на доверие и дарил его только людям, к которым чувствовал особенное уважение.
Он пользовался услугами Футе, но питал к нему недоверие. Поэтому он иногда старался заменять или проверять его, давая деньги Бурьену, Мюрату или Савари на составление отдельных полицейских комиссий.
Но Фуше всегда умел показать неловкость и ребяческие промахи этих второстепенных полиций, доказывая, что один все знает, и, несмотря на возражения Первому консулу, завоевывал его благосклонность своим мастерством.
Талейран играл совершенно противоположную роль. Он не сочувствовал Фуше и не имел с ним никакого сходства.
Оба происходили из духовного звания, Талейран — из высшего, Фуше — из низшего духовенства. Между ними не было ничего общего, кроме того, что оба воспользовались революцией, один, чтобы сбросить с себя облачения прелата, другой — платье католического священника.
Надо сознаться, что это правительство, составленное из воина и двух духовных лиц, отрекшихся от своего сана, представляло собой довольно странное зрелище, зрелище, которое очень хорошо отражает общество, находящееся в глубоком разладе; но, несмотря на свой состав, правительство это было блистательно, величественно и имело огромное влияние на весь мир!
Талейран происходил из знатного рода, по рождению своему предназначался к военной службе, но был осужден на духовное звание несчастным случаем, обрекшим его на хромоту. Он не имел склонности к возложенному на него званию и постепенно из прелата сделался придворным, революционером, эмигрантом и, наконец, министром иностранных дел.
Талейран сохранил в себе кое-что от всех этих должностей: в нем был виден и епископ, и вельможа, и революционер. Будучи от природы нрава умеренного, он чувствовал отвращение ко всему, что выходило из привычных рамок, умел приспосабливаться к мыслям тех, кому хотел понравиться, выражался тем чудным языком, который принадлежал исключительно обществу, образованному Вольтером, был находчив на ответы живые и колкие, которые столько же заставляли бояться его, как и делали привлекательным. Попеременно то ласковый, то надменный, непринужденный, полный достоинства, хромой, но не менее от того ловкий, он был человеком самым странным, какого только могла породить революция. Он был обольстительнейшим из дипломатов, но в то же время оказался решительно неспособен управлять делами обширного государства, потому что для управления необходимы воля, твердые взгляды и трудолюбие, а он ничего из этого не имел. Воля его ограничивалась желанием нравиться, взгляды не простирались далее минутного мнения; труд его был ничтожен. Одним словом, это был отличнейший посланник, но плохой министр, если произносить это слово в высшем его значении. Впрочем, во время консульского правления для него и не было другой роли.
Первый консул, который не допускал ничьего мнения насчет военных действий и дипломатии, использовал его только для сношений с иностранными министрами, что Талейран и выполнял с примерным искусством.
При всем том он имел одно нравственное достоинство: он любил мир — в правление человека, любившего войну, — и не скрывал этого. Одаренный изящным вкусом, тактом, даже полезной ленью, он был бы в состоянии уже тем одним оказать истинные услуги, что мог противопоставить излишеству речей, пера и действий Первого консула свою воздержанность, точную во всем меру, даже свою склонность к праздности. Но он имел мало влияния на этого самовластительного повелителя, потому что по гению и по убеждению во всем был ниже его.
Ценя старый образ правления, за исключением смешных предрассудков прежнего времени, Талейран советовал как можно скорее устроить монархию или что-нибудь в этом роде, пользуясь славой Первого консула за недостатком королевской крови. Он присовокуплял, что если хотят утвердить прочный мир с Европой, то надо поспешить ей уподобиться. В то время как министр Фуше, во имя Революции, советовал не слишком торопиться, Талейран, во имя Европы, советовал, напротив, действовать как можно скорее.
Первый консул ценил здравый смысл Фуше и любил ловкость Талейрана, но решительно ни в чем не верил ни тому ни другому. Полным и беспредельным доверием он удостаивал только Камбасереса.
Не отличаясь блистательным умом, Камбасерес был одарен редким здравым смыслом и питал к Первому консулу беспредельную привязанность. Проведя десять лет жизни в непрерывном страхе и трепете, он с какой-то особенной нежностью любил могучего властелина, который дал ему возможность вздохнуть свободно. Он любил его силу, его гений, любил его как человека, который сделал ему много добра и на милость которого он надеялся в будущем.
Постигая слабости людей, и даже людей великих, он давал Первому консулу советы, какие надо давать, если желаешь, чтобы им следовали: он давал их с совершенным чистосердечием, с чрезвычайной деликатностью, не для того, чтобы блеснуть умом, но чтобы быть полезным правительству, которое любил как самого себя, которое всегда и везде восхвалял за все его действия и которое осмеливался иногда порицать тайно, с глазу на глаз с Бонапартом.
Он молчал, когда видел, что уже нет средств противиться злу и всякая критика становится только суетным удовольствием порицания, но всегда говорил со смелостью (весьма уважительной в трусливом человеке), когда еще можно было предупредить ошибку.
Перед своими подчиненными он показывал детское тщеславие: окружал себя льстецами, которые кадили ему самым грубым фимиамом, почти каждый день прогуливался по Пале-Рояль в костюме великолепном до смешного. В удовлетворении своих гастрономических прихотей, вошедших в пословицу, находил достаточное наслаждение для своей слабой, но мыслящей души. Впрочем, что значат некоторые недостатки при возвышенной мудрости!
Первый консул охотно прощал своему товарищу эти недостатки и чрезвычайно дорожил им. В особенности он ценил искренность привязанности Камбасереса, смеялся над его странностями, но всегда добродушно, и оказывал ему величайшую честь, открываясь во всем и заботясь только о его суждении. Один Камбасерес и имел на него влияние — влияние, о котором никто не подозревал и которое именно потому и было очень важно.
Кроме благих советов, Камбасерес приносил Первому консулу и другую пользу: он управлял Сенатом. Все знали, что только через Камбасереса можно добраться до Первого консула как до источника всяческих милостей, и все стали к нему обращаться. Он пользовался этим втихомолку и с чрезвычайной ловкостью, чтобы удерживать или привлекать на свою сторону оппозицию. Но все это делалось с такой скромностью, что никто не мог пожаловаться.
Что касается консула Лебрена, Бонапарт обходился с ним с уважением, даже ласково, но как с человеком, который, кроме управления, ни в какие дела не вмешивается. Он поручил ему надзор за всеми подробностями финансовых операций и действиями роялистов, в кругу которых Лебрен часто вращался. Он был ухом и глазом Первого консула, который, впрочем, в этом отношении был подстрекаем не политическим интересом, а просто любопытством.
Чтобы дать верное понятие обо всех приближенных Первого консула, надо сказать несколько слов и о его семействе.
У него было четверо братьев: Жозеф, Люсьен, Луи и Жером. В свое время мы познакомим читателей с двумя последними. В то время только Жозеф и Люсьен имели некоторое значение.
Жозеф, старший из всех братьев, был женат на дочери богатого и почтенного марсельского негоцианта. Он был кроток, довольно хитер, приятен в обхождении и меньше всех докучал своему брату. Ему-то Первый консул и предоставлял честь вести переговоры о мире между Республикой и державами Старого и Нового Света. Он поручил ему заключить договор, который Франция готовилась подписать с Северной Америкой, и назначил его уполномоченным в Люневиль, стараясь, таким образом, отдать ему роль, выгодную для Франции.
Люсьен, в то время министр внутренних дел, был человеком умным, но ума шаткого, беспокойного, непокорного, и не имел достаточно талантов, чтобы искупить недостаток здравого смысла.
Оба брата поощряли склонность Первого консула Достичь верховной власти, и причина этого очень понятна. Гений Первого консула, его слава принадлежали ему лично, только одно могло перейти на его семейство, а именно: монархическое достоинство, если он предпочтет его званию первого сановника Республики.
Братья его были из числа людей, которые, не воздерживаясь, явно утверждали, что настоящий образ правления был только переходным, придуманным для того, чтобы пощадить революционные предрассудки, но что следует непременно принять решительные меры, если хотят основать что-нибудь прочное, и дать правительственной власти более сосредоточения, единства и продолжительности. Нетрудно было вывести из этого логические заключения.
Первый консул, как всем известно, не имел детей, и это приводило в большое недоумение тех, кто уже мечтал о превращении республики в монархию. Хотя это обстоятельство в будущем могло быть очень выгодно для братьев Бонапарта, но в настоящую минуту оно было помехой для их предположений, и они часто укоряли в том госпожу Бонапарт, приписывая ей это несчастье.
Находясь с ней в ссоре из зависти к ее влиянию, они не щадили ее в разговорах с ее мужем, преследовали своим злословием и беспрестанно повторяли, что Первому консулу нужна жена, которая подарила бы ему детей. Они заставляли повторять ей всеми устами эти пагубные слова, из которых она должна была вывести самое печальное заключение.
Итак, внешне столь счастливая супруга Первого консула была в эту минуту очень далека от счастья...
Жозефина Бонапарт, бывшая сначала замужем за графом Богарне, а потом вышедшая за молодого генерала, который 13-го вандемьера спас Конвент, и ныне разделявшая с ним место, которое начинало походить на престол, была креолкой и обладала всеми прелестями и всеми недостатками, свойственными женщинам этого происхождения.
Она была добра, расточительна и суетна, не хороша собой, но чрезвычайно мила, и, обладая бесконечной любезностью, умела нравиться гораздо больше и чаще, чем женщины, которые были и прекраснее, и умнее ее.
Безмерная расточительность и разные безрассудства, которым она ежедневно предавалась, часто выводили ее мужа из терпения. Но он прощал ее с великодушием счастливого могущества и не мог долго сердиться на женщину, которая разделяла первые минуты его зарождающегося величия, и, оставшись однажды возле него, казалось, привлекла с собой счастье.
Госпожа Бонапарт принадлежала к женщинам старого времени: набожная, суеверная и даже роялистка, она ненавидела людей, которых называли якобинцами и которые платили ей тем же. Она поддерживала знакомство только с людьми прежней эпохи. Они знали ее еще женой человека чрезвычайно почтенного, знатного и чиновного, несчастного генерала, погибшего на революционном эшафоте. Теперь они находили ее замужем за выскочкой, но за выскочкой, который был могущественнее всех европейских государей, и не почитали предосудительным являться к ней с просьбами, хотя и показывали вид, что пренебрегают ею.
Она спешила объявить им о своем могуществе и оказывала различные услуги. Она даже старалась возбуждать в них род надежды, давая понять, будто генерал Бонапарт ждет только удобного случая, чтобы снова призвать Бурбонов и возвратить им законное наследие. И, странное дело, возбуждая в них эту несбыточную надежду, она сама почти готова была разделить ее, потому что охотнее желала видеть своего мужа подданным Бурбонов, но окруженным уважением древней французской аристократии, чем монархом, коронованным рукой целой нации.
Это была женщина чрезвычайно малодушная. Хоть она была легкомысленна, но любила человека, который очаровал ее славой, и притом любила его гораздо пламеннее с тех пор, как он несколько охладел к ней. Ныне, предположив, что он счастливо и невредимо достигнет трона, она начинала трепетать: что, если она не разделит с ним этой чести! По этому случаю она припоминала предсказание ворожеи, которая раз ей напророчила: «Вы займете одно из первых мест на свете, только ненадолго!»
Она уже слышала, как братья Первого консула поговаривают о роковом разводе. Несчастная, которой европейские королевы могли бы позавидовать, судя о ее судьбе по внешнему блеску, проводила дни в страшной душевной тревоге. Каждый успех ее мужа прибавлял новый блеск к ее счастью и новые огорчения к ее жизни, и если она избавлялась иногда от жгучих своих страданий, так это по легкости характера, который не мог долго останавливаться на грустных размышлениях.
Несмотря на свои наклонности, по которым она должна бы предпочитать Талейрана министру Фуше, она благоволила к последнему, потому что тот, хоть и якобинец, осмеливался говорить Первому консулу правду, а говорить правду, по ее мнению, значило советовать ему сохранить республику и заботиться только об увеличении консульской власти.
Талейран и Фуше, полагая, что приобретут больше весу, сблизившись с семейством Первого консула, старались льстить каждой стороне так, как ей было приятно. Талейран желал понравиться двум братьям и говорил, что надо придумать для Бонапарта совсем другое положение, чем то, которое назначено ему конституцией.
Фуше старался быть угодным госпоже Бонапарт и говорил, что весьма неблагоразумно поступают, принимаясь за все слишком горячо, и что этим можно все испортить.
Этот способ сближения, возбуждающий в семействе ненужные волнения, чрезвычайно не нравился Первому консулу. Он часто обнаруживал неудовольствие и, желая сообщить его кому-нибудь из своих, поручал это Камбасе-ресу, который со своей обычной мудростью все выслушивал, ничего из услышанного не передавал и отделывался от поручений такого рода с чрезвычайной деликатностью.
VII
ГОГЕНЛИНДЕН
Жозеф Бонапарт подписал в Мортфонтене с Эльсвор-том, Деви и Ван Мюрреем договор, которым мир между Францией и Америкой был восстановлен. Это был первый договор, заключенный консульским правлением Франции. Вполне естественно и целесообразно было начать примирение с различными державами с заключения мира с Республикой, которую она некоторым образом породила.
Первый консул справедливо полагал, что в настоящее время нужно довольствоваться признанием прав нейтральных держав. Так он приобретал Франции лишнего союзника на море, провоцировал против Англии нового врага и давал пищу морскому спору, возникшему на севере и становившемуся с каждым днем все грознее.
Подписание договора торжественно праздновали в Мортфонтене, прекрасном поместье, незадолго до того купленном Жозефом, который благодаря своему браку сделался богаче братьев. Первый консул приехал в сопровождении многочисленного и блестящего общества. Праздничное убранство дворца и сада демонстрировало союз Франции с Америкой.
Были провозглашены тосты, приличествующие обстоятельствам. Бонапарт предложил тост: «В честь французов и американцев, павших на поле битвы за независимость Нового Света!» Лебрен поддержал: «В честь союза Америки с северными державами, в защиту свободы морей!» Камбасерес предложил третий тост: «В честь преемника Вашингтона!»
С нетерпением ждали приезда в Люневиль Кобенцеля, чтобы узнать, намерен ли австрийский двор заключить мир. Первый консул решился, если ход переговоров будет неудовлетворительным, возобновить военные действия, несмотря на позднее время года. С тех пор как он перешел Сен-Бернар, генерал Бонапарт ни во что не ставил любые препятствия и был уверен, что на снегу и на льду можно драться так же хорошо, как и на земле, покрытой травой.
Австрия, напротив, желала выиграть время, потому что обещала Англии не заключать самостоятельно мира до февраля 1801 года. Боясь возобновления военных действий, она перед тем просила третьей отсрочки перемирия, но Первый консул отказал наотрез: он решил не соглашаться на эту просьбу до тех пор, пока не увидит австрийского уполномоченного на месте, назначенном для переговоров.
Наконец 24 октября 1800 года Кобенцель приехал. На границе и по всему пути следования его встречали пушечной пальбой и всевозможными изъявлениями уважения. Первый консул, желая лично убедиться в расположении австрийского уполномоченного, пригласил его на несколько дней в Париж. Кобенцель не посмел отказаться и поспешил в столицу, куда и прибыл 29 октября.
Ему немедленно была дана новая отсрочка на двадцать дней. Потом Первый консул заговорил с послом о мире и об условиях, на которых он мог быть заключен. Слова Кобенцеля мало подавали надежды на успех переговоров, что же касается условий, то он приехал с самыми неуместными требованиями.
Австрия имела на Италию виды, которые никак нельзя было удовлетворить. Она требовала неимоверных уступок землями в Баварии, Пфальце или в Швабии.
Выслушивая эти требования, Первый консул всем своим видом демонстрировал нетерпение. Это с ним уже случалось, с тем же Кобенцелем, во время кампо-фор-мийских переговоров, но с годами и с усилением власти он стал сдерживаться еще меньше. Кобенцель обиделся. Он говорил после, что никто с ним так никогда не обращался: ни Екатерина, ни Фридрих, ни император Павел.
Он просил позволения вернуться в Люневиль, его отпустили, думая, что лучше будет вести переговоры шаг за шагом, через Жозефа, человека кроткого, спокойного и неглупого, то есть более способного к делу, требующему терпения.
В Люневиле Жозефу приказано было предложить Ко-бенцелю три следующих вопроса:
1. Даны ли ему полномочия на ведение переговоров?
2. Дано ли ему право вести переговоры отдельно от Англии?
3. Будет ли он вести переговоры от имени одного лишь австрийского дома или от имени всей Священной Римской империи?
Кобенцель немедленно объявил, что не может вести переговоры, если на конгрессе не будет английского уполномоченного. Что касается вопроса о ведении переговоров от имени одного австрийского дома или от всей империи, он объявил, что ему нужно испросить на этот счет новые инструкции.
Эти ответы были переданы в Париж. Первый консул тотчас велел объявить Кобенцелю, что военные действия возобновятся немедленно по истечении срока перемирия, то есть в последних числах ноября. Конгресс, впрочем, может и не расходиться, переговоры можно вести и во время военных действий, но французские войска остановятся только в ту минуту, когда австрийский уполномоченный согласится вести переговоры без Англии.
Испуганная Австрия решилась на последнюю попытку, доказывавшую ее готовность кончить дело и затруднительное положение, в которое она оказалась поставленной своим союзом с Англией. Кобенцель обратился к Жозефу Бонапарту с вопросом, можно ли положиться на скромность французского правительства. Уверившись, что ему нечего бояться, он показал Жозефу письмо, в котором император уполномочивал его сделать следующее предложение: Австрия соглашалась заключить самостоятельный мир, но на двух условиях: во-первых, чтобы договор сохранялся в нерушимой тайне до 1 февраля 1801 года, когда должны были закончиться ее обязательства в отношении Англии, и с формальным обещанием в случае неудачи переговоров возвратить с обеих сторон письменные документы; во-вторых, чтобы в Люне-виль был пропущен английский уполномоченный, который своим присутствием прикрывал бы факт настоящих переговоров.
На этих двух условиях Австрия согласилась немедленно вступить в переговоры и просила продления перемирия.
Первый консул ни под каким видом не хотел допустить в Люневиль английского уполномоченного, хоть и согласился снова приостановить военные действия, с тем чтобы тайно, в сорок восемь часов, был подписан мир.
Условия этого мира были следующими:
Рейн составит границу Французской республики в Германии, а границей Австрии в Италии станет река Минчио.
Миланскую область, Парму и Модену отдать Цизальпинской республике, герцогу Пармскому отдать Тоскану, а Тосканскому — легатства.
Признать независимость Пьемонта, Швейцарии и Генуи.
Австрия не решалась ни действовать так поспешно (в сорок восемь часов), ни согласиться на уступки в Италии. Обманывая себя мечтами по поводу условий, какие надеялась выговорить, она отвергла предложение Франции. Военные действия тотчас возобновились. Кобен-цель и Жозеф Бонапарт остались в Люневиле, ожидая событий на Дунае, Инне, в Больших Альпах и на Эче, чтобы, сообразуясь с ними, снова вступить в переговоры.
Возобновление военных действий было объявлено 28 ноября. Все было готово к этой зимней кампании, одной из самых знаменитых и решительных в летописях Франции.
На обширном театре войны Первый консул расположил пять армий. Он намерен был управлять ими из Парижа, не принимая личного командования ни над одной. Исполнителями его плана стали Брюн и Моро.
Отсутствие Бонапарта во время непродолжительной кампании в Маренго имело слишком важные последствия, и не следовало подвергаться им вновь без крайней необходимости.
У Ожеро на Майнце было восемь тысяч голландцев и двенадцать тысяч французов, у Моро, на Инне, — сто тридцать тысяч, Макдональд располагал пятнадцатью тысячами в Граубиндене, а Брюн в Италии — сто двадцатью пятью тысячами. И наконец, корпус Мюрата состоял из десяти тысяч гренадеров.
Две главные армии, Моро и Брюна, стояли по обе стороны Альп, вдоль Инна и Минчио соответственно.
Между ними располагался Альпийский хребет с Тиролем. Австрийцы поставили в немецком Тироле корпус генерала Иллера, а в итальянском — корпус генерала Давидовича. Макдональду с его второй резервной армией поручено было отвлекать эти два корпуса. В существование первой Резервной армии не хотели верить, естественно было ожидать, что во вторую поверят слепо. Таким образом, Моро и Брюн, защищенные со стороны Альп, могли идти вперед со всей массой своих сил.
Расположение австрийцев во всем уступало расположению французов. Войска их, почти равные французским по числу, ни в каком другом отношении не могли сравниться с ними. Они еще не оправились от недавних поражений. В Германии главнокомандующим был эрцгерцог Иоанн, в Италии — фельдмаршал Бельгард. Корпус Симбшена опирался на генерала Кленау, командовавшего корпусом, стоявшим на обоих берегах Дуная и связывающим Симбшена с главной армией эрцгерцога. У Симбшена и Кленау было около двадцати четырех тысяч человек.
У эрцгерцога оставалось 80 тысяч человек: 60 тысяч австрийцев стояли перед Инном, а 20 тысяч баварцев располагались в окопах за этой рекой.
Таким образом, мы можем видеть, что, обезоружив саксонцев, закрыв Ливорно для англичан и сдержав неаполитанцев, Первый консул принял весьма полезную предосторожность, которая могла предупредить увеличение неприятельских сил.
Воюющие стороны собирались решить свой спор в Германии, между реками Инн и Изар. Военные действия начались 29 ноября, в Швабии — под холодным дождем, в Альпах — на сильном морозе.
Между тем как Ожеро, дав блестящее сражение в Бург-Эберахе, отделил майнцское ополчение от корпуса Симбшена и лишил его тем самым всякой возможности действовать, а Макдональд готовился перейти Альпийский хребет, чтобы броситься на итальянский Тироль и облегчить Брюну атаку линии Минчио, — в это время Моро двигался между Изаром и Инном к давно изученному им полю битвы и искал решительной встречи с австрийцами.
Он стоял на земле, отделяющей Изар от Инна. Между Мюнхеном и Вассербургом высокий, поросший густым лесом и покрытый болотами пригорок сбегает к Дунаю, образуя множество оврагов. В это-то укрепленное самой природой убежище, доступное только по двум дорогам, находящимся в руках Моро, надо было проникнуть, чтобы помериться с ним силами.
Моро не умел, подобно генералу Бонапарту, угадывать замыслы противника или давать им новое направление собственными резкими действиями. Поэтому он был вынужден действовать наугад. Но, действуя осторожно и будучи застигнут врасплох, умел быстро и с величайшим спокойствием исправлять зло, причиненное случайностью.
Двадцать девятого и тридцатого ноября Моро вынудил австрийские форпосты отступить и перенес свое левое крыло на Ампфингскую высоту, откуда, хоть издали, были видны берега Инна. Теперь левое крыло французской армии оказалось в опасном положении, ибо, желая уследить за движением на Инне, его оставили в пятнадцати лье от Мюнхена, между тем как остальная армия находилась от него в десяти лье.
Австрийская армия с трудом шла по этой стране, то поросшей лесом, то прорезанной реками. Молодой эрцгерцог и его советники, не предвидевшие всех этих обстоятельств, испугались уже первых трудностей, тем более что левое крыло французской армии беспокоило австрийцев: боялись, как бы их не отрезали от Инна.
В результате главный штаб австрийской армии с первого же шага испугался своего плана и тотчас изменил его. Вместо того чтобы продолжать путь к Изару и подняться в тыл французов, австрийцы остановились, обратились к левому флангу неприятеля и решились немедленно дать сражение.
И действительно, 1 декабря эрцгерцог Иоанн начал переводить большую часть своей армии к левому флангу французов. Пятнадцатитысячный корпус двигался по долине Изена. Другой корпус шел прямо на Мюльдорф-скую дорогу, которая ведет через лес до Гогенлиндена и Мюнхена. Наконец, отдельный отряд, перейдя Инн,
шел во фланг левого крыла. Сорок тысяч человек готовились атаковать двадцать шесть тысяч.
Дело оказалось для этих двадцати шести тысяч под началом генерала Гренье жарким и трудным. Ней, защищавший Ампфингские высоты, действовал с удивительной смелостью, всегда отличавшей его на войне: он совершил чудеса храбрости и успел отступить без большой беды. Дивизия Леграна тоже ушла вверх, отступая на Дорфет. Моро благоразумно решил не упорствовать и отступил в величайшем порядке.
Как видим, он не сумел проникнуть в замысел врага и поставил свое левое крыло в весьма опасное положение. Необыкновенное мужество войска и смелость генералов исправили его ошибку. Но это было еще только начало. Моро покинул край своей позиции и отошел в середину обширного леса рядом с Гогенлинденом. В этом-то грозном убежище хладнокровие и твердость французского военачальника должны были встретиться с неопытностью эрцгерцога, восхищенного первым своим успехом.
На этот раз Моро понял выгоды своего положения и решил пропустить австрийцев далеко в лес, захватить их на Гогенлинденской дороге и истребить.
Дорога эта шла по холмам, то поросшим лесом, то открытым. В самом Гогенлиндене лес вдруг расступался, и открывалась небольшая равнина, по которой было рассыпано несколько селений, в середине располагалась сама деревня Гогенлинден с почтовой станцией.
Здесь должны были сойтись главная колонна австрийской армии и отряды, всходившие по Изену, и вместе ударить по левому флангу французской позиции.
Моро развернул на этой небольшой равнине левое крыло под началом Гренье, справа от дороги — дивизию Гранжана, слева — дивизии Нея, Леграна и Бастуля, все артиллерийские и кавалерийские резервы были развернуты посреди равнины.
Центральные дивизии Ришпанса и Декана стояли в окрестностях Эберсберга. Именно этим дивизиям Моро Дал довольно неопределенное приказание перейти к Го-генлиндену и застать врасплох австрийскую армию, забившуюся в лес. Это предписание не было ни ясным, ни
Ю Консульство подробным, каким должен быть хорошо продуманный и сформулированный приказ и каким всегда были предписания генерала Бонапарта. В нем не было сказано, по какой дороге должно следовать войско, не были предусмотрены препятствия, которые могут ему встретиться: все это Моро оставлял на попечение генералов Декана и Ришпанса. Впрочем, на них можно было положиться, они в состоянии были дополнить все, что недосказал главнокомандующий.
Моро предписал также Лекурбу и Сент-Сюзанну со всей возможной скоростью двигаться к месту, где должна была решиться судьба кампании. Но один был от него по крайней мере в пятнадцати, другой — в двадцати пяти лье, и, следовательно, они не могли поспеть вовремя.
Для того чтобы вовремя стянуть все части армии к месту, где решается судьба войны, нужна высшая предусмотрительность, которая дается только великим людям, но без которой тем не менее можно быть отличным полководцем.
Эрцгерцог Иоанн был упоен своим успехом 1 декабря: он так молод, и вот перед ним отступает та самая страшная Рейнская армия, которую австрийские полководцы давно уже не могли остановить.
Весь день 2 декабря он почивал на лаврах и дал Моро время сделать приведенные нами распоряжения. Все было уже готово, чтобы 3 декабря пройти Гогелинденский лес. Будучи новичком на военном поприще, эрцгерцог никак не представлял, что встретит на пути со стороны французов хоть малейшее сопротивление, он думал, что увидит их разве что под Мюнхеном.
Он разделил свою армию на четыре корпуса. Главный, то есть центр, состоявший из венгерских гренадеров, баварцев, большей части кавалерии, обозов и ста орудий, должен был следовать по большой дороге из Мюльдорфа в Гогенлинден и выйти на равнину.
Генерал Ринг с отрядом тысяч в двенадцать планировал пройти во фланге центра и выйти на ту же равнину слева от австрийцев и справа от французов.
В то же время корпуса Байе-Латура и Кенмайера должны были выйти на Гогенлинденскую равнину на некотором расстоянии друг от друга, не теряя времени, даже оставив за собой артиллерию и взяв из обозов только необходимое.
Итак, четыре корпуса австрийской армии шли через этот лес на значительном расстоянии друг от друга, армия эрцгерцога, таким образом, доходила до семидесяти тысяч человек.
Третьего декабря утром французы были выстроены между Гогенлинденом и Хартхофеном. Четыре австрийских корпуса шли со всей возможной скоростью, понимая цену каждого часа в такое время года. Падал мелкий снег, не позволяя различать предметы даже на самом близком расстоянии.
Эрцгерцог Иоанн углубился в лесистое ущелье и прошел его гораздо раньше, чем генералы, задерживаемые ужасными дорогами. Наконец молодой принц показался на опушке леса, против дивизий Гранжана и Нея, стоявших в боевом порядке перед деревней Гогенлинден. С обеих сторон был открыт сильный артиллерийский огонь. Австрийцы атакуют 108-ю полубригаду, но она стоит твердо. Они посылают в обход ее правого фланга батальон венгерских гренадеров. Увидев это, генералы Груши и Гран-жан спешат на помощь, проникают в лес и завязывают с гренадерами жестокий рукопашный бой. К ним присоединяется еще один батальон, — и вот венгры вынуждены спасаться в чащу леса. Таким образом, дивизия Гранжана остается победительницей и не дает австрийской колонне развернуться на Гогенлинденской равнине.
После непродолжительного отдыха эрцгерцог Иоанн начинает вторую атаку на Гогенлинден и дивизию Гранжана. Но и вторая оказывается отбита, как и первая. В эту минуту у опушки леса наконец показываются части Байе-Латура, но они еще не в состоянии действовать.
Вдруг в центре австрийской армии, до сих пор не успевшем выйти из леса, замечается какое-то волнение: по-видимому, в тылу его происходит что-то необыкновенное.
Моро, с проницательностью, делающей честь его таланту стратега, замечает это и говорит Нею: «Теперь
Ю*
пора в атаку: Ришпанс и Декан должны быть в тылу австрийцев!»
Он немедленно приказывает Нею и Гранжану строиться в колонны, атаковать австрийцев и теснить их обратно. Ней подступает к ним с фронта, Груши атакует с фланга, и оба теснят австрийцев в ущелье, в котором те теснятся в беспорядке, со всей своей артиллерией и конницей.
В это самое время в другом конце ущелья происходила операция, предугаданная и подготовленная Моро. Повинуясь полученным от него предписаниям, Ришпанс и Декан свернули с Эберсбергской дороги на Гоген-линденскую. Ришпанс выступил, не дожидаясь Декана, и, в то самое время, когда дрались в Гогенлиндене, смело углубился в чащу, разделяющую обе дороги, перетаскивая за собой с невероятными усилиями шесть малогабаритных орудий. Прибыв на другой конец ущелья, выход из которого, как мы видели, атаковал Ней, он встретил отряд кирасиров и взял их в плен.
Положение его в это время становится критическим. Одну свою бригаду он оставил в лесу, сражающейся с небольшой австрийской частью, сам был окружен со всех сторон и считал нужным не показывать австрийцам своей слабости. Он поручает генералу Вальтеру сдерживать неприятельский арьергард, а сам с 48-й полубригадой сворачивает влево и решается вслед за австрийцами углубиться в ущелье.
Как ни дерзко было его предприятие, оно было благоразумно, ибо колонна эрцгерцога, забившаяся в это ущелье, видела перед собой главную массу французской армии. Отчаянным нападением не ее хвост можно было надеяться произвести в ней беспорядок и тем достигнуть важных результатов.
Ришпанс немедленно строит свою полубригаду в колонны и со шпагой в руке, среди своих гренадеров, проникает в лес. Выдержав сильное картечное приветствие, встречает два венгерских батальона, старается ободрить своих храбрых солдат, но им не нужно ободрение: они бросаются вперед и опрокидывают венгерские батальоны.
Далее они видят обозы, артиллерию, пехоту, собранные кое-как в одном месте. Ришпанс внушает этой толпе невыразимый страх и производит в ней ужасный беспорядок. В то же самое время он слышит неясные крики в другом конце ущелья. Он идет вперед, крики становятся яснее и возвещают присутствие французов. Это Ней. Генералы сходятся, узнают друг друга и обнимаются, упоенные радостью от своего успеха. Они вновь нападают на австрийцев, которые или скрываются в лесу, или бросаются к ногам победителей. Французы берут пленных тысячами, захватывают всю артиллерию и обозы.
Наступает полдень. Центр австрийской армии, окруженный со всех сторон, уничтожен. Левое крыло под началом Риша, отброшенное Деканом за Инн, отходит с огромным уроном. При таких результатах в центре и на левом крыле окончание дела не представляло вопроса.
Между тем как происходило все описанное выше, дивизии Бастуля и Леграна выдерживали наступление пехоты генералов Байе-Латура и Кенмайера.
Эти две дивизии находились в трудном положении, ибо против них были невыгоды местности и неприятель, превосходивший их вдвое. Однако же французы держались твердо благодаря мужеству солдат. К счастью, их поддерживали кавалерийский резерв д’Опуля и вторая бригада Нея.
Французы мужественно отражают все атаки, то отстреливаясь от пехоты, то подставляя штыки коннице. Но тут Гренье, узнав о победе, одержанной в центре, строит дивизию Леграна в колонны, поддерживает ее конницей д’Опуля и вынуждает Кенмайера отступить к опушке леса.
С другой стороны генерал Боннэ атакует австрийцев и опрокидывает их в долину, из которой они пытались выйти. Весть о победе, сообщенная храбрым войскам, удваивает их силы, и они наконец отбрасывают оба корпуса в низину.
В эту минуту Моро возвращается из чащи леса и становится свидетелем победы своих солдат.
И в самом деле, победа была прекрасна! Австрийской армии еще труднее оказалось выйти из леса, чем войти в него. У неприятеля было убито или ранено от семи до восьми тысяч человек, взято в плен 12 тысяч, захвачено 300 возов и 87 орудий. Огромные трофеи! Стало быть, австрийская армия за один день лишилась 20 тысяч солдат, почти всей артиллерии, обозов и, что еще важнее, всей своей нравственной силы.
Это было сражение самое блистательное из всех, какие давал Моро, и одно из замечательнейших в этом веке, видевшем столько необыкновенных битв.
Моро бранили за то, что он оставил три дивизии с Сент-Сюзанном на Дунае и три дивизии с Лекурбом в верховьях Инна, таким образом поставив левое крыло перед необходимостью сражаться с вдвое превосходящим по численности неприятелем.
Это, разумеется, важный и заслуженный упрек; но не станем омрачать прекрасной победы Моро и справедливости ради вспомним, что в чудеснейших победах случаются ошибки, которые удача сглаживает и которые можно отнести к неизбежному злу всякого великого военного предприятия.
После этой важной победы следовало живо преследовать австрийскую армию, идти на Вену и смелым маневром уничтожить тирольскую защиту. Но для этого нужно было перейти Инн и оставшуюся за ним вторую линию. От французской армии, преисполненной после гогенлинденской удачи отваги и силы, можно было теперь ожидать любых успехов.
Дав отдохнуть войску, Моро перенес левое крыло и часть центра к Мюльдорфу, чтобы уверить неприятеля, что намерен переправиться через Инн в низовьях. А между тем Лекурбу было поручено перейти через реку в окрестностях Розенхайма, что он и сделал, снискав новые лавры теперь и в зимнюю кампанию.
Опираясь на дивизию центра, Лекурб быстро двинулся вперед, несмотря на трудности перехода по этой стране, гористой, покрытой лесами, перерезанной реками и озерами; движение непростое во всякое время, а тем более в середине декабря.
Австрийская армия, невзирая на поражения последних дней, еще держалась. Чувство чести, пробужденное опасным положением, в которое была поставлена столица, заставило австрийцев сделать еще несколько благородных усилий, чтобы остановить неприятеля. Австрийская кавалерия прикрывала отступление и активно атаковала слишком близко подходившие французские корпуса. Отступающая армия перешла Альц, вытекающий из озера Химзее, и достигла Зальцаха, неподалеку от Зальцбурга.
Тут, перед самым Зальцбургом, оставалась еще сильная позиция. Эрцгерцог Иоанн решился сосредоточить тут свои войска, надеясь подготовить успех, который бы их несколько ободрил. Это произошло 13 декабря.
Австрийский военачальник встал правым флангом к реке, левым — к горам, а фронт его прикрывала речка Зале. Артиллерия стояла на плоском берегу, конница, выстроенная на открытых местах, готова была идти в атаку на французские корпуса, которые осмелились бы наступать. Пехота укрепилась у Зальцбурга.
Четырнадцатого декабря рано утром Лекурб, увлеченный своей отвагой, перешел вброд речку Зале и мужественно выдержал несколько атак конницы, но скоро туман, покрывавший равнину, рассеялся, и Лекурб увидел перед Зальцбургом грозную линию конницы, артиллерии и пехоты. Тут была вся австрийская армия.
К счастью, в это самое время дивизия Декана почти чудесным образом переправилась через Зальцу под Лау-феном. Она подошла к Зальцбургу в то самое время, когда Лекурб отбивался от австрийской армии. Дивизия Декана подоспела как нельзя более кстати, и Лекурб был выручен из беды, которой подвергли его случай и собственная отвага.
Таким образом, никакая преграда уже не прикрывала австрийскую армию и не могла возвратить ей силы для сопротивления.
Ободряемый на каждом шагу успехом, Моро пошел на Траун и Энс. Австрийцы отступали в беспорядке, подбирая людей, фургоны, пушки. Молодой эрцгерцог Иоанн, впавший от стольких неудач в совершенное уныние, был сменен, и на его место назначили эрцгерцога Карла, с которого наконец сняли опалу, чтобы поручить ему невозможное уже дело — спасение австрийской армии.
Он приехал и с прискорбием обнаружил истинное положение императорских войск, которые после мужественного сопротивления французам настаивали, чтобы их более не приносили в жертву пагубной, никем не одобряемой политике.
Эрцгерцог послал к Моро генерала Мерфельда с предложением перемирия. Моро согласился дать сорок восемь часов на то, чтобы Мерфельд вернулся из Вены с императорскими полномочиями, однако он также выговорил французской армии право подвинуться в это время до Энса.
Двадцать первого декабря Моро перешел Энс, он был уже под Веной, он мог бы пожелать занять ее и приобрести славу, какой не достигал еще ни один французский полководец, славу завоевания столицы империи. Но умеренная душа Моро не любила доводить счастья до крайности. Эрцгерцог Карл дал ему слово, что военные действия будут остановлены и можно будет немедленно приступить к переговорам о мире на условиях, требуемых Францией. Моро, питая к эрцгерцогу заслуженное уважение, изъявил готовность положиться на его слово и 25 декабря согласился подписать новое перемирие на следующих условиях:
1. Военные действия в Германии между австрийскими и французскими, находящимися под началом Моро и Оже-ро, войсками должны прекратиться.
2. Генералам Брюну и Макдональду должно быть послано предложение заключить подобное же перемирие для армий Граубинденской и Итальянской.
3. Французам отдавалась вся Дунайская долина, включая Тироль, крепость Браунау, Вюрцбург, форты Шар-ниц, Кауфштейн и проч.
4. Австрийские магазины предоставлены в их же распоряжение. В случае, если полководцы, действующие в Италии, не согласились бы на перемирие, нельзя переводить в Италию ни одного отряда. Это ограничение было общим для обеих армий.
Моро довольствовался этими условиями в ожидании мира, предпочитая его более блестящим, но и более неверным победам. Имя его было увенчано славой, ибо зимний его поход стал еще успешнее весеннего.
Имелись тут, разумеется, и действия без всякой цели, промедления, даже ошибки, и строгие судьи впоследствии с язвительной злобой выставили на вид эти промахи, как бы желая отомстить Моро за оскорбления, нанесенные памяти Наполеона. Но были и успехи, добытые и оправданные разумными и смелыми действиями.
Перемирие в Германии пришлось очень кстати, оно выручало из сложного положения Батавскую армию Ожеро.
Австрийский генерал Кленау, который все время держался на довольно значительном расстоянии от эрцгерцога Иоанна, вдруг соединился с Симбшеном и этим поставил Ожеро перед большой опасностью. Отступление австрийцев в Богемию вывело французского генерала из затруднения, а перемирие освободило из неудачной позиции, ничем не поддерживаемой с тех пор, как Моро подступил к Вене.
Между тем как эти события происходили в Германии, военные действия продолжались в Альпах и в Италии.
Видя с самого начала похода, что Моро может обойтись без помощи Макдональда, Первый консул предписал последнему перейти в Итальянский Тироль, потом идти на Триент и этим движением уничтожить сопротивление австрийцев на итальянских равнинах.
Никакие отговорки высотой горы Шплуген и суровой погодой не могли поколебать воли Первого консула. Он отвечал, что там, где могут поместить свои ноги два человека, может пройти и армия и что перейти Альпы в мороз легче, чем в распутицу, как он переходил через Сен-Бернар. Это было мнение упорного ума, желавшего достигнуть цели во что бы то ни стало, поход же показал, что зима в горах представляет опасность по крайней мере равную опасностям весны и, сверх того, подвергает людей жестоким страданиям.
Тем не менее генерал Макдональд повиновался и исполнил поручение со свойственной ему энергией. Он начал свое движение с главной частью армии, состоявшей тысяч из двадцати, и взошел на первые уступы Шплугена.
Переход через эту крутую, узкую гору представляет в зимнее время величайшие опасности вследствие частых вьюг, преграждающих дорогу огромными снежными и ледяными глыбами. Артиллерию и снаряды везли на санях, сухари и патроны раздали солдатам.
Первая колонна, состоявшая из конницы и артиллерии, приступала к переходу в ясную погоду, но была внезапно застигнута бурей. Обвал снес целую половину эскадрона драгунов и вселил в солдат ужас. Однако же они старались не унывать.
Через три дня буря утихла, и отряд снова принялся взбираться на ужасную гору. Теперь ее занесло снегом. Впереди гнали быков, которые утаптывали снег, проваливаясь в него по грудь, а пехота, проходя по нему дальше, еще более подравнивала дорогу, наконец, саперы расширяли слишком узкие проходы, обрубая лед топорами. Только в результате всех этих усилий дорога стала проходимой для артиллерии и конницы.
Первые дни декабря были употреблены на переход первых трех колонн. Войска с удивительным мужеством переносили ужасные страдания, ели сухари и согревались небольшим количеством коньяка.
Наконец четвертая, и последняя, колонна почти уже достигла вершины ущелья, как вдруг новая буря снова завалила его и погребла до ста человек. Но генерал Макдональд был тут же. Он собрал своих солдат, ободрил их, велел разрыть дорогу и двинулся с остальной частью корпуса в долину Вальтеллина. Он пытался, пройдя долину, атаковать перевал Тонале, открывающий вход в Тироль и в долину Адижа. Но хотя эта гора уступает в высоте Шплугену, она была не меньше занесена снегом и покрыта льдом, сверх того, генерал Вука-сович защитил главные подступы окопами. Двадцать второго и двадцать третьего декабря генерал Вандам пытался атаковать ее с отрядом гренадеров и три раза повторял атаку с истинно гренадерской неустрашимостью. Несмотря на неимоверные усилия солдат, все попытки его остались тщетными.
Напрасно было бы упорствовать дальше. Макдональд решил перейти горы в не столь высоком месте и через менее надежно защищенные перевалы. Он мог прийти в Триент прежде, чем генерал Вукасович совершил бы свое отступление к перевалу Тонале, и занять позицию между австрийскими войсками, защищавшими верховья рек среди Альп и их низовья на итальянских равнинах.
Брюн ждал успехов Макдональда, чтобы переправиться через Минчио и сделать атаки в горах и на равнине одновременными. Из 125 тысяч человек, оставленных в Италии, у него было, как мы уже говорили, 100 тысяч годных солдат, испытанных и оправившихся от невзгод, артиллерия, прекрасно устроенная генералом Мармоном, и превосходная конница.
Бонапарт, отлично знавший театр войны, настоятельно советовал ему по возможности сосредоточить свои войска в Верхней Италии, не обращая внимания на передвижения австрийцев по берегам По, в легатствах и даже в Тоскане, и стоять твердо, как стоял он сам у подножий Альпийских гор. Он беспрестанно твердил генералу, что, когда австрийцы будут разбиты между Минчио и Ади-жем, войска их, перешедшие По и проникшие в Среднюю Италию, окажутся в еще большей опасности.
Сообразно с данными ему инструкциями, Брюн двинулся к Минчио, с 20-го по 24 декабря захватил позиции, занимаемые перед тем австрийцами, и стал готовиться к переправе.
Армии нужно было перейти две линии: Минчио и Адижа —. и сделать это как можно скорее, тогда, соединившись с Макдональдом, Брюн мог отделить австрийскую армию, защищавшую Тироль, от армии, защищавшей Минчио, и уничтожить первую.
Нелегко было овладеть линией Минчио, семь или восемь миль идущей с одной стороны вдоль озера Гарда, с другой — на Мантую, усеянной артиллерией и защищаемой семьюдесятью тысячами австрийцев под началом графа Бельгарда. У неприятеля был к тому же хорошо укрепленный мост, дававший ему возможность действовать на обоих берегах. А переходить реку вброд в это время года было невозможно.
Брюн, собрав все свои колонны, возымел странную мысль переправиться через Минчио разом в двух пунктах, в Поццоло и в Моццембано. Река образует между этими двумя пунктами извилину, сверх того, правый берег, занимаемый французами, выше левого, так что можно было устроить перекрестный огонь и прикрыть, таким образом, переправу.
Но в том и другом пункте, за Минчио, в глубоких окопах твердо стояли австрийцы. Следовательно, выгоды и невыгоды переправы были почти одинаковы в обоих местах. Однако имелось обстоятельство, которое должно бы побудить Брюна избрать один из двух пунктов, все равно который, а на другом сделать только ложную демонстрацию: между этими пунктами находился мост, занятый неприятелем. Австрийцы могли перейти через него и броситься на одну из переправ: следовательно, нужно было совершить только одну, но всеми силами.
Брюн тем не менее упорствовал в своем намерении, вероятно, желая отвлечь внимание неприятеля, и приготовил все к двойной переправе. Но затруднения с транспортом, не позволили все подготовить в Моццембано, где был сам Брюн с большей частью войска, и переправу отложили до следующего дня. Казалось бы, и другую переправу следовало отменить, но Брюн, видевший в переправе в Поццоло одну только диверсию, счел, что диверсия гораздо вернее произведет желаемое действие, если будет предшествовать главному движению.
Дюпон, начальствовавший в Поццоло, был человеком, полным отваги: 25-го числа утром он двинулся к берегам Минчио, разместил пушки на высотах Молино делла Вольта, контролировавших противоположный берег, в самое короткое время навел мост и, скрытый густым туманом, успел перевести на правый берег дивизию Ватрена.
Нетрудно было предвидеть последствия.
Граф Бельгард поспешил все свои силы бросить на Поццоло. Генерал Дюпон уведомил своего соседа Сюше и главнокомандующего об успешной переправе и об опасности, которой подвергал его этот успех. Сюше, как храбрый и верный соратник, поспешил на помощь Дюпону, но, отходя от Боргетто, просил Брюна позаботиться об охране этого прохода, который оставался без всякой обороны. Брюн, вместо того чтобы со всеми силами спешить на новое место переправы через Минчио, думал только о своей завтрашней переправе в Моццембано и не трогался с позиции. Он одобрил движение Сюше, но советовал не слишком рисковать на другом берегу. А для маскировки Боргеттского моста послал лишь одну дивизию Буде.
Между тем австрийцы всеми своими силами двинулись на позицию генерала Дюпона. Впереди везли множество орудий. К счастью, французская артиллерия, стоявшая в Молино делла Вольта и обстреливавшая противоположный берег, защищала французскую армию превосходством своего огня. Австрийцы с остервенением бросились на дивизию Ватрена. Дивизия, застигнутая колонной гренадеров врасплох, была вытеснена из Поццоло.
В эту минуту корпус Дюпона, отделенный от главной своей опоры, мог оказаться опрокинутым в Минчио. Но по другому берегу подходил генерал Сюше и, увидев опасное положение Дюпона, отбивавшегося с десятью тысячами от тридцати тысяч, поспешил послать ему подкрепление. Связанный, однако, приказаниями Брюна, он не посмел послать целую дивизию, а перевел только одну бригаду. Этого было недостаточно, и Дюпон, несмотря на помощь, был бы разбит, если бы дивизия Газана, стоя на противоположном берегу, откуда можно было стрелять в австрийцев картечью и даже из ружей, не открыла по ним убийственного огня, который немедленно их остановил. Подкрепленные, войска Дюпона снова стали действовать и вынудили австрийцев отступить.
Обе армии стали усиленно оспаривать друг у друга важный пункт Поццоло. Шесть раз это селение переходило из рук в руки. В десять часов вечера битва еще продолжалась: при лунном свете и в сильный холод. Наконец французы овладели левым берегом, но лишились лучших людей из четырех дивизий.
Австрийцы оставили на поле сражения шесть тысяч человек убитыми и ранеными. Французы — почти столько же. Без помощи генерала Сюше их правое крыло было бы уничтожено: если бы Бельгард направил сюда всю свою армию, то мог бы нанести центру и правому крылу французов полное поражение. К счастью, он этого не сделал. Следовательно, в одном пункте переправа через Минчио состоялась.
Но Брюн упорствовал в намерении переправиться на следующий день, 26 декабря, около Моццембано, еще раз подвергая опасности свои главные силы. Он расставил на моццембанских высотах сорок орудий и, укрываемый обычными в это время года туманами, навел мост. Австрийцы, утомленные вчерашним делом и плохо веря в возможность второй переправы, встретили его слабым сопротивлением и дали овладеть соседними позициями.
Теперь вся армия перешла за Минчио и, соединив дивизии, могла идти на вторую линию, на Адиж. Французы побеждали, да, но ценой дорогой крови, которую генералы Бонапарт и Моро не расточали бы так легкомысленно. Лекурб не так переходил реки в Германии.
Переправившись через Минчио, Брюн пошел на Адиж и должен был немедленно перейти его, но переправу подготовили только к 31 декабря. Первого января генерал Дельма с авангардом удачно переправился через реку выше Вероны, а Монсей с левым крылом должен был подняться до Триента, между тем как другая часть армии спускалась, чтобы окружить Верону.
Граф Бельгард оказался в крайне опасном положении. Часть войск, находившихся в Тироле под началом генерала Лаудона, отступила к Триенту, а генерал Монсей шел со своим корпусом туда же. Лаудон, попав между Макдональдом и Монсеем, должен был погибнуть, разве только успел бы укрыться в долину Бренты, но Брюн, неотступно тесня графа Бельгарда за Верону, мог предупредить в этом месте корпус Лаудона и совсем овладеть им, заперев ему выход из долины.
Макдональд и Монсей и в самом деле подошли к Триенту с разных сторон. Генерал Лаудон, зажатый между этих двух корпусов, прибегнул к обману. Он известил генерала Монсея, что в Германии заключено перемирие, которое, по его словам, распространялось на все армии. Это было неправдой: конвенция, подписанная генералом Моро, распространялась только на армии, действующие по Дунаю. Слишком совестливый, Монсей поверил Ла-удону на слово и открыл ему проходы, ведущие в долину Бренты. Таким образом Лаудон успел соединиться с Бельгардом.
Но неудачи австрийцев в Германии уже стали известны, и австрийская армия в Италии, разбитая, теснимая 90-тысячной армией французов, не могла держаться дальше. Брюну было предложено перемирие, которое он немедленно принял и подписал 16 января в Тревизо. Желая поскорее закончить дело, Брюн потребовал только линию Адижа с крепостями Феррарой, Пескиерой и Пор-то-Леньяго и даже не подумал требовать Мантую. В инструкциях ему было, однако, приказано остановиться только на Изонцо, зато взять Мантую: это была единственная крепость, стоившая внимания, все прочие пали бы сами собой. Занятие Мантуи было весьма важно для того, чтобы иметь повод на Люневильском конгрессе потребовать отдачи ее Цизальпинской республике.
Между тем как эти события происходили в Верхней Италии, неаполитанцы проникали в Тоскану.
Граф Дамб с 16-тысячным корпусом, в котором было 8 тысяч неаполитанцев, дошел до Сиенны. У генерала Миоллиса, охранявшего все тосканские посты, свободных было только 3500 человек, по большей части итальянцев, однако он пошел навстречу неаполитанцам. Храбрая дивизия Пино бросилась на авангард графа Дамб, опрокинула его, силой ворвалась в Сиенну и перебила множество мятежников. Граф Дамб вынужден был отступить. К тому же подходил со своими гренадерами Мюрат, который собирался принудить его к третьему перемирию.
Итак, кампания была окончена и мир обеспечен. Армия Моро, поддержанная с фланга армией Ожеро, проникла до самой Вены; армия Брюна, с помощью Макдональда, перешла Минчио и Адиж и дошла до Тревизо. Хотя она не отбросила австрийцев за Альпы, однако завладела значительной территорией, чтобы предоставить французскому уполномоченному в Люневиле сильные аргументы против притязаний Австрии в Италии. Мюрат собирался полностью подчинить себе неаполитанский двор.
Получив известие о Гогенлинденском сражении, Первый консул выразил непритворную радость.
Эта победа нисколько не теряла в глазах его от того, что была одержана его соперником. Он считал себя настолько выше всех своих сподвижников — и в смысле военной славы, и в политическом влиянии, — что не мог завидовать ни одному из них. Посвятив себя заботе о примирении и преобразовании Франции, он с величайшим удовольствием узнавал о каждом событии, облегчавшем его дело, несмотря на то, что эти события прославляли людей, которые впоследствии должны были прослыть его соперниками.
Одно не понравилось Первому консулу в этом походе: напрасное пролитие французской крови в Поццоло и несдача Мантуи. Он отказался ратифицировать конвенцию и объявил, что велит возобновить военные действия, если Мантуя не будет немедленно отдана французской армии.
В это время Жозеф Бонапарт и Кобенцель были в Люневиле и ждали событий на Дунае и Адиже. Странным было положение двух дипломатов, ведущих переговоры, между тем как другие сражаются, свидетелей поединка двух народов, ожидающих ежеминутного известия если не о смерти, так об изнеможении того или другого. Кобенцель явил в этом случае твердость, могущую послужить примером людям, призванным служить отчеству в несчастных обстоятельствах. Он не смущался ни поражением австрийцев при Гогенлиндене, ни переходом через Инн, Зальцу, Траун и проч. На все эти события он с непоколебимым хладнокровием отвечал, что все это, разумеется, очень прискорбно, но эрцгерцог Карл оправился от болезни и идет с большими ополчениями, а потому, приближаясь к Вене, французы встретят сопротивление, какого вовсе не ожидают.
Кроме того, он упорствовал во всех требованиях Австрии, в особенности в том, чтобы переговоры не велись без английского уполномоченного, который по крайней мере своим присутствием прикрыл бы реальные переговоры, какие могли завязаться между обеими державами. Иногда он говорил даже, что удалится во Франкфурт и разрушит все надежды на мир, которые Первому консулу нужно было поддерживать в умах. На эту угрозу Первый консул, не любивший хитрить, когда его стращали, велел отвечать Кобенцелю, что, если он выедет из Люневиля, всякая возможность будущего примирения исчезнет, а Франция будет вести войну не на жизнь, а на смерть до совершенного разрушения австрийской монархии.
Среди этой дипломатической борьбы Кобенцель получил известие о Штейерском перемирии, предписание императора заключать мир во что бы то ни стало и настоятельную просьбу исходатайствовать распространение перемирия, оговоренного для Германии, и на Италию.
Вследствие этого 31 января Кобенцель объявил, что готов заключить мир без Англии, что согласен подписать предварительные условия или окончательный мирный договор, как будет угодно, но, прежде чем окончательно решить дело без Англии, он просит подписания общего перемирия для Германии и Италии и ознакомления с основными условиями мира. Сам же он объявил следующие условия: границей Австрии в Италии становится река Ольо, Австрии предоставляются легатства, а герцогов Моденского и Тосканского восстанавливают в прежних их владениях.
Эти условия были безрассудны. Первый консул не принял бы их и до успехов зимнего похода, а тем более не мог допустить их теперь. Читатели, вероятно, помнят предварительные условия графа Сен-Жюльена. В них принимался за основу Кампо-Формийский договор, а значит, Австрии давали надежду, что границы ее распространят, например, до Минчио, вместо Адижа, — но и только: никогда она не могла надеяться на легатства, которыми Первый консул думал распорядиться совсем иначе.
Намерения Первого консула уже были определены. Он хотел, чтобы Австрия покрыла расходы зимней кампании, отдавал ей только пространство до Адижа, а легатства оставлял себе. До сих пор они принадлежали Цизальпинской республике. Бонапарт думал или оставить их ей, или употребить на увеличение владений Пармского дома, что он обещал испанскому двору. В последнем случае он отдал бы Парму Цизальпинской республике, Тоскану — Пармскому дому, что было бы весьма значительным увеличением его владений, а легатства — герцогу Тосканскому. Что касается герцога Моденского, Австрия Кампо-Формийским договором обещала вознаградить его за утраченное герцогство, отдав ему область Бризгау. Теперь это была ее задача — исполнить свое обязательство.
Первый консул желал еще одного (желание его было очень благоразумно, но трудно было склонить к тому Австрию). Он не хотел быть вынужденным вновь созвать конгресс членов империи и у каждого из них в отдельности выпрашивать формальную уступку Франции левого берега Рейна. Поэтому Бонапарт потребовал, чтобы император подписал то, что касалось Австрийского дома, как глава этого дома, а то, что относилось к Германской империи, — как император. Одним словом, он хотел, чтобы все завоевания Франции были признаны разом и Австрией, и Германским союзом.
Зная, как австрийцы вообще ведут переговоры и как ведет их в особенности Кобенцель, Первый консул решился предупредить множество затруднений, угроз, сопротивление и поддельное отчаяние, для чего придумал новое средство сообщить свой ультиматум.
Законодательный корпус только что собрался, ему предложили объявить 2 января, что четыре армии, состоящие под начальством генералов Моро, Брюна, Макдональда и Ожеро, заслужили признательность отечества. Кроме того, сообщалось, что Кобенцель наконец пообещал вести переговоры без участия Англии, а окончательным условием мира станет признание Рейна границей Франции, а Ади-жа — границей Цизальпинской республики. К этому присовокуплялось, что в случае непринятия этих условий французы дойдут до Праги, Вены и Венеции.
Это объявление было принято в Париже с восторгом, в Люневиле же произвело сильное волнение. Кобенцель стал громко жаловаться на жестокость условий, в особенности же на их форму. Он с прискорбием говорил, что Франция, по-видимому, хочет одна определить договор, не ведя переговоров ни с кем. Однако же он был тверд: объявил, что Австрия не может на все согласиться, что она скорее погибнет с оружием в руках, нежели подпишет подобные условия.
Жозеф был в некоторой степени чувствителен к жалобам, угрозам и ласкам Кобенцеля, а потому Первый консул частыми депешами поддерживал его решимость.
«Вам запрещается, — писал он, — допускать какое бы то ни было обсуждение изложенного в объявлении Франции. Рейн и Адиж, два условия, считайте неизменными. Военные действия прекратятся в Италии только по сдаче Мантуи. Если они возобновятся, граница от Адижа будет перенесена на вершину Юлианских Альп, а Австрия будет изгнана из Италии.
Когда Австрия будет рассуждать о своей дружбе и нашем союзе, отвечайте, что те, кто недавно изъявлял такую приверженность союзу с Англией, не могут дорожить союзом с нами.
Держитесь в переговорах как генерал Моро на поле брани, а Кобенцеля заставьте держаться как эрцгерцога Иоанна».
Наконец, после нескольких дней сопротивления, получая все более и более прискорбные известия с берегов Минчио, Кобенцель 15 января 1801 года согласился признать Адиж границей австрийских владений в Италии. Он уже не говорил о герцоге Моденском и согласился объявить, что в Люневиле будет подписан мир с империей, но только по истребовании императором полномочий от германского сейма.
В том же протоколе он признавал перемирие в Италии, но не соглашался на требуемую Францией сдачу Мантуи: Кобенцель боялся, чтобы по уступке этой главной австрийской опоры Франция не стала предписывать еще более тяжких условий, и, как ни тяжело ему было думать о возобновлении военных действий в Италии, он не хотел выпустить из рук такого залога.
Это упорство в защите отечества в таких трудных обстоятельствах весьма естественно и заслуживает уважения, однако же под конец оно стало безрассудным и возымело последствия, которых Кобенцель не предвидел.
События, происходившие на севере, не менее побед французских войск содействовали увеличению требований Первого консула. До сих пор он торопил заключение мира с Австрией, во-первых, для самого мира, а во-вторых, чтобы обезопасить себя от частых изменений в образе мыслей императора Павла. Правда, император уже несколько месяцев демонстрировал сильное неудовольствие Австрией и Англией, но любая уловка австрийского или английского кабинета могла снова помирить его с коалицией. Этот-то страх побудил Первого консула презреть трудности зимней кампании и добить Австрию, пока она была лишена содействия континента.
Оборот, какой приняли дела на севере, освободил Бонапарта от опасений с той стороны, и он стал терпели-вее и взыскательнее. Император Павел формально поссорился с прежними союзниками и перешел на сторону
Франции. Впечатление, произведенное на него чудной победой при Маренго, возвращение русских пленных, предложение Мальты, наконец, ловкая и тонкая лесть Первого консула давно уже склонили императора Павла в пользу Франции, а затем одно событие увлекло его еще решительней.
Как мы уже писали, генерал Вобуа, доведенный до последней крайности, вынужден был сдать Мальту англичанам. Это событие, которое в другое время огорчило бы Первого консула, мало тронуло его ныне. «Я утратил Мальту, но зато подбросил врагам яблоко раздора!» — говорил он.
И действительно, император Павел потребовал у Англии столицу ордена Св. Иоанна Иерусалимского, а британский кабинет отвечал кратким и ясным отказом. И Павел не выдержал: он наложил на английские суда запрет, задержал их, численностью до трехсот, в русских портах и приказал даже топить те из них, которые стали бы спасаться бегством.
Это обстоятельство, соединившись с негодованием нейтральных держав, должно было породить войну. Император встал во главе этого союза, приглашая Швецию, Данию и Пруссию возобновить Союз вооруженного нейтралитета 1780 года. Он пригласил шведского короля приехать в Петербург для совещания по этому важному делу. Король Густав приехал и был великолепно принят. Затем Павел собрал в Петербурге большой капитул Мальтийского ордена, пожаловал в достоинство кавалеров короля Шведского и всех особ его свиты и щедрой рукой раздал почетные знаки ордена. Но в то же время он сделал более важное дело: он все-таки возобновил союз 1780 года. Двадцать шестого декабря русским, шведским и датским министрами была подписана декларация, которой эти три морские державы обязывались поддерживать, даже силой оружия, основания нейтрального права. В декларации были перечислены все нормы этого права. Сверх того, державы обязывались соединить свои силы для общей войны против каждой страны, которая нарушила бы принадлежавшие им права.
Дания, хоть и была ревностной почитательницей интересов нейтральных держав, не желала, однако, действовать так поспешно. Впрочем, она три месяца была окружена льдами и надеялась, что до наступления лета или Англия уступит, или приготовления нейтральных держав на Балтийском море будут закончены, и они не допустят британский флот до Зунда, как случилось в августе.
Пруссия также желала вести переговоры и через два дня присоединилась к декларации петербургского кабинета.
Это были важные события, обеспечившие Франции союз всей Северной Европы против Англии, но в них заключались не все дипломатические успехи Первого консула.
Император Павел предложил Пруссии условиться с Францией насчет всех вопросов, озвученных в Люне-виле, и втроем определить основания общего мира. Мысли, сообщенные этими двумя державами в Париж, были точь-в-точь те же, какие Франция отстаивала на Люневильском конгрессе. Пруссия и Россия бесспорно уступали Французской республике левый берег Рейна, но требовали вознаграждения терявшим земли владельцам, правда, только наследным владельцам и посредством секуляризации владений духовенства. Этот принцип Австрия отвергала, а Франция допускала.
Россия и Пруссия требовали независимости Голландии, Швейцарии, Пьемонта и Неаполя, что нисколько не мешало видам Первого консула. Император Павел вступался за интересы Неаполя и Пьемонта вследствие союза, заключенного с этими государствами в 1780 году, но он намерен был покровительствовать Неаполю не иначе, как с условием, чтобы тот отошел от Англии. Для Пьемонта русский царь требовал только небольшого вознаграждения за Савойю. Кроме того, он согласен был, как и Пруссия, чтобы Франция положила конец честолюбию Австрии и ограничила ее в Италии чертой Адижа.
Император Павел горел таким нетерпением, что просил Первого консула вступить с ним против Англии в тесный союз и обязаться не заключать с ней мира Даже по возвращении острова Мальты ордену Св. Иоанна Иерусалимского. Но этого Первый консул не желал: он опасался таких безусловных обязательств.
Желая, чтобы внешние обстоятельства соответствовали настоящему положению дел, император Павел завязал, вместо тайных сношений между Криденером и генералом Бернонвилем в Берлине, открытые связи в самом Париже. Он назначил дипломата Колычева уполномоченным для ведения открытых переговоров с французским кабинетом. Колычеву приказано было немедленно ехать в Париж с собственноручным письмом императора Первому консулу. В Париже уже был Спренгпортен, теперь ехал Колычев: невозможно было и желать более громкого примирения России с Францией.
Итак, все изменилось в Европе, на севере и на юге. Эти события, подготовленные искусством Первого консула, произошли одно за другим в первых числах января.
Бонапарт решил немедленно приостановить ход переговоров в Люневиле. Он велел снабдить своего уполномоченного инструкциями и сам набросал в письме новый план действий. В ситуации кризиса, в каком находилась тогда Европа, он считал неприличным спешить. Действительно, можно было уступить лишнее или заключить условие, противоречащее видам северных дворов. Бонапарт желал прежде повидаться с русским уполномоченным, а уже потом заключать договор. Поэтому Жозефу было предписано медлить с подписанием по крайней мере дней десять и требовать условий еще жестче прежних.
Понятно, что пока переговоры не окончены и договор не подписан, предложенные сначала условия можно изменить. Французский кабинет, следовательно, имел полное право изменить первые свои условия, но надо сознаться, что перемена была слишком внезапна и довольно значительна: мир с империей теперь требовалось подписать одновременно с миром с Австрией, а по поводу Неаполя, Рима и Пьемонта не принимать окончательного решения, пока Бонапарт сам не договорится с этими державами об условиях их сохранения. Кроме того, Мантуя должна была быть сдана французской армии немедленно, под страхом возобновления военных действий.
Кобенцель так долго медлил, так много требовал и до того упорствовал, не сознавая настоящего своего положения, что упустил благоприятное время. По обыкновению, он принялся громко жаловаться и грозить Франции отчаянием Австрии, однако при этом поспешил испросить перемирия в Италии и решил отдать Мантую. Наконец, только 26 января он подписал сдачу крепости французской армии, с тем чтобы в Италии было подписано перемирие, а в Германии — отсрочка. Уполномоченные немедленно отправили прямо из Люневиля курьеров для предупреждения неизбежного кровопролития на Адиже.
Последующие дни прошли в Люневиле в жарких спорах. Кобенцель говорил, что ему обещано восстановление великого герцога в правах в тот самый день, как он согласится признать Адиж границей. Жозеф отвечал, что это правда, но теперь допускают восстановление его прав только в Германии, поскольку в Тоскане великий герцог был бы отделен от Австрии и оказался бы в опасном положении, в легатствах же положение его будет выгодным, он будет служить связующим звеном между Австрией, Римом и Неаполем, то есть между врагами Франции, а на это Франция никак не может согласиться. Итак, следовало отказаться от восстановления его прав в Тоскане или в легатствах.
После жарких споров Кобенцель, казалось, уже соглашался на то, чтобы герцог получил вознаграждение в Германии, но все еще не допускал секуляризации владений духовенства. Австрия соглашалась на секуляризацию, но с тем чтобы малые владения были секуляризованы не только для вознаграждения наследных владетелей Баварских, Вюртембергских и Оранских, но и для знатного духовенства, тогда австрийское влияние в Германии было бы отчасти поддержано.
Жозефу Бонапарту было предписано отказываться от этого предложения и настаивать на секуляризации только в пользу наследственных владетелей.
Наконец, Кобенцель не соглашался на подписание мира со стороны империи без полномочий сейма. Как он говорил, это делалось только для соблюдения формы, но на самом деле он не соглашался, чтобы не слишком выпячивать обычное отношение императоров к членам Германского союза: Австрия постоянно навязывала им войну с Францией, когда видела в войне свою выгоду, и покидала их, когда война оказывалась неудачной.
Жозеф отвечал на эти доводы, что настоящая их причина вполне очевидна: Австрия боится поставить себя в неловкое положение по отношению к Германскому союзу, но Франции нет надобности входить в такие соображения. А что касается формы, то уже имелся пример Баденского мира, подписанного императором в 1714 году без полномочия сейма, между тем как отказом он окажет Германии плохую услугу, ибо французские войска останутся в занятых ими владениях до заключения мира.
Чтобы окончательно уломать Кобенцеля, Жозефу Бонапарту позволено было сделать одну из тех уступок, которые в последнюю минуту предоставляют утомленному дипломату предлог сдаться с честью. Кассель, предместье Майнца на правом берегу Рейна, оставался предметом спора, ибо трудно было отделить это предместье от самого города, уступленного Германскому союзу. Жозефу позволено было передать Кассель Австрии, с тем чтобы укрепления его были срыты. Таким образом, Майнц переставал быть укрепленным местом, открывавшим путь на правый берег Рейна.
Девятого февраля 1801 года прошло последнее совещание. Как водится, никогда разрыв не был так близко, как в тот день, когда нужно было условиться окончательно: Кобенцель объявил, что не смеет окончить дела без разрешения венского двора. Жозеф отвечал, что его правительство предписало ему, если договор не будет подписан безотлагательно, объявить переговоры прерванными, и присовокупил, что в другой раз Австрия будет оттеснена за Юлианские Альпы. После уступки Касселя Кобенцель наконец сдался, и 9 февраля 1801 года в половине шестого вечера был подписан договор — к великой радости Жозефа и великому горю Кобенцеля, которому, впрочем, не в чем было винить себя, ибо если он отчасти и погубил выгоды своего двора, то разве только тем, что слишком хорошо их защищал.
Так был заключен знаменитый Люневильский договор, закончивший войну второй коалиции и во второй раз предоставивший Франции левый берег Рейна и владычество над Италией.
Вот главные его положения:
1. Русло Рейна, начиная от выхода из Швейцарии и до входа в Батавию, составляет границу Франции с Германией.
2. Дюссельдорф, Эренбрейтштейн, Кассель, Кель, Филинсбург, Альт-Брейзах, находящиеся на правом берегу, оставлены Германии, но по срытии укреплений.
3. Наследные князья, терявшие земли на левом берегу, получали возмещение. Ни слова не было сказано ни о владениях духовенства, ни о способе возмещения, но само собой разумелось, что на это должны быть употреблены все владения духовенства или часть их.
4. Император уступал Франции бельгийские провинции и мелкие земли, принадлежавшие ему на левом берегу, а также Миланскую область — Цизальпинской республике. За все это он не получал никакого возмещения, кроме Венецианской области до Адижа, отданной ему еще по Кампо-Формийскому договору.
5. Император утрачивал Зальцбургское епископство, обещанное ему секретной статьей того же договора, и терял Тоскану, переходившую к Пармскому дому.
6. Герцогу Тосканскому было обещано вознаграждение в Германии, а герцогу Моденскому сохранена обещанная ему область Брисгау.
Итак, Тоскана была отнята у Австрии и отдана дому, зависевшему от Франции, англичане оказались изгнаны из Ливорно, вся долина реки По теперь принадлежала Цизальпинской республике, покорной дочери Франции, и, наконец, Пьемонт оказался заключен в верховьях По и зависел от Франции.
Таким образом, французы занимали всю Среднюю Италию и не позволяли австрийцам подавать руку помощи Пьемонту, Риму и Неаполю.
Мир был объявлен общим для республик Батавской, Гельветической, Цизальпинской и Лигурийской. Независимость им гарантировали. О Неаполе и Пьемонте не упомянули ни слова. Эти государства зависели от произвола Франции, которая, впрочем, была связана в отношении к ним участием, принимаемым в их судьбе императором Павлом, а в отношении к Риму — религиозными видами Первого консула.
Однако же Бонапарт, как мы видели, пока ни с кем еще не объяснился насчет Пьемонта. Будучи недовольным королем Сардинским, открывавшим порты англичанам, он хотел оставаться свободным в отношении области, столь близкой Франции и столь для нее важной.
Император подписывал мир за себя самого как государь австрийских земель и за весь Германский союз как император Священной Римской империи.
Франция в секретной статье обещала употребить свое влияние на Пруссию, чтобы убедить ее не противиться такому образу действий императора. Ратификационными грамотами положено было обмениваться в течение тридцати дней. Французские войска должны были очистить Германию только после ратификации договора, но в течение не более чем одного месяца.
В Люневильском договоре, как и в Кампо-Формий-ском, было оговорено освобождение заключенных, обвиняемых в политических преступлениях. Первый консул с самого открытия конгресса постоянно хлопотал об этом человеколюбивом деле.
Бонапарт достиг верховной власти 9 ноября 1799 года. Теперь уже было 9 февраля 1801 года, следовательно, прошло пятнадцать месяцев, и Франция, отчасти уже преобразованная внутри, совершенная победительница извне, пребывала в мире с континентом, в союзе с Севером и Югом против Англии. Испания готовилась идти на Португалию, королева Неаполитанская была у ног Франции, Рим вел переговоры с Парижем об устройстве дел.
Девятого февраля вечером из Люневиля экстренно выехал с договором генерал Беллавен. Привезенный в Париж договор срочно опубликовали в «Мониторе». Париж был немедленно иллюминирован, со всех сторон раздавались крики восторга, все благодарили Первого консула за такой счастливый результат его побед и его политики!
VIII
АДСКАЯ МАШИНА
В то время как внешнее положение Франции с каждым днем становилось всё блистательнее, когда всё исполнялось по желанию правительства победоносного и умеренного, внутреннее положение представляло собой ужасное зрелище: в последних конвульсиях бились издыхающие партии.
Несмотря на быстрые преобразования, совершаемые правительством, мы уже видели картину разбоя по большим дорогам и отчаяние партий, дерзавших даже убить Первого консула. Это были неизбежные следствия прежнего состояния Франции. Люди, которые во время междоусобной войны привыкли к злодеяниям и не могли уже возвратиться к мирной и честной жизни, искали себе занятия на больших дорогах. Обессиленные мятежники, потеряв надежду одолеть гренадеров консульской гвардии, самыми преступными средствами пытались извести непобедимого виновника их поражения.
Разбои еще более участились с наступлением зимы. Нельзя было проехать по дорогам, не подвергаясь опасности быть ограбленным или убитым. Нормандия, Анжу, департамент Мен, Бретань и Пуату по-прежнему оставались главным театром этой войны. Но зло распространилось. Многие департаменты Центральной и Южной Франции, как, например, Тарн, Л озер, Гард, Верхние и Нижние Альпы и проч., были, в свою очередь, заполнены разбойниками. В этих департаментах шайки образовались из убийц с юга, которые под предлогом преследования якобинцев резали и грабили скупщиков государственной собственности, молодых людей, желавших избежать рекрутства, и тех солдат, которых нищета заставила бежать из Лигурийской армии во время жестокой зимы 1800 года.
Эти несчастные, решившись однажды на преступную жизнь, привыкли к ней, и только силой оружия и всей строгостью законов можно было вернуть их на путь истинный.
Они останавливали дилижансы, похищали скупщиков земель и богатых землевладельцев, увлекали их в леса, подвергали свои жертвы страшным истязаниям, заставляя заплатить в качестве выкупа значительные суммы.
Чаще всего они покушались на государственные кассы, являлись к сборщикам податей и завладевали казенными деньгами под предлогом войны против правительства.
Негодяи, которые во время смуты оставили свои дома, чтобы предаться бродяжничеству, служили им разведчиками, прикидываясь в больших городах нищими. Именно они извещали разбойников, на какие кареты нападать, какие дома грабить.
Против этих шаек приходилось употреблять небольшие военные отряды. Но если их и удавалось захватить, суды не могли их наказывать строго, потому что свидетели боялись давать против них показания, а присяжные не смели произносить смертные приговоры.
Крутые меры всегда достойны сожаления, не только по своим жестоким последствиям, но и потому, что влекут за собой нарушение общего порядка в государстве, особенно когда этот порядок еще нов. Но здесь подобные меры были необходимы, потому что обыкновенное правосудие было признано бессильным для истребления подобного зла.
Подготовили проект закона об учреждении специальных судов для истребления грабежей. Проект этот, представленный на рассмотрение Законодательного корпуса, сделался предметом живейших нападений оппозиции.
Первый консул, который не слишком придерживался всех строгостей закона, рождающихся только в мирное время, решил, в ожидании принятия предложенного и оспариваемого проекта, прибегнуть к законам военного времени.
Так как нужно было использовать против разбойничьих шаек военные отряды, Бонапарт полагал, что эти действия можно уподобить настоящей войне. Он сформировал несколько небольших отрядов, которые проходили по департаментам, наполненным разбойниками, а непосредственно за ними следовали военные комиссии. Всех бандитов, захваченных с оружием в руках, судили и расстреливали в сорок восемь часов. Ужас, возбужденный этими извергами, был повсюду до того велик, что никто не осмеливался усомниться ни в правильности, ни в справедливости этих казней.
Но пока все это происходило, злодеи другого рода замышляли разрушить консульское правление совсем иными и гораздо более ужасными средствами.
Во время судебного следствия над Демервилем, Че-ракки и Ареной27, их собратья по революционной партии продолжали придумывать планы один безумнее другого. То они хотели произвести беспорядок во время выхода из театра и среди этого беспорядка заколоть Бонапарта, то хотели его похитить по дороге в Мальмезон и потом убить. Все это рассказывали везде и во всеуслышание, так что полиция отлично знала обо всех их предприятиях. Но они только говорили без умолку, никто из них не дерзал отважиться на что-нибудь решительное.
Министр Фуше нисколько их не опасался, но наблюдал за ними беспрестанно. Однако нужно признать, что между их замыслами был один довольно опасный, который всполошил всю полицию.
Некто Шевалье, мастеровой с оружейных заводов, основанных в Париже во времена Конвента, был захвачен при изготовлении страшной машины. Машина эта состояла из бочонка, начиненного порохом и картечью, к которому был прилажен ружейный ствол с затравкой. Она очевидно предназначалась для Первого консула.
Изобретатель был схвачен и посажен в тюрьму.
Это изобретение наделало много шума и обратило всеобщее внимание на людей, которых назвали якобинцами и террористами. Известность, которую они приобрели в девяносто третьем году, делала их гораздо страшнее, чем они заслуживали.
Первый консул, постоянно имея дело с революционной партией (то с честными представителями этой партии, лишь недовольными слишком быстрой реакцией, то с негодяями, помышлявшими о злодействах, на которые у них не хватало сил), всякое зло приписывал революционерам, только до них и добирался и их одних желал наказать. Чтобы изменить мнение Бонапарта и вообще всей публики на этот счет, нужны были неопровержимые факты. К несчастью, скоро должны были совершиться самые ужасные.
Жорж, возвратившись из Лондона в Морбиган, сыпал деньгами благодаря щедрости англичан и тайно руководил грабителями дилижансов. Он подослал в Париж несколько убийц для умерщвления Первого консула. Между ними находились два злодея, Лимоэлан и Сен-Ре -жан, к тому времени уже закаленные в междоусобных войнах. Второй из них был отставным морским офицером и имел кое-какие знания в артиллерии. К этим двум негодяям присоединился третий по имени Карбон, человек ничтожный, достойный слуга этих двух злодеев.
Фуше, узнав об их присутствии в Париже и замысле, велел наблюдать за ними, но по неловкости двух агентов, которым было поручено следовать за ними, заговорщиков потеряли из виду. А они, не разглагольствуя, подобно якобинцам, и не доверяя никому своей тайны, готовили ужасное злодейство.
Машина Шевалье внушила им мысль о применении бочонка, начиненного порохом и картечью. Они решили поместить этот бочонок на тележку, а ее поставить на одной из узких улиц, которые в то время примыкали к площади Карусель и по которым Первый консул довольно часто проезжал в карете.
Они купили лошадь, тележку и арендовали сарай, выдавая себя за приезжих торговцев.
Сен-Режан сделал все нужные замеры, несколько раз ходил на площадь Карусель, следил за каретой Бонапарта, рассчитывая, за сколько времени она доезжает от Тюильри до соседних улиц и как сделать так, чтоб бочонок взорвался вовремя.
Эти три человека выбрали для выполнения своего замысла день, когда Бонапарт собирался ехать в Оперу, где в первый раз ставили ораторию Гайдна «Сотворение мира». Это случилось 24 декабря 1800 года. Местом действия была выбрана улица Сен-Никез, которая от площади Карусель вела к улице Ришелье, по которой Первый консул обыкновенно ездил. Повороты этой улицы замедляли бы скорость экипажа.
В назначенный день Карбон, Сен-Режан и Лимоэлан отвезли свою тележку на улицу Сен-Никез и потом разошлись. Сен-Режан взялся поджечь порох, а оставшиеся двое должны были караулить вблизи Тюильрий-ского дворца и подать ему знак тотчас же, как покажется карета Первого консула.
Сен-Режан принял жестокое решение: он поручил держать поводья лошади, впряженной в тележку с этой ужасной машиной, пятнадцатилетней девочке. Сам же встал поодаль, в готовности поджечь фитиль.
В эту минуту Бонапарт, очень уставший за день, все еще колебался, ехать ли ему в Оперу. Но близкие уговорили его, и в восемь с четвертью он выехал из Тюиль-рийского дворца.
Его сопровождали генералы Ланн, Бертье и Лористон. За каретой следовал взвод конных гренадеров, который обыкновенно скакал впереди кареты, но на этот раз, по счастливой случайности, не опередил ее.
Карета въехала на узкую улицу Сен-Никез без всякого шума. Сообщники не предуведомили о том Сен-Ре-жана — или от страха, или потому, что не узнали экипаж Первого консула. И сам Сен-Режан увидел карету уже тогда, когда она фактически миновала тележку. Один из конных гренадеров с силой оттолкнул негодяя, но тот не потерял присутствия духа, зажег фитиль и бросился бежать. Кучер Бонапарта, который был чрезвычайно ловок и обыкновенно ездил на большой скорости, успел уже обогнуть один из поворотов улицы Сен-Никез, как вдруг раздался взрыв.
Удар был ужасным: карета чуть не опрокинулась, все стекла разбились вдребезги, картечь исковеркала фасады ближайших домов. Один из конных гренадеров был легко ранен, множество тел убитых и раненых разом заполнили окрестные улицы.
Первый консул и его свита решили сначала, что в них стреляли картечью: они остановились на минуту, выяснили, что случилось, и быстро поехали дальше.
Бонапарт хотел непременно показаться в театре. Лицо его на публике, среди всеобщего волнения, обнаружившегося в зале, оставалось спокойным и бесстрастным, в то время как вокруг говорили уже, что злодеи взорвали целый квартал Парижа.
Первый консул пробыл в Опере несколько минут и потом срочно возвратился в Тюильри, куда при известии о покушении стал толпами сбегаться народ. Здесь гнев Бонапарта, доселе сдерживаемый, разразился во всей силе.
«Это всё якобинцы! — кричал он. — Террористы, эти злодеи, вечные мятежники против всех правительств! Эти убийцы 2-го и 3 сентября, виновники 31 мая28! Негодяи, для того чтобы убить меня, они не побоялись истребить десятки невинных жертв! О, я расплачусь с ними самым беспощадным образом!..»
Но чтобы вооружить общественное мнение против революционеров, совсем не нужно было такого воодушевления. Их основательно испорченная репутация и попытки, которые они предпринимали в течение последних двух-трех месяцев, невольно заставляли приписывать им все новые преступления.
Скоро в салоне Первого консула все в один голос возопили против так называемых террористов. Бесчисленные враги министра Фуше поспешили воспользоваться этим случаем и разразились упреками и в его адрес.
«Его полиция, — говорили они, — ничего не видит и все допускает. Она ясно обнаруживает преступное пристрастие к революционерам. Это происходит из-за участия Фуше, проявляемого им к его прежним собратьям. Жизнь Первого консула не может быть в безопасности, находясь в руках такого пристрастного министра!»
В один миг озлобление против Фуше дошло до предела, в тот же вечер начали шуметь о его опале. Что же касается самого Фуше, он удалился с некоторыми лицами, не разделявшими всеобщего увлечения, в уголок одного из салонов Тюильрийского дворца и с величайшим хладнокровием дозволял обвинять себя во всех
смертных грехах. Хоть его скептический вид еще более разжигал гнев его врагов, он не хотел открывать того, что знал, боясь этим повредить начатым поискам. Но, вспомнив об агентах Жоржа, потерянных из вида полицией, он мысленно решил, что непременно предъявит им обвинение.
Когда некоторые из членов Государственного совета сообщили Первому консулу свои сомнения насчет предполагаемых виновников покушения на улице Сен-Ни-кез, он сильно разгневался.
«Меня не заставят переменить мнение! — воскликнул он. — К этому делу непричастны ни шуаны, ни эмигранты, ни прежние дворяне, ни прежние священники! Я знаю настоящих виновников, я сумею отыскать их и наказать примерным образом».
Он произносил эти слова страшным голосом, сопровождал их угрожающими жестами. Льстецы одобряли и разжигали его гнев, который, впрочем, следовало бы скорее укрощать, чем возбуждать еще более.
На следующий день те же сцены возобновились. По недавно заведенному обычаю представители Сената, Законодательного корпуса, Трибуната, Государственного совета и другие высшие сановники явились к Первому консулу, чтобы выразить ему свое сочувствие и негодование, чувства искренние и всеми разделяемые. Все были поражены и пребывали в ужасе. Все боялись, что эти гнусные покушения могут возобновиться, и с трепетом спрашивали друг друга, что станется с Францией, если человек, который один удерживает этих злодеев, падет от их рук.
Форма речей была общепринятой, но чувства, выраженные в них, были истинны и глубоки.
Делегации городского совета Бонапарт сказал: «Я глубоко тронут привязанностью парижан, которую они мне доказали только что. Я заслужил ее, потому что единственная цель всех моих помышлений и действий — укрепление благоденствия и славы Франции. Пока эта шайка разбойников злоумышляла против меня, я мог предоставить заботу о ее наказании закону, но теперь, когда она злодеянием, беспримерным в истории, подвергла
П Консульство опасности часть населения столицы, — наказание преступников будет столь же скорым, сколь и ужасным. Уверьте парижан моим именем, что у этой горсти злодеев, преступление которых едва не опозорило Свободу, скоро будет отнята всякая возможность причинять вред».
Все были довольны этими словами мщения, потому что не оставалось человека, который, в свою очередь, не говорил бы того же самого. Люди рассудительные с сожалением видели, что разъяренный лев хочет преступить черту закона, но толпа требовала казней.
Весь Париж был в страшном волнении. Роялисты перекладывали ответственность за преступление с себя на революционеров, а революционеры — на роялистов. И те и другие были искренни, потому что преступление это пока оставалось тайной совершивших его.
Враги революции, как старые, так и новые, единогласно утверждали, что одни террористы могли придумать такое зверское преступление, и в доказательство своего мнения указывали на машину оружейника Шевалье, обнаруженную полицией. Люди разумные, верные поборники революции, напротив, спрашивали, почему же непременно обвиняют в этом деле террористов и почему разбойники с больших дорог, которые учиняют так много злодеяний, не могли быть виновниками взрыва на улице Сен-Никез?
Впрочем, надо сказать, что в эту минуту никто не хотел слушать людей хладнокровных, до того общественное мнение было поражено и стремилось к обвинению революционеров.
Революционеры, напротив, по-видимому, почти завидовали этим достоинствам: между ними были даже безумные хвастуны, которые гордились тем, что этот отвратительный подвиг приписывают им.
Впрочем, все рассуждавшие об этом происшествии ошибались одинаково. Один министр Фуше подозревал, кем были настоящие преступники.
На третий день после этого происшествия собрались на заседание два отделения Государственного совета, законодательное и внутренних дел, и между множеством проектов стали отыскивать наиболее исполнимый. Поскольку в то время много рассуждали об учреждении специальных судов, то и решили присоединить к закону о них еще две статьи. Согласно первой, все преступления против членов правительства должны рассматриваться военным судом. Вторая статья предоставляла Первому консулу право удалять из Парижа людей, присутствие которых в столице могло быть опасно, и наказывать их ссылкой, если они вздумают ускользнуть из места своего изгнания.
На предварительном рассмотрении этих статей собрался весь Государственный совет под председательством самого Первого консула.
Порталис представил Совету мнение обоих отделений и предложил их к общему обсуждению. Первый консул в своем вечном нетерпении находил, что эти предложения недостаточны. Изменение общего порядка судопроизводства казалось ему в данном случае слишком ничтожной мерой. Он желал уничтожить всех якобинцев, расстрелять тех, кто окажется виновным в злодеянии, и сослать остальных. Для этого ему хотелось применить необыкновенную меру, чтобы вернее достигнуть своей цели.
«Действия специального суда будут неторопливыми, — говорил он, — и не поразят настоящих виновников. Здесь речь идет не о юридической философии. Метафизические умы в течение десяти лет все погубили во Франции. Мы должны обсудить положение дел как люди государственные и помочь беде как люди решительные. В чем состоит зло, которое нас тревожит? В том, что во Франции живут десять тысяч негодяев, рассеянных по всему государству, которые преследуют честных людей и обагрены кровью с ног до головы. Правда, не все они виновны в одинаковой степени, некоторые склонны к раскаянию и не могут считаться закоренелыми преступниками. Но пока их главная квартира находится в Париже, а их предводители безнаказанно затевают заговоры, они все еще не теряют духа. Поразите начальников, — и помощники рассеются. Они возвратятся к труду, от которого оторвала их неистовая революция, они забудут эту бурную эпоху своей жизни и опять сделаются мирными гражданами. Честные люди, которые беспрестанно трепещут за свою безопасность, успокоятся и сильнее привя-жУтся к правительству, которое умело защищает их. и*
Здесь не может быть середины: надо или всё простить, или отомстить скоро, эффективно и соразмерно преступлению. Надо поразить столько виновных, сколько пало жертв. Надо расстрелять пятнадцать или двадцать этих злодеев и сослать двести. Только таким образом можно избавить Республику от возмутителей, которые ввергают ее в несчастье».
Произнося эти слова, Бонапарт все больше воодушевлялся и приходил в негодование при виде недовольства, которое выражалось на лицах некоторых слушателей.
«Я настолько уверен, — вскричал он, — в необходимости и справедливости сильной меры для очищения и успокоения Франции, что готов сам засесть в трибунале, призвать виновных, допросить их, судить и приказать исполнить их приговор! Вся Франция будет мне рукоплескать, потому что я мщу не за свою личную обиду. Счастье, которое сохраняло меня столько раз на поле битвы, сохранит мою жизнь и здесь. Я не думаю о себе, я помышляю только о гражданском обществе, которое мне поручено восстановить, о национальной чести, которую я должен отмыть от кровавых преступлений!»
Слова эти поразили часть Государственного совета ужасом и удивлением: некоторые из членов, кто разделял искренний, но неумеренный порыв Первого консула, одобряли его мнение, но большая часть собрания с сожалением узнавала в его речах те же слова, которые произносили сами революционеры, когда осуждали на изгнание тысячи жертв. Они так же утверждали, что аристократы угрожают Республике опасностью, что надо от них избавиться самыми скорыми и верными мерами и что общественное благо стоит того, чтобы принести ему несколько жертв.
Конечно, была некоторая разница, потому что вместо кровожадных возмутителей, которые в слепом исступлении стали почитать аристократами самих себя и с упоением умерщвляли друг друга, здесь восставал гениальный человек, который с последовательностью и силой стремился к благородной цели — восстановлению разрушенного порядка. К несчастью, он хотел достигнуть этого не простым соблюдением правил, но средствами быстрыми и необыкновенными, подобными тем, которые в свое время разрушили общество. Его здравый смысл и всеобщее отвращение к кровопролитию должны были предохранить от кровавых казней, но, за исключением кровопролития, все были расположены принять самые крутые меры по отношению к людям под названием «якобинцы» и «террористы».
У Государственного совета возникло несколько возражений, но чрезвычайно робких. Лишь один человек не побоялся восстать против мнений Первого консула и общества и восстал — хоть неловко, но чистосердечно. Это был адмирал Трюге, который, видя, что речь зашла о наказании вообще всех революционеров, высказал свои сомнения насчет истинных виновников преступления.
«Мы желаем избавиться от злодеев, нарушающих спокойствие Республики, — сказал он, — пусть так. Но ведь злодеи бывают разного рода. Вернувшиеся эмигранты угрожают раскупившим государственную собственность, шуаны грабят на больших дорогах, призванные вновь священники возбуждают в народе протест, всюду встречаются люди, которые стараются совратить общественное мнение с пути истинного памфлетами...»
Бонапарт вспыхнул и разразился красноречивой тирадой, внушаемой гневом.
«За детей, что ли, нас считают?! — закричал он. — Не думают ли нас убедить этими декларациями против эмигрантов, шуанов и священников? Потому что в Вандее совершают еще некоторые злодейства, не хотят ли, по старинке, заставить нас объявить, что отечество в опасности?! Да была ли Франция когда-нибудь в более блистательном положении? Когда финансы ее находились в лучшем состоянии, когда армия ее одерживала больше побед, когда всеобщий мир был ближе, чем теперь?
Если шуаны совершают разбойничьи нападения, я велю их расстрелять. Но неужели же я должен ссылать людей за то, что они называются дворянами, священниками или роялистами? Неужели хотят, чтобы я изгнал из Франции десять тысяч старцев, которые желают только жить в мире, со всем уважением к существующим законам? Разве вы не знаете, что сам Жорж велел в Бретани перерезать бедных духовников за то, что они понемногу старались сблизиться с правительством? Знаете ли вы, господа члены Государственного совета, что, за исключением двух или трех из вас, вы все слывете роялистами? Вас, гражданин Дефермон, и вовсе почитают партизаном Бурбонов.
Полноте, гражданин Трюге! Меня нельзя заставить переменить мнение: нашему спокойствию только и угрожают, что одни сентябристы! Они не пощадили бы вас самих: как бы вы ни доказывали, что защищали их сегодня в Государственном совете, они принесли бы вас в жертву, как и меня, как и всех ваших сотоварищей!»
Против этой резкой отповеди можно было возразить одно: не следует ссылать людей за их титулы, а представителей партий — только за то, что они роялисты или революционеры. Но Первый консул, едва выговорив последние слова, быстро встал и тем закончил заседание.
Консул Камбасерес, всегда оставаясь спокойным, владел необыкновенным искусством достигать кротостью того, что властный его сотоварищ хотел получить силой своей воли. На следующий день он созвал оба отделения к себе, постарался в нескольких словах оправдать пылкость Первого консула и сказал (это действительно было правдой), что охотно принимает всякое противодействие, если только к нему не примешаны личные мотивы. Несмотря на то, что Камбасерес привык склонять Первого консула к благоразумным решениям, он, однако, уступал ему, если видел, что решение непреклонно или речь идет о террористах. Вот и в данном случае он настоял на том, чтобы отделения собрались у Первого консула. Здесь, под председательством самого Бонапарта, было снова рассмотрено предложение о принятии чрезвычайных мер. Оставался важный вопрос о том, какую форму придать этому решению: действовать ли посредством временного распоряжения правительства или издать закон?
Бонапарт, смелый всегда и во всем, требовал закона. Он хотел, чтобы ответственность приняли на себя верховные учреждения, и объявлял о том открыто.
«Консулы не несут никакой ответственности, — говорил он, — а министры несут, и тот, кто подпишет такое решение, может быть впоследствии призван к ответу и преследуем. Нельзя компрометировать отдельных лиц, пусть весь
Законодательный корпус примет на себя ответственность за предлагаемый акт. Что до меня, то пока я буду жив, не думаю, чтобы кто-нибудь осмелился потребовать у меня отчета. Но меня могут убить, и тогда я не отвечаю за безопасность двух моих сотоварищей, которые некрепки в седле. Пусть дадут нам закон: это лучше и в настоящем, и для будущего».
Нужно сказать, что в стране происходило нечто странное. Те самые люди, которые противились этому решению раньше, теперь непременно хотели, чтобы такая мера была принята, но не в форме закона, а посредством временного распоряжения правительства. Им хотелось обрушить всю вину на правительство, но они не понимали, что предоставляют ему тем самым право и дальше действовать независимо и полновластно.
Талейран, приняв сторону тех, кто был против закона, привел Первому консулу довод, который скорее всех мог убедить его. А именно, что, согласившись на эту меру в исполнении правительства, можно тем произвести больше эффекта за границей.
«Это покажет Европе, — говорил он, — что французское правительство не боится ничего и умеет управиться с анархистами!»
Довод Талейрана убедил Бонапарта, но в конце концов он придумал средство, которое было принято всеми. Он решил запросить Сенат, будут ли такие действия правительства согласны с Конституцией. На это Сенат имел право.
Итак, министру Фуше поручили составить список главных террористов, чтобы сослать их в департаменты Нового Света. Оба отделения Государственного совета должны были изложить причины, побуждавшие к таким действиям. Первый консул — подписать решение, а Сенат — объявить, согласно оно с Конституцией или нет.
Эта мера против террористов, незаконная и насильственная сама по себе, не имела даже вида законности, поскольку террористы не были причастны к преступлению.
Между тем истину уже начинали подозревать. Министр Фуше и префект полиции Дюбуа не переставали производить деятельные розыски, которые не остались безуспешными. Сильный взрыв уничтожил почти все орудия злодеяния. Молодая девушка, которой Сен-Ре-жан поручил подержать лошадь, была разорвана на части, целыми остались только ноги несчастной. Колесные шины тележки были отброшены на большое расстояние. Везде находили разбросанные остатки предметов, употребленных для совершения преступления и способных послужить к установлению виновников. Оставалось кое-что и от тележки и лошади. Эти остатки собрали, составили по ним описание, опубликовали в газетах и созвали всех парижских торговцев лошадьми.
По счастью, первый же владелец лошади тотчас ее узнал и объявил, что продал ее лабазнику, на которого и указал. Лабазник был призван и с полной откровенностью рассказал все, что знает. Он перепродал лошадь двум незнакомым людям, выдававшим себя за странствующих купцов, а поскольку он сходился с ними раза два или три, то довольно подробно описал их приметы.
Сходные показания дал извозчик, предоставивший незнакомцам на несколько дней сарай для тележки. Он точно так же описывал незнакомцев и перечислял те же приметы, что и лабазник.
Бочар, который делал бочонок и обтягивал его железными обручами, представил такие же показания. Все эти показания относительно роста, лица и одежды подозреваемых лиц вполне согласовались между собой.
После проведения допросов начали делать очные ставки. К свидетелям водили из темниц более двухсот захваченных революционеров. Эти очные ставки продолжались четыре дня и привели к решительному заключению, что ни один из революционеров не был причастен к преступлению, потому что ни одного из них не опознали обвинители.
Не приходилось сомневаться в добросовестности свидетелей, потому что все они сами вызвались дать показания и ревностно помогали полиции в ее розысках. Итак, почти достоверно можно было сказать, что революционеры невинны. Уверенность эта, конечно, могла стать абсолютной только тогда, когда откроют настоящих злодеев.
Тем временем важное обстоятельство говорило против агентов Жоржа. Хотя след их и был потерян, но их встречали еще то тут, то там и никак не могли захватить. А после взрыва они исчезли, как будто провалились сквозь землю. Это быстрое и совершенное исчезновение представляло поразительное свидетельство. К этому надо прибавить, что приметы одного из лиц, описанных свидетелями, полностью согласовались с наружностью Карбона.
Фуше, вполне убедившись, таким образом, что настоящими виновниками преступления были шуаны, поспешил отправить к Жоржу своего сыщика, чтобы собрать сведения о Карбоне, Сен-Режане и Лимоэлане. А пока открыл тайну некоторым лицам, чтобы поколебать их ложное представление, и даже Первому консулу, который, впрочем, никак не хотел отступиться от своего мнения, пока не убедится в противном.
Вот в каком положении находилось следствие 4 января, когда было опубликовано решение правительства. Все согласились сослать подозреваемых — по распоряжению консулов, предварительно одобренному Сенатом. Все было решено с главными членами Государственного совета и Сената, остальное составляло только пустую формальность.
Фуше, который, не зная всей истины, уже подозревал ее отчасти, осаждаемый со всех сторон, имел слабость согласиться на меру, направленную, правда, против людей, запятнанных кровью, но все-таки невинных в преступлении, за которое их хотели наказать. На него нападали отовсюду, его обвиняли в потворстве революционерам, и ему не хватило твердости воспротивиться. Он сам 1 января 1800 года представил в Государственный совет рапорт с резолюцией консулов. В этом рапорте обвиняли группу людей, которые в течение десяти лет пятнали себя разнообразными преступлениями, пролили кровь заключенных Аббатства29, учинили насильственное нападение на Конвент, угрожали Директории и, доведенные ныне до отчаяния, вооружились кинжалом, чтобы поразить Республику в лице Первого консула.
«Все эти люди, — было сказано в рапорте, — не пойманы с кинжалом в руке, но вполне известно, что они способны заострить его и пустить в ход в любой момент».
К этому прибавляли, что защитные функции закона существуют не для таких людей и потому предлагается схватить их и выслать из пределов Республики.
При рассмотрении этого рапорта родился вопрос: не назвать ли якобинцев прямыми виновниками 3-го нивоза? Первый консул этому воспротивился. «Полагают, что они являются виновниками преступления, — сказал он, — но это еще не доказано. (Он действительно начал колебаться в своем убеждении.) Мы ссылаем их за 2 сентября, 31 мая, за смуты прериаля, из-за заговора Бабёфа, — за все, что они сделали и еще могут сделать».
К рапорту был приложен список из ста тридцати лиц, назначенных в ссылку. Мало того, что их ссылали, с ними поступали еще жестче: к именам многих из них было приписано слово «сентябрист» — без всякого точного доказательства, основываясь на одной только народной молве.
Государственный совет выслушал чтение этих ста тридцати имен с видимым неудовольствием, потому что членам казалось, что они созваны для составления списка ссыльных.
Советник Тибодо объявил, что подобные списки не предназначены для Государственного совета. «Я не так безумен, — возразил Первый консул с негодованием, — чтобы потребовать от вас осуждения отдельных лиц, я подвергаю вашему рассмотрению лишь основные принципы этой меры».
И принципы были одобрены, несмотря на некоторые критические мнения.
Четвертого января Первый консул, приказав составить окончательный список, обнародовал постановление, которым все означенные в этом списке ссылались за пределы Республики, и не колеблясь подписал его.
Пятого января Сенат превзошел Государственный совет, объявив, что решение Первого консула — это охранительная мера для Конституции.
На следующий день несчастных собрали и отправили в Нант, чтобы оттуда на кораблях выслать их в другие страны. Между ними было несколько депутатов Конвента, несколько членов Коммуны, все уцелевшие сентябристы и храбрый Россиньоль, генерал революционной армии.
Конечно, люди эти не заслуживали участия, по крайней мере большая часть из них, но по отношению к ним нарушили все нормы закона, а это было очень опасно: справедливость решений полиции начали оспаривать и достигали в этом успеха. Требовалось много нравственной твердости, чтобы вступиться за изгнанников. Несмотря на это, нашлись смелые люди, которые своим заступничеством заставили вычеркнуть многих из списка, и несчастные уже в Нанте были освобождены от ссылки. То, что по рекомендации влиятельного лица человек может впасть в немилость у правительства или быть удостоенным милости, это еще казалось вероятным, но чтобы такая рекомендация могла спасать от ссылки и достаточно было не найти сильного покровителя, чтобы погибнуть, — эта игра случая возмущает всякое чувство справедливости.
В то же время нужно сказать, что эта правительственная мера по степени нарушения норм хоть и равнялась действиям предшествовавших эпох, но все-таки имела по сравнению с ними два отличия: здесь по большей части поражали негодяев и не проливали крови. Жалкое оправдание, нечего сказать, но мы должны его представить как доказательство, что между годами восьмисотым и девяносто третьим не много было общего.
Когда эти несчастные отправились по Нантской дороге, их с большим трудом спасали от ярости народа во всех городах, через которые их проводили, — до того против них было восстановлено общественное мнение.
Между тем ужасная тайна адской машины мало-помалу прояснялась. Фуше узнал, что у Карбона есть в Париже сестры. Он отыскал их жилище, полиция отправилась в квартиру и нашла там бочонок с порохом. Кроме того, от младшей сестры Карбона узнали, где он теперь скрывается: оказывается, он нашел пристанище в очень почтенном семействе, у девиц Сисэ, сестер бывшего архиепископа и министра юстиции. Девицы эти, принимая Карбона за возвратившегося эмигранта, который не успел еще привести свои бумаги в порядок, предоставили ему пристанище у бывших монахинь, живших общиной в одном из отдаленных кварталов Парижа. Эти несчастные каждый день благодарили Бога за сохранение жизни
Первого консула, потому что без него почитали себя погибшими, и не подозревали, что дали прибежище одному из его врагов.
Полиция отправилась к ним 18 января, схватила Карбона, а вместе с ним и всех, у кого он проживал. В тот же день его привели на очную ставку со свидетелями, и он был ими узнан.
Сначала он во всем запирался, потом наконец признался, что участвовал в преступлении, но совершенно невинным образом, потому что решительно не знал, для какой цели предназначены тележка и бочонок. Он дал показания против Лимоэлана и Сен-Режана. Лимоэлан уже успел бежать за границу, но у Сен-Режана, оглушенного взрывом, хватило времени и сил только на то, чтобы переменить квартиру.
Агент Жоржа, оставленный на свободе в надежде, что по его следам удастся обнаружить жилище Сен-Режана, действительно привел полицию на место. Сен-Режан был найден больным, еще не оправившимся от полученных ран. Вскоре ему сделали очную ставку, он был всеми признан и уличен множеством показаний, которые не оставляли никаких сомнений. Под кроватью у него нашли письмо к Жоржу, в котором он рассказывал своему начальству в иносказательной форме о главных обстоятельствах преступления и оправдывался в своей неудаче.
Карбон и Сен-Режан были преданы уголовному суду и казнены по его приговору.
Когда все эти подробности обнародовали, закоснелые обвинители революционной партии и услужливые защитники роялистов оказались крайне поражены. Враги министра Фуше также находились в большом смущении. Верность его взглядов была всеми признана, и он опять попал в милость у Первого консула.
Но Фуше сам дал своим врагам оружие против себя, и они им немедленно воспользовались. «Для чего же он, будучи так уверен в своей правоте, допустил обвинение и ссылку революционеров?» — говорили они. И действительно, Фуше заслужил этот упрек.
Бонапарт, который обычно не заботился о соблюдении формальностей, а смотрел только на результаты предпринятых усилий, не обнаруживал ни малейшего сожаления. Он находил, что принятая мера была во всех отношениях хороша, что она избавила его от «главного штаба» якобинцев и что 3-го нивоза доказывало только необходимость так же строго наблюдать за роялистами, как и за якобинцами. «Фуше, — говорил он, — лучше всех понял суть дела. Он совершенно прав: не надо спускать глаз ни с возвратившихся эмигрантов, ни с шуанов, ни с других людей, принадлежащих к этой партии».
Происшествие это намного уменьшило участие по отношению к роялистам, которых снисходительно называли жертвами терроризма, но уменьшило также и общее негодование против революционеров. Фуше выиграл в силе, но не в уважении.
Грустное чувство, возбужденное машиной, прозванной с тех пор «адской», вскоре исчезло перед радостью, произведенной Люневильским миром.
Не все дни бывают счастливыми даже у самого везучего правительства. Консульское правительство имело ту необычайную выгоду, что, если печальные впечатления на минуту овладевали умами, они тотчас же рассеивались великими, новыми, непредвиденными результатами. Несколько сцен мрачных, но кратковременных, в которых это правительство выступало спасителем Франции, а затем — победы, мирные договоры, возмещение убытков, которые излечивали глубокие раны и воскрешали общественное благосостояние. Бонапарт постоянно приобретал все больше величия, становился для Франции все дороже и все яснее обнаруживал свое предназначение для верховной власти.
Было открыто второе заседание Законодательного корпуса. Продолжалось обсуждение новых законов, из которых главным был закон об основании специальных судов. После того, что уже было сделано, он утратил свою важность, но оппозиция в Трибунате восставала против нововведений правительства, и этого было достаточно, чтобы Законодательный корпус их поддержал.
Первый закон касался архивов Республики. Закон этот сделался необходимым с тех пор, как преобразование прежних провинций привело в величайший беспорядок множество старинных актов и документов, которые могли быть еще полезными или любопытными. Надлежало решить, куда поместить множество актов, договоров и проч. Мера эта не имела никакого политического значения и никак не способствовала общему порядку.
Трибунат отверг этот закон и, отправив, согласно принятому порядку, трех из своих ораторов в Законодательный корпус, добился того, что и там закон был отвергнут большинством голосов. Законодательный корпус хотя и был искренне предан правительству, но желал иногда, наравне со свободными учреждениями, показать свою независимость. В мелких случаях, разумеется, он мог показать ее без всякого опасения.
Оба собрания в эту минуту были заняты другим законом, гораздо более важным, но так же совершенно чуждым политики. Речь шла о мировых судьях, количество которых было признано слишком большим.
К тому времени было назначено шесть тысяч мировых судей, но во многих кантонах нельзя было отыскать людей, достойных этой должности. Кроме того, идея эта оказалась неудобной и в другом отношении: судьям вздумали подчинить судебную полицию, но судьи отнеслись к этой обязанности без должного рвения, да и отеческий в некотором роде стиль судопроизводства пострадал от этого нововведения.
Проект правительства представлял два изменения: во-первых, он шесть тысяч судей превращал в тысячу шестьсот, во-вторых, отделял судебную полицию и поручал ее другим департаментам. Проект был дельный и вполне благонамеренный, но встретил явную оппозицию в Трибунате. Многие ораторы открыто выступили против него, в особенности Бенжамен Констан. Несмотря на это, закон был принят и в Трибунате, и в Законодательном корпусе.
Другой закон, способный возбудить больше прений и вполне политический, касался учреждения специальных (военных) судов, трибуналов. Он должен был придать судопроизводству, которое уже отправлялось на больших дорогах, законный вид и стать постоянной мерой пресечения разбоя.
Специальные трибуналы должны были включать в себя обычных судей, членов уголовного суда, трех военных судей и двух помощников. Военные не могли иметь в трибунале первенства.
Правительство имело право учреждать такие суды во всех департаментах, где сочтет это полезным. Трибуналы должны были разбирать преступления, совершенные вооруженными шайками на больших дорогах и в селениях, нападения и покушения на жизнь скупщиков государственного имущества и, наконец, убийства, замышленные против главных лиц правительства. В случае недостаточности улик дела переносились на разбирательство в кассационный трибунал. Через два года после воцарения мира по всей стране нововведение это предполагалось отменить.
Против этих судов можно было сказать то, что говорится против всякого исключительного судопроизводства. Но никогда еще общество, так глубоко потрясенное, не требовало для своего успокоения более скорых и действенных мер.
Чтобы согласовать это решение с конституцией, Законодательный корпус получил право отменять действие конституции в тех департаментах, где найдет это нужным. Случай с трибуналами явно подходил к этой статье, потому что отмена действия конституции влекла за собой немедленное водворение военного суда. И предложенный проект, в свете последних событий с изгнанием мнимых «заговорщиков», был некоторым образом возвращением к законному порядку. Но постоянные противники правительственных распоряжений все равно жестоко на него напали.
В Трибунате этот закон прошел только с небольшим преимуществом сорока девяти голосов над сорока одним. В Законодательном корпусе большинство было гораздо значительнее, но и противников оказалось больше, чем обычно. Это явление приписывали действию речи, произнесенной Антуаном Франсэ, в которой он заговорил с Законодательным корпусом довольно резко и несдержанно.
«Франсэ поступил очень хорошо, — заметил Бонапарт Камбасересу и Лебрену, когда они неодобрительно отозвались об этой речи. — Лучше получить меньше голосов и показать, что мы обижены и не намерены мириться с этим». А в некоторых частных беседах Первый консул и вовсе прямо говорил, что если его будут чрезмерно беспокоить или вздумают мешать ему в намерении возвратить Франции мир и порядок, то, надеясь на доверие общества, он станет управлять исключительно посредством своих консульских решений.
Влияние его увеличивалось с каждым новым успехом, а вместе с влиянием росла и смелость, и он уже даже не старался скрывать всей обширности своих намерений.
Еще большую оппозицию встретил он в финансовых вопросах, которые составляли предмет последних совещаний на заседаниях текущего года. А между тем это был достойный результат усилий правительства, в котором Первый консул принимал наибольшее участие.
В VIII году в казну поступила сумма в 518 миллионов, что равнялось полному сбору податей за один год, потому что бюджет расходов и доходов в это время не превышал пятисот миллионов. В IX году подати должны были принести от 500 до 520 миллионов, а расходы в мирное время не превышали этой суммы. При точном исполнении системы отчетности будущность была обеспечена, сборы за IX год должны были покрыть расходы за этот год, сборы за X год — расходы X года и так далее.
Но за предыдущие годы оставался дефицит, который также следовало покрыть. Он покрывался путем постоянных взносов недоимочных податей. Но эти недоимки взимались по большей части с поземельных владений, которые из-за этого приходили в стесненное положение. На заседаниях департаментских советов из ста шести главных советов восемьдесят семь жаловались на чрезвычайное отягощение своего положения из-за сбора прямых податей. Поэтому правительство было вынуждено отказаться от части податных недоимок, чтобы иметь возможность и далее требовать точной и полной уплаты повинностей.
Был предложен закон, по которому местным властям предоставлялось право не взимать податей с тех, кто находится в стесненных обстоятельствах. Закон не встретил никаких препятствий, но вследствие этого должен был возникнуть значительный, порядка тридцати миллионов франков, недостаток в средствах, и нужно было придумать, как справиться с этим дефицитом. У правительства оставалось еще на четыреста миллионов свободной государственной собственности, не всегда годной для продажи. До сего времени выпускались разного рода облигации, которые могли служить оплатой этой собственности. В период, о котором рассказывается в настоящей главе, начали выпускать рескрипции (государственные долговые обязательства).
Эти бумаги с первого дня своего выпуска выменивались с убытком, вскоре совсем упали в цене и стали переходить в руки спекулянтов, которые в итоге приобретали государственную собственность за бесценок. Таким образом, это драгоценное средство было безрассудно потрачено. Оставшиеся четыреста миллионов, если бы их удалось сохранить, должны были скоро возрасти в цене втрое и вчетверо.
Первый консул решился их не тратить. Однако денежные средства были нужны немедленно. И тогда Бонапарт прибег к рентам (процентам с бессрочных капиталов), которые со времени вступления его в должность значительно поднялись в цене. Уже можно было пустить их в дело, потому что продажа их не принесла бы таких убытков, как распродажа государственной собственности. Первый консул решил удовлетворять некоторых кредиторов правительства рентами и приписал фонду погашения равное количество земельной собственности, которую тот мог продать впоследствии, не спеша, по ее настоящей цене, и таким образом компенсировать приращение государственного долга. Вот какова была основа финансовых законов, предложенных в этом году.
Долги, оставшиеся от последних трех годов Директории, могли считаться несправедливыми: это были недостойные остатки шестисот миллионов, полагавшихся за подряды, заключенные во времена Директории. Но, желая полностью исправить финансовое положение, правительство решилось признать эти долги, несмотря на их происхождение.
Долговые обязательства, остававшиеся от VIII года, были совсем другого свойства. Это была оплата услуг, оказанных в первый год консульского правления, когда в правительстве уже царил порядок. Разумеется, эти услуги в то время, когда государство пребывало еще в бедственном положении, оплачивались по довольно высокой цене. Но честь консульского правления вынуждала оплачивать их полностью, по номиналу. Речь пока шла о сумме в 60 миллионов, но вследствие взноса недоимок за VIII год она должна была ограничиться тридцатью миллионами. Правительство решилось 20 миллионов выплатить рентой по пяти процентов, на что требовалось до одного миллиона франков. Как планировалось погасить остальные 10 миллионов, мы покажем далее.
В IX году (1800—1801) дефицита, по-видимому, не предполагалось, поскольку был уже близок конец войны. Расход и доход на этот год составляли примерно 415 миллионов. Правительство, конечно, ожидало возможного излишка и в том, и в другом, но опасение, что излишек доходов не покроет излишка расходов, заставило готовить верное дополнительное средство.
Как уже говорили, на VIII год нужно было добрать 10 миллионов, а для следующего года требовалось еще 20 миллионов. Правительство решило прибегнуть к продаже государственной собственности, но только на эту сумму. Таким образом, долги за прошедшее время были погашены, а доходы приведены в равновесие с расходами. Чтобы довершить преобразования государственных финансов, оставалось одно: окончательно определить участь государственного долга. Справедливость и порядок в финансовом управлении требовали, чтобы это было сделано как можно скорее.
На государстве лежало 20 миллионов пожизненных рент, 19 миллионов гражданских и духовных пенсий и 30 миллионов военных пенсий. Эта сумма каждый год сокращалась на 3 миллиона. Предполагалось, что через несколько лет, посредством сокращений бессрочного долга, удастся покрыть дальнейшие приращения государственного долга, и таким образом, ежегодные расходы на государственный долг не должны были превышать ста миллионов.
Итак, положение финансов было следующим: 100 миллионов долга, а бюджет — в 500 миллионов. К этому нужно прибавить еще одно средство: косвенные налоги на напитки, табак, соль и проч., которые еще не восстановили и которые должны были со временем дать огромный доход.
Первый консул определил 2 700 000 франков для покрытия дефицита прошлых лет, один миллион для покрытия дефицита VIII года, велел отдать фонду погашения долгов 90 миллионов в виде государственного имущества, которое он мог продать или использовать для выкупа рент. Этими мерами государственная собственность была предохранена от расхищения: фонд погашения долга, продавая ее постепенно или даже сохраняя, когда считал это полезным, не допустил бы прежнего беспорядка. Чтобы вернее спасти остальное, Бонапарт решил потратить значительную часть капитала на народное просвещение и содержание инвалидов. Народное просвещение он считал важнейшим делом в государстве, делом, о котором прежде всего должно заботиться мудрое правительство, желающее основать новое общество. Что же до инвалидов, они, так сказать, составляли его семью, являлись опорой власти, орудием его славы, он обязан был выделить им что-нибудь из миллионов, обещанных некогда Республикой защитникам отечества.
Такое распределение государственного богатства, продуманное справедливо и с умом, должно было встретить всеобщее одобрение. Однако в Трибунате возникла сильная оппозиция. Четыреста пятнадцать миллионов, требуемые на текущий год, выдали без затруднения, но оппоненты жаловались на то, что не представлен бюджет на год вперед. Этот упрек был несправедлив, ибо при тогдашнем устройстве дел осуществить это не представлялось возможным. Даже в Англии смета не составлялась вперед, и у самых серьезных теоретиков это был вопрос нерешенный.
И из-за таких жалких возражений Трибунат горячился, не слушал ответов и на заседании 19 марта отверг финансовый план большинством в пятьдесят шесть голосов против тридцати. На третий день после того проект разбирали в Законодательном корпусе. Трибунам предстояло возражать, а трем государственным советникам — защищать его.
Бенжамен Констан был в числе трех трибунов, но, несмотря на его искусно представленные возражения, Законодательный корпус принял проект большинством голосов.
Первый консул должен был бы остаться довольным, но ни он, ни кто-либо из окружавших его не знали еще, что добро нужно совершать, не удивляясь несправедливости, которой оно часто вознаграждается. И кому же, как не Первому консулу, дано столько славы в вознаграждение за немногие легкомысленные или нескромные обвинения?
Но среди всемерного одобрения человек, управлявший Францией, не выносил даже мелких возражений. Пора истинно представительного правления еще не наступила: ни оппозиция, ни само правительство не были к нему готовы.
Мы уже показали, в каком расстройстве находились дороги и какие меры Бонапарт принял для пополнения недостающих сумм, собираемых у застав.
Он предписал разобрать этот вопрос во всех подробностях, но, как это часто случается, затруднение здесь состояло не столько в выборе правильной системы, сколько в недостатке денег. Первый консул пошел прямо к цели и из капиталов государственного казначейства включил в бюджет IX года новые суммы на продолжение начатых уже ремонтных работ. Много говорили и о каналах. Вообще, умы, утомленные политическими волнениями, охотно обращались ко всему, что касалось промышленности или торговли.
Канал, известный ныне под названием Сен-Кантен-ского, соединяющий Сену и Уазу с Соммой и Шельдой, то есть Бельгию с Францией, был заброшен. Инженеры долго спорили и никак не могли согласовать мнения насчет того, в каком направлении нужно проводить канал. Первый консул лично отправился на место работ, выслушал инженеров и решил вопрос. Канал вырыли в том направлении, которое ныне признано столь удачным. Жители Сен-Кантена встретили Первого консула с восторгом, а едва он успел возвратиться в Париж, как жители департамента Нижняя Сена отправили к нему депутацию, прося, чтобы он и им уделил немного своего времени. Он обещал вскоре посетить Нормандию.
Между тем Бонапарт поручил строительным компаниям построить в Париже три моста на Сене: один, который ведет к Ботаническому саду и ныне называется Аустерлицким, другой — для соединения острова Сите с островом Святого Людовика и, наконец, третий, ведущий от Лувра к Институту Франции.
В то же время были продолжены работы по реконструкции дороги через Симплон. Это был проект юности Бонапарта, проект, дорогой его сердцу и достойный занять в будущем место рядом с воспоминаниями о Риволи и Маренго. Когда он основал Цизальпинскую республику, ему хотелось соединить Францию с Италией посредством дороги, которая, начинаясь от Лиона или Дижона и оканчиваясь у озера Лаго-Маджиоре и у Милана, дала бы возможность появляться в Италии в любое время с войском и сотней пушек. Именно из-за отсутствия такой дороги он вынужден был перебираться через Сен-Бернар.
Теперь, когда Цизальпинская республика была утверждена на Люневильском конгрессе, нужнее всего было проложить большую военную дорогу между Францией и Ломбардией.
Первый консул приказал немедленно начать необходимые работы. Генералу Тюрро было предписано перенести главную квартиру в городок Домо д’Оссола, к самой подошве Симплона. Генерал этот должен был охранять рабочих и при необходимости выделять им в помощь своих солдат.
К этому величественному делу Первый консул хотел присоединить другое — в память перехода через Альпы. Отшельники монастыря Сен-Бернар оказали французской армии множество услуг, и Первый консул сохранил к ним живейшую признательность. Для изъявления ее он решил основать в Альпах еще две подобные обители, одну — на горе Сени, другую — на Симплоне, и обе подчинить монастырю Большого Сен-Бернара. Каждая из них должна была вмещать по пятнадцать монахов и получить от Цизальпинской республики значительные пожертвования. Республика эта ни в чем не смела отказать своему основателю. Но так как он во всем любил скорое выполнение, то приказал первые работы производить на французские деньги.
Итак, чудесные дороги и благотворительные заведения должны были возвестить грядущим векам о переходе через Альпы нового Ганнибала.
Параллельно с этими начинаниями разворачивалась деятельность иного рода, целью которой было создание творения, столь же полезного для Франции, а именно — Гражданского кодекса.
Первый консул поручил редакцию этого документа нескольким отличным юристам: Порталису, Тронше, Биго де Преамене.
Труд их был кончен и передан на рассмотрение в суды по всей стране. Собрав, таким образом, мнения всех судебных инстанций, труд этот готовились внести в Государственный совет на торжественное рассмотрение под председательством самого Первого консула. Потом хотели его представить в Законодательный корпус, на следующем его заседании, в X году.
Итак, все постепенно обустраивалось: с той гармоничностью, какую только может придать своим творениям великий ум, с быстротой, какую демонстрирует лишь пламенная воля, в точности исполняемая.
Провидение ничего не творит вполовину: гению оно назначает великий подвиг, а для каждого великого подвига творит гения.
НЕЙТРАЛИТЕТ
Подписав с австрийским императором в феврале 1801 года мир, Первый консул с нетерпением ждал его последствий: заключения мира с теми из континентальных держав, которые еще не сблизились с Французской республикой, принуждения Англии запереть свои порты, восстановления против нее всех нейтральных держав в союзе с Францией, и наконец, достижения таким образом мира на море как необходимого дополнения к миру континентальному. Все предвещало, что этих счастливых последствий ждать придется недолго.
Германский сейм подтвердил подпись императора на Люневильском договоре. Нельзя было ожидать противного, ибо Австрия располагала всеми возможностями для влияния на духовенство, которое одно осталось недовольным этим договором, поскольку лишалось множества своих земель. Светским же землевладельцам обещали вознаграждение за их потери посредством секуляризации. К тому же они находились под влиянием Пруссии, которую Франция склонила к согласию по всем пунктам договора.
Мира желали все державы, и все были готовы содействовать его заключению, даже идя на некоторые жертвы. Договор ратифицировали 9 марта 1801 года, а в Париж он прибыл 16 марта.
Итак, с большей частью Европы был заключен мир. Его еще не подписали с Россией, но с ней и с северными Дворами, как мы увидим, затевалась большая морская коалиция. В Париже как раз оказались одновременно два Русских министра: Спренгпортен, по делу о пленниках, и Колычев, для решения общих вопросов.
Оставалось еще поработать с дворами неаполитанским и португальским, и тогда весь континент был бы заперт Для Англии.
Мюрат дошел до Южной Италии с отборным корпусом и, подкрепившись несколькими отрядами, высланными из армии Брюна, двинулся в Фолиньо, чтобы принудить неаполитанский двор согласиться на пожелания Франции.
Если бы не внимание к делам этого двора со стороны русского императора, Первый консул сразу отдал бы королевство Обеих Сицилий герцогу Пармскому, чтобы вырвать этот прекрасный край из рук враждебного дома. Но Бонапарт не хотел вооружать против себя ни императора Павла, ни общего мнения Европы, которое и без того обвиняло Францию в низвержении старых державных домов. Поэтому он готов был даровать Неаполитанскому дому мир, но с условием, чтобы тот отказался от союза с Англией. Однако такого результата добиться от него было очень трудно.
Мюрат подошел к самым границам королевства, обойдя стороной Рим и стараясь демонстрировать глубочайшее уважение папе. Неаполитанский двор более не противился и подписал перемирие, по которому обязался запереть для англичан все порты. Однако же перемирие это было заключено на короткое время, всего на тридцать дней: по истечении этого срока предполагалось подписать окончательный мир.
Маркиз Галло, участвовавший в Кампо-Формийских переговорах и хвалившийся, будто знает Первого консула коротко и имеет на него такое же влияние, как Кобен-цель, отправился в Париж. Он надеялся, опираясь на эти чисто личные отношения и покровительство русского посольства и Австрии, успеть выговорить Неаполю безусловный нейтралитет.
Эта надежда была безрассудна! Мог ли двор, подавший сигнал второй коалиции, объявивший Франции непримиримую войну и угодивший после всего этого в руки французов, отделаться одним только отказом от союза с Англией? Справедливость требовала наложить на него обязательство действовать против Англии так же, как он действовал ранее против Франции.
Надменность маркиза Галло в Париже и чрезмерные его надежды на посредничество русских вынудили французское правительство положить скорый конец переговорам.
Талейран объявил ему, что французский уполномоченный отправлен во Флоренцию, что, следовательно, переговоры перенесены в этот город и что он к тому же не может вести переговоры с агентом, не имеющим права согласиться на единственное важное условие, а именно: на изгнание англичан из портов Обеих Сицилий — условие, которого равно желают император Павел и Первый консул.
Вследствие того Галло был вынужден немедленно оставить Париж.
Во Флоренцию действительно перед тем был отправлен отозванный из Мадрида Алькье, которого снабдили инструкциями и всеми полномочиями для ведения переговоров. Во Флоренции он нашел шевалье Мишру, того самого, который подписал перемирие с Мюратом и которому теперь были даны полномочия представлять неаполитанский двор. Здесь, под штыками французской армии, переговоры уже не могли встретить таких затруднений, как в Париже. Мир был подписан 18 марта 1801 года.
Если принять во внимание положение неаполитанского двора по отношению к Французской республике, этот договор можно назвать весьма умеренным. Все владения этой ветви дома Бурбонов были оставлены неприкосновенными, от нее потребовали только незначительную часть территории, принадлежавшей ей на острове Эльба, а именно: крепость Порто-Лонгоне с окрестностями. Кроме этой небольшой жертвы, неаполитанский двор не терял ничего. Он обязался запереть порты перед англичанами и передать Франции три фрегата, вооружив их и доставив в Анкону. Первый консул намеревался послать их в Египет.
Главная статья договора была секретной. Неаполитанское правительство обязывалось допустить в Тарентский залив французскую дивизию численностью от 12 до 15 тысяч человек и содержать ее во все время пребывания там. Намерение Первого консула состояло в том, чтобы разместить войска на побережье для оказания поддержки Египетской армии. Находясь в Тарентском заливе, французы были уже на полдороге к Александрии.
Согласно другой статье неаполитанское правительство обязывалось возвратить все художественные произведения, отобранные для Франции в Риме: их уже уложили в ящики, когда неаполитанская армия вошла в Папскую область в 1799 году и присвоила их.
Наконец, 500 тысяч франков выдали для вознаграждения французов, ограбленных или обиженных неаполитанской армией.
Таков был Флорентийский договор, который с полным правом можно назвать великодушным. Но он вполне согласовался с видами Первого консула, который заботился единственно о том, как бы запереть перед Англией все порты континента и приобрести выгодные позиции для связи с Египтом. Он не заключал еще никакого мира с папой: уполномоченный вел в Париже переговоры о самом важном из вопросов — о вопросе религиозном.
Бонапарт был недоволен королем Пьемонтским, отдавшим англичанам Сардинию, и самим народом Пьемонта, не выказавшим дружественного расположения французам. Поэтому он не хотел связывать себя никакими обязательствами по отношению к этой важной части Италии.
Оставались Испания и Португалия. И с этой стороны все также шло к лучшему.
Испанский двор, восхищенный Люневильским договором, который предоставлял молодому инфанту Парм-скому Тоскану и титул короля, с каждым днем демонстрировал все большую преданность Первому консулу и его замыслам.
Предвиденное падение Уркихо не только не повредило взаимоотношениям держав, но еще больше сблизило их. Этого не ждали, потому что Уркихо считался в Испании почти революционером, в нем более, чем в ком-либо, можно было предполагать симпатии к Франции. Последствия доказали обратное.
Уркихо управлял министерством очень недолго. Желая исправить некоторые злоупотребления, он уговорил Карла IV написать папе римскому собственноручное письмо, содержавшее целый ряд предложений о преобразовании испанского духовенства. Папа, боясь духа реформы, проникавшего даже в Испанию, обратился к старому герцогу Пармскому с жалобой на Уркихо, выставляя его дурным католиком. Этого было достаточно, чтобы уронить Уркихо во мнении короля.
Князь Мира, отъявленный враг Уркихо, пользуясь этим случаем, нанес ему последний удар. Уркихо был отрешен от должности с неслыханной грубостью. Его схватили в собственном доме и вывезли из Мадрида как государственного преступника. Преемником его был назначен родственник князя Мира, епископ Севальос.
С этого момента Годой снова стал истинным главой испанского двора. Так как он не раз сопротивлялся тесному союзу с Францией, боялись, чтобы эта перемена не повредила замыслам Первого консула. Но Люсьен Бонапарт, прибывший в Мадрид незадолго перед тем, оставил в стороне Севальоса, носившего только название министра, и вступил в сношения с князем Мира напрямую. Он внушил Годою, что того в Париже считают настоящим первым министром, что ему одному будут приписывать все затруднения, какие французская политика встретит в Испании, и станут поступать с ним как с другом или с врагом, смотря по собственным его действиям.
Князь Мира имел много противников, в числе их оставался и наследник престола, глубоко оскорбленный унижением, на которое был осужден. А потому, зная, что со смертью короля и королевы и ему угрожает погибель, князь Мира понимал всю цену дружбы Бонапарта и не колебался предпочесть союз вражде.
С этого времени все дела велись непосредственно между князем Мира и Люсьеном.
Уркихо, чувствуя себя слишком слабым для решения вопроса о Португалии, постоянно откладывал объяснение по этому предмету. Он надавал Франции множество обещаний, не имевших никакого результата.
Князь Мира в разговорах с Люсьеном сознался, что до сих пор ничего не было предпринято и что Уркихо только вводил Францию в заблуждение. Но в то же время он объявил, что сам готов вместе с Первым консулом решительно действовать против Португалии, с тем, однако, чтобы Франция предварительно согласилась на некоторые условия.
В первую очередь он требовал отправки двадцатипятитысячной французской дивизии, ибо Испания не в состоянии была поставить более двадцати тысяч войска.
Присутствие французских войск могло беспокоить короля и королеву. Для успокоения их следовало начальство над этими войсками поручить испанскому полководцу, а именно: самому князю Мира. Наконец, завоеванные португальские области должны были оставаться как залог в руках испанского короля до заключения общего мира. И тогда португальские порты будут закрыты для Англии.
Первый консул с радостью принял эти условия. Их отправили на утверждение Карлу IV. Король, находясь под влиянием королевы, которой, в свою очередь, управлял князь Мира, согласился объявить войну Жуану IV, мужу старшей дочери, с тем чтобы не отнимать у него ни малейшей части территории, а только принудить разорвать отношения с Англией и вступить в союз с Францией и Испанией.
Лиссабонский двор просили объясниться до истечения двух недель, сделав выбор между союзами с Англией или с Испанией и Францией.
Между тем с обеих сторон Пиренейских гор стали готовиться к войне. Князь Мира, сделавшись главнокомандующим испанских и французских войск, даже отнял у короля собственную его гвардию. Он забавлял двор смотрами и военными праздниками и предался самым дерзким мечтам о воинской славе.
Первый консул, со своей стороны, поспешил отправить в Испанию часть войск, возвращавшихся во Францию. Он составил хорошо вооруженную и экипированную 25-тысячную дивизию. Начальство над авангардом было поручено генералу Леклерку. Генерал Сен-Сир, которого справедливо считали одним из самых способных полководцев своего времени, должен был принять начальство над всей дивизией и помогать своими советами неопытному испанскому главнокомандующему.
Было решено, что эти войска выйдут в поход в марте месяце и в течение апреля вступят в Испанию.
Итак, вся Европа содействовала начинаниям Франции. В этом положении Англии необходимо было разместить войска на всех направлениях: на Средиземном море — чтобы блокировать Египет, в Гибралтарском проливе — чтобы препятствовать французскому флоту перемещаться из одного моря в другое, на берегу Португалии — чтобы блокировать большую французско-испанскую эскадру, готовившуюся выйти в море, на севере — чтобы удержать за собой Балтийское море и предупредить восстание нейтральных держав. Наконец, Англии нужно было войско в Ост-Индии — для обеспечения своего владычества и завоеваний.
Первый консул хотел воспользоваться временем, когда Англия будет вынуждена разделить свои силы по всем этим пунктам, и предпринять важную экспедицию.
Больше всего Бонапарту хотелось помочь Египетской армии. На нем лежали серьезные обязательства в отношении этой армии, которую он повел за море и оставил там, чтобы поспешить на помощь Франции. К тому же колонию, основанную на берегах Нила, он считал лучшим своим делом.
Мы видели, какие усилия прилагал Первый консул, чтобы заключить морское перемирие, которое дало бы ему возможность ввести шесть фрегатов в Александрийскую гавань. Это перемирие не состоялось.
Не имея достаточных финансовых средств для образования и сухопутных, и морских сил, Первый консул еще не мог приступить к обширному предприятию, задуманному им для выручки Египта. Теперь, имея возможность обратить все свои средства на войну на море, располагая почти всеми европейскими берегами, он замышлял для сохранения Египта за Францией такие же великие и смелые предприятия, какие совершил для его покорения. Зимнее время благоприятствовало их исполнению, делая невозможными перемещения английских крейсеров.
Всякого рода суда, торговые и военные, отправлялись из всех портов Голландии, Франции, Испании, Италии и везли в Египет съестные припасы, вино и оружие. Некоторые из этих судов попадались в руки врагов, но большая часть достигала Александрийского порта. Не проходило недели, чтобы в Каире не получали известий от правительства и доказательств его внимания к нуждам колонии.
Первый консул в это время готовил флот, приспособленный к плаванию по водам Египта. Он утвердил модель семидесятичетырехпушечного корабля, который мог плавать по александрийским фарватерам, не выгружая артиллерии. Кроме того, готовилась огромная экспедиция для доставки в Египет значительной помощи: припасов и людей.
Войска возвращались во Францию. Да, это вызывало финансовые затруднения, но, с другой стороны, появлялась возможность побеспокоить, а может быть, даже и поразить Англию. Тридцать тысяч человек оставались в Цизальпинской республике, 10 тысяч — в Пьемонте, 6 тысяч — в Швейцарии; 15 тысяч шли к Таренту, 25 — в Португалию; другие 25 тысяч стояли в Голландии. Всего сто одиннадцать тысяч солдат должны были жить за чужой счет. Остальные войска следовало содержать за счет казны, но зато они находились в полном распоряжении Первого консула.
Первый консул условился с Испанией и Голландией насчет использования трех флотов разом. Собрав остатки некогда славного флота Голландии, можно было вооружить еще пять линейных кораблей и несколько фрегатов.
Первый консул условился с Испанией следующим образом. Решили соединить пять голландских, пять испанских и столько же французских кораблей и отправить их в Бразилию для защиты этой прекрасной области. Двадцать испанских и французских судов должны были оставаться в Бресте, будучи готовыми высадить армию в Ирландии.
В том же Брестском порту формировалась французская дивизия под начальством адмирала Гантома, которой, как говорили, надлежало отправиться в Сан-Доминго для восстановления там французского и испанского владычества.
В Рошфоре формировалась другая французская, а в Фер-роле — испанская дивизии по пять кораблей, которые должны были перевезти войско на Антильские острова для завоевания Тринидада или Мартиники.
Договором, отдававшим Испании Тоскану взамен Луизианы, мадридский двор обязывался предоставить Франции шесть вооруженных кораблей, сдать их в Ка-диксе и, пользуясь средствами этого древнего арсенала, восстановить часть войск, которые Испания прежде здесь содержала.
Делая все эти распоряжения, Первый консул не открывал испанскому кабинету настоящей своей цели, опасаясь нескромности испанцев. Да, он хотел послать часть союзных войск в Бразилию и к Антильским островам для достижения объявленной цели, но в Бресте он замышлял только экспедицию Гантома, которая для видимости назначалась в Сан-Доминго, а на самом деле должна была отправиться в Египет. Он приказал выбрать из эскадры семь крупных судов, самых лучших, два фрегата и бриг. Эти суда должны были перевезти пятитысячное войско, всякого рода оружие, лес, железо, лекарства и товары европейского производства, наиболее необходимые в Египте.
Погрузка была уже почти закончена, когда Первый консул приказал перегрузить все снова. Он хотел, чтобы на каждом корабле был запас разных товаров, чтобы в случае захвата одного из судов экспедиция не нуждалась в предметах, нагруженных на утраченный корабль.
Это распоряжение шло вразрез с морскими обычаями и затрудняло погрузку, однако непреклонная воля Первого консула превозмогла все препятствия.
Рошфорская экспедиция, целью которой объявлены были Антильские острова, также назначалась в Египет. Ее старались вооружить как можно скорее. Адъютант Савари торопил отплытие и присоединил к экспедиции войска, отделенные от португальской армии. Двадцатипятитысячная дивизия была собрана на Жиронде и скрывала настоящее предназначение рошфорской экспедиции. Из нее действительно тайком были взяты несколько батальонов и посажены на корабли, входившие в эскадру.
Эта эскадра поручалась замечательнейшему из всех тогдашних французских моряков, адмиралу Брюи. Он соединял необыкновенно глубокое знание моря с выдающимся умом, столь же редким в гражданских сановниках, сколь и в военных, и уже в 1799 году отличился в своем знаменитом походе по Средиземному морю30.
Предполагалось, что, когда Бонапарт раскроет свою тайну мадридскому кабинету, Брюи должен будет соединиться с феррольской дивизией, пристать к Кадиксу, принять там выговоренные у Испании корабли, потом отправиться в Отранто за собравшимися там войсками и из Отранто отплыть в Египет.
Кадикская дивизия состояла из шести хороших кораблей, которые снаряжали со всей возможной поспешностью. Адмирал Дюмануар ехал на почтовых в Кадикс, чтобы поторопить снаряжение. Толпы матросов добирались до этого порта сухим путем. Посылали туда также небольшие суда, заполненные моряками, чтобы из них составить экипажи военных кораблей. Это количество экспедиций должно было привлечь внимание англичан разом ко всем пунктам и привести их в недоумение, чтобы хоть одна из экспедиций смогла бы достигнуть Египта.
Желая воспользоваться зимним временем, затруднявшим и часто прекращавшим курсирование неприятельских крейсеров перед Брестом, Первый консул непременно хотел, чтобы эскадра Гантома отправилась до наступления весны. Он дал на этот счет самые четкие приказания, но нелегко было внушить морским полководцам отвагу, которая воодушевляла его сухопутных генералов.
Бонапарт почитал генерала Гантома смелым и удачливым, потому что тот перевез его таким чудесным образом из Александрии во Фрежюс. Но он ошибался. Гантом был опытным моряком, храбрецом в сражении, но в то же время — человеком робкого ума и терялся, как только на него возлагалась большая ответственность.
Экспедиция была снаряжена. На корабли посадили несколько чиновников с семействами, говоря им, что они плывут в Сан-Доминго. Несмотря на это, все еще не решались выйти в море, но Савари, опираясь на предписание Первого консула, преодолел все затруднения и принудил Гантома сняться с якоря.
Неприятельские крейсеры заметили это, известили блокадную эскадру об отправлении французов, и Гантом вынужден был вернуться и встать на якорь на внешнем Бертомском рейде. Он сделал вид, будто хочет вернуться во внутреннюю гавань, что проводил только учения для экипажа.
Наконец 25 января, в ужасную бурю, рассеявшую неприятельские крейсеры, генерал снялся с якоря и, несмотря на
величайшие опасности, успешно вышел из Брестской гавани и направился к Гибралтару.
Помощь Гантома была тем важнее, что знаменитая английская экспедиция, состоявшая из пятнадцати или восемнадцати тысяч человек, в настоящее время была на пути к Египту. Она стояла на рейде в городе Макри, против острова Родос, ожидая благоприятного времени для высадки.
Всем столичным газетам приказано было не говорить ни слова о движении в портах Франции, они могли только печатать известия, заимствованные из «Монитора».
Прежде чем мы приступим к описанию действий французских эскадр на юге, обратимся на север и посмотрим, что происходило между Англией и нейтральными державами. Величайшая опасность угрожала в это время британскому правительству. Наконец разразилась война между ним и прибалтийскими государствами.
Декларация нейтральных держав была просто объявлением их прав. Англия могла еще притворяться, не принимать этой декларации прямо на свой счет и просто стараться избегать ссор, щадя датские, шведские, прусские и русские суда. И действительно, выгода ее гораздо больше требовала поддержания мира с Северной Европой, чем прекращения торговли мелких морских держав с Францией. К тому же, нуждаясь в то время в иностранном хлебе, она сама должна была бы дорожить временной свободой нейтральной торговли.
Одной лишь России Англия имела повод мстить, ибо из всех правителей нейтральных стран только император Павел присоединил к декларации наложение эмбарго, и то скорее за вопрос о Мальте, чем за один из скромных пунктов морского права.
Но надменная Англия на заявление нейтральных стран отвечала насилием: наложила запреты на все русские, шведские и датские суда. Одну только прусскую торговлю исключила она из этой строгой меры. Англия щадила Пруссию потому, что надеялась отвлечь ее от коалиции.
Итак, Англия состояла в войне и со старинными своими врагами, Францией и Испанией, и с прежними союзниками, Россией, Швецией, Данией, Пруссией. Австрия
12 Консульство покинула ее с Люневильского, а Неаполь — с Флорентийского мира. Последнюю опору на континенте, Португалию, также готовились у нее отнять.
Англия была в том же положении, в каком находилась Франция в 1793 году. Ей предстояло одной бороться с целой Европой. Англия, правда, не подвергалась такой опасности, как Франция, и в обороне ее гораздо меньше заслуг, потому что положение страны среди моря предохраняло ее от вторжения. Но для большей странности и полноты сходства с Францией нужно сказать, что и Англию терзал в это время жестокий голод. Народ нуждался в самом необходимом. Все это было результатом упрямства Питта и гения Бонапарта. Питт своим отказом вступить в переговоры перед битвой при Маренго, а Бонапарт — тем, что победами обезоружил одну часть Европы, а другую восстановил против Англии, — так вот именно они были виновниками этого необыкновенного поворота.
Положение английского кабинета оставалось трудным, но надо сознаться, что он не падал духом. Итог годовых расходов на все три королевства (Ирландия была только что присоединена), с процентами на долги, сделанные Питтом, мог дойти до 69 миллионов фунтов стерлингов, суммы, огромной во всякие времена, тем более в 1800 году. И Питта обвиняли в том, что для войны с Французской революцией он увеличил долг страны многократно.
Но надо сказать, что Англия демонстрировала дивное зрелище экономического роста, богатство ее увеличивалось в той же мере, как и расходы. Кроме покорения Индии, довершенного уничтожением Типу-Саиба (май-сорского султана), кроме завоевания части французских, испанских и голландских колоний и приобретения острова Мальта, Англия в это время стала монополистом всемирной торговли. Для сравнения, в 1788 году английская торговля использовала 13 827 судов и 107 925 матросов, а в 1801 году — 18 877 судов и 143 660 матросов. Доход от таможенных пошлин возрос с семи миллионов фунтов до почти пятнадцати миллионов.
Следовательно, средства Британской империи за двадцать лет увеличились вдвое или втрое, и если в настоящее время она была в затруднении, то это походило на затруднения богача.
Хотя Британия не континентальная держава, у нее было 193 тысячи регулярного войска и 109 тысяч ополченцев и способных к обороне людей. Британский флот состоял из 814 военных судов, в том числе имелось 100 линейных кораблей и 200 фрегатов, вполне вооруженных и рассеянных по всем морям, и 20 линейных кораблей и 40 фрегатов в резерве, готовых выйти в море.
К этим огромным материальным силам Англия присоединяла множество заслуженных морских офицеров, и во главе их — великого Нельсона. Это был человек причудливый, заносчивый, которому не следовало поручать начальства там, где к войне примешивалась политика. Но перед лицом опасности он был героем, тут он проявлял столько же ума, сколько смелости. Англичане по справедливости гордились его славой.
Англия и Франция заполнили своим грозным соперничеством целое столетие. Мы в своем повествовании достигли теперь одного из самых замечательных моментов их борьбы.
Обе уже бились восемь лет. Франция устояла против всей Европы, распространила свои владения до Рейна и Альп, достигла владычества в Италии и сильного влияния на континенте. Англия приобрела на море то же первенство, какое Франция приобрела на суше.
В это время стал происходить некий переворот в общем мнении. Франция являлась глазам мира человеколюбивой, мудрой, спокойной, победоносной и умеренной. Примиряясь с ней, все правительства замечали, что до тех пор были марионетками английской политики. Зато теперь все обратились против владычицы морей. Павел I со свойственной ему горячностью подал первый сигнал. Швеция, не колеблясь, последовала за ним. Дания и Пруссия также пристали к нему, но с меньшей решимостью. Австрия, побежденная и лишившаяся иллюзий, молча переживала скорбь и дала себе слово не поддаваться влиянию британских пособий.
У Франции, Испании и Голландии вместе было 80 военных кораблей, они могли вооружить и больше. У Швеции — 28, у России — 35, у Дании — 23 корабля. Следовательно, у союзников имелось 166 кораблей, сила, далеко превосходившая силу британского флота. Но на стороне Англии было важное преимущество: а именно то, что она имела дело с коалицией, к тому же ее флот был гораздо лучше вооружен. Одни французские и датские корабли могли противостоять английским, и то вряд ли в сражении между большими эскадрами, поскольку английский флот считался первым в мире по искусству в маневрах.
Однако же опасность становилась грозной, ибо в случае продолжительности борьбы Бонапарт мог решиться на какую-нибудь важную экспедицию, а успей он переправиться с армией через пролив, Англия бы погибла.
Поистрепавшееся везение Питта должно было склониться перед зарождающимся счастьем молодого Бонапарта. У Питта была самая блестящая биография в его веке, после Фридриха Великого. В свои сорок три года он уже семнадцать лет являлся владыкой, и почти неограниченным владыкой, свободного государства. Но его счастье устарело, а счастье генерала Бонапарта, напротив, только что зарождалось. Счастье избранных людей сменяется в истории мира точно так же, как в природе, и у счастья есть свои молодость, старость и смерть. И блистательной звезде Бонапарта суждено было закатиться, но до тех пор перед его могуществом должно было пасть счастье величайшего министра Англии.
Питта обвиняли во всех бедствиях, терзавших в то время страну. Оппозиция, в первый раз за семнадцать лет обнаружив министра в нестойком положении, удвоила свои усилия. Фокс, долго пренебрегавший парламентом, снова появился на трибуне, Шеридан, Тирней, лорды Грей и Холланд усилили нажим, и в этот раз они были правы, что не всегда можно сказать о запальчивой оппозиции.
Несмотря на находчивость, Питту в самом деле нечего было отвечать, когда его спрашивали, почему он не заключил мира с Францией в то время, когда Первый консул перед сражением у Маренго предлагал его. Из-за чего еще недавно, перед гогенлинденским делом, он не согласился не только на перемирие, но и на предложенные ему отдельные переговоры? Почему затем не старался поладить с нейтральными державами и выиграть время?
Сравнивая управление Франции с управлением Англии, оппозиция с горькой иронией спрашивала Питта, что он теперь скажет о «молодом безумце» Бонапарте, который, по словам министра, «удержится так же недолго, как и его предшественники» и который «не стоит того, чтобы с ним вступали в переговоры»?
Питт на все эти замечания возражал слабо. Он беспрестанно повторял свой любимый довод о том, что, если бы он не воевал, английская конституция давно бы погибла, и приводил в пример Венецию, Неаполь, Пьемонт, Швейцарию, Голландию, будто можно было поверить, чтобы с могущественной Англией и ее либеральной конституцией могло случиться то же, что с каким-нибудь третьеразрядным итальянским княжеством.
Далее он говорил (и на этот раз был прав), что если Франция усилилась на суше, то Англия столько же усилилась на море, флот ее покрыл себя славой, и если удвоились долг и налоги, то удвоилось также ее богатство: Англия во всех отношениях ныне гораздо могущественнее, чем была до войны.
В январе 1801 года, вследствие билля о присоединении к Великобритании Ирландии, в первый раз собрался объединенный парламент трех королевств. На всех заседаниях беспрестанно и с необыкновенной запальчивостью продолжались эти споры. Питт явно слабел — не в отношении числа голосов в парламенте, а в отношении нравственного влияния и силы.
Надо отдать ему и Англии справедливость и сознаться, что в этой тяжелой ситуации были приняты самые благоразумные меры. Значительные льготы оставили только на ввоз хлеба, приходам велели выдавать вспомоществование не деньгами, что повысило бы цену на хлеб, а съестными припасами, например, солониной, овощами и пр. Королевская прокламация, обращенная к зажиточным классам, имевшим возможность разнообразить свою пищу, призывала их по возможности уменьшить употребление хлеба. Наконец, было отправлено множество судов в Индию за рисом, а в Америку и по Средиземному морю — за хлебом. Старались даже добыть хлеб из Франции, совершая контрабандные набеги по берегам Бретани и Вандеи.
Среди всеобщей нужды, выносимой с таким мужеством, Питт не забывал о приготовлениях к войне. Он намеревался наказать Данию и Швецию и проникнуть далеко вглубь Финского залива, чтобы устрашить Россию, а потому поднял на заседаниях кабинета два вопроса, один из которых, весьма неуместный в то время, подал повод к его отставке.
В феврале 1801 года, на первом же заседании объединенного парламента, Питт потребовал от короля Георга III политической свободы для католиков. Король, протестант и ханжа, счел такую меру нарушением своей присяги и отказал наотрез.
Питт просил его еще о другой, весьма благоразумной мере, а именно: не считать занятие Пруссией Ганновера враждебным действием и сохранить дружеские сношения хоть с этой единственной державой на континенте. Но это была слишком тяжкая жертва для монарха из Ганноверского дома.
Несогласие между королем и министром усилилось, и 8 февраля 1801 года Питт подал в отставку, к нему присоединилось и большинство его товарищей. Нельзя не признать, что это удаление было слабостью великого человека. Очевидно, что, видя вокруг себя столько затруднений, Питт рад был уйти от них под предлогом непоколебимой верности данному слову. Он удалился, к крайнему огорчению короля, неудовольствию министерской партии и ужасу Англии, видевшей с беспокойством, что кормило правления переходит в руки людей новых и неопытных.
Питт передал министерство своему протеже Аддингтону, которого он в течение многих лет поддерживал в качестве председателя палаты общин. Лорд Хоксбери был назначен министром иностранных дел.
Новые министры оказались людьми благоразумными, умеренными, но малоспособными. Оба некоторое время руководствовались советами Питта, и это обстоятельство более всего содействовало подтверждению мнения, будто удаление Питта лишь уловка.
Эти беспокойства оказались слишком тяжелым испытанием для слабой головы Георга III. Снова начался припадок сумасшествия, и около месяца король был не в состоянии исполнять свои обязанности.
Питт уже подал в отставку, но Аддингтон и лорд Хоксбери хоть и были назначены министрами, однако еще не вступили в должность. В продолжение этого кризиса, то есть почти целый месяц, Питт оставался настоящим королем Англии и был им со всеобщего согласия.
Во все продолжение кризиса соблюдалась величайшая почтительность. Ни разу не был произнесен настоящий диагноз, все с беспокойством, но с достоинством ждали развязки этого необыкновенного положения.
Между тем Питт просил у парламента субсидий, и никто их не оспаривал, английские флоты снаряжались в гаванях, адмиралы Паркер и Нельсон шли с сорока семью кораблями из Ярмута в направлении Балтийского моря.
К середине марта король наконец поправился. Питт сдал управление Аддингтону и лорду Хоксбери. Хотя он впоследствии и вступил снова в управление, но как политик умер с этого дня. После семнадцати лет правления Питт оставил отечеству удвоенное богатство и удвоенные долги, новое могущество и новое бремя.
Питт был превосходным оратором, искусным предводителем своей партии, но малообразованным с точки зрения государственного деятеля: он совершал множество ошибок и разделял все предрассудки своего народа. Ни один англичанин не питал ненависти к Франции до такой степени, как он. Но это обстоятельство не помешает нам отдать ему справедливость: отметим его любовь к отечеству, хоть она и была направлена против Франции.
Аддингтон и лорд Хоксбери не могли сравниться с Питтом, но британское правительство еще некоторое время следовало заданному направлению: пособия были выпрошены и получены, английский флот шел к Балтийскому морю решать спор о правах нейтральных держав, а армия плыла на Восток оспаривать Египет у французов.
Главнокомандующим Балтийского флота был адмирал Паркер, старый опытный моряк, умевший действовать в трудных обстоятельствах. Рядом с ним находился Нельсон — на случай, если придется дать сражение.
Нельсон советовал, не дожидаясь второй части английского флота, пройти Зунд, немедленно плыть к Копенгагену, решительным сражением отделить Данию от коалиции и потом встать в Балтийском море между союзными флотами, не допуская их соединения.
Соображения Нельсона звучали весьма основательно, но речь шла о марте, северные моря еще покрывал лед, и одного этого препятствия было достаточно, чтобы помешать соединению флотов.
Нейтральные державы готовились к войне с чрезвычайной тщательностью. Император Павел призывал к сопротивлению Швецию, Данию, Пруссию и грозил своей враждой тем, кто не будет так же энергичен, как он сам.
Дания и Пруссия хотели бы начать дело с переговоров, но угрозы императора Павла и строгие указания Первого консула, сопровождаемые формальным обещанием помощи, увлекли эти два двора к сопротивлению. Дания, видя, что Англия на простое изложение условий отвечает объявлением войны, посчитала отступление невозможным и также готовилась к военным действиям. Пруссия, зажатая между Россией и Францией, утратила свою роль посредницы с тех пор, как Павел I и Первый консул подружились. Ожидая теперь выгодного для себя раздела земель, она хотела снискать благосклонность обеих держав своей твердостью, а потому запретила англичанам подходить к берегам Северного моря от Голландии до Дании, заперла от них устья Эмса, Везера, Эльбы и расставила войска по главным пунктам. Наконец, отряд прусских войск занял Ганновер. Этот шаг был важнее и решительнее всех прочих.
Первый консул удостоил Пруссию торжественными изъявлениями своего удовольствия и твердым обещанием выгодного для нее раздела.
Дания, со своей стороны, заняла Гамбург и Любек. Небольшой порт Куксгавен, принадлежавший Гамбургу, единственный, к которому могли приставать англичане, был уже занят Пруссией.
Итак, англичанам оставались только море и их корабли, нужно было силой открывать себе доступ к континенту.
Чтобы из пролива Каттегат войти в Балтийское море, надо проходить через пролив Зунд. Тут находился только один порт — Хельсингёр, он принадлежал Дании, поэтому на датском берегу построили хорошие укрепления, там красовалась мощная крепость Кроненберг, а шведский берег был почти не защищен.
Требовалось построить какие-нибудь укрепления и на шведском берегу. Король Густав Адольф беседовал с Павлом I об этом во время визита в Петербург, но оба государя признали, что невозможно ничего построить в это время года, на почве, которую в зимние морозы не берет и железо.
Густав Адольф имел также свидание с наследным принцем Датским [Фредериком VI], бывшим тогда правителем Дании. Оба рассуждали о предполагаемом укреплении, но принц-регент, кажется, вовсе не желал, чтобы Швеция укрепляла свои берега.
Итак, Зунд был очень слабо защищен со стороны Швеции, довольствовались старой восьмипушечной батареей, издавна уже стоявшей на откосе. Хотя впоследствии союзников осуждали за эту небрежность, нет сомнения, что, если бы даже Зунд был укреплен с обеих сторон, он все-таки не представлял бы собой значительной опасности, ибо пролив широкий, и, следовательно, суда, идущие посередине, претерпели бы разве что небольшие повреждения.
Датчане сосредоточили все свое сопротивление не в самом Зунде, а пониже, уже почти перед Копенгагеном. Занятая ими позиция не запирала Балтийского моря, но вынуждала англичан дать сражение в хорошо укрепленной и давно подготовленной позиции. Перед Копенгагеном поставили несколько кораблей, на которых можно было разместить сильные батареи, и кроме того, снарядили отдельную эскадру в десять линейных кораблей.
Швеция и Россия, со своей стороны, также готовились к войне.
Швеция расположила свои войска по берегам от Го-тенбурга до Зунда, вооружила город Карлскрону и все Другие порты на Балтийском море.
Король Густав Адольф призывал адмирала Кронстедта поспешить со снаряжением шведского флота. Этот флот состоял из семи линейных кораблей и двух фрегатов, готовых выйти в море, как только оно очистится ото льда.
У России в Ревеле стояли двенадцать готовых линейных кораблей, которые, так же, как и шведские, удерживал лед.
Разумеется, союзники не сделали всего, что могли бы сделать, если бы ими руководило такое же деятельное правительство, каким было в то время французское, но все-таки, присоединив к десяти датским кораблям семь шведских и двенадцать русских, они составили флот почти в три десятка линейных кораблей, стоявший на крепкой позиции, против которого англичане не в силах были бороться, но которого никак не могли миновать. Пренебречь такой позицией, идя в Балтийское море, значило оставить у себя в тылу силы, способные запереть выход из моря и не выпустить в случае неудачи.
Но чтобы соединить вовремя эти морские отряды, требовалась активная деятельность, к которой ни одно из трех нейтральных правительств не было способно. Они, конечно, спешили, но, слишком надеясь на продолжительность зимней погоды, не подготовились вовремя, и энергичные действия англичан далеко опередили их.
Двадцать первого марта английский фрегат пристал к Хельсингёру и высадил барона Ванситарта, посланного сделать последнее предложение датскому правительству. Ванситарт передал английскому поверенному в делах Дрюмону последнее требование британского кабинета. Это требование заключалось в том, чтобы датчане открыли свои порты англичанам и возобновили действие временного условия, по которому они обязывались не приставлять военные конвои к своим торговым судам.
Наследный принц с живостью отверг предложение и отвечал, что Дания и ее союзники не объявляли войны, а только ограничились объяснением правил морского права, что виновники войны — англичане и что Дания первая не начнет военных действий, но твердо намерена сопротивляться всякому насилию.
Жители Копенгагена единодушно поддержали прин-ца-регента, представлявшего их с таким благородством.
Все население взялось за оружие, каждый, кто мог поднять заступ, помогал инженерам и рабочим при постройке укреплений.
Дрюмон и Ванситарт поспешно выехали из Копенгагена, угрожая несчастному городу мщением Англии. Двадцать четвертого марта они возвратились на корабли, флот стал готовиться к открытию военных действий.
Нельсон и главнокомандующий Паркер собрали военный совет. Рассуждали о плане действий: одни советовали идти через Зунд, другие — через другой пролив, Большой Бельт. Нельсон утверждал, что все равно — плыть тем или другим проливом, а надо только как можно скорее войти в Балтийское море и пробраться за Копенгаген, чтобы предупредить соединение союзников.
В английской эскадре было около двадцати линейных кораблей, 25 или 30 фрегатов и других мелких судов. Нельсон брался с двенадцатью кораблями разбить шведские и русские флотилии, остальные суда должны были атаковать и разгромить Копенгаген.
Не столь предприимчивый Паркер 26 марта сделал попытку пройти через Большой Бельт. Несколько мелких судов флотилии коснулись мели, главнокомандующий немедленно развернул эскадру и решил прорываться через Зунд. Тридцатого марта утром он вошел в этот пролив. В это время дул довольно сильный северо-западный ветер, именно такой, какой был нужен для плавания по проливу с северо-запада на юго-восток, а потом почти перпендикулярно с севера на юг.
Эскадра шла быстро, при благоприятном ветре, на равном расстоянии от обоих берегов. Нельсон в авангарде, Паркер в центре, адмирал Грейвз в арьергарде.
Как только эскадра показалась в виду Хельсингёра, из Кроненбергской крепости немедленно открыли огонь из ста крупнокалиберных орудий. Но английский адмирал, заметив, что со шведского берега огня почти не слышно, приблизился к нему, и англичане прошли проливом, открыто насмехаясь над датчанами, ядра которых не долетали до их кораблей.
К полудню весь флот встал на якоре среди залива, близ острова Гюэн.
Датчане расположились в фарватере в Королевском проходе близ своей столицы, таким образом более заботясь о защите Копенгагена, нежели о недопущении неприятеля в Балтийское море. Впрочем, не было сомнения, что Паркер и Нельсон не войдут в Балтийское море, не сбив сначала копенгагенских укреплений и не ударив по морским силам, собранным тут нейтральными державами.
На северной оконечности датской позиции находилось укрепление, Форт трех корон, построенный из кирпича. Он главенствовал над входом в гавань, и огонь его сливался с огнем копенгагенской цитадели.
Этот форт был вооружен семьюдесятью орудиями самого крупного калибра. Четыре линейных корабля перегораживали канал, ведущий в гавань. К югу от форта двадцать крупных судов занимали середину Королевского прохода и примыкали к батареям, поставленным на острове Амак.
Форт трех корон нельзя было взять штурмом, он был слишком хорошо укреплен, а вот линия, состоявшая из неподвижных корабельных корпусов, оказалась слишком длинна, лишена способности маневрировать и находилась слишком далеко от острова Амак. Следовательно, ее можно было атаковать с правого фланга. Нужно сказать, что прислуга при артиллерии на этих старых кораблях состояла из лучших датских матросов под начальством самых неустрашимых офицеров.
Прибыв к Копенгагену задолго до соединения всех нейтральных флотов, англичане приняли решение воспользоваться одиночеством датчан, нанести им решительный удар и потом уже идти со всей возможной поспешностью на шведов и русских. Этот план был смел и благоразумен, и Паркер и Нельсон, редко соглашавшиеся друг с другом, оба его одобрили.
Тридцать первое марта и первое апреля были посвящены осмотру линии датчан и определению плана атаки. Нельсон утверждал, что берется со своими кораблями атаковать и разбить правый фланг датской линии. Он требовал также, чтобы отряд флота под началом храброго офицера, капитана Риу, атаковал Форт трех корон и, вынудив его прекратить огонь, высадил тысячу человек, чтобы взять его приступом. Паркер не должен был участвовать в этом смелом маневре: он останется позади и будет стрелять по цитадели и подбирать поврежденные суда.
Несмотря на все предосторожности, три корабля Нельсона сели на мель в Королевском проходе, и ему пришлось строиться только с девятью кораблями. Это не смутило адмирала, и он все же встал близко к датской линии, на таком расстоянии, что артиллерия могла действовать опустошительно.
В 10 часов утра вся английская эскадра была выстроена в позицию. С обеих сторон велся ужасный огонь. У датчан было в батареях восемьсот орудий, они наносили по англичанам страшные удары. Офицеры, командовавшие на судах с батареями, действовали с редкой неустрашимостью, а артиллерийская прислуга самоотверженно им помогала.
Между тем на другом конце линии капитан Риу нес сильный урон: у него против Форта трех корон оставались одни фрегаты, и он выдерживал огонь без всякой надежды прекратить его и идти на приступ.
Паркер, видя сопротивление датчан и боясь, как бы английские корабли с поврежденными снастями не сели на мель, в особенности же понимая опасное положение капитана Риу, отдал приказ прекратить сражение. Сигналы на большой мачте адмиральского корабля вызвали у Нельсона вспышку гнева. Как известно, он был слеп на один глаз. Схватив подзорную трубу, он приставил ее к невидящему глазу, а затем сказал равнодушно: «Я не вижу сигналов Паркера», — и приказал продолжать отчаянную битву. Это был замечательный акт неблагоразумия, и, как часто бывает с отчаянными поступками, он увенчался полным успехом.
Корабли датчан, будучи неспособны двигаться под огнем батарей, подвергались сокрушительному огню. «Данеброг» с ужасным треском взлетел на воздух, многие другие суда оказались повреждены и стали уходить вниз по течению, испытывая огромные потери в людях.
Но и англичане, со своей стороны, терпели удары вражеской артиллерии и находились в величайшей опасности. Нельсон, желая захватить датские суда, спустившие флаг, приблизился к батарее Амака и был встречен убийственными залпами. Два или три его корабля лишились возможности маневрировать, а в это же время перед Фортом трех корон капитан Риу вынужден был отступить и погиб при падении ядра.
Нельсон, почти побежденный, не смутился: он вздумал послать к наследному принцу, который присутствовал при этом ужасном зрелище на одной из батарей, парламентера. Английский адмирал велел сказать ему, что если датчане не прекратят огня и не отдадут корабли, принадлежащие ему по праву, ибо они спустили флаг, то он вынужден будет взорвать их с экипажами. Но при этом просил напомнить, что англичане родные братья датчанам, что они вполне достаточно дрались и не должны истреблять друг друга.
Фредерик, пораженный кровавым зрелищем, боясь за Копенгаген, лишенный к тому времени защиты плавучих батарей, приказал остановить огонь. Это была ошибка: еще несколько минут — и флот Нельсона не мог продолжать сражение.
Завязалось что-то вроде переговоров. Нельсон воспользовался этим, чтобы оставить свою линию. Пока он отступал, три его корабля, поврежденные до того, что не могли уже маневрировать, сели на мель.
Нельсон и Паркер нуждались в перемирии не меньше датчан, ибо у них было убито и ранено 1200 человек, и шесть кораблей были чрезвычайно повреждены.
Урон датчан оказался немногим больше, но они слишком понадеялись на свои плавучие батареи, и теперь, по разрушении этих батарей, нижняя часть города, омываемая морем, осталась открытой для обстрела.
Больше всего датчане боялись за док, в котором находились военные корабли, снаряженные наполовину, неподвижные, зажатые в бассейне: они могли быть сожжены все до последнего. Это очень беспокоило датчан, дороживших своей эскадрой так же, как и своим пребыванием на морях. Ожесточенные страданиями и опасностью, они жаловались на союзников, не принимая в расчет затруднений, не позволивших русским и шведам подоспеть к стенам Копенгагена. Ветры, льды, недостаток времени задержали союзников, готовых помочь Дании.
Если бы они присоединили свои двадцать кораблей к датскому флоту в гавани, Нельсон не преуспел бы в своем дерзком предприятии и права морского нейтралитета восторжествовали бы. Но союзники подоспеть не смогли, и быстрое продвижение англичан изменило судьбу этой войны.
Паркер, боявшийся отваги Нельсона в сражении 2 апреля, теперь очень хорошо понимал положение датчан и намерен был извлечь из результатов этого сражения всю возможную пользу. Он хотел, чтобы датчане отказались от союза нейтральных держав, открыли свои гавани англичанам и приняли английскую флотилию, как бы для прикрытия их от мести союзников.
Третьего апреля Нельсон решил сойти на берег, чтобы передать это предложение наследному принцу. Принц-ре-гент был непреклонен: хоть накануне он и испугался опасности, в которой оказалась его столица, однако никак не соглашался на предлагаемую ему постыдную сделку. Он отвечал, что скорее останется под развалинами Копенгагена, чем изменит общему делу. Нельсон возвратился на адмиральский корабль без всякого результата.
Между тем датчане, видя, что им угрожает второе сражение, стали строить новые укрепления. Они усилили Форт трех корон, уставили пушками остров Амак и нижнюю часть города. Корабли, главный предмет своих попечений, они перевели в доки, более удаленные от моря, и укрыли для предохранения от огня. Всех способных к труду жителей привлекли к делу: кто был под ружьем, кто готовил средства для тушения пожара.
Наконец, прождав пять дней, Нельсон, несмотря на неприязненное отношение народа, вторично прибыл в Копенгаген. Переговоры оказались бурными. Нельсон самовольно решился на уступки, на которые не был уполномочен адмиралом Паркером. Наконец заключили перемирие: датчане не отступили от союза, но все военные действия между ними и англичанами прекращались на четырнадцать недель, по истечении которых все должны были находиться в том же самом положении, как в день подписания перемирия.
Перемирие распространялось только на датские острова и Ютландию, но не на Голштинию. Таким образом, военные действия могли продолжаться на Эльбе, и следовательно, река эта оставалась запертой для англичан.
Вот все, чего смог добиться Нельсон и на что победа давала ему право. Но в то время как он покидал Копенгаген, там распространилась печальная весть, которую всячески старались скрыть от английского адмирала. Носились слухи, что скончался император Павел. Нельсон уехал, не узнав этой новости, которая, разумеется, заставила бы его увеличить свои требования.
Перемирие тотчас же было утверждено адмиралом Паркером. Датский принц немедленно известил о том шведов, чтобы не подвергать их понапрасну ударам англичан, с которыми они не в состоянии были бороться.
Император Павел I действительно скончался в Петербурге в ночь с 23-го на 24 марта. Такое событие могло гораздо скорее, чем неполная победа Нельсона, приостановить морской союз северных держав. Павел I был инициатором этого союза, он заботился о его успехе с тем жаром, с каким принимался за каждое дело, и, вероятно, употребил бы огромные средства, чтобы поправить вред, причиненный Копенгагенской битвой. Он отправил бы в Данию сухопутные войска, соединил бы в Зунде флоты всех нейтральных держав и, вероятно, заставил бы англичан поплатиться за их дерзкое предприятие. К несчастью, этот энергичный государь скончался.
Павел I был умен и добр, но чувства его были слишком пылки, он, как все характеры такого рода, часто склонялся к крайностям — и в делах милосердия, и в порывах гнева. Исполненный сострадания и рыцарской доблести, он сначала почувствовал живейшее участие к жертвам Французской революции и пламенную ненависть к самой революции. Мудрая Екатерина в продолжение своего царствования ограничивалась тем, что настраивала против Франции всю Европу, но сама не выставила ни одного солдата. Павел, напротив, едва вступив на престол, отправил в Италию Суворова со стотысячным войском. В пылу негодования он запретил ввоз в Россию французских продуктов, книг и нарядов.
Это было особенно прискорбно для русского дворянства, которое, как и вся остальная аристократия Европы, порицая Францию, любила, однако же, французское остроумие и изящные манеры. Для дворянства это антире-волюционное рвение оказалась жестоким ударом.
Вскоре Павел Петрович переменил свои убеждения и перешел, как мы видели, к иным чувствам. Он возненавидел своих союзников (которые действовали в корыстных целях), воспылал любовью к своим противникам, поместил в покоях портрет генерала Бонапарта, публично пил за его здоровье и простер расположение до того, что объявил Великобритании войну.
Между тем английская торговля господствовала в Петербурге: в этом причина связи русской политики с английской, связи, которая удерживала обе державы от соперничества, впрочем, со временем неизбежного.
В таком положении были дела и европейская политика, когда вдруг 24 марта Петербургу возвестили о кончине императора Павла и вся гвардия и народ присягнули доблестному и юному его наследнику, императору Александру, на которого прежде многие надеялись иметь влияние, но который доказал твердость своего характера и благородство образа мыслей и так справедливо заслужил название Миротворца Европы и Благословенного.
Смерть русского императора избавляла Англию от грозного неприятеля, а Первый консул лишался мощного союзника. Бонапарт избрал для отправки в Петербург своего любимого адъютанта Дюрока, которого уже посылал в Берлин и в Вену. Он поручил ему отвезти собственноручное письмо, в котором поздравлял нового императора с восшествием на престол, пытался воздействовать на него лестью и привести его, если это будет возможно, к более умеренным идеям касательно отношений Франции и России.
Дюрок отправился немедленно, имея приказание проехать через Берлин. Он должен был вторично посетить прусский двор, собрать там более подробные сведения насчет последних событий на севере и, таким образом, прибыв в Петербург, быть вполне подготовленным к обстоятельствам и людям, которых там встретит.
Англия радовалась и должна была радоваться, узнав в одно время о копенгагенской победе и о смерти страшного противника. Британского героя, неустрашимого Нельсона, превозносили с восторгом, весьма естественным и вполне заслуженным, потому что каждая нация в порыве радости должна торжествовать и даже преувеличивать свои победы.
Но когда первый восторг прошел, начали вернее оценивать мнимую победу при Копенгагене. Стали говорить, что в Зунд нетрудно пробраться, что атаковать Копенгаген в узком проходе, где английские корабли могли двигаться только с большим риском, было поступком смелым, достойным победителя при Абукире, но английский флот в результате жестоко пострадал и, не поторопись датский принц выслушать парламентера, мог бы даже погибнуть. Итак, победа эта оказалась очень недалекой от поражения, а результаты ее — незначительными, потому что у датчан успели только выпросить перемирие, после которого борьба должна была начаться снова. Между тем политика войны сменилась в Англии политикой мира, и этот счастливый переворот совершился вследствие замены первого министра. Англичане тотчас же решились воспользоваться сменой правления в России и умерить строгость своих морских правил, чтобы добиться полюбовной сделки с Россией, а потом и со всеми остальными державами. Они знали кроткий и снисходительный нрав молодого государя, вступившего на престол, и, кроме того, надеялись, что приобрели в Петербурге довольно значительное влияние. Английский кабинет отправил в северную столицу лорда Сент-Эленса с полномочиями заключить с русским кабинетом сделку. Графу Воронцову, русскому посланнику при английском дворе, попавшему в опалу в России за свою преданность британской политике, было официально предписано возвратиться в Лондон, куда он немедленно и отправился.
Корабли нейтральных держав, задержанные в английских портах, были отпущены. Нельсон по приказанию своего правительства продолжал мирно перемещаться по Балтийскому морю. Ему было поручено объявить северным дворам, что он не предпримет никаких враждебных действий, если только они не выступят со своими флотами, в противном же случае он вступит с ними в битву.
К несчастью, удар, нанесенный Копенгагену, произвел свое действие. Маленькие нейтральные державы, такие как Дания и Швеция, хоть и были очень раздражены против Англии, но вступили в союз только под влиянием, почти под давлением России.
Пруссия, которая рассматривала свое положение на море как второстепенный государственный интерес и, кроме того, очень желала мира, была весьма рада выпутаться из щекотливой ситуации с союзом. Она, подобно другим государствам, была готова согласиться на восстановление торговых отношений.
Вскоре все флаги снова появились на Балтийском море, и английское, шведское, датское и русское судоходство приняло свои обычные формы. Нельсон никого не трогал, взамен получал на всем протяжении северных берегов необходимые для флота запасы.
Итак, это перемирие было принято всеми. Русский кабинет, под влиянием графа Палена, не подчиняясь политике англичан, демонстрировал, тем не менее, готовность разрешить конфликт на море посредством мировой сделки, которая обеспечивала бы до некоторой степени права нейтралитета. Лорду Сент-Эленсу была назначена аудиенция. Дания отправила в Англию своего министра Бернсторфа.
Первый консул, который с таким искусством сплел все нити этого мощного союза против Великобритании, с горечью видел, как он рушится от слабости союзников. Бонапарт старался пристыдить их, но каждый, в оправдание своего поведения, ссылался на соседа. Дания, справедливо гордясь своей кровавой копенгагенской битвой, говорила, что исполнила свой долг и теперь очередь за другими. Швеция объявила, что готова воевать, но так как датские, прусские и русские корабли беспрепятственно снуют по морям, то она не видит причины, почему ей одной подвергать торговлю своих подданных на море запрещению. Пруссия оправдывалась в бездействии сменой правления в России, при этом неоднократно заверяя Французский кабинет в своей верности и твердости. Россия делала вид, что не отступается от прав нейтралитета, и говорила, что желает только прекратить враждебные действия, начатые без достаточных причин.
Первый консул, которому хотелось как только можно замедлить примирение Пруссии с Англией, придумал для продолжения их ссоры весьма замысловатое средство. Мы видели, что он предложил Мальту Павлу, теперь он предложил Ганновер Фридриху-Вильгельму. Пруссия заняла эту драгоценную для сердца Георга III провинцию в качестве компенсации за насилие, учиняемое английским правительством нейтральному флагу. Прусский кабинет с трудом, но все же решился на такой важный шаг, поскольку Пруссия всегда чувствовала склонность к этой провинции, которая прекрасно дополнила ее территорию.
Первый консул велел объявить берлинскому правительству, что, если Пруссия желает удержать за собой Ганновер в виде вознаграждения, хотя таковое вдесятеро превышает то, на какое она имеет право, он охотно согласится на это желание. Однако таким образом значительно увеличится государство, смежное с Францией.
Это объявление одновременно обрадовало и смутило сердце молодого монарха. Не принимая предложения окончательно, берлинский кабинет, однако, отвечал, что король Фридрих-Вильгельм очень тронут добрым расположением Первого консула, но что еще ни на что не решился и этот важный вопрос надо отложить до минуты, когда начнутся переговоры о всеобщем мире; тем не менее прусский кабинет прибавлял, что на основании настоящего временного перемирия Пруссия по-прежнему будет удерживать Ганновер за собой.
Первому консулу только этого и хотелось. Таким образом, он вызвал между берлинским и лондонским дворами запутанный вопрос и вручил преданной державе драгоценный залог, которым мог очень удачно воспользоваться во время переговоров с Англией.
Время этих переговоров наконец приблизилось. Англия с радостью ухватилась за удобный случай — умерить строгость своих морских правил, чтобы тем остановить опасность, угрожавшую ей с севера. Она хотела таким образом кончить это дело и восстановить мир не только с нейтральными державами, но и с государством, гораздо более опасным, чем нейтральные, — с Францией, которая десять лет уже потрясала Европу и начинала угрожать английским владениям весьма серьезным образом.
Из-за упрямства Питта и благодаря искусству генерала Бонапарта Англия в какой-то момент восстановила против себя весь мир и теперь не желала снова попасть в такое положение. «Для чего, — говорили рассудительные люди в Англии, — для чего нам продолжать войну? Мы захватили все важнейшие колонии, а Франция между тем поразила всех наших союзников и усилилась за их счет, она стала сильнейшей державой на свете. С каждым днем борьба будет все опаснее. Франция подчинила себе Голландию и Неаполь и вдет теперь против Португалии. Нельзя давать ей возможность еще более усилиться, продолжая безумную войну».
Итак, все рассудительные люди Англии хотели мира. Одно и то же желание выражали две великие силы: король и народ.
Английский король, упорный и набожный государь, остался весьма доволен восстановлением во Франции католицизма, он видел в этом торжество христианских истин, и одного этого было для него достаточно. Кроме того, он ненавидел Французскую революцию и, несмотря на то, что Бонапарт жестоко расстраивал все виды английской политики, был чрезвычайно благодарен ему за противодействие революции. Итак, Георг III также склонился в пользу Первого консула, но только совсем в другом роде, чем Павел I. Отойдя от припадка, который в течение нескольких месяцев омрачал его разум, он был расположен к миру и побуждал своих министров поскорее приступить к его заключению.
Английский народ, страстно любящий всевозможные нововведения, смотрел на мир с Францией как на величайшее из них, потому что в течение десяти лет в целом мире не происходило ничего, кроме беспрерывной борьбы. Приписывая голод, терзавший страну, кровопролитной войне на море и на континенте, англичане настойчиво требовали сближения с Францией.
Наконец, и новый первый министр Англии, лорд Аддингтон, не будучи в состоянии претендовать на славу Питта, с которым не мог сравниться ни дарованиями, ни известностью, ни политическим влиянием, видел для себя одно ясное призвание, а именно: восстановить мир. Он желал мира, и сам Питт, оставшийся всемогущим в парламенте, советовал ему сделать все для подписания мирного договора, настаивая, что это необходимо.
Лорд Хоксбери, который в кабинете Аддингтона занимал должность государственного секретаря по ведомству иностранных дел, пригласил к себе господина Отто. Последний жил в Лондоне, занимался разрешением дипломатических вопросов касательно пленников и незадолго перед тем был даже уполномочен вступить в переговоры по случаю морского перемирия. Естественно, он должен был служить посредником и в установлении новых отношений между двумя правительствами.
Лорд Хоксбери объявил господину Отто, что король дал ему весьма лестное поручение, которое, вероятно, будет столь же приятно для Франции, как и для Англии, и поручение это состоит в предложении мира. Он объяснил, что его величество готов послать своего уполномоченного даже в Париж, или куда будет угодно Первому консулу. Король, присовокупил лорд Хоксбери, желает предложить условия самые почетные для обеих наций и в доказательство искренности своего примирения приказал британскому кабинету отныне отвергать все интриги, предпринимаемые против правительства Франции.
Это показывало совершенный отход от прежней политики лорда Питта: невозможно было внести мирные предложения более достойным образом. Лорд Хоксбери просил о скором ответе. •
Первый консул, который в эту минуту думал только о том, как сдержать данное Франции слово, то есть даровать ей благоденствие и мир, почитал себя счастливым, что своей искусной политикой довел дело до такого окончания. Он принял предложения Англии с таким же убеждением, с каким она их высказала.
Однако специальная процедура ведения переговоров казалась Бонапарту и неудобной, и недостаточно эффективной. Он считал, что гораздо проще было бы переговорить устно в министерстве иностранных дел и изложить откровенно и просто обоюдные условия мира — в том случае, если лондонский кабинет действительно желает примирения.
«Условия эти легки, — говорил он, — потому что Англия завладела Индией, а мы — Египтом. Если мы согласимся, чтобы обе державы удержали за собой свои богатые завоевания, остальное — пустяки. И действительно, что значат несколько Антильских или других островов, которые Англия удержала за собой, по сравнению с обширными владениями, которые мы приобрели? Да и сможет ли она и дальше удерживать эти острова, когда Ганновер уже в наших руках, а Португалия скоро будет нашей, и тогда мы предложим ей эти земли за несколько американских островов!»
«Итак, мир легко может быть заключен, — писал он Отто, — если только действительно хотят мира. Я уполномочиваю вас вступить в переговоры только напрямую с лордом Хоксбери».
Отто было послано приказание ничего не предавать гласности, как можно меньше писать, совещаться устно и обмениваться нотами только о самых важных вопросах. Невозможно было сохранить подобные переговоры в полной тайне, но Первый консул предписал Отто соблюдать величайшую осмотрительность — и просить о том же английское правительство — относительно вопросов, которые могут возникнуть с той или с другой стороны и должны быть непременно обсуждены.
Лорд Хоксбери согласился на эти условия, и в первые дни апреля 1801 года начались переговоры.
С 9 ноября 1799 года до апреля 1801 года прошло семнадцать месяцев, и Франция, прекратив войну на материке, находясь в откровенных и прямых переговорах с Англией, должна была наконец, после десятилетней борьбы, впервые вкусить счастье общего мира на суше и на морях. Главное условие этого всеобщего мира, принятое всеми переговаривающимися сторонами, состояло в сохранении Францией всех ее великих завоеваний.
ОСТАВЛЕНИЕ ЕГИПТА
Цель, которую поставил себе Первый консул, приняв верховную власть, была почти достигнута, потому что во Франции царило спокойствие, в Люневиле подписали мир с Австрией, Германией и итальянскими государствами, с Россией сблизились, с Англией вели в Лондоне переговоры.
Если с последними двумя державами мир все-таки будет заключен, он сделается всеобщим. Итак, за такое короткое время молодой Бонапарт совершил свой благородный подвиг и сделал отечество счастливейшей и могущественнейшей из всех мировых держав.
Но нужно было довершить это великое дело, в особенности — заключить мир с Англией, ибо до тех пор, пока эта держава не сложит оружие, море останется запертым и, что всего важнее, может снова разгореться континентальная война. Правда, всеобщее истощение оставляло Англии мало надежды снова вооружить континент, большая часть континентальных держав вступила в союз с Францией против ее морского могущества, и не умри император Павел, она могла бы жестоко поплатиться за свое насилие в отношении нейтральных государств. Но скоропостижная смерть стала новым и важным событием, которое изменило положение дел. Какое влияние окажет на дела Европы это событие, еще никто не знал. Первый консул с нетерпением отправил Дюрока в Петербург, чтобы получить скорейшие и самые верные сведения.
Посланник Павла I Колычев вел себя в Париже с холодной и назойливой спесью и весьма неловко разыгрывал роль покровителя мелких государств, которые, оскорбив Францию, теперь ожидали от нее решения своей участи.
Неаполитанский двор искал покровительства Колычева, но очень неудачно: министра этого двора Галло выслали из Парижа, а сам двор вынужден был подчиниться условиям Первого консула. Сен-Массан, уполномоченный Савойского дома, желая прибегнуть к тому же средству, что и Галло, был также выслан. Колычев поторопился вступиться за неаполитанский и туринский дворы, а именно: объявил, что, подписывая договор с Францией, Россия не ограничится восстановлением дружеских отношений между двумя державами, но желает привести в порядок все общие дела в Германии, Италии и даже на Востоке, а потому Россия настоятельно требует возвращения Египта Оттоманской Порте.
Несмотря на желание оставаться приятным императору Павлу, французский кабинет с твердостью отвечал его посланнику: соглашался присоединить к главному договору особую тайную конвенцию, в силу которой Франция примет на себя обязанность непременно снестись с Россией по поводу компенсаций в Германии, в особенности же покровительствовать баденскому, вюртембергскому и баварскому дворам, состоящим в союзе и родстве с Российской империей; назначить вознаграждение дому Савойскому, если ему не будут возвращены владения. Но при этом французы не обозначали ни места, ни времени, ни обширности компенсаций, потому что Первый консул уже решил присоединить Пьемонт к Франции.
Вот все, на что Франция соглашалась. Что касается Неаполя, флорентийские договоренности были объявлены неизменными, а о возвращении Египта не хотели даже и слышать31.
В таком положении были дела, когда вдруг пришло известие о кончине императора Павла. Колычев, не дожидаясь повелений нового государя и желая выйти из неприятного положения, в которое себя поставил, обратился 26 апреля с решительной нотой к Талейрану и потребовал немедленного ответа. Он намекал даже, что если Франция не поступит по справедливости со слабыми государствами, то слава Первого консула сильно пострадает и правление его ничем не будет отличаться от всех предшествовавших революционных правлений.
Талейран тотчас же отвечал ему, что нота эта неуместна, что в ней не соблюдены приличия, с которыми независимые державы должны обращаться друг к другу, что ее не представят Первому консулу, ибо она оскорбительна для его достоинства, а господин Колычев может считать ее как бы неотправленной.
Этот строгий урок сильно подействовал на Колычева. Он стал беспокоиться насчет последствий своего поступка; даже мелкие князья, которые искали в нем раньше опору, начали тяготиться его покровительством и жалели, что поручили ему свое дело. Колычеву оставалось на выбор: или не получить вовсе никакого ответа, или возобновить свои требования в более приличной форме. Он написал новую депешу, в которой вежливо просил объяснений насчет изложенных без всяких рассуждений и жалоб пунктов. Депеша была холодна, но прилична.
Тогда Талейран объявил русскому посланнику, что вопросы его будут представлены Первому консулу на рассмотрение, а ответ незамедлительно выслан. Спустя несколько дней Талейран прислал Колычеву вежливое, но решительное письмо. Он повторял все то, что уже прежде было высказано французским кабинетом, и прибавлял следующее рассуждение: если Франция во многих важнейших делах Европы решилась сноситься с Россией и была расположена исполнять желания северной империи, то это происходило вследствие тесного союза, заключенного с императором Павлом против британской политики, но сейчас нужно сначала узнать определенно, захочет ли новый император войти в те же сношения и можно ли быть уверенным, что Франция найдет в нем такого же ревностного и решительного союзника, каков был покойный государь.
С этой минуты Колычев успокоился, ничего не предпринимал и ожидал инструкций от нового государя.
Замечательный государь вступил на престол царей русских, замечательный, как и большая часть государей, царствовавших в России в течение века.
Императору Александру было двадцать четыре года, он был строен, высок ростом. Черты лица его выражали благородство и кротость. Он обладал проницательным умом, великодушным сердцем и необычайной приятностью в обращении. Его живой и впечатлительный ум попеременно хватался за самые разнородные идеи. Но не все поступки этого замечательного государя были следствием увлечения: у его переменчивого образа мыслей имелись глубокие основания, которые иногда ускользали от самых внимательных наблюдателей. Он был честен, благороден и не чужд тонкого расчета там, где последний требовался.
Этому молодому императору суждено было пленить даже необыкновенного человека, владычествовавшего над Францией, которого так трудно было обольстить и с которым позже пришлось вступить в великую и страшную борьбу.
Александра воспитывал швейцарец, полковник Лагарп, который внушал ему чувства и идеи своих соотечественников: сначала молодой князь, с обычной своей впечатлительностью, подвергся влиянию своего наставника, но, вступив на престол, видимо, в этом раскаялся. Пока он был великим князем и находился под довольно строгим надзором императрицы Екатерины, а затем императора Павла, Александр вошел в довольно тесные связи с несколькими молодыми людьми одного с ним возраста. Главными из них были Павел Строганов, Новосильцев и князь Адам Чарторижский32. Последний принадлежал к одной из знаменитейших польских фамилий, страстно любил свое отечество, служил в Петербурге в гвардии и жил при дворе молодых великих князей. Александр, обнаружив сходство со своими чувствами и образом мыслей, привязался к нему со всем пылом своей благородной души и поверял ему свои мечты и надежды. Император Павел Петрович заметил эту связь, она показалась ему неуместной, и он удалил князя Чарторижского от двора, назначив его посланником к государю без государства, к королю Сардинии.
Едва Александр сделался императором, как послал курьера к своему любимцу, находившемуся в Риме, и призвал его в Петербург. Кроме того, он объединил подле себя Павла Строганова и Новосильцева и таким образом составил род тайного совета из молодых людей, еще неопытных в делах правления, но полных возвышенных стремлений и воодушевленных благородным порывом. Они горели желанием избавиться от старых министров, к которым не испытывали ни малейшего сочувствия.
Одним из членов этого кружка, более почтенным и известным, чем остальные, был князь Кочубей. Он ослаблял своим зрелым умом и опытностью порывы молодости. Князь Кочубей хорошо знал Европу, приобрел драгоценные государственные сведения и постоянно беседовал с молодым монархом об улучшениях, которые почитал полезными для внутреннего управления государством.
Все эти лица не одобряли прежнюю политику, они не хотели воевать с французами за нравственную идею или вести морские войны с англичанами. Великая северная держава, по их мнению, должна удерживать равновесие между этими двумя государствами, угрожавшими поглотить весь мир в своей борьбе, должна стать властительницей Европы и опорой слабых держав против сильных.
Император по любому вопросу сначала совещался со своими приближенными, а уже потом обменивался мнениями с министрами. Под этими, иногда весьма противоречивыми, влияниями было решено вступить с Англией в переговоры и начать со снятия запрещения на английскую торговлю, запрещения, которое, по мнению Александра I, было несправедливо. Предполагалось составить с лордом Сент-Эленсом морской устав, который спас бы если не все права нейтралитета, так по крайней мере русское судоходство.
Император Александр, не желая, подобно родителю своему, принять на себя звание гроссмейстера ордена Св. Иоанна Иерусалимского, объявил, что будет исполнять только обязанности протектора, и до тех пор, пока в ордене не изберут нового гроссмейстера. Это мудрое решение убирало многие затруднения как в отношении Англии, которой очень хотелось завладеть Мальтой, так и в отношении Франции, которая не желала продолжать войну бесконечно, а кроме того, облегчало дело с Римом и Испанией, которые никак не соглашались признавать гроссмейстером ордена государя православного вероисповедания.
Чтобы избавиться от другого спорного вопроса, решили не требовать от Франции возвращения Египта. И действительно, России было гораздо выгоднее видеть его в руках французов, чем англичан. Что касается Неаполя и Пьемонта, с этими государствами Россию связывали прямые договоры, и император Александр с первой минуты пребывания на престоле хотел показать свою лояльность. Было решено потребовать в пользу неаполитанского двора не изменения условий Флорентийского договора, а только обеспечения сохранности настоящих территорий и возвращения, при заключении мира, Та-рентского залива. Для Савойского дома хотели потребовать или возвращения Пьемонта, или, вместо того, достаточной компенсации.
Наконец, Александр желал вместе с Францией решить, какие земли отдать немецким князьям в качестве отступных за их потери на левом берегу Рейна.
Все это не представляло никаких затруднений, потому что Первый консул на предложенные условия уже согласился. Колычев был отозван в Петербург. На его место посланником назначили графа Аркадия Ивановича Моркова, человека чрезвычайно умного, но в отношении дипломатии — не удачнее своего предшественника.
Дюрок, посланный в Петербург с поздравлениями молодому императору, прибыл, когда все эти вопросы были уже решены. Его прекрасно приняли — как сам император, так и министры. Его ловкость и сметливость имели и при русском дворе такой же успех, как в Берлине: он умел и здесь внушить к себе доверие и уважение. После официальных аудиенций государь удостоил Дюрока нескольких частных бесед, в которых старался прямо и откровенно высказываться перед личным представителем Первого консула.
Однажды, несколько дней спустя, государь увидел Дюрока в Летнем саду, подошел к нему и, приказав свите удалиться, отвел его в боковую аллею, где начал объясняться с совершенной откровенностью.
— Я друг Франции и уже давно, — сказал император. — Я восхищаюсь вашим новым государем и могу в полной мере оценить все, что он делает для успокоения Франции и утверждения гражданского порядка в Европе. Меня ему нечего бояться: я не начну новой войны между нашими двумя державами. Но пусть и он мне поможет: пусть не подает дальше завистникам поводов для претензий. Вы видите, я согласился на многие уступки. Я не говорю уже о Египте, более того: если бы, по несчастью, англичане завладели этой страной, я бы соединился с вами, чтоб отнять ее у них. Я отказался от Мальты. Будучи связан с королями Неаполитанским и Пьемонтским договорами, знаю, они неправы в отношении Франции, но что же им делать, когда Англия их окружила и держала под своей властью? И теперь будет очень прискорбно, если Первый консул завладеет Пьемонтом, что можно предвидеть, судя по последним его распоряжениям. Неаполь жалуется, что у него отнята часть владений. Все это недостойно Первого консула и вредит его славе. Его осуждают не за нарушение гражданского порядка, как предшествовавшие правительства, но за намерение оккупировать решительно все государства. Это вредит ему, а меня подвергает нападкам царедворцев, которые подступают ко мне со всех сторон. Пусть он уничтожит эти затруднения к нашему сближению, и мы заживем в совершенной дружбе.
С еще большей доверчивостью император добавил:
— Не говорите обо всем этом ни слова с моими министрами, будьте осторожны, используйте только самых верных курьеров. Но скажите генералу Бонапарту, чтобы он прислал мне людей, которым я мог бы доверять. Прямые отношения лучше всего подходят, чтобы основать союз между двумя правительствами.
Александр прибавил еще несколько слов касательно Англии. Он подтвердил, что не хочет предоставить ей на море свободу, которая должна быть общим достоянием всех народов, и если он и снял запрещение с английских кораблей, так только по долгу справедливости.
— А я не допускаю несправедливостей! — воскликнул с живостью Александр. — Вот единственная причина моего поступка. Но я никак не намерен отдаться в руки
Англии. От Первого консула зависит, чтобы я был и оставался его союзником и другом!
Молодой император в этой беседе изъяснялся просто, доверчиво и всячески желал показать, что действует независимо от своих министров и имеет собственные виды и личную политику.
Дюрок уехал из Петербурга осыпанный милостями и знаками его благосклонности.
Бонапарту стало ясно, что нельзя надеяться на помощь России против Англии, но, с другой стороны, Россия и не представляла уже таких затруднений, как раньше. Первый консул, который теперь знал наверняка, что может сойтись с петербургским двором, не торопился заканчивать переговоры с Англией.
Англия, действительно, в это время очень мало заботилась о Неаполе и Пьемонте, и если их будущее не составляло больше одного из важнейших условий мира, Франция могла распорядиться этими двумя провинциями по своему усмотрению.
Итак, переговоры с Англией сделались главным и почти единственным предметом всеобщего внимания. Чтобы гарантировать успех, надо было не только с ловкостью вести переговоры в Лондоне, но и начать наконец войну с Португалией и отстоять Египет у британских войск, потому что от исхода событий в этих двух странах зависел успех будущего договора.
Первый консул, желая придать делу больше веса, вел даже приготовления в Булони и Кале, давая понять, что он готов и в силах организовать экспедицию против Англии, экспедицию, которую так долго замышляла Директория. Многочисленные корпуса шли в эту часть Франции, а у берегов Нормандии, Пикардии и Фландрии собиралось множество хорошо вооруженных канонирских шлюпок, которые могли перевезти через Па-де-Кале значительные силы.
Между тем лорд Хоксбери и Отто, как было условлено, провели половину апреля 1801 года в дипломатических совещаниях. По обыкновению, первые притязания с обеих сторон оказались чрезвычайными. Британский кабинет предлагал для примирения очень простое основание, а именно: иИ роззШеМз, то есть сохранение за каждой державой того, что было приобретено ею во время войны. Англия, пользуясь продолжительной борьбой Европы против Франции, обогатилась, в то время как ее союзники ослабели, и отвоевала колонии почти у всех государств.
После таких приобретений, можно сказать, уже нечего было оспаривать у морских держав, кроме разве что континентальных владений испанцев в обеих частях Америки. Правда, англичане угрожали овладеть Бразилией, если война с Португалией не будет прекращена.
В ответ на эти обширные морские приобретения Франция завладела лучшими частями европейского материка, которые, конечно, были важнее этих отдаленных земель, но она и возвратила почти все, кроме полосы, заключенной между Альпийскими горами, Рейном и Пиренеями. Франция, кроме того, приобрела Египет — колонию, которая одна служила вознаграждением за все колониальное величие Англии. Ни одно приобретение не могло сравниться с этим. Вздумается ли потрясти владычество Англии в Индии, Египет — самая верная к тому дорога. Или захотят привлечь к портам Франции часть восточной торговли, — Египет и тут самый естественный путь. Как для мира, так и для войны это была самая драгоценная колония на всем Земном шаре.
Если бы глава французского правительства в это время думал только об одной Франции, а не о своих союзниках, он мог бы согласиться на предложения Англии, потому что даже Мартиника, единственная значительная потеря Франции в эту войну, была ничтожна сравнительно с Египтом. Но Первый консул считал долгом чести вытребовать для своих союзников большую часть потерянных ими владений. Не от него зависело сохранить Голландию от всех потерь, к которым вынудило ее поражение флота, последовавшего, как известно, за штатгальтером в Англию33. Но ему хотелось возвратить ей мыс Доброй Надежды и Гвиану. Зная, что Испания ничего не приобрела в эту войну, Бонапарт желал, чтобы она ничего и не лишилась, а также чтоб ей были возвращены Тринидад и Балеарские острова. Наконец, Первый консул ни за что не хотел уступать Мальту, потому что
это значило заранее ослабить Египет и сделать владение им весьма ненадежным.
Таким образом, на предложение Англии принять за основу будущего мира принцип иИ роззШеИз французскому уполномоченному было предписано отвечать решительными доводами.
— Вы хотите, — сказал он Хоксбери, — чтобы обе нации сохранили свои завоевания. Но тогда Франция должна удержать за собой в Германии Баден, Вюртемберг, Баварию, три четверти Австрии, а также всю Италию, всю Швейцарию (которую твердо намерена оставить, как только водворит там порядок и приведет дела к разумным началам). Франции пришлось бы сохранить за собой Голландию, и она могла бы отдать Ганновер в виде вознаграждения некоторым державам континента и тем привязать их к себе навсегда.
Наконец, мы готовы привести к окончанию войну, начатую против Португалии, вознаградить Испанию землями этого государства и приобрести новые порты. А земли, простирающиеся от Текселя до Лиссабона и Ка-дикса, от Кадикса до Генуи, от Генуи до Отранто и от Отранто до Венеции?..
Если переговоры хотят основать на абсолютных принципах, мир становится невозможным.
Франция возвратила большую часть своих завоеваний побежденным государствам. Стало быть, надо, чтобы и Англия возвратила часть своих. При этом Франция требует только те земли, которые прямо к ней не относятся, но принадлежат ее союзникам. Франция обязана их вытребовать, чтобы передать настоящим владельцам.
К тому же Англии уступают Индию и Цейлон, что значат для нее после этого остальные владения?
Но если правительство ваше не согласно ни на какие Уступки, то об этом необходимо объявить: надо прямо сказать, что переговоры наши — одна только приманка. Тогда весь свет узнает, кто виноват в том, что мир невозможен. Тогда и Франция сделает последнее усилие и> может быть, нанесет Англии смертельный удар, потому что Первый консул не теряет надежды перебраться через Па-де-Кале во главе своего стотысячного войска.
13 Консульство
Лорд Хоксбери и Адцингтон желали выгодного для себя мира, что весьма понятно, но вместе с тем мира немедленного. Они поняли справедливость доводов французского кабинета и увидели решимость, выражавшуюся в его словах. Поэтому они сразу согласились вести переговоры с более умеренными требованиями, последствием чего стало сближение сторон.
Сначала они отвечали на представление Первого консула о возвращенных Францией завоеваниях в том смысле, что Франция была вынуждена их вернуть, потому что не могла удержать, между тем как никакая морская сила не в состоянии отнять у Англии приобретенных ею колоний. Если Франция и возвращала часть владений, занятых ее войсками, то удерживала Ниццу, Савойю, берега Рейна и в особенности устья Шельды и Антверпен, чем значительно усиливалась не только на суше, но и на море. А потому нужно восстановить нарушенное равновесие Европы, если не на твердой земле, то по крайней мере на море, и если Франция желает сохранить Египет, то Индия уже не может считаться достаточным вознаграждением для Англии.
— Однако же, — прибавил лорд Хоксбери, — это только наше первое предложение, мы готовы отступиться от того, что покажется в нем слишком тягостным. Мы возвратим некоторые из ваших завоеваний, скажите только, какие из них вы особенно желали бы.
Первый консул резонно возражал на эти доводы английских министров.
— Несправедливо было бы, — говорил он, — если бы Англия удержала все свои завоевания на море, тогда как Франция, напротив, не должна сохранять своих завоеваний на твердой земле. Континентальная война закончена, отчасти — из-за совершенного истощения некоторых союзников Англии, отчасти — из-за того, что каким-то государствам надоел союз с ней. Следовательно, Франция, с помощью Голландии, Испании и Италии, могла бы делать на континенте все, что ей угодно, а на море она в состоянии сделать гораздо более, нежели воображают британские министры. Да, Франция не сумела бы сохранить центра Германии или трех четвертей Австрии, не учинив в Европе переворота, но она могла бы заключить не такой умеренный мир, как Люневильский. Ведь Австрия после Гогенлинденского дела была в совершенном изнеможении, Франции удалось бы удержать всю Италию и даже Швейцарию, и никто не в силах был бы ей противиться.
Что же касается континентального равновесия, оно разрушено с того самого дня, как Пруссия, Россия и Австрия разделили между собой обширное, прекрасное Польское королевство, не предоставив компенсации ни одной из других держав. Берега Рейна и склоны Альп едва ли вознаградят Францию за то, что соперники ее приобрели на континенте, а Египет не может вознаградить ее за покорение Индии. Сомнительно, чтобы даже с этой колонией Франция сохранила прежнее свое положение на море в отношении Англии.
Эти доводы имели вес основательности и, к счастью, также вес силы (ибо одного из двух в переговорах недостаточно). Таким образом было заложено основание переговоров. Англия оставалась владычицей Индии, но должна была возвратить некоторые владения, завоеванные у Франции, Испании и Голландии. Затем приступили к подробному разбору. С обеих сторон были сделаны уступки, и наконец, почти через месяц, остановились на следующих условиях, которые, в сущности, были пожеланием обоих правительств.
Англия требовала себе острова Ост-Индии и Цейлон. В случае очищения французами Египта она отдавала им Пондишери и Шандернагор, голландцам возвращала мыс Доброй Надежды, с тем чтобы он был объявлен порто-франко, сверх того, возвращала в Америке Бербис, Деме-рару, Эссеквибо и Суринам, один из двух Больших Антильских островов — Мартинику или Тринидад, а также Сент-Люсию, Тобаго, Сан-Пьер и Микелон и, наконец, острова Минорку и Мальту.
Хотя мыс Доброй Надежды, Мартиника или Тринидад и Мальта, требуемые в довесок в случае удержания Францией Египта, далеко не равнялись этой важной колонии, но Первый консул рассчитывал сохранить Египет, не платя за него такой значительной уступкой. Он надеялся, что, если английская армия, отправленная в Египет, будет Разбита, а испанцы успешно поведут войну с Португалией,
13* он успеет, сохраняя Египет, возвратить голландцам мыс Доброй Надежды, Испании — Тринидад, а Мальту — ордену Св. Иоанна Иерусалимского, и принудит, таким образом, Англию довольствоваться Индией, Цейлоном, частью Гвианы и одним или двумя мелкими Антильскими островами.
Следовательно, все зависело от хода войны. Англичане, со своей стороны, надеясь, что она закончится в их пользу, также готовы были подождать развязки, которая должна была наступить уже скоро, ибо все дело состояло в том, решатся ли испанцы идти на Португалию и успеют ли английские войска, находившиеся в Средиземном море, пристать к Египту.
Чтобы узнать этот результат, надо было подождать месяца два, не более. Поэтому обе стороны, соблюдая крайнюю осторожность, чтобы не прерывать переговоры, ибо искренне желали заключения мира, решились продлить их.
«Все зависит от двух вопросов, — писал Отто Бонапарту, — будет ли английская армия разбита в Египте и пойдет ли Испания решительно на Португалию. Спешите добиться этих двух результатов или одного из них, и вы достигнете прекраснейшего мира в свете. Но надо вам сказать, что английские министры очень боятся нашей Египетской армии и вовсе не опасаются решений испанского двора».
Первый консул действительно употреблял беспрестанные усилия, чтобы побудить испанский двор содействовать двум его великим целям: с одной стороны, завладеть Португалией, а с другой — отправить в Египет морские силы обеих держав.
К несчастью, пружины этой древней монархии совершенно ослабли. Король благомыслящий, но ослепленный и предававшийся ничтожным занятиям, легкомысленная королева и тщеславный, неспособный временщик истощали последние средства монархии Карла V. Люсьен Бонапарт, отправленный в Мадрид послом в награду за отнятое у него министерство внутренних дел, хотел сравняться в дипломатических успехах с братом Жозефом и изрядно суетился, содействуя видам Первого консула.
Правда, благодаря своему имени и удачной мысли обратиться напрямую к настоящему главе правительства, князю Мира, он снискал довольно значительное влияние. Поставив князя Мира в ситуацию выбора между гневом и милостью Первого консула, Люсьен возбудил в нем необыкновенную тягу к выгодам союза и уговорил начать войну с Португалией. Вот что он говорил испанскому двору:
— Вы желаете мира, и мира выгодного, или по крайней мере не убыточного; желаете заключить его, не утратив ни одной из своих колоний; помогите же нам получить залог, с помощью которого мы принудим Англию отдать большую часть ее морских завоеваний. Все зависит от вас, — продолжал он, обращаясь к князю Мира, — брат мой это знает и с вас взыщет в случае неуспеха союзников. Хотите, чтобы Бонапарты были вам друзьями или врагами?!
Впрочем, какие бы причины ни побуждали князя Мира к войне, он в этом случае не изменял выгодам своего отечества. Напротив, он не мог оказать ему лучшей услуги, ибо война с Португалией была единственным средством принудить Англию к возвращению испанских колоний.
Приготовления к войне ускоряли, насколько это было возможно; на них употребляли последние средства государства. Кто мог бы подумать, что этот великий и благородный народ, слава которого когда-то гремела на весь мир, с трудом мог выставить двадцать пять тысяч человек! Что с превосходными гаванями и множеством судов, остатками славного царствования Карла III, трудно было заплатить нескольким работникам на верфях и в арсеналах, чтоб спустить суда на воду! Наконец, что невозможно добыть провианта для снабжения флота!..
Перерыв в получении металлов, вследствие прекращения сообщения с Мексикой, вынудил испанское правительство прибегнуть к бумажным деньгам. И бумажные деньги немедленно упали в цене. Правительство обратилось за кредитом к духовенству, которое хоть и не имело в настоящее время необходимых капиталов, но пользовалось большим доверием, чем правительство. С помощью этого кредита успели кое-как закончить приготовления.
Двадцать пять тысяч человек, довольно сносно вооруженных, наконец двинулись к Бадахосу. Но этого было мало. Князь Мира заранее объявил, что нельзя вступать в Португалию без помощи французской дивизии. Первый консул немедленно собрал эту дивизию в Бордо, вскоре она перешла Пиренеи и усиленным маршем двинулась к Сиудад-Родриго.
Князь Мира думал вступить через Алентёжу, между тем как французская дивизия проникнет через провинции Трас-ос-Монтес и Бейру.
Генерал Сен-Сир, во главе французской дивизии, отправился в Мадрид условиться с князем Мира насчет образа действий: будучи сам чрезвычайно самолюбив, он не умел ладить с чужим самолюбием, однако успел склонить князя Мира к своему мнению и придумал совместно с ним приличный план кампании.
В этих стесненных обстоятельствах португальское правительство отправило в Мадрид министра Аранхо, но ему отказали в пропуске. Аранхо немедленно отправился во Францию, но встретил тот же отказ.
Португалия изъявляла готовность покориться всем условиям, только бы ее не принуждали закрыть свои гавани для английских торговых судов. Это предложение было отвергнуто. У Португалии потребовали полного запрета на английские суда, как военные, так и торговые, три ее провинции собирались удерживать в виде залога до заключения мира и заставили ее платить издержки за экспедицию.
Войска двух государств тронулись в путь, и князь Мира оставил Мадрид в самых радужных мечтах о славе. Двор и сам Люсьен должны были сопровождать его.
Первый консул приказал французским войскам соблюдать строжайшую дисциплину; предписал им ходить по воскресеньям к обедне, посещать епископов, проходя через их епархии, словом, во всем считаться с обычаями Испании. Он желал, чтобы вид французов не только не удалял от них испанцев, но, напротив, еще более сближал их с Францией.
С этой стороны все шло согласно с желаниями Бонапарта и к выгоде начатых в Лондоне переговоров. Оставалось еще сделать кое-что в отношении морских сил.
Мы видели, каким образом собирались содействовать общей цели три флота: голландский, французский и испанский. Пять голландских кораблей, пять французских и пять испанских должны были угрожать Бразилии или попытаться отбить Тринидад. Остальные морские силы предназначались для Египта. Гантом, вышедший из Бреста с семью кораблями, был уже на пути к Александрии, куда вез значительную помощь.
Несколько французских и испанских судов оставались в Бресте, чтобы угрожать экспедиции в Ирландию, между тем как другие суда должны были выйти из Рошфора, соединиться с одиннадцатью испанскими кораблями и следовать за Гантомом в Египет. Но Первый консул не решился открыть этого плана испанскому двору.
Мы уже видели, что французский адмирал Дюмануар был послан в Кадикс, чтобы позаботиться о снаряжении подаренных французам испанских кораблей и для принятия над ними начальства. Он посетил все порты Испании и нашел беспорядок, беспечную нищету и ничем не ограничиваемую роскошь. В Кадиксе скопились остатки дорогих припасов и множество прекрасных, но неснаряженных кораблей: за неимением денег на жалованье, не было ни одного матроса, ни одного работника, чтобы снарядить этот флот. Все было предано расхищению и запустению. Французское министерство передало Дюмануару кредитные билеты для представления в богатейшие торговые дома Кадикса, и с помощью денег он успел преодолеть главные затруднения. Выбрав корабли, наименее пострадавшие от времени и небрежности, он снарядил их, обезоружив для того другие суда. Набрал матросов из числа французов, частично переселившихся вследствие революции, частично бежавших из английских тюрем. Наконец, он испросил и получил разрешение взять нескольких испанцев и за большое жалованье нанял несколько шведов и датчан. На почтовых, через Испанию, посланы были ему офицеры для включения в штабы, а для пополнения экипажей отправлены через Каталонию отряды пехоты.
Эта дивизия вместе с дивизиями феррольской и рош-форской, всего около восемнадцати кораблей, должна была отправиться в Египет и по дороге захватить в Отранто еще десять тысяч войска.
Для побуждения Испании к действию Первый консул с редкой точностью исполнил все свои обещания по отношению к ней и даже сделал больше, нежели обещал. Пармский дом, как мы видели, получил взамен своего герцогства прекрасную область, Тоскану, предмет давнишних и пламенных желаний мадридского двора. Но на обмен требовалось согласие Австрии. Первый консул взялся его выхлопотать и преуспел в этом. Тосканское герцогство переименовали в королевство Этрурию. Старый герцог Пармский [Фердинанд I], ханжа, враг всех нововведений, был братом испанской королевы. Сын его Людовик, весьма дурно воспитанный молодой человек, был женат на инфанте и жил в Эскуриале. Этим-то молодым супругам и предназначалось новое королевство.
Однако же, поскольку Первый консул обещал Этрурию только в обмен на герцогство Пармское, он не обязан был отдавать королевство до освобождения парм-ского трона, могущего последовать только вследствие смерти или отречения старого герцога; старик же не собирался ни умирать, ни отрекаться от престола. Но несмотря на то, что Бонапарту самому было весьма полезно избавиться от такого соседа в Италии, он согласился оставить его в Парме и немедленно возвести инфантов на этрурский престол. Он потребовал только, чтобы они приехали в Париж для получения венца из его рук, — как некогда в Древнем Риме покорные монархи получали венцы из рук цезарей. Великое, необычайное зрелище хотел он представить Французской республике. Молодые выехали из Мадрида и отправились в Париж в то самое время, как родители их отправлялись к Бадахосу, чтобы доставить своему любимцу удовольствие побыть предводителем армии.
В это время все стремилось к Египту. Тут сосредоточивались усилия, опасения и надежды обеих воюющих держав, Франции и Англии. Казалось, прежде чем сложить оружие, оба народа хотели в последний раз прибегнуть к нему, чтобы закончить со славой и к большей своей выгоде страшную войну, уже десять лет заливающую землю кровью.
Мы оставили Гантома в то время, как он пытался в ужасную бурю выйти из Бреста 23 января 1801 года.
Ветер долго то дул в противоположную сторону, то оказывался слишком слабым. Наконец, при северо-западном ветре, прибивавшем к берегу, Гантом вышел в море, повинуясь адъютанту Первого консула Савари, приехавшему в Брест для устранения всевозможных сложностей. Это был весьма неосторожный поступок; но что же оставалось делать в присутствии неприятельского флота, блокировавшего Брестскую гавань почти постоянно и удалявшегося только тогда, когда крейсирование делалось решительно невозможным? Следовало или никогда не выходить, или выйти, когда буря удалит англичан.
Эскадра состояла из семи линейных кораблей, двух фрегатов и одного брига, все отличались скорым ходом, на них находилось четыре тысячи войска, огромные запасы и множество чиновников с семействами, воображавших, что их везут в Сан-Доминго.
Эскадра двигалась в боевом порядке: адмиральский корабль шел впереди, это был «Нераздельный». За ним — «Грозный» под флагом контр-адмирала Линуа. Далее следовали остальные корабли дивизии, готовые к бою, если встретится неприятель.
Как только эскадра вышла в открытое море, усиливающимся ветром сбило все стеньги на «Грозном». Корабль «Конституция» лишился грот-стеньги, а бриг «Коршун» едва не был залит: он уже почти шел ко дну, когда к нему подоспели на помощь. Среди бури и темноты вся эскадра рассеялась.
На следующий день на рассвете Гантом, плывущий на «Нераздельном», некоторое время пролежал в дрейфе, чтобы дождаться своей дивизии, но, опасаясь возвращения англичан, которые до сих пор не показывались, и думая сойтись с ней в пунктах, предназначенных каждому кораблю, он отправился в условленное место соединения. Эта точка располагалась в пятидесяти милях к западу от мыса Сан-Винсенте, одного из наиболее выдающихся мысов южного берега Испании. Остальные корабли дивизии, выдержав бурю и исправив нанесенные ею повреждения, наконец пришли туда же.
Таким образом, защищенная, будто чудом, от опасностей моря и от неприятеля, эскадра пошла к Гибралтарскому проливу. Все были воодушевлены и полны воинского рвения: люди начинали угадывать цель своего назначения, и каждый желал участвовать в деле спасения Египта.
Надлежало спешить, потому что флот адмирала Кейта, остановившись в заливе Макри, у берегов Малой Азии, ждал только окончания приготовлений турок и потом хотел сняться с якоря и высадить английскую армию у устьев Нила. Надо было опередить его. И обстоятельства, казалось, этому благоприятствовали. Английский адмирал Сен-Винсент, руководивший блокадой Бреста, слишком поздно получив известие о выходе Гантома, послал вслед за ним адмирала Кольдера с силами, равными французской дивизии, то есть с семью линейными кораблями и двумя фрегатами.
Англичане, никак не предполагая, что французская дивизия осмелится проникнуть в Средиземное море среди такого множества крейсеров, думали, что французы отплыли к острову Сан-Доминго. Поэтому адмирал Кольдер и направился к Канарским островам, чтобы оттуда плыть к Антильскому архипелагу.
Между тем Гантом вступил в пролив и держался африканского берега, чтобы укрыться от английских крейсеров. Ветер был неблагоприятный, но нельзя было упустить удобного случая, потому что у англичан рядом с Гибралтаром оставалось только четыре корабля, все остальные суда отплыли с адмиралом Кейтом. К несчастью, Гантом не знал этих обстоятельств, и тяжкая ответственность наводила на мужественное сердце адмирала страх, какого он никогда еще не испытывал даже под самым сильным неприятельским огнем.
Наконец он прошел пролив и вступил в Средиземное море. Оставалось только прибавить ходу и плыть на Восток. Берега Египта были свободны, и нетрудно стало довезти французской армии помощь, с таким нетерпением ожидаемую и так давно обещанную.
Но Гантом, беспокоясь об участи своей эскадры, а еще более — об участи множества находившихся на ней солдат, пугался при виде каждого встречавшегося ему корабля. Предполагая между собой и Египтом небывалую неприятельскую эскадру, он был сильно обеспокоен состоянием своих кораблей и боялся, что в случае, если придется ускорить ход, он не сможет этого сделать при снастях, поврежденных бурей и кое-как, наскоро исправленных в открытом море. Он совершенно лишился бодрости.
Будучи недоволен фрегатом «Храбрость», который, по его мнению, был недостаточно скор, адмирал решил отправить его в Тулон. Вместо того чтобы просто послать его туда и самому продолжать путь, он вздумал взять курс на север и встать почти в виду Тулона. Он хотел проводить фрегат «Храбрость», чтобы предохранить его от неприятельских крейсеров. Но такое распоряжение было в высшей степени неблагоразумно: лучше потерять один фрегат, чем погубить весь результат экспедиции.
Адмирал Уоррен, конечно, увидел французские суда и немедленно вышел из Магона, где стоял на рейде. Гантом, думая устрашить его, погнался за ним. Отважный капитан Бержере, командир французского корабля «Десятое августа», сумел осмотреть английскую дивизию на весьма близком расстоянии и заметил, что в ней только четыре линейных корабля и два фрегата. Обрадованный этим, он думал, что Гантом пойдет на англичан, прогонит их или даст им сражение, но неожиданно получил приказание прекратить преследование и возвратиться к эскадре. Огорченный этим, он немедленно связался с Гантомом, подтвердил, что часовые ошибаются и что перед ним только четыре корабля, — все напрасно! Гантом вообразил, что их семь или восемь, изменил свое решение и поплыл к Тулону. Тут ждали его новые беспокойства: он боялся гнева Первого консула, когда тот узнает, что в минуту успеха так малодушно погублен результат важной экспедиции. И действительно, поступок Гантома погубил Египет, который мог быть спасен в тот же самый день.
В то время как Гантом лавировал между берегами Африки и Маоном, два фрегата, «Справедливость» и «Египтянка», вышли из Тулона с военными припасами и четырьмястами человек войска, отправились на восток и прибыли в Александрийскую гавань, не встретив ни одного английского корабля. Другие два фрегата, «Возрожденный» и «Африканка», отправившиеся из Рошфора, в это время входили в Средиземное море без какой-либо неприятной встречи. К несчастью, они разделились.
«Возрожденный» без проблем достиг Александрии 2 марта 1801 года. Фрегат «Африканка» был настигнут английским фрегатом и остановился, чтобы сразиться с ним. На нем было триста человек, которые вздумали оказать сопротивление и устроили страшный беспорядок, но после геройской борьбы фрегат все же был взят англичанами в плен.
Тем не менее из четырех фрегатов, вышедших из Тулона и Рошфора, три нашли египетский берег совершенно свободным и без малейшего сопротивления вошли в Александрийскую гавань.
Гантом прибыл в Тулон 19 февраля, утомленный, терзаемый беспокойством, испытывая, как он писал Первому консулу, все возможные мучения. Иначе и быть не могло, после того как он погубил такое важное дело.
Первый консул, от природы вспыльчивый, не скрывал своего негодования, когда кто-то оказывался виновником неудачи его предприятий. Но он знал людей, знал, что нельзя проявлять неудовольствие в ходе дела, потому что вместо того, чтобы ободриться, совершившие ошибку только еще более упадут духом. Он понимал, что Гантома надо поддержать, а не приводить в отчаяние. Поэтому Бонапарт послал своего адъютанта Лакюэ утешить и ободрить адмирала, доставил ему войско, провиант, деньги и уговорил снова выйти в море. Он только слегка пожурил его за то, что тот оставил африканские воды и заманил за собой в погоню адмирала Уоррена.
Успокоенный Первым консулом, адмирал приступил к делу; еще оставалось немного времени. Адмирал Уоррен направился к Неаполю и Сицилии. Адмирал Кейт подходил, правда, с английской армией к Абукиру, но можно было обмануть его внимание и высадить французские войска или за Абукиром, или в двадцати милях к западу от Александрии. В последнем случае они несколькими маршами через пустыню могли достигнуть Египта.
Тем временем новые письма из Парижа требовали ускорить снаряжение Рошфорской, Феррольской и Ка-дикской эскадр, чтобы всеми путями разом послать помощь Египетской армии.
Наконец Гантом снялся с якоря. Двадцать второго марта эскадра поплыла к Сардинии, не будучи замеченной англичанами. Она состояла из семи линейных кораблей и нескольких фрегатов.
Теперь мы должны показать положение Египта с того времени, как роковой кинжал низверг великого Клебера, который одним своим присутствием ободрял сердца солдат и заставлял их забывать опасности, нищету и тоску по родине.
Нужно описать счастливое начало колонии и ее внезапные бедствия. Полезно представлять взорам народа зрелище его несчастий и его успехов, чтобы они служили ему поучением.
Когда Клебер умер, Египет казался покорным. Видя, как армия великого визиря рассеялась в одно мгновение и как восстание трехсоттысячного населения Каира было усмирено в несколько дней горстью солдат, египтяне посчитали французов непобедимыми и теперь смотрели на их пребывание на берегах Нила как на определение рока.
К тому же они начинали привыкать к своим европейским гостям и находили, что это владычество гораздо легче прежнего: они платили значительно меньше податей, чем при мамелюках, и во время сбора податей не подвергались палочным ударам.
Верхний Египет отдан был в ленное управление ма-мелюкскому князю Мурад-бею, человеку пылкого, рыцарского нрава, под конец искренно привязавшемуся к французам. Мурад-бей оказался верным вассалом, исправно платил дань и тщательно охранял порядок в верховьях Нила. На него можно было полагаться как на преданного союзника. Одна бригада в двадцать пять человек могла удерживать Верхний Египет: это была немаловажная выгода, учитывая немногочисленность французской армии в Египте.
Французская армия, разделявшая ошибку своего предводителя во время заключения Эль-Аришской конвенции и исправившая ее с ним вместе на полях Гелиополя, чувствовала свою вину и не намерена была провиниться еще раз. Она уже и не думала оставлять Египет. Притом генерал Бонапарт стал главой правительства, армия понимала теперь причину его отъезда и уже не считала его беглецом. Будучи уверенной, что прежний ее предводитель не теряет ее из виду, она уже не беспокоилась о своей участи.
И в самом деле, благодаря предусмотрительности Первого консула, нанимавшего торговые суда во всех портах, не проходило недели, чтобы в Александрийской гавани не появлялось несколько больших и малых судов со снарядами и припасами, газетами, частной перепиской и государственными депешами. Вследствие этого родина была постоянно перед глазами каждого. Разумеется, тоска по отчизне, усыпленная на время, пробуждалась каждый раз, когда какой-нибудь особенный случай волновал сердца. Так, например, после смерти Клебера, когда Мену принял начальство, все взоры снова обратились к Франции. Один бригадный генерал, представляя генералу Мену своих офицеров, спросил его, не намерен ли он наконец вести их назад. Мену сделал ему строгий выговор и объявил в приказе свое решительное намерение во всем подчиняться видам правительства, желающего сохранить колонию навсегда, и все снова покорились. Но главное — генерал Бонапарт обладал теперь верховной властью: для опытных итальянских солдат это был лучший повод положиться на начальство и надеяться.
Жалованье войску выплачивалось исправно, съестные припасы были дешевы. Вместо того чтобы выдавать солдатам жалованье провиантом, его (кроме хлеба) отпускали деньгами. Таким образом, войско выигрывало от дешевизны и жило в изобилии, питаясь по большей части вместо говядины курами. Был недостаток в сукне, но благодаря теплому климату его заменяли для некоторой части обмундирования хлопком, весьма дешевым в Египте. На прочую одежду употребляли все сукно, привозимое торговцами, какого бы цвета оно ни было. Оттого наблюдалось некоторое разнообразие в мундирах: встречались, например, полки, одетые в синие, красные, зеленые мундиры. Но по крайней мере войско было одето, и даже очень хорошо.
Полковник Кут оказывал важные услуги армии своими многочисленными выдумками. Он привел с собой роту аэростьеров (воздухоплавателей), остатки аэростье-ров Флерюса34. Это были ремесленники, приставленные к армии, и с их помощью удалось установить в Каире ткацкие станки для выделки сукна. А так как в шерсти недостатка не было, то надеялись, что скоро можно будет вовсе обойтись без европейского сукна. То же самое произошло и с порохом: фабрики, устроенные в Каире, производили достаточное количество пороха для всех потребностей войны.
Внутренняя торговля явно поднималась. Караваны, пользуясь покровительством нового правительства, снова начали приходить из глубины континента. Арабы с берегов Красного моря все чаще появлялись в Суэце и Кос-сеире, меняли кофе, благовония, финики на египетский хлеб и рис. Греческие корабли, пользуясь защитой турецкого флага и будучи гораздо проворнее английских крейсеров, привозили в Дамьетту, Розетту и Александрию масла, вино и пряности. Словом, в настоящее время ни в чем недостатка не было, а на будущее готовились огромные средства.
Офицеры, видя, что окончательное занятие Египта — дело решенное, принимали меры, чтобы сделать свое пребывание там по возможности приятным. Живущие в Александрии или в Каире, то есть большая часть, отыскали себе удобные квартиры. Женщины — сирийки, гречанки, египтянки, частично купленные у торговцев, частично по добровольной склонности — делили с ними жилища. Для изгнания скуки были употреблены все средства: в Каире построили театр, в котором сами офицеры разыгрывали французские пьесы. Солдаты жили не хуже начальников и со свойственной французам готовностью поладить с каждым народом курили и пили кофе в обществе турок и арабов.
Финансовые средства Египта, благодаря хорошему управлению, дозволяли удовлетворять все потребности армии. Она состояла из двадцати пяти или двадцати шести тысяч человек, включая разные управления и жен и детей многих военных и чиновников. В это число входили около двадцати трех тысяч солдат: до шести тысяч не совсем годных, но способных еще защищать крепости, и примерно семнадцать или восемнадцать тысяч здоровых, готовых к самой деятельной службе.
Конница была превосходна: она не уступала мамелюкам в храбрости и превосходила их в дисциплине. Полевая артиллерия была проворна и исправна. Подготовку полка на дромадерах довели до высокой степени совершенства: с необыкновенной быстротой пересекал он пустыню и совершенно отбил у арабов охоту к грабежу.
В случае продолжительной войны, возможно, сказался бы недостаток в людях, но греки охотно поступали на службу, так же, как и копты. Кроме того, негры, покупаемые по весьма низкой цене и отличавшиеся преданностью, представляли собой весьма хороших рекрутов. Таким образом, со временем в армию можно было ввести от десяти до двенадцати тысяч верных и мужественных солдат.
Будучи бесконечно уверенной в своей храбрости и воинской опытности, армия не сомневалась, что опрокинет в море и турок и англичан, высылаемых против нее из Азии и Европы. И действительно, при хорошем управлении эти семнадцать тысяч человек должны были удержать в своих руках берег Египта.
Но вместо Клебера или Дезе главнокомандующим армии по праву старшинства сделался Мену. Это стало невосполнимым несчастьем колонии и большой ошибкой со стороны Первого консула. Бонапарт опасался, что, если его приказ о назначении другого главнокомандующего попадет в руки англичан, они воспользуются им для совершенного расстройства управления армией: они могли бы заявить, что Мену смещен, не сообщая в то же время о приказе, назначавшем ему преемника. Тогда вопрос о руководстве на некоторое время остался бы нерешенным. Однако одно это обстоятельство не могло извинить Первого консула, если бы он знал о решительной неспособности Мену к военному делу. Только известное его рвение к сохранению и колонизации Египта говорило в пользу этого генерала: Мену не хотел оставления Египта, восставал против влияния рейнских генералов, словом, был главой колониальной партии. Будучи человеком смышленым, образованным и чрезвычайно трудолюбивым, он имел все качества хорошего правителя, но оказался плохим военачальником. Не имея ни опытности, ни верности взгляда, ни решимости, он, сверх того, был обижен природой в отношении наружности: толстый, близорукий, он неуклюже смотрелся на лошади. Такой начальник не годился для ловких и отважных солдат. К тому же Мену был слаб характером, и под его безвольным управлением все начальники армии стали враждовать между собой.
При Бонапарте в Египте царил один ум и одна воля. При Клебере, на некоторое время, появились две партии — колониальная и антиколониальная: одни хотели оставаться, другие — возвратиться на родину. Но после бесчестья, которому англичане чуть не подвергли французскую армию и которое было так славно отомщено при Гелиополе, все убедились в необходимости оставаться и безропотно покорились. Под твердым управлением Клебера снова водворились согласие и порядок. Но немного прошло времени с Гелиопольской победы до смерти Клебера, Мену принял начальство, и согласие исчезло снова.
Генерал Ренье, превосходный офицер, с честью служивший в Рейнской армии, был человеком холодным, непривлекательной наружности, без влияния на солдат, но, однако же, пользовался общим уважением: его считали одним из самых достойных занять место главнокомандующего. Он был старшим после Мену. В день смерти Клебера между Ренье и Мену разгорелся сильный спор: они не добивались управления, а, напротив, оба старались отклонить от себя это бремя. Ни тот ни другой не соглашался принять его: и в самом деле, положение армии в этот день казалось страшным. Все думали, что кинжал, от которого пал Клебер, был сигналом огромного восстания, устроенного по всему Египту происками турок и англичан. В таких критических обстоятельствах главнокомандующему нельзя было не бояться тяжкой ответственности. Мену, однако, близко к сердце принял просьбы Ренье и других генералов и согласился принять должность начальника колонии. Но вскоре открылось настоящее положение дел, после смерти Клебера установилось всеобщее спокойствие, и генерал Ренье стал жалеть о своем отказе. Под его холодной, скромной и даже робкой наружностью скрывалось чрезвычайное тщеславие. Власть Мену стала для него нестерпимой. Будучи до тех пор человеком смирным и послушным, он с этого времени сделался беспокойным и строптивым.
К нему присоединился генерал Дама, друг Клебера, начальник генерального штаба, разделявший в сердце зависть Рейнской армии к Итальянской. Следовательно, оппозиция обосновалась в самом штабе. Мену не хотел терпеть ее так близко к себе и отрешил генерала Дама от должности, занимаемой им при Клебере.
С этого времени враги уже не беспокоили его, но тем не менее негодовали; бешенство их даже усилилось, и раздоры генералов стали еще опаснее прежнего.
Благоразумные люди сокрушались об ослаблении власти, которое могло произойти от этого несогласия, ослаблении, вредном везде, тем более вдали от верховной власти и среди беспрестанных опасностей.
Мену, плохой полководец, но заботливый правитель, день и ночь трудился над тем, что он называл обустройством колонии. Он сделал несколько хороших распоряжений и несколько плохих, главное же состояло в том, что он затеял слишком многое.
Прежде всего вздумал он выдать войску невыплаченное еще жалованье, употребив на это контрибуцию в десять миллионов, наложенную Клебером на египетские города в наказание за последнее восстание. Это могло послужить средством к поддержанию довольства в армии, ибо в ней было замечено несколько признаков неповиновения, возбужденного отчасти просрочкой выплаты жалованья. Поэтому Мену считал выданные вовремя деньги залогом порядка, и он был прав. Но он дал неосторожное обещание всегда платить жалованье прежде всякого другого расхода, забывая, что могут встретиться обстоятельства, которые принудят его нарушить слово.
Потом он позаботился о солдатском хлебе (и сделал его отличным), устроил госпитали, привел в порядок бухгалтерию.
Мену был человеком примерной честности, но он любил громкие слова. Он так часто в своих приказах изъявлял намерение восстановить нравственность в армии, что оскорбил всех генералов; они с досадой спрашивали: неужели до Мену везде был один грабеж и неужели честность между ними водится только с того времени, как он сделался главнокомандующим? На самом деле со времени занятия Египта происходило весьма мало недоразумений.
В нарушение Эль-Аришской конвенции в Александрийской гавани был взят огромный груз. Он состоял из множества судов под турецким флагом, пришедших для перевозки французской армии: большая часть этих судов была нагружена товарами. Для продажи их в пользу казны колонии назначили комиссию. Мену был недоволен действиями этой комиссии и начальствовавшего в Александрии генерала Ланюса, он отозвал его, замарав его доброе имя, а на его место назначил генерала Фриана. Генерал Ланюс обиделся и, прибыв в Каир, пристал к недовольным.
Мену на этом не остановился. Он вздумал изменить систему контрибуций и совершил в этом отношении важные ошибки. Нет сомнения, что со временем можно было преобразовать финансовое управление в Египте. Нетрудно было бы справедливым распределением поземельной подати и несколькими благоразумными пошлинами на потребление облегчить положение египетского народа и значительно увеличить доходы казны. Но в настоящее время, при наличии опасности извне, не следовало придумывать новых затруднений внутри и подвергать народ преобразованиям, благодетельной цели которых он не мог тотчас понять. Достаточно было бы с большим порядком и справедливостью взимать прежние налоги, чтобы дать повод к сравнению мамелюков с французами в пользу последних.
Мену затеял общую регистрацию имущества, введение новой системы поземельного налога, а самое неприятное — изгнание коптов, которые брали доходы на откуп и играли в Египте почти ту же роль, какую играют евреи в Северной Европе.
Эти мероприятия, годные в будущее время, в настоящем были крайне неуместны. К счастью, Мену не успел привести в исполнение весь свой план, однако новые контрибуции он наложить успел.
Шейхи эль-белед, египетские муниципальные чиновники, утверждаясь в своем звании, получали в подарок от власти мантии или платки, за которые, в свою очередь, одаривали лошадьми, верблюдами и скотом. Мамелюки возобновили этот обряд, ибо он был для них источником значительных доходов. Некоторые даже обратили его в денежную повинность. Мену вздумал сделать эту меру общей и распространить ее на весь Египет. Он наложил на шейхов эль-белед налог, доходивший до двух с половиной миллионов. Они, конечно, были достаточно богаты, чтобы платить налог, но имели сильное влияние на находившиеся под их властью две тысячи пятьсот селений, и подчинить их безусловному однообразному налогу без вознаграждения значило подвергнуться опасности восстановить их против себя. К тому же этим уничтожался старый обычай, весьма полезный по своему нравственному влиянию.
Сверх того, желая во всем уподобить Египет Франции, что, по мнению Мену, значило просветить его, он придумал таможенные пошлины. В Египте применялись пошлины на предметы потребления, взимаемые в окелях, то есть на складах, на которых на Востоке хранятся все товары, перевозимые из одного места в другое. Этот способ взимания был и прост и легок. Мену вздумал обратить его в сборы у застав городов, весьма редких в Египте. Не говоря о нарушении народных привычек, непосредственным следствием этой меры было то, что съестные припасы значительно подорожали для гарнизонов: таким образом, часть налога обратилась на армию, и вследствие того возникло новое неудовольствие.
Наконец, Мену решил взимать подати и с богатых торговцев, которые до того освобождались от общественных повинностей: на коптов, греков, евреев, дамаскинцев, франков и проч. Он наложил на них ежегодную поголовную подать в два с половиной миллиона франков.
Этот налог, разумеется, не был так уж тяжел, особенно для коптов. Но последние сильно пострадали во время каирского восстания, к тому же они могли понадобиться, если бы оказались нужны деньги. Следовательно, очень безрассудно было озлоблять их против себя, равно как и греческих, и европейских торговцев, которые, сближаясь с французами нравами, обычаями и понятиями, могли бы стать естественными посредниками между ними и местными жителями.
Эта страсть уравнивать колонию с метрополией и идти наперекор ее традициям, думая тем просветить ее, вполне завладела генералом Мену, как это обыкновенно бывает со всеми малообразованными людьми, заботящимися больше о скорости выполнения, чем о прочности своего дела.
В довершение своих преобразований Мену учредил тайный совет, состоявший не из четырех или пяти генералов, а из пятидесяти гражданских и военных чиновников всех возможных степеней. Это был настоящий парламент, который, однако же, так и не созвали из опасения выставить себя на смех.
Ко всем этим мерам Мену присоединил еще и арабскую газету, которая должна была сообщать египтянам и армии действия французского правительства.
Однако солдаты мало интересовались нововведениями. Они жили в довольстве, подтрунивали над Мену, но любили его за добродушие и за заботу. Жители были покорны и начинали даже находить, что владычество французов гораздо сноснее владычества мамелюков. Но нашлись люди, которым не так легко было угодить, они составляли партию недовольных в армии. Чтобы не подвергаться осуждению с их стороны, Мену следовало бы ничего не делать, но тогда его стали бы бранить за бездействие.
Недовольные задумали даже самовольно сместить своего главнокомандующего, — безрассудный замысел, исполнение которого ввергло бы колонию в беспорядок и обратило бы Египетскую армию в армию преторианцев. Они стали проверять офицеров в некоторых дивизиях, но офицеры проявили себя людьми благоразумными и благородными, не думавшими о мятеже. Тогда врагам Мену пришлось отказаться от своего предприятия.
Среди этих событий пришел приказ Первого консула, которым он утверждал Мену в занимаемой им должности. Это изъявление высочайшей воли поспело очень кстати и привело к повиновению часть недовольных. К несчастью, скоро возникли новые раздоры и снова ввергли дела в прежнее положение.
Тем временем Нил убывал, разлившиеся воды возвращались в свое русло, земля начинала просыхать. Наступила пора высадок. Время подходило к февралю 1801 года. Англичане и турки готовились возобновить свои нападения на колонию.
Великий визирь, тот самый, которого Клебер разбил при Гелиополе, стоял в Газе, между Палестиной и Египтом, не смея показаться в Константинополе после своего поражения. У него было всего от десяти до двенадцати тысяч человек, да и тех постепенно истребляла чума. Они жили грабежами, им каждый день приходилось сражаться с палестинскими горцами, восставшими против неприятных гостей. Его можно было еще долго не опасаться.
Несколько кораблей капудан-паши (командующего флотом), врага визиря и любимца султана, курсировали между Сирией и Египтом. Он желал бы возобновить Эль-Аришскую конвенцию, потому что мало надеялся на силу оружия и не доверял англичанам, подозревая их в намерении вырвать эту прекрасную область из рук французов, только чтобы завладеть ею самим.
Наконец, восемнадцатитысячное войско, собранное в Макри и состоявшее из англичан, гессенцев, швейцарцев, мальтийцев и неаполитанцев (под началом английских офицеров), собиралось присоединиться к эскадре лорда Кейта и высадиться в Египте. К этим восемнадцати тысячам должны были прибавиться шесть тысяч албанцев, шесть тысяч сипаев, шедших из Индии, и тысяч двадцать солдат, направляющихся к войску великого визиря в Палестине.
Следовательно, Египетской армии предстояло бороться с пятидесятитысячной армией, французы же могли ей противопоставить только восемнадцать тысяч человек. Но при хорошем управлении этого количества было достаточно и даже больше чем нужно.
Можно было по крайней мере не опасаться неожиданностей, поскольку со всех сторон приходили известия: с архипелага их привозили греческие суда, из Верхнего Египта новости шли через Мурад-бея, а из Европы — посредством частых экспедиций от Первого консула. Все эти известия предупреждали о скором нападении.
Мену, не обращая внимания на новости, не принял в эту критическую минуту ни одной из мер, какие должен был принять и каких ясно требовало положение. Здравая политика советовала, во-первых, стараться хорошим обращением поддержать верность Мурад-бея, ибо он охранял Верхний Египет и к тому же предпочитал французов туркам и англичанам. Мену проигнорировал это обстоятельство и на донесения Мурад-бея отвечал в манере, открыто пренебрегавшей его лояльностью. Здравая политика повелевала также воспользоваться недоверием турок к англичанам и, не возобновляя постыдной Эль-Аришской конвенции, занять их притворными переговорами, таким образом снизив их активность. Мену упустил из виду и это средство.
Что касается правительственных и военных мер, требуемых обстоятельствами, он и тут ни одной не сумел принять вовремя. Прежде всего следовало везде, где могла быть собрана армия, учредить большие военные магазины, что было весьма нетрудно в такой плодородной стране. Мену же не хотел употребить с этой целью часть сумм, предназначенных для уплаты жалованья войску, ибо средств, из-за трудности взимания новых налогов, едва хватало.
Надо было восстанавливать конницу и артиллерию — главное средство против армии, имеющей недостаток именно в этих родах войск. Мену и тут не сделал ничего, по тем же финансовым причинам. Наконец, он воспротивился сосредоточению войск в одном месте, которое в это время года было бы полезно, если бы даже Египту и не угрожала опасность. Кругом заметны были следы чумы. Требовалось перевести войска из городов в лагерь, не говоря уже о необходимости дать им возможность свободного передвижения. Но и это не было сделано.
Атака могла быть произведена со стороны Александрии, по соседству с которой находился Абукирский рейд, весьма удобный для высадок, со стороны Дамьетты, которая также представляет большие удобства, хоть и уступает Абукиру, или, наконец, с сирийской границы, на которой стоял визирь с остатками своей армии.
Только в одном из этих трех пунктов опасались нападения: со стороны Александрии и Абукира. Это нетрудно оказалось предвидеть, все так думали и говорили в армии.
К берегу у Дамьетты все же труднее было подойти, а кроме того, он был связан с таким небольшим количеством пунктов в Дельте, что высадившаяся здесь неприятельская армия легко могла попасть в окружение.
Со стороны Сирии тоже нечего было бояться: визирь намеревался двинуться вперед только тогда, когда удастся высадиться англичанам.
Таким образом, единственным предметом беспокойства главнокомандующего могла быть английская армия, высадка которой предполагалась весьма в скором времени.
При таком положении дел следовало бы оставить сильный отряд в Александрии, т. е. 4 или 5 тысяч действующего войска, кроме моряков и команд, предназначенных для защиты укреплений. В Дамьетте достаточно было бы двух тысяч, а для наблюдения за сирийской границей — одного полка на дромадерах. В Каире, для удержания в повиновении жителей, даже в случае, если бы визирь показался под стенами города, хватило бы трехтысячного гарнизона, тем более что к нему легко могли подоспеть две тысячи человек из Верхнего Египта.
На все это предполагалось бросить 11 или 12 тысяч человек из действующего войска. В резерве осталось бы 6 тысяч отборных солдат, для которых следовало разбить лагерь так, чтобы они равно оставались под рукой и в Александрии, и в Дамьетте.
И действительно, была точка, отвечавшая всем необходимым условиям: местечко Рахмания на берегу Нила, недалеко от моря, — место здоровое, удобное для доставки продовольствия, отстоящее на один переход от Александрии, на два — от Дамьетты и на три или четыре — от сирийской границы.
Если бы Мену разместил свой резерв в Рахмании, то мог бы, по первому известию, перевести его, куда необходимо. Такая сила везде предотвратила бы попытки неприятеля. Но Мену не только не думал принимать соответствующие меры, но даже отвергал любые советы на этот счет. Со всех сторон, преимущественно восстававшие против него генералы, давали ему полезные советы. Надо отдать им справедливость, они (и в их числе Ренье, более других привыкший к большим военным кампаниям) открыли Мену опасность, показали, какие меры следовало принять. Но из-за своей прежней, столь неуместной, оппозиции эти генералы утратили всякое влияние на главнокомандующего, и теперь, когда они оказывались правы, он слушал их так же мало, как и в то время, когда они действовали ему назло.
Храбрый Фриан, не участвовавший в пагубных раздорах армии, ревностно занимался защитой Александрии. Он подготовил моряков и команды так, чтобы им можно было доверить защиту крепостей, но после этого у него оставалось не более двух тысяч человек действующего войска. И из них еще следовало часть отдать на охрану четырех главных пунктов по берегу: Абукира, старого римского лагеря, Эдко и Розетты. В результате у него осталось бы не более тысячи двухсот человек. К счастью, фрегат «Возрожденный», прибыв из Рошфора, привез ему триста человек подкрепления и значительный запас снарядов. Можно себе представить, как полезна была бы сейчас эскадра Гантома, так и не добравшаяся до Египта!
Генерал Фриан в столь стесненных обстоятельствах просил только два лишних батальона и один полк конницы. Этого и в самом деле могло бы хватить, но неосторожно было в его положении надеяться на подкрепление всего в тысячу человек. Надо сказать, что уверенность армии в собственной силе очень содействовала ее гибели. Она привыкла в Египте сражаться в соотношении один к четырем и к тому же не имела точного представления о силах англичан.
Двадцать восьмого февраля 1801 года невдалеке от Александрии была замечена английская шлюпка, по-ви-димому, совершавшая рекогносцировку. За ней в погоню немедленно отправили несколько лодок, которые и завладели ею. Офицеры в лодке собирались сделать приготовления к высадке: найденные при них бумаги не оставляли на этот счет ни малейшего сомнения.
Вслед за тем и весь английский флот, состоявший из семидесяти кораблей, показался в виду Александрии, но вскоре буря принудила его выйти в открытое море. Судьба оставляла еще надежду на спасение Египта: можно было полагать, что англичане высадятся на берег не раньше, чем через несколько дней.
Известие, посланное Фрианом, пришло в Каир 4 марта после полудня. Если бы Мену принял скорые и благоразумные меры, все можно было бы еще изменить.
Ренье, бывший в Каире, в тот же день написал Мену весьма обстоятельное письмо. Он советовал ему не заботиться ни о визире, который не решится первым открыть военные действия, ни о Дамьетте, которой, по-видимому, не угрожает никакая опасность, а идти со всеми силами к Александрии. Совет был самый разумный. Но следовало решиться немедленно и выступить в ту же ночь. Мену же не хотел ничего слушать и оставался по-прежнему непреклонен и в то же время нерешителен.
Не умея различить, откуда угрожает действительная опасность, он отправил подкрепление генералу Рампону к Дамьетте, а Ренье с его дивизией отправил встречать визиря на границах Сирии. Дивизию Ланюса он послал к Рахмании, и то не всю: одну полубригаду оставил в Каире. Сам генерал с большей частью войска тоже остался в столице, ожидая в этой позиции, столь далекой от берега, дальнейших известий о ходе дела. Невозможно было действовать менее разумно.
Между тем ситуация быстро ухудшалась. Над флотом англичан начальствовал, как мы уже говорили, лорд Кейт, над сухопутными частями — сэр Ральф Аберкромби. Они выбрали для высадки то же место, которое всегда выбиралось прежде: Абукирскую гавань. Английский флот, прождав несколько дней в открытом море, к несчастью для себя и к счастью для французов — если бы Мену умел воспользоваться этим обстоятельством, — 6 марта встал на якорь в Абукирской гавани, в пяти милях от Александрии.
Высадка в Египте должна непременно производиться на одной из песчаных кос, образуемых при впадении в море огромной реки. Следуя прежним примерам, англичане выбрали ту, на которой находится Александрия. Эта отмель простирается миль на пятнадцать, на одной ее оконечности находится город Александрия, а другая представляет собой полукруглый залив, оканчивающийся у Розетты. Этот полукруглый залив и есть Абукирская гавань.
Одна сторона гавани была защищена Абукирским фортом, построенным французами и обстреливавшим все окрестности. Далее тянулось вдоль берега несколько песчаных пригорков, на которых Бонапарт и велел построить укрепления. Если бы его приказание было исполнено, высадка стала бы невозможной.
И теперь в этой-то гавани английский флот встал на якорь, выстроившись в два ряда и ожидая, пока стихнет ветер. Наконец 8-го числа утром погода изменилась, и лорд Кейт рассадил на трехстах двадцати шлюпках пять тысяч отборного войска под началом капитана Кокрейна, на обоих флангах следовала дивизия канонерских лодок, которые уже вели перестрелку с противником.
Генерал Фриан, прибыв на место, построил свои части немного дальше от берега, чтобы защитить войско от огня английской артиллерии, а между Абукирским фортом и занимаемой им позицией поставил часть полубри-гады с несколькими орудиями. На левом фланге, скрытая за пригорками, находилась полубригада, состоявшая из двух батальонов, в центре располагались два эскадрона конницы, полубригада на правом фланге должна была защищать низменную часть берега. Французская артиллерия, поставленная на возвышенностях, обстреливала всю косу. Численность этих отрядов не превышала тысячи пятисот человек.
Англичане гребли изо всех сил, солдаты лежали на дне лодок, матросы усердно действовали веслами, твердо выдерживая огонь артиллерии. Флотилия, движимая одной силой, приближалась к берегу. Наконец она пристает, солдаты вскакивают со дна лодок и бросаются на берег. Они строятся и несутся к песчаным высотам, окружающим гавань.
Генерал Фриан, извещенный отступавшими форпостами, не успел подойти к берегу вовремя. Однако он посылает с низменной части берега полубригаду, которая с жаром бросается в штыковую атаку на англичан, не имеющих с этой стороны опоры. Французы сильно теснят их к лодкам и с ними вместе входят в лодки, гренадеры, овладев двенадцатью из них, открывают убийственный огонь по неприятелю.
Вторая полубригада, извещенная слишком поздно, дала англичанам занять высоты на левом фланге и теперь спешит отнять их. Она попадает под огонь канонерских лодок и выдерживает ужасный картечный залп, которым разом убито 32 человека и ранено 30. В ту же минуту встречает ее страшный огонь английской пехоты. Храбрые французы, несколько смутившись и действуя к тому же на неровной местности, все же вдут в атаку, хоть и в некотором беспорядке. Чтобы поддержать отряд, Фриан приказывает кавалерии атаковать центр английской армии, который, преодолев первые препятствия, уже строится на равнине.
Командир 18-го драгунского полка, за которым генерал неоднократно посылал, наконец появляется. Фриан с точностью определяет пункт атаки, но, к несчастью, робкий командир, вместо того чтобы прямо идти на неприятеля, тратит время на обход, неловко производит атаку и теряет множество людей и лошадей, нисколько не поколебав англичан и не выручив полубригаду.
В запасе оставался еще эскадрон 20-го драгунского полка. Храбрый командир его, Буссар, пошел в атаку со своими драгунами, опрокидывая все, что встречалось ему на дороге. Тогда удержавшая за собой берег полубригада ободряется, бросается вслед за конницей, теснит левый фланг англичан и вынуждает их вновь забраться в лодки.
Семьдесят пятая полубригада под ужасным огнем прилагает новые усилия. Если бы в эту решительную минуту у генерала Фриана оказались два пехотных батальона и полк кавалерии, которые он столько раз просил, дело было бы кончено и англичане были бы опрокинуты в море. Но отряд в 1200 человек, швейцарцев и ирландцев, обошел песчаные пригорки и захватил левый фланг полубригады. Она снова вынуждена была уступить.
Видя, что теперь и вторая полубригада может быть окружена, генерал Фриан приказал ударить отбой и начал отступление в полном порядке.
Несчастное дело 8 марта решило потерю Египта. Храбрый генерал Фриан мог быть виноват в том, что избрал первую позицию слишком далеко от морского берега; видимо, он излишне понадеялся на превосходство своих солдат и даже легкомысленно вообразил, что англичане не в состоянии будут высадить большое количество солдат. Но что сказать о главнокомандующем, который, будучи за два месяца извещен всеми путями о предстоящей опасности, не сосредоточил войск своих в Рахма-нии, который, получив 4 марта в Каире окончательное донесение, не послал войско, все еще могущее успеть вовремя для отражения атак англичан?
Что сказать и об адмирале Гантоме, который мог высадить четыре тысячи человек в Александрии в тот же день, когда фрегат «Возрожденный» прибыл с тремястами, бившимися на абукирском берегу?
Что сказать об этой робости, этих упущениях и всякого рода ошибках? Разве только то, что бывают дни, когда все соединяется для проигрыша битв и падения царств.
Сражение было кровопролитным. Англичане из высаженных пяти тысяч потеряли 1100 человек убитыми и ранеными. У французов из полутора тысяч выбыло 400.
Генерал Фриан отступил под стены Александрии и немедленно послал известия Мену и ближайшим генералам, прося поспешить на помощь. Однако все можно было еще поправить, если бы воспользовались оставшимся временем и силами, а также затруднениями, которые предстояло встретить англичанам, сошедшим на песчаный берег. Во-первых, им следовало высадить главную часть своих сил, затем выгрузить орудия, на что требовалось много времени. Потом, чтобы приблизиться к Александрии, они должны были идти вдоль этой песчаной косы, имея по правую руку море, а по левую — озера Мареотис и Мадиех. Правда, их поддерживали канонерские лодки, но у них не было ни кавалерии, ни полевой артиллерии, кроме той, какую они в состоянии были бы тащить на руках.
Очевидно, что двигаться они могли только медленно и с трудом. Чтобы остановить их, совсем не нужно было вступать с ними в частые сражения, следовало только избрать хорошую позицию и тогда наверняка запереть англичанам выход. А значит, оставалось только одно: ждать, чтобы Мену, ослепление которого наконец при виде фактов исчезло, собрал всю армию под стенами Александрии.
Но генерал Ланюс еще прежде отправился к Рахма-нии с дивизией. Узнав о происходившем под Абукиром, он поспешил к Александрии. У него насчитывалось тысяч до трех войска, и теперь он мог бы выставить до пяти тысяч человек. У англичан же высадилось шестнадцать тысяч, не считая двух тысяч моряков. Следовательно, еще нельзя было вступать в сражение, но одно обстоятельство увлекло французских генералов.
Длинная песчаная коса, на которую высадились англичане, отделяется от Египта озерами Мадиех и Мареотис и связывается с ним одной только перемычкой, проходящей между этих двух озер и примыкающей к Рахмании. На этой перемычке находятся канал, доставляющий пресную воду из Нила в Александрию, и большая дорога, ведущая от Александрии в Рахманию. Теперь генералы Фриан и Ланюс боялись, что англичане займут этот пункт и так получат дорогу из Рахмании, по которой должен был идти Мену.
Но на этот случай тем не менее осталась бы другая дорога, правда, длиннее и довольно трудная, в особенности для артиллерии, а именно: само озеро Мареотис. Это озеро, разливающееся в зависимости от высоты Нила и времени года, представляло собой открытые болотистые мели, по которым можно было проложить извилистую, но безопасную дорогу. Следовательно, не имело смысла вступать в сражение при таких невыгодных условиях.
Однако Фриан и Ланюс, преувеличивая опасность, решились дать сражение. Они могли бы много уменьшить важность своей ошибки, оставаясь на песчаных высотах, перерезавших косу в ширину, и искусно пользуясь артиллерией, которой они были гораздо богаче англичан. Так они сохранили бы все выгоды оборонительной войны, сгладили неравенство сил и даже успели бы удержать пункт, за который собирались вступить во второе, несчастное сражение.
Так и было договорено между генералами. Ланюс человек, одаренный замечательным природным умом, храбрый и отважный, к несчастью, был склонен к неосторожности и к тому же состоял в оппозиции к руководству армии, а потому мысль одержать победу до прибытия Мену чрезвычайно льстила его самолюбию.
Тринадцатого марта утром показались англичане. Они шли тремя корпусами. Левый двигался вдоль озера Ма-диех, угрожая оконечности перемычки, его поддерживали канонерские лодки. Средний корпус шел в большом каре, имея на обоих флангах по батальону, чтобы отражать французскую конницу. Правый корпус же двигался вдоль морского берега, также опираясь, подобно первому, на канонерские лодки.
Первый корпус опередил два других. Видя, что левое крыло английской армии одно выдвинулось по берегу озера, Ланюс не выдержал искушения и решил сбросить его в воду. Он спустился с высот и пошел в направлении англичан. Но в то же время страшное каре центра, скрытое сначала за злосчастными дюнами, вдруг выступило вперед. Ланюс, вынужденный оставить прежнюю свою мысль, повернулся прямо против этого каре, перед которым на некотором расстоянии шла пехота. Он двинул вперед целый егерский полк, который бросился во весь опор на линию пехоты, перерезал ее пополам и вынудил два батальона сложить оружие.
Между тем каре, подойдя на ружейный выстрел, открыло частый огонь, подобный тому, от которого французское войско уже пострадало при абукирской высадке. Восемнадцатая легкая полубригада поспешила на помощь полку, но была встречена убийственными залпами, от которых в рядах ее произошел некоторый беспорядок. В это время правый корпус англичан, оставив побережье, стал подходить на помощь центру. Ланюс приказал отступить, боясь завязать слишком неравный бой.
С другой стороны, Фриан, видя с изумлением, что Ланюс спустился на равнину, также сошел, чтобы поддержать его, и двинулся к оконечности перемычки, против левого крыла английской армии. Он уже давно выдерживал сильный огонь, на который отвечал тем же, как вдруг увидел, что Ланюс отступает. Боясь остаться один против всей английской армии, он тоже отступил. Оба вернулись на прежнюю позицию, которую напрасно оставили.
Положено было дождаться Мену, который наконец решился вести всю армию под Александрию.
Генералу Рампону он приказал оставить Дамьетту и идти к Рахмании, сам отправился туда же с главной частью своих сил.
Однако повсюду оставались еще войска, которые не могли на занимаемых ими позициях принести такую пользу, какую доставили бы под Александрией. Если бы Мену велел очистить Верхний Египет и вверил его Му-рад-бею, а Каир, весьма мало расположенный к восстанию, оставил заботам гарнизона, он мог бы противопоставить неприятелю лишних две тысячи человек. Этим подкреплением не могли пренебречь, ибо всего нужнее было в настоящее время разбить англичан.
Прибыв в Рахманию, Мену узнал, до какой степени велика опасность. Генерал Фриан выслал ему навстречу два полка конницы, справедливо рассчитав, что, оставаясь несколько дней запертым в стенах Александрии, не будет иметь в них большой нужды, Мену же, напротив, они окажутся весьма полезны.
Мену вынужден был сделать большой крюк около самого озера Мареотис, однако он успел выйти на Александрийскую косу 19-го и 20 марта. Теперь он мог собственными глазами убедиться, какую сделал ошибку, допустив высадку англичан.
Англичане между тем получили некоторое подкрепление и большое количество снарядов. Они утвердились на тех же высотах, которые занимали Фриан и Ланюс 13 марта, и построили на них полевые укрепления, уставив орудиями крупного калибра. К тому же англичане далеко превосходили французов численностью. Их насчитывалось 17 или 18 тысяч, а французов — менее десяти тысяч.
Несмотря на эти минусы, стоило решиться на сражение. Действительно, попробовав опрокинуть англичан в море сначала с полутора тысячами, потом с пятью, странно было бы не попытать счастья еще раз с десятью тысячами,
составлявшими почти все силы, какие удалось бы собрать в одном пункте.
Не надо, однако же, забывать, что можно было избрать другой образ действий, в особенности предпочтительный сразу после высадки англичан, до бесполезного сражения, данного французскими генералами. Следовало оставить англичан в занимаемой ими теснине, поспешно построить вокруг Александрии укрепления, которые затруднили бы атаку, вверить охрану их морякам, подкрепив двухтысячным корпусом хороших солдат, потом снять все посты, кроме Каира, с тремя тысячами гарнизона. С остальной же армией, с девятью или десятью тысячами, нужно было оставаться в поле, чтобы обратиться или против турок, если бы они вступили в Египет из Сирии, или против англичан, при первом шаге их во внутренние области.
Французская армия имела перед врагом то преимущество, что была составлена из различных родов войск — конницы, артиллерии и пехоты — и одна пользовалась средствами страны для обеспечения своего продовольствия. Она могла бы запереть англичан и, вероятно, вынудила бы их снова сесть на корабли. Но для этого нужен был полководец посмышленнее Мену и лучше его знакомый с искусством передвижения войск.
Между тем в настоящее время сразиться с высадившимися англичанами было самой естественной мыслью, согласной со всеми предыдущими действиями кампании. Но, решившись на это отважное дело, следовало приступать к нему как можно скорее, не давая времени туркам выйти из Сирии и слишком быстро потеснить армию.
Чтобы дать сражение, надо было условиться насчет плана. Мену не мог его придумать, а отношения с генералами не позволяли ему прибегнуть к их советам. Несмотря на это, начальник его штаба Лагранж попросил совета у Ланюса и Ренье, которые составили план вместе и послали его на одобрение Мену. Генерал почти машинально утвердил его.
Обе армии стояли в виду друг друга, занимая песчаную косу, простирающуюся на одну милю в ширину и на пятнадцать или восемнадцать в длину, — именно на ней высадились англичане.
Н Консульство
Французская армия расположилась у Александрии, на довольно высоком месте. Перед ней простиралась песчаная равнина, где там и тут видны были возвышения, которые неприятель тщательно укрепил таким образом, что они составляли беспрерывную цепь позиций от моря до озера Мареотис. На левом фланге французов, у самого моря, находился старый римский лагерь, а немного впереди — песчаный пригорок, на котором англичане устроили укрепление. Тут они разместили свое правое крыло, под двойной защитой укрепления и отряда канонерских лодок.
Посреди поля сражения, на равном расстоянии от моря и озера, находился другой песчаный пригорок, выше и обширнее первого, также укрепленный окопами. Англичане избрали его опорой своего центра.
Наконец, у правой оконечности французской армии, около озер, равнина спускалась к той самой перемычке, за которую бились незадолго перед тем. Ряд редутов связывал позицию центра с перемычкой. Тут англичане разместили свое левое крыло, защитив его, подобно правому, отрядом канонерских лодок.
Фронт английской позиции простирался почти на милю, был прикрыт тяжелыми орудиями и защищен частью армии. Но главная масса выстроилась в две линии, за укреплениями.
Решили тронуться с места 21 марта, до рассвета, чтобы легче скрыть движение и меньше подвергаться огню из неприятельских окопов. Французские полководцы думали захватить эти окопы, перейти их и атаковать с фронта английскую армию, стоявшую за ними в боевом порядке. С этой целью левое крыло под началом Ланюса направлялось двумя колоннами на правое крыло англичан. Первая колонна должна была прямо направиться на укрепления перед римским лагерем, а другая — поспешно пройти между этими укреплениями и морем, атаковать лагерь и завладеть им. Центру под руководством генерала Рампона приказали продвинуться гораздо дальше левого крыла и атаковать главную английскую армию. Правому крылу во главе с Ренье следовало развернуться на равнине вправо и делать вид, будто готовит атаку, чтобы уверить англичан, что настоящая опасность угрожает им с этой стороны. Для поддержания их в этом мнении дромадеры должны были двинуться по частично высохшему дну озера и сделать попытку выйти на перемычку. Надеялись, что этот маневр облегчит атаку Ла-нюса со стороны моря.
Двадцать первого марта, еще до рассвета, все отряды тронулись с места. Отряд с дромадерами в точности исполнил предписанное ему движение и овладел редутами. Этого было довольно, чтобы обмануть англичан и привлечь их внимание к озеру Мареотис. Но для удачного выполнения плана нужна была точность, которой трудно добиться, действуя ночью и не имея начальника, рассчитывающего время и расстояние. Между тем именно в этой части произошли роковые изменения. Ланюс сам управлял первой колонной и лично повел ее на редут, но вдруг заметил, что вторая колонна сбилась с дороги и, вместо того чтобы идти вдоль морского берега и атаковать римский лагерь, слишком сближается с первой. Он поспешил туда, чтобы задать колонне верное направление, но, к несчастью, был смертельно ранен в бедро. Это горестное событие имело самые несчастные последствия: лишившись внезапно своего начальника, отряд повел атаку уже не так уверенно.
Начинало светать, и англичане стали распознавать, куда им направлять свои удары. Французы, выдерживая разом огонь канонерских лодок, римского лагеря и редутов, проявили редкое мужество. Но скоро все их начальники пали, солдаты остались без руководства и отступили за пригорки, едва укрывавшие их от огня.
Между тем первая колонна, которую Ланюс оставил, чтобы поспешить ко второй, пошла на редут, но, не преуспев в своей атаке с фронта, повернула, чтобы атаковать его с фланга. Центр, видя трудное положение этой колонны, также свернул со своей дороги, чтобы помочь ей, и 32-я полубригада, отряженная из центра, атаковала роковой редут.
Эти произведенные с разных сторон усилия вызвали некоторую неразбериху. Все бросились на редут, и внезапное действие, первоначально заключавшееся в овладении линией укреплений, обратилось в продолжительную, упорную атаку, на которую было потрачено много Дорогого времени.
14*
Двадцать первая полубригада, также выдвинувшаяся из центра, оставила 32-ю перед яростно оспариваемым редутом и одна выполнила запланированный маневр: прошла за линию окопов и смело выстроилась против английской армии. Войска устроили убийственную перестрелку. Но полубригаду следовало поддержать, а Мену, не умея командовать, ходил все это время по полю сражения и не давал никаких распоряжений, между тем как Ренье без пользы стоял на равнине со значительными силами, остававшимися без дела.
Тут Мену посоветовали послать конницу в решительную атаку на главные силы английской армии, с которыми схватилась одна 21-я полубригада. Мену принял совет и приказал его исполнить.
Храбрый генерал Руаз немедленно встает во главе конницы, несется сквозь гибельную теснину, образуемую справа и слева редутами, которые тщетно атакует пехота, достигает места, где 21-я полубригада борется с англичанами, и бросается на них: опрокидывает ряды английской пехоты, рубит их и принуждает отступить.
Если бы в эту минуту Мену, или за неумением его Ренье, двинул правое крыло на поддержание конницы, центр английской армии был бы опрокинут и отброшен за укрепления. Но вышло не так.
Кавалерия, опрокинув первую линию пехоты, увидела за ней еще линии и, понимая, что остается без подкрепления, вернулась, пройдя снова под убийственным огнем редутов. С этой минуты сражение не могло уже иметь счастливого результата. Левое крыло, лишившись со смертью начальника всей своей отваги, осуществляло только бесполезный обстрел укрепленных позиций, которые отвечали ему тем же. Правое крыло, выстроенное на равнине, чтобы произвести маневр, теперь, когда сражение сделалось общим, не приносило никакой пользы.
В этом положении оставалось только отступить. Мену отдал приказание, и все дивизии отступили — весьма твердо, но подвергаясь новым потерям от огня редутов.
Какое ужасное зрелище представляет собой война, когда жизнь людей и участь государств вверяется неспособным вождям и кровь течет соразмерно неспособности или преступным прихотям начальствующих!
Сражение это, казалось бы, нельзя назвать проигранным, потому что неприятель не подвинулся вперед ни на один шаг; но поскольку оно не было и решительно выиграно, то фактически французы его проиграли.
Урон с обеих сторон оказался весьма значителен. У англичан выбыло из строя около двух тысяч человек, и между прочими — храбрый генерал Аберкромби. Потери французов были почти такими же серьезными.
Армия проявила редкую твердость, а стремительность конницы вновь поразила англичан. Число генералов и офицеров, павших в сражении, было больше обыкновенного. Генералы Ланюс и Руаз убиты, бригадному генералу Сильви оторвало ногу, генерала Бодо ранило так тяжело, что не оставалось надежды спасти его. На Рам-поне весь мундир оказался прострелян пулями.
Нравственное влияние поражения было еще горестнее материальных потерь. Теперь ничто не могло вынудить неприятеля вернуться на корабли. Египетской армии угрожали, кроме англичан, турки, шедшие из Сирии, капудан-паша, готовившийся высадить в Абукире шесть тысяч албанцев, и, наконец, шесть тысяч сипаев, уже приблизившихся к Коссеиру в Верхнем Египте.
Что делать среди такого множества врагов с армией, всегда одинаково твердой в деле, но готовой при первой бытовой неурядице жаловаться, что вся экспедиция — сплошное безрассудство и жизнь людей приносят в жертву пустой мечте?..
Однако же оставалось еще одно средство спасения, которого каждый день ожидали с нетерпением. Это средство заключалось в кораблях Гантома и находящихся на них войсках. Прибытие в это время четырех тысяч человек могло спасти Египет.
Навстречу адмиралу выслали пакетбот, чтобы указать ему на берегу, милях в тридцати на запад от Александрии, место, где удобнее произвести высадку, не будучи замеченными англичанами. Тогда можно бы оставить три тысячи человек в Александрии и маневрировать с остальными десятью или одиннадцатью тысячами.
Но Гантом, хоть и далеко превосходил Мену своими способностями, в данном случае действовал не лучше его. В настоящее время он плыл к Сардинии. Попутный ветер и порыв отваги могли скоро привести его к берегам Египта, но, к несчастью, вечером 26 марта его корабль «Десятое августа» наткнулся на корабль «Грозный», и от этого столкновения оба оказались сильно повреждены. Гантом не решился оставаться в открытом море и вновь вернулся в Тулон 5 апреля.
В Египте этих подробностей не знали и все еще надеялись на его прибытие. В состоянии ожидания генералы ни на что не решались, и войско оставалось в пагубном бездействии. Мену только наспех соорудил укрепления вокруг Александрии кое-какие укрепления для отражения атаки англичан. Он приказал очистить Верхний Египет. Немногочисленные войска выслал он из Александрии в Рахманию для наблюдения за передвижениями неприятеля около Розетты.
К довершению бедствия Мурад-бей, верность которого не поколебалась ни на минуту, умер от чумы, оставив своих мамелюков Осман-бею, а на последнего уже нельзя было полагаться. Чума начинала опустошать Каир. Словом, все принимало дурной оборот и клонилось к гибельной развязке.
Англичане, со своей стороны, боясь стоявшей перед ними армии, также не решались ничего предпринять.
Они считали лучшим действовать медленно, но верно. А главное, ждали, пока союзники их, турки, которым они, впрочем, не доверяли, будут готовы им содействовать.
Наконец в начале апреля англичане решились выйти из своего бездействия и из положения, в котором находились, — положения, похожего на блокаду.
Полковник Спенсер получил приказание с несколькими тысячами англичан и шестью тысячами албанцев переправиться через Абукирский залив и высадиться перед Розеттой. Думали этим открыть себе путь вглубь Дельты, добыть свежих съестных припасов и соединиться с визирем, шедшим с другого конца Дельты, от сирийской границы.
В Розетте оставалось только несколько сотен французов, которые не могли противиться атаке и отступили вверх по Нилу. Неподалеку от Рахмании они присоединились к небольшому отряду, высланному из Александрии.
Этот отряд состоял из 21-й легкой полубригады и одной роты артиллерии.
Овладев рейдом Нила, по которому могли к ним подвозить продовольствие, и открыв себе проход вглубь страны, англичане и турки начали наконец помышлять о том, чтобы воспользоваться своими успехами. Но тронулись они в путь только через двадцать дней.
Для проворного и бойкого неприятеля это был бы славный случай разбить их. Генерал Хатчинсон, заступивший на место Аберкромби, не посмел оставить свой лагерь перед Александрией без войска и, несмотря на то, что получил подкрепление, отрядил к Розетте только шесть тысяч англичан и шесть тысяч турок. Если бы Мену всерьез посвятил прошедший месяц постройке необходимых укреплений вокруг Александрии, что дало бы ему возможность оставить в этом городе небольшое войско, если бы он послал в Рахманию тысяч шесть человек, он мог бы противопоставить англичанам, прорвавшимся через Розетту, восемь или девять тысяч человек. Этого бы хватило, чтобы отбросить их к рейду Нила, поднять упавший дух армии, поддержать колеблющуюся покорность египтян, остановить движение визиря, словом, вернуть счастье. Это был последний шанс. Ему советовали предпринять этот маневр, но по свойственной ему робости он исполнил его только наполовину. Он послал в Рахманию генерала Валантена с подкреплением, которое оказалось недостаточным. Тогда он отправил второе подкрепление во главе с генералом Лагран-жем — всего около четырех тысяч человек.
Но генерал Лагранж хоть и был храбрым воином, но не мог с такими силами держаться против шести тысяч англичан и шести тысяч турок. Мену должен был отрядить в Рахманию по крайней мере тысяч восемь войска, с лучшим своим генералом.
Генерал Моран, командовавший первым отрядом, посланным к Розетте, остановился в Эль-Афте, на берегу Нила, близ города Фуэ, в позиции, представлявшей некоторые выгоды для обороны. Тут присоединился к нему генерал Лагранж.
Англичане и турки, владея Розеттой и рейдом Нила, Уставили всю реку канонерскими лодками и скоро завладели городом Фуэ, открытым их огню. Французский корпус был вынужден в ночь на 8 мая отступить к Рахмании. Это положение не давало важных выгод в обороне, и местность вовсе не вознаграждала численного превосходства неприятеля.
Однако же, если где-либо следовало защищаться до последней крайности, то именно в Рахмании. Упустив эту позицию, корпус генерала Лагранжа был бы отрезан от Александрии и вынужден отступить к Каиру. Французская армия была бы, таким образом, разрезана на две половины: одна осталась бы запертой в Александрии, другая — в Каире. В таком случае ей не было другого спасения, как только сдаться. За потерей Рахмании неизбежно следовала потеря всего Египта.
Но Мену не показывался, а Бельяр, находившийся в Каире, не получал никаких приказаний об отправке войска.
Генерал Лагранж, с имевшимися у него четырьмя тысячами, опирался тылом на Рахманию и на Нил, протекающий через этот городок. Тут в тылу его оказались английские канонерские лодки, пускавшие тучу ядер во французский лагерь. Против фронта, защищенного немногими плохими полевыми укреплениями, на равнине расположились главные силы неприятеля, состоявшие из англичан и турок.
Опасность была велика, но лучше было сражаться, а в случае поражения сдаться в плен на поле сражения, после целого дня упорной борьбы, чем без спора уступить позицию. Четыре тысячи такого войска, решившись на отчаянную защиту, могли еще надеяться на успех. Но Лагранж, хотя и был предан своему главнокомандующему и идее сохранения колонии, покинул Рахманию вечером 10 мая и отступил в Каир. Он прибыл в Каир 14 мая утром. В Рахмании он оставил огромные запасы, и, что еще важнее, вместе с Рахманией была потеряна связь с армией.
С этого дня события в Египте не стоят ни критики, ни даже внимания. С утратой счастья люди скоро пали ниже себя самих. Во всем стали видны самое постыдное бессилие и жалкая неспособность. Говоря о людях, мы подразумеваем одних начальников, ибо солдаты и простые офицеры по-прежнему сохраняли в виду неприятеля отвагу, по-прежнему были готовы лечь все до последнего на поле битвы. Ни разу не изменили они своей прежней славе.
В Каире, как и в Александрии, оставалось только капитулировать. Все заслуги начальников должны были впредь ограничиваться умением оттянуть капитуляцию, но в таких обстоятельствах и это уже немаловажное дело. Оттягивая капитуляцию, осажденный полководец, по-видимому, не только стоит за свою честь, а нередко спасает тем отечество! Генералы, занимавшие Александрию и Каир, задержкой капитуляции могли содействовать важным переговорам Франции с Англией. Правда, они этого не знали, но потому-то именно, не зная, какую пользу принесет продолжение защиты, следует всегда повиноваться голосу чести, требующему держаться до конца.
Из двух генералов, оказавшихся в блокаде, самый несчастливый, ибо всех больше наделал ошибок, — Мену — упорным своим сопротивлением в Александрии оказал, как мы увидим, важную услугу Франции. Впоследствии это послужило ему утешением и извинением перед Первым консулом.
Когда войска возвратились в Каир, генералы стали советоваться о том, как им действовать. Генерал Бельяр по чину был главнокомандующим. Человек находчивый, но больше находчивый, чем смелый. Он созвал военный совет. Оставалось еще около семи тысяч строевого войска и от пяти до шести тысяч больных, раненых и служащих при армии.
В Каире свирепствовала чума, денег и продовольствия оставалось мало. Город был чрезвычайно обширен: семи тысяч человек не могло хватить для охраны его со всех сторон, и стена не могла устоять против искусства европейских инженеров. Цитадели представляли собой убежища, но слишком малые для размещения двенадцати тысяч французов, к тому же они не в состоянии были выдержать огонь больших английских пушек. Такие убежища годились лишь для защиты от каирской черни.
Очевидно, оставалось только избрать одно из двух: или попытаться быстрым переходом спуститься в Нижний
Египет, завладеть переправой через Нил и присоединиться к Мену в Александрии, или укрыться в Дамьетте. Второе было вернее и легче, в особенности если принять в соображение толпу, которую следовало тащить за собой.
Дамьетта стоит среди островов, сообщающихся с Дельтой только весьма узкими полосами земли, которые семь тысяч солдат Египетской армии долго могли защищать против вдвое или втрое превосходящего в силе неприятеля. Войско там жило бы в изобилии, потому что эта провинция богата стадами, сама Дамьетта полна хлеба, а озеро Мензале доставляло в большом количестве отличную рыбу. Так как дело должно было кончиться капитуляцией, в Дамьетте удалось бы по крайней мере оттянуть ее на шесть месяцев.
Это благоразумное предложение сделал офицер инженерных войск д’Опуль. Но для исполнения его надо было решиться на трудное дело, а именно — очистить Каир.
Генерал Бельяр, решившийся несколько дней спустя сдать город неприятелю на самых жалких условиях, в этот день не хотел очистить его добровольно. Итак, он остался в столице Египта, сам не зная, что будет в ней делать.
По левому берегу Нила поднимались англичане и турки из Рахмании, по правому — великий визирь с двадцатью пятью или тридцатью тысячами. Генерал Бельяр, помня славное Гелиопольское дело, вздумал идти навстречу визирю по той же дороге, по какой наступал Клебер.
Он вышел с шестью тысячами человек и продвинулся до Эльменаир. Часто окружала его туча всадников; он высылал против них легкую артиллерию, которая ядрами своими настигала несколько человек. Другого результата он не добился, — турки на этот раз действовали умнее и не хотели принимать сражения, как при Гелиополе. Было только одно средство настичь их — завладеть их лагерем в Бельбейсе.
Но генерала Бельяра во всех деревнях встречали ружейные выстрелы: беспрестанно увеличивалось количество раненых, а вместе с тем и расстояние, отделявшее его от Каира. Он боялся, как бы англичане и турки не вступили без него в город. Но об этой опасности следовало думать до выхода и прежде увериться, возможно ли дойти до Бельбейса.
Бельяр вышел из Каира, сам не зная зачем, и вернулся точно так же, после бесполезного предприятия, единственным результатом которого было то, что в глазах народа он остался побежденным. Подобно всем вновь покоренным народам, египтяне зависели от прихоти судьбы и, будучи довольны французами, все-таки могли изменить им. Однако нечего было опасаться восстания, если только не подвергать Каир бедствиям осады.
Французская армия, выведенная из терпения унижениями, которым подвергала ее неумелость начальников, вновь вернулась к прежнему образу мыслей, побудившему ее к заключению Эль-Аришской конвенции. Солдаты находили утешение в мечтах о возвращении во Францию. Если бы твердый и искусный начальник подавал им такой пример, как Массена — гарнизону Генуи, они пошли бы за ним. Но ничего подобного нельзя было ожидать от генерала Бельяра.
Теснимый на левом берегу Нила англо-турецкой армией, а на правом — великим визирем, Бельяр предложил неприятелю перемирие, которое было принято с радостью, ибо англичане в этом случае искали не славы, но пользы. Они желали очищения Египта — каким бы то ни было путем.
Генерал Бельяр собрал военный совет; совещание проходило в спорах. На главнокомандующего каирским корпусом подали серьезные жалобы. Его упрекали в том, что он не сумел ни вовремя оставить Каир, ни удержаться в нем хорошо обдуманным образом, а теперь, не зная, за что ухватиться, просит у своих подчиненных совета — вести ли переговоры или сражаться до последней капли крови, между тем как давно решил этот вопрос, открыв самовольно переговоры.
С негодованием высказывали ему все эти упреки, в особенности не щадил его генерал Лагранж, друг генерала Мену, всегда горячо стоявший за сохранение Египта за Францией. Дюпас и Дюранто были согласны с Ла-гранжем в том, что для чести знамени следует непременно биться. Но, к несчастью, биться в эту минуту значило проявить еще большую жестокость к армии и ко множеству больных и гражданских, следовавших за ней.
Впереди было сорок тысяч неприятелей, не считая сипаев. В тылу — триста тысяч полудикой черни, терзаемой чумой и голодом и готовой немедленно восстать против французов. Город мог быть взят приступом, а войско перерезано. Напрасно некоторые храбрые офицеры возмущались при одной мысли сложить оружие. Оставалось единственное средство — сдаться.
Генерал Бельяр, желая показать свою готовность к самому отчаянному предприятию, снова предложил на рассмотрение вопрос, о котором уже поздно было упоминать: не отступить ли к Дамьетте? И другой, довольно странный: не отступить ли в Верхний Египет?
Последнее предложение казалось нелепым. Все это были хитрости бессилия, старающегося скрыть свое смущение под личиной отваги. Следовало сдаться, и больше ничего не оставалось делать, если не хотели, чтобы и армия, и колония были истреблены по взятии города штурмом.
Во вражеский лагерь послали парламентеров для подписания капитуляции. Неприятельские полководцы с радостью приняли предложение, — так они еще боялись перемены счастливой звезды. Они согласились на самые выгодные для французов условия. Решено было, что армия выйдет со всеми воинскими почестями, с оружием и обозами, артиллерией, лошадьми и имуществом, что она будет перевезена во Францию и во время переезда обеспечена продовольствием за счет Англии.
Тем из египтян, кто пожелает следовать за армией (имелось некоторое количество таких людей: вследствие своих связей с французами они не могли оставаться в Египте), было позволено присоединиться к ней.
Капитуляцию подписали 27-го и ратифицировали 28 июня 1801 года.
Жестоко пострадала гордость опытных французских вояк. Но они возвращались во Францию — не так, правда, как в 1798 году после побед при Кастильоне, Арколе, Риволи, гордясь своей славой и услугами, оказанными Республике. Теперь они возвращались разбитые, но все-таки возвращались, и эта мысль наполняла радостью сердца, истосковавшиеся в долгом отсутствии.
Только начальники были грустны и со страхом размышляли о том, как будет судить их действия Первый консул. Депеши, которые они посылали при капитуляции, носили печать самого унизительного беспокойства. Для доставления этих депеш они избрали людей, которые всех меньше подлежали осуждению: офицера д’Опуля и директора порохового завода Шампи, — оба принесли колонии большую пользу.
Мену был заперт в Александрии, и, подобно Бельяру, ему оставалось только сдаться. Все различие заключалось исключительно во времени.
В Александрии начинала распространяться чума, ощущалась нехватка продовольствия. Правда, арабские караваны, привлекаемые барышом, привозили мясо, молоко и даже немного хлеба, но имелся недостаток в пшенице, в хлеб вынуждены были примешивать рис. Цинга с каждым днем уменьшала число людей, способных к службе.
Чтобы полностью отрезать город, англичане задумали отвести воду из озера Мадиех в почти высохшее озеро Мареотис и, таким образом, окружить Александрию массой воды и рядом канонерских лодок. Для этого они расширили перемычку между Александрией и Рахманией, разделяющую озера. Но так как разница в уровне была невелика, перемещение воды из одного озера в другое происходило весьма медленно. Поэтому англичане вскоре решились окружить город: в середине августа они поместили часть войска на лодки, высадили их на некотором расстоянии от крепости Марабут (близ Александрии) и приступили к ее осаде. После этого город, окруженный со всех сторон, уже не мог держаться.
Несчастный Мену, обреченный, таким образом, на бездействие, имел возможность на досуге обсудить свои ошибки и, слыша вокруг себя всеобщее осуждение, утешался мыслью о героической защите, подобной обороне Массена в Генуе.
Генералы Ренье и Дама оставались в Александрии без войска. Они говорили возмутительные речи и даже теперь вели себя самым неприличным образом. Мену велел их немедленно арестовать и отослать во Францию. Но эта запоздавшая строгость не произвела почти никакого действия. Армия, руководимая здравым смыслом, осуждала Ренье и Дама, но нисколько не уважала Мену. Одного только он удостоился: армия не питала к нему ненависти. Равнодушно слушала она его прокламации, в которых он объявлял, что решился скорее умереть, чем сдаться, готова была, в случае нужды, биться до последнего, но плохо верила, что это необходимо.
С этого дня ни одно важное событие не отмечало присутствия французов в Египте, и экспедиция практически была кончена. Пока одни прославляли ее как чудо отваги и военного искусства, другие, те, кто взвешивают все на весах холодного разума, считали ее просто блестящей мечтой. Это суждение на первый взгляд кажется благоразумным, но, в сущности, оно неосновательно и несправедливо.
Наполеон на всем своем долгом и обширном поприще ничего не задумывал более великого и полезного.
Чтобы здраво решить этот вопрос, предположим, что за продолжительными войнами Франции последовал не тот конец, какой был на самом деле, и спросим, возможно ли было обладание Египтом и принесло бы оно пользу?
Ответ на этот вопрос не вызывает никаких сомнений. Во-первых, Англия в 1801 году почти соглашалась отдать Франции Египет, с тем чтобы ей самой предоставили компенсацию, да еще и не слишком большую. Нет сомнения, что Первый консул, предвидя непродолжительность мира на море, послал бы к рейду Нила огромные средства, людей и орудия и что превосходная армия, отправленная на остров Сан-Доминго, надолго оградила бы новую колонию от всяких нападений.
Полководец, подобный Декану или Сен-Сиру, соединяющий знание военного дела с искусством управления, имея в своем распоряжении пятьдесят тысяч французов и огромные материальные средства, при здоровом климате, на плодородной почве, обрабатываемой покорными крестьянами, наверняка преуспел бы в защите Египта и основал бы там процветающую колонию.
Нет сомнения, что успех был возможен.
Мы прибавим даже, что в борьбе, завязавшейся между Францией и Англией, завоевание Египта предписывалось обстоятельствами. Англия захватила перед тем Ост-Индию и присвоила себе первенство на восточных морях. Могла ли Франция, бывшая до тех пор ее соперницей, без спора уступить ей это первенство? Собственная слава и будущность требовали, чтобы она не уступала.
Ответ политиков в этом случае будет согласен с мнением патриотов. Франция была обязана завязать борьбу на Востоке, на этом обширном поприще честолюбия морских держав. Ей было необходимо приобрести там земли, которые могли бы перевесить завоевания англичан.
Признав эту истину, осмотрите Земной шар и скажите, есть ли область, больше Египта приспособленная для означенной цели? Он сам по себе стоит самых прекрасных стран, граничит с самыми богатыми, самыми плодородными краями, доставляющими обильную дань торговле. Завоевание Египта возвращало восточную торговлю в Средиземное море, которое, таким образом, становилось французским. Словом, приобретение это равнялось Ост-Индии и, во всяком случае, служило путем к ней.
Следовательно, завоевание Египта было величайшей услугой Первого консула, оказанной Франции, независимости морей и всеобщему просвещению. А потому не раз вся Европа желала успеха Франции в те короткие промежутки, когда ненависть не ослепляла кабинеты. Для такой цели можно было пожертвовать и армией.
Ах, если бы Наполеон никогда не задумывал ничего более дерзкого, чем завоевание Египта!
ВСЕОБЩИЙ МИР
Между тем как Египетская армия изнемогала, не имея искусного вождя и не получая необходимой помощи, адмирал Гантом в третий раз пытался выйти из Тулона. Первый консул едва дал ему время исправить повреждения и вынудил немедленно опять выйти в море.
Адмирал снялся с якоря 25 апреля. Он получил приказание проплыть мимо острова Эльба, чтобы произвести маневры в виду Порто-Феррайо: это облегчило бы занятие Эльбы французскими войсками.
Первый консул непременно хотел завладеть этим островом, который, по договорам с Неаполем и Этрурией, был уступлен Франции и на котором находился небольшой гарнизон, наполовину тосканский, наполовину английский.
Адмирал Гантом повиновался. Он появился перед Эльбой, сбросил на Порто-Феррайо несколько ядер и прошел дальше, чтобы не получить повреждений, которые могли препятствовать выполнению главного задания. Если бы он направился теперь прямо к Египту, то мог бы еще принести пользу, потому что позиция в Рахма-нии, как мы видели, была оставлена французами только 10 мая. Стало быть, времени еще хватало. Для этого, однако, не следовало терять ни минуты.
Но какой-то рок вмешивался во все действия адмирала Гантома. Едва удалился он от Эльбы, как сильная заразная болезнь открылась на его кораблях. От истощения ли войск, которые так давно уже находились на море, или просто по несчастью, болезнь эта очень быстро распространилась и поразила большую часть солдат и матросов.
Адмирал Гантом счел безрассудным и бесполезным везти с собой такое множество больных в Египет и решился
разделить свою эскадру. Вверив контр-адмиралу Линуа начальство над тремя кораблями, он поместил на них больных матросов и солдат и отправил их в Тулон, а сам продолжал плавание к Египту только с четырьмя линейными кораблями и двумя фрегатами, на которых находилось всего две тысячи человек.
Но было поздно: май перевалил за половину, французская армия была фактически потеряна, поскольку генералы Мену и Бельяр разделились. Адмирал Гантом не знал этого. Он прошел мимо Сардинии и Сицилии, успел несколько раз ускользнуть от неприятеля и наконец достиг африканского берега, на расстоянии нескольких переходов к западу от Александрии.
Место, к которому он пристал, называлось Дерна и вполне годилось для высадки. Полагали, что, доставив войску продовольствие и наняв за деньги у арабов верблюдов, можно провести армию через пустыню до Александрии в несколько переходов. Но это было очень смелое предположение.
Едва адмирал Гантом встал на якорь и спустил несколько шлюпок, как вдруг на берег сбежался народ и по французским лодкам открыли сильный оружейный огонь.
Младший брат Первого консула Жером Бонапарт находился среди высадившихся французов, но их переговоры с жителями ни к чему не привели. Оставалось захватить Дерну и потом идти к Александрии — без воды, без съестных припасов, прокладывая себе дорогу оружием. Это было бы предприятие безумное и притом совершенно бесполезное, потому что из двух тысяч человек не более тысячи достигли бы цели. Не стоило губить такое множество солдат из-за столь незначительной помощи.
Впрочем, происшествие, которое легко можно было предвидеть, завершило дело.
Адмиралу показалось, что приближается английский флот. Тут уж стало не до рассуждений: он приказал поднять шлюпки и, даже не снимаясь с якоря, велел обрубить канаты, чтобы не оказаться втянутым в бой прямо тут же. Итак, Гантом поднял паруса и ушел от неприятеля.
Однако все эти передвижения эскадры закончились для флота Франции не так уж неудачно. Пока адмирал Гантом входил в Тулон, адмирал Линуа, привезший больных солдат и матросов, отправлялся оттуда по приказу Первого консула. Подремонтировав корабли, заменив больных солдат здоровыми, пополнив свои экипажи, он приготовился к новому назначению.
Депеша, которую он должен был распечатать только в открытом море, предписывала ему тотчас же отправиться в Кадикс, соединиться там с шестью французскими и пятью испанскими кораблями, что вместе с его тремя судами составляло дивизию в четырнадцать военных судов. Кроме того, туда уже должна была прибыть рошфорская эскадра под начальством адмирала Брюи.
Этот флот в двадцать кораблей мог несколько месяцев владеть Средиземным морем, принял бы войска, приготовленные в Отранто, и доставил значительную помощь в Египет: во Франции еще не знали, что уже поздно, что держится только Александрия, но и спасение одного этого пункта было бы делом не совсем бесполезным.
Адмирал Линуа немедленно повиновался и отплыл к Кадиксу, но, узнав о близости английского флота, встал на якоре в испанском порту Альхесирас вечером 4 июля.
В бухте в тот момент не было ни одного английского корабля, но адмирал Сомарес находился недалеко, контролируя Кадикский порт. Узнав о приближении французов, он поспешил воспользоваться представившимся случаем истребить дивизию Линуа. Впрочем, из семи английских кораблей один, «Надменный», был в это время отряжен для патрулирования устья Гвадалквивира и получил приказание присоединиться к эскадре, но поскольку ветер препятствовал его возвращению, то адмирал Сомарес отправился к Альхесирасу с шестью линейными кораблями и одним фрегатом.
Адмирал Линуа, будучи извещен испанским начальством о грозящей ему опасности, со своей стороны принял все предосторожности, какие только допускала местность. Аль-хесирасский берег, занимающий противоположную Гибралтару сторону, представляет собой не гавань, а просто якорное место. По обеим его сторонам стояли только две батареи, одна — на возвышенности к северу от
Альхесираса, батарея Св. Иакова, другая — к югу, на островке, называемом Зеленым. Батарея Св. Иакова была вооружена пятью 18-фунтовыми орудиями, батарея Зеленого острова — семью 24-фунтовыми, что составляло не слишком большую подмогу. Однако же адмирал Ли-нуа вступил в переговоры с местным начальством, и оно сделало все, чтобы помочь французам. Линуа расставил три свои линейных корабля и фрегат вдоль берега, фланги этой короткой линии упирались в оба укрепления. У северной оконечности берега стоял «Грозный», за ним, в середине, — «Дезе», следом, на юге, — «Неодолимый». И между «Дезе» и Зеленым островом расположился фрегат «Мюирон».
Шестого июля 1801 года около семи часов утра контр-адмирал Сомарес направился в Альхесирасский залив и приблизился к линии французов. Но ветер разделил английские корабли и, к счастью, не позволил им действовать в надлежащем согласии.
Корабль «Почтенный», бывший в голове колонны, отстал; на его место заступил «Помпей». Он поднялся вдоль французской линии, прошел под вражеским огнем, отвечая пушечными залпами, и остановился на расстоянии ружейного выстрела от корабля «Грозный», на котором находился Линуа.
Между противниками завязался жаркий бой на самом близком расстоянии. «Грозному» пришлось сражаться с двумя неприятелями, и ему угрожал еще третий. Капитан «Грозного», храбрый Лалонд, был убит ядром. Адмирал Линуа на «Грозном», повернувшись боком к «Помпею», стоявшему к нему носом, успел сбить с него мачты и сделал его почти негодным к сражению. Пользуясь в то же время переменой ветра, он дал сигнал капитанам, чтобы они рубили канаты и сажали свои корабли на мель: таким образом он не позволил англичанам встать между эскадрой и берегом и оставить ее между двух огней, как сделал некогда Нельсон во время Абукир-ского сражения. Это распоряжение, сделанное вовремя, спасло эскадру.
«Грозный», принудив корабль «Помпей» удалиться с места сражения, сел на мель вполне удачно. Так он укрылся от опасности, которой угрожал ему «Аннибал», и занял по отношению к нему весьма грозную позицию. «Аннибал», стараясь совершить свой маневр, сам сел на мель и оказался под огнем «Грозного» и батареи Св. Иакова. Он попробовал было сняться с этой гибельной позиции, но вода все убывала, и корабль остался прикованным к месту. Адмирал Линуа, находя, что батарея Св. Иакова слаба, высадил туда генерала Дево с отрядом. Пальба с батареи удвоилась, и «Аннибал» начал уступать.
В то же время новый противник довершил его поражение. Второй французский корабль, «Дезе», стоявший возле «Грозного», сел на мель не так удачно и очутился несколько впереди линии, в виду «Аннибала» и «Помпея». Пользуясь этим положением, «Дезе» сначала пустил залп в «Помпея» и нанес ему такой урон, что тот вынужден был опустить флаг. И тогда «Дезе» направил все свои усилия на «Аннибала». Наконец и последний, не имея возможности дольше держаться, вынужден был также опустить флаг. Таким образом, из шести линейных кораблей два вынуждены были сдаться.
Бой продолжался уже несколько часов с чрезвычайным упорством. Адмирал Сомарес, потеряв два корабля из шести и не надеясь уже получить никакого счастливого результата (потому что подойти ближе к французской эскадре значило подвергнуться опасности также сесть на мель), дал сигнал к отступлению, оставляя в руках неприятеля «Аннибала». «Помпея» же, лишенного мачт и стоявшего неподвижно среди поля битвы, он решил вернуть: несколько судов из Гибралтара отбуксировали «Помпей», и французские корабли, застряв на мели, не могли уже перехватить его.
Так закончилось Альхесирасское дело. Французы были в восторге, несмотря на свои довольно значительные потери. Из двух тысяч человек, находившихся на эскадре, выбыло около двухсот убитыми и трехсот ранеными, всего до пятисот офицеров и матросов. Англичане потеряли девятьсот человек, корабли их оказались все повреждены.
Как ни славна была эта битва, дело еще не кончилось. Следовало оставить Альхесирас: адмирал Сомарес, взбешенный неудачей, клялся, что отомстит, как только
Линуа выйдет из своего убежища, чтобы плыть к Ка-диксу. Пользуясь огромными средствами Гибралтарского порта, Сомарес вновь подготовил свою дивизию к сражению и даже решил использовать брандеры35, намереваясь по крайней мере зажечь французские корабли, если не успеет выманить их в открытое море.
У адмирала Линуа для восстановления эскадры были совсем ничтожные средства. Кадикский арсенал, правда, находился недалеко, но трудно было доставлять оттуда материалы морем мимо англичан, а сухим путем — в связи со сложностью перевозки. Адмирал сделал все, чтобы вывести свои корабли в море, но у него едва нашлось, чем перевязывать раненых. Французские консулы соседних портовых городов должны были высылать к нему на почтовых лекарей и лекарства.
В это время в Кадиксе стояли и испанская эскадра из Ферроля, и шесть кораблей, подаренных Франции и наскоро снаряженных адмиралом Дюмануаром. Численность этих двух дивизий, должна была, разумеется, внушать надежду, но испанский флот, по храбрости всегда достойный своего славного отечества, в то же время отличался всеобщей беспечностью, а дивизия адмирала Дю-мануара, наскоро вооруженная и управляемая моряками всех национальностей, не вызывала большого доверия. Ни один из принадлежавших ей кораблей не мог равняться с кораблями дивизии Линуа.
Адмирал Массаредо, начальствовавший в Кадиксе, был не слишком расположен к французам и только после настоятельных просьб решился идти на помощь к адмиралу Линуа. Девятого июля он отрядил к Альхесирасу адмирала Морено, отличного моряка, храброго и опытного, дав ему пять испанских кораблей, пришедших из Ферроля, один из шести кораблей Дюмануара, «Св. Антония», и три фрегата. Эта эскадра должна была перевезти снаряды, предназначенные для дивизии Линуа. Она достигла Альхесирасской гавани в течение одного дня.
День и ночь трудились над починкой трех кораблей, выдержавших такую славную борьбу, и утром 12-го числа они готовы были выйти в море. Так же старательно отремонтировали и «Аннибал», отнятый у англичан.
Утром 12 июля союзная эскадра снялась с якоря. Она шла в боевом порядке, имея в арьергарде два самых больших испанских корабля, «Сан-Карлос» и «Св. Хер-менегильду», по 112 пушек каждый. Оба адмирала, по обычаю испанского флота, оставались на фрегате «Сабина». Под вечер ветер стих, и союзная эскадра легла в дрейф, надеясь, что в течение ночи ветер немного окрепнет.
Адмирал Сомарес также снялся с якоря. При Альхесирасе он потерял «Аннибала», «Помпей» тоже уже не годился, следовательно, из шести кораблей у него оставалось только четыре. Но к англичанам присоединился корабль «Надменный», и, таким образом, дивизия теперь состояла из пяти линейных кораблей, нескольких фрегатов и мелких судов. Сомарес был так озлоблен, что прямо на кораблях поставил печи для каления ядер. Хотя у него было только пять больших судов, а у союзников — девять, он все же решился во что бы то ни стало загладить свое поражение и избежать тем самым страшного суда английского адмиралтейства, и теперь шел на небольшом расстоянии за французско-испанской эскадрой, выжидая удобной минуты для нападения.
Около полуночи снова подул ветер, и эскадра продолжила путь к Кадиксу. Арьергард теперь составляли три корабля, построенные в одну линию: «Сан-Карлос», «Св. Херменегильда» и «Св. Антоний», 74-пушечный корабль, подаренный французами.
Адмирал Сомарес приказал «Надменному», отличавшемуся превосходным ходом, прибавить парусов и атаковать французский арьергард. «Надменный» скоро настиг французско-испанскую эскадру. Чтобы не быть замеченным, он погасил свои огни. Встав немного позади «Сан-Карлоса», он выстрелил в него из всех орудий и, не давая роздыха, пустил второй и третий залпы калеными ядрами. «Сан-Карлос» загорелся. Видя это, «Надменный» остановился и убавил паруса. «Сан-Карлос», объятый пламенем, оставшийся без управления, попал в воздушный поток и, вместо того чтобы оставаться в линии, отстал от обоих соседей. Он стрелял во все стороны: ядра его стали долетать до «Св. Херменегильды», которая, приняв его за голову английской колонны, направила на него весь свой огонь. Тут, по несчастной ошибке обоих испанских экипажей, эти два корабля схватились: пошли на абордаж и завязали упорную битву. Огонь на «Сан-Карлосе» усилился, перекинулся на «Св. Хермене-гильду», и в этом положении оба корабля продолжали самую жаркую перестрелку.
Ни та ни другая эскадра, среди ночной темноты, не узнала этого обстоятельства. Ни один корабль не смел подойти, не понимая, кто из противников принадлежит испанцам, а кто — англичанам.
Пожар все усиливался и разлил страшный свет по поверхности моря. Кажется, тут только рассеялось заблуждение храбрых испанцев, но уже было поздно: «Сан-Карлос» с ужасным треском взлетел на воздух, а через несколько минут взорвалась и «Св. Херменегильда».
«Надменный», видя, что «Св. Антоний» отделился от двух других кораблей, подошел к нему и смело атаковал его. «Св. Антоний», небрежно вооруженный, защищался без порядка и хладнокровия, необходимых для движения таких огромных военных машин. Он уже был сильно поврежден, а приближение двух новых противников, «Цезаря» и «Почтенного», сделало поражение его неизбежным. Потерпев значительный урон, он наконец вынужден был спустить флаг.
Жестоко отомстил адмирал Сомарес, нанес сокрушительный удар испанскому флоту, хоть и не покрыл себя славой.
Адмиралы Линуа и Морено на фрегате «Сабина» держались как можно ближе к месту ужасного события, но, не имея возможности среди ночной темноты ни различать, что происходит, ни отдавать приказания, пребывали в страшном беспокойстве. К рассвету они находились недалеко от Кадикса, где собралась вся эскадра. Недосчитались трех кораблей: погибли «Сан-Карлос» и «Св. Херменегильда», а «Св. Антоний» был взят в плен.
Еще один корабль союзного флота отстал, а именно — «Грозный». Лишенный части парусов, находясь в соседстве двух загоревшихся кораблей, которым он не мог принести никакой пользы, и боясь гибельных ночных ошибок, он несколько отстал от них, отделившись от эскадры. Увидев его утром в этом положении, англичане окружили его и атаковали.
Линуа, переходя с «Грозного» на «Сабину», сдал начальство над ним капитану Труду. Этот искусный и храбрый моряк, оценив свое положение с необыкновенным присутствием духа и поняв, что если он вздумает бежать, английские корабли непременно обгонят его, решился искать спасения в удачных маневрах и упорной битве. Экипаж разделял его мысли, никто не хотел омрачать лавры Альхесираса. Не дожидаясь, пока преследовавшие его противники соберутся вокруг, капитан Труд сам двинулся на фрегат «Темзу», бывший к нему всех ближе. Подойдя, он открыл по нему сильный огонь и принудил отстать. За «Темзой» шел на всех парусах 74-пушечный корабль «Почтенный». Чувствуя свое превосходство перед ним, капитан дождался его и вступил в сражение, между тем как остальные два английских корабля старались, обогнав его, запереть ему дорогу в Кадикс. Ловким маневром Труд приблизил бок своего корабля, вооруженный пушками, безоружной корме «Почтенного» и, соединяя превосходство артиллерии с выгодами маневрирования, осыпал его ядрами, сбил мачты и, наконец, пробил несколькими ядрами вровень с водой.
Избавившись от многочисленных противников, храбрый капитан Труд торжественно отправился к Кадик-скому порту. Часть жителей, привлеченная пальбой и ночными взрывами, выбежала на берег. Люди наблюдали торжество французского корабля, и, несмотря на весьма понятную горечь, ибо несчастная судьба двух испанских кораблей была уже известна, они радостными криками встретили «Грозный».
Англичане не могли оспаривать славы этих битв, что же касается материального урона, он был одинаков с обеих сторон. Французы потеряли один корабль, испанцы — два; но англичане один корабль оставили в руках французов, а другие два были так повреждены, что уже не годились в дело. Если бы не несчастный ночной случай, можно было сказать, что англичане разбиты.
Битва при Альхесирасе и возвращение «Грозного» принадлежат к самым замечательным делам в истории морских войн. Но испанцы пребывали в глубоком унынии, ибо, хоть адмирал Морено и действовал похвально, ничто не могло вознаградить утрату «Сан-Карлоса» и «Св. Херменегильды».
Португальские дела между тем были гораздо утешительнее.
Мы оставили князя Мира готовым открыть поход в Португалию, для того чтобы получить большее влияние на лондонские переговоры.
По условленному плану испанцы должны были действовать на левом берегу Тахо, а французы — на правом. Тридцать тысяч испанцев собрали за Бадахосом, на границе провинции Алентехо. Пятнадцать тысяч французов шли через Саламанку к провинции Трас-ос-Монтес.
Благодаря поспешным действиям, займам у духовенства и устранению всех прочих проблем испанское правительство успело вооружить тридцать тысяч, но артиллерия была еще в весьма плохом состоянии. Однако князь Мира, справедливо надеясь на воодушевление от соединения испанцев с французами, решительно настроился открыть военные действия и пожать первые лавры. Он пламенно желал приписать себе всю честь кампании, а французов берег про запас, на случай неудачи. Французы легко могли предоставить это утешение князю Мира: они тогда гнались не за славой, а за полезными результатами, которые заключались в занятии одной или двух португальских провинций.
Хотя война казалась легкой, однако надо было бояться одного: чтобы она не превратилась со стороны португальцев в войну народную. Ненависть их к испанцам легко могла привести к такой развязке, но приближение французов отбило всякую охоту к сопротивлению.
Итак, князь Мира поспешил перейти границу и подступил к португальским крепостям с полевой артиллерией, за неимением осадной. Он без труда занял Оливенсу, но гарнизоны в Эльвасе и Кампо-Майор заперлись в своих стенах и готовились к обороне. Князь Мира велел осадить их, а сам между тем пошел навстречу португальской армии.
Португальцы нигде не могли устоять и отступили к реке Тахо. Тогда осажденные крепости отворили ворота, Кампо-Майор сдался, в это же время подошел артиллерийский полк из Севильи и появился шанс начать правильную осаду Эльваса. Князь Мира стал преследовать неприятеля и быстро достиг берегов Тахо. Португальцы поспешили укрыться за рекой, и князь Мира овладел, таким образом, почти всей провинцией Алентехо.
Французы между тем все еще не переходили португальской границы: было очевидно, что если испанцы одни добились таких результатов, то, соединившись с французами, они в несколько дней овладели бы Лиссабоном и Порту.
Португальский двор, до сих пор не веривший в реальность затеваемого против него похода и устрашенный неудачным ходом дел, покорился и немедленно послал в главную квартиру испанской армии Пинто де Сузу принять те условия, какие союзникам угодно будет ему предписать.
Князь Мира, желая, чтобы королевская фамилия стала свидетельницей его торжества, призвал в Бадахос короля и королеву: для раздачи наград армии и для открытия конгресса. За королем и королевой отправился в Бадахос и Люсьен Бонапарт.
В таком положении были дела в конце июня и в начале июля.
Сражения при Альхесирасе и Кадиксе, возвратившие французскому флоту уверенность в собственных силах, стремительный поход в Португалию, доказывавший решительное влияние Бонапарта на Пиренейский полуостров и намерение его поступить с Португалией точно так же, как с Неаполем, Тосканой и Голландией, вознаграждали до некоторой степени несчастные события, происходившие в Египте.
Впрочем, в Европе еще не слышали ни об этих сражениях, ни о подписанной уже капитуляции, ни о неминуемой сдаче Александрии. Чтобы в Марселе узнать, что делалось на Ниле, требовался по крайней мере месяц, а иногда и больше. Известно было только о высадке англичан и о первых делах на Александрийской косе. Ничто, следовательно, не уменьшало веса Франции на переговорах, напротив, вес ее возрастал с увеличивающимся с каждым днем влиянием ее на дела Европы.
Действительно, начинали сказываться неизбежные последствия Люневильского договора. Австрия, обезоруженная и бессильная в глазах всего света, не могла уже противостоять замыслам Франции. Россия, правда, не думала уже о решительных действиях против Англии, но также и не собиралась мешать Франции на западе.
Поэтому Первый консул не старался более скрывать своих намерений. Простым указом он обратил Пьемонт во французский департамент, а насчет Неаполя объявил, что Флорентинский договор останется для этого двора законом. Генуя представила на его рассмотрение свою конституцию и просила сделать в ней некоторые изменения, имевшие целью усилить влияние исполнительной власти. Цизальпинская республика, составленная из Ломбардии, герцогства Моденского и легатств, теперь преобразовалась в союзное с Францией государство, целиком от нее зависимое.
Наконец, мелкие княжества, недавно еще искавшие опоры в посланнике Павла I Колычеве, ныне ждали облегчения своей участи от одной милости Первого консула. Всех усерднее в этом были агенты немецких владетельных князей. По Люневильскому договору предполагались секуляризация духовных владений и раздел их между наследными князьями. Этот будущий раздел пробудил честолюбие во всех. И сильные, и мелкие государи добивались лучшей доли. Бавария, Вюртемберг, Баден, Оранский дом преследовали своими просьбами главу Франции, от которого в большей степени зависело исполнение договора. Даже Пруссия, через агента своего в Париже, Луккезини, не стыдилась снизойти до роли просительницы и возвеличить своими исканиями власть Первого консула.
Следовательно, в шесть месяцев, прошедших с момента заключения Люневильского договора, влияние французского правительства все возрастало, ибо с течением времени могущество его становилось все очевиднее.
Все эти обстоятельства должны были отразиться на переговорах в Лондоне. Бонапарт по первым действиям Мену счел кампанию проигранной и желал подписать в Лондоне мир до предвидимой им развязки. Английские министры, не умевшие, подобно ему, предвосхищать результаты событий, боялись какого-нибудь отчаянного удара со стороны Египетской армии, столь славной своим мужеством, и также желали воспользоваться первой минутой успеха.
Таким образом, оба правительства, единодушно старавшиеся перед тем медлить, теперь так же единодушно решили окончить дело.
Но прежде чем мы снова пустимся в лабиринт этих обширных переговоров, следует описать событие, вызывавшее в это время всеобщее любопытство в Париже.
Пармские инфанты, которым предстояло занять тосканский престол, выехали из Мадрида в то самое время, как королевская фамилия отправилась в Бадахос, и теперь прибыли на границу с Пиренеями. Первый консул желал, чтобы они, прежде чем поедут во Флоренцию, побывали в Париже. Имея пылкое воображение, Бонапарт любил контрасты. Ему нравилось истинно римское зрелище: король, им созданный и поставленный его республиканской рукой. Особенно же любил Первый консул показывать, что не боится присутствия Бурбона и что слава ставит его выше всякого сравнения с древней династией. Любил он также перед глазами всего света расточать в Париже, недавно еще бывшем театром кровавой революции, великолепие и изящество, достойные истинного государя. Все это было призвано еще более обозначить переворот, произошедший во Франции под его управлением.
Ту же предусмотрительность, которая проявлялась в самых мелких подробностях военных действий, переносил он и на эти пышные представления, где должны были играть главную роль он сам и его слава. Лично уточнял все подробности, распределял места: все следовало создавать вновь, даже этикет, который необходим и в республиках.
Консулы довольно долго рассуждали о приеме, который следовало обеспечить королю и королеве Этрур-ским, и о церемониале, который требовалось соблюдать по отношению к ним. Чтобы устранить все затруднения, условились принять чету под вымышленными именами графа и графини Ливорнских и обходиться с ними как с чрезвычайно почетными гостями: словом, принять их так, как принимали в прошлом столетии цесаревича, ставшего впоследствии императором Павлом I, и императора Австрийского Иосифа II. В соответствии с этим и были отданы приказания гражданским и военным начальникам департаментов по всей дороге.
Новизна всегда прельщает народ, а посещение короля и королевы после двенадцати лет революции было самой удивительной новостью и, что еще важнее, самой лестной для французского народа, ибо эти король и королева являлись плодом его побед.
Везде молодых инфантов встречали радостные крики, везде им оказывали величайшие внимание и почтение. Никакие неприятные происшествия не напоминали им, что они едут по стране, незадолго перед тем потрясенной до основания. Одни роялисты, найдя в этом монархическом действе французской революции нечто утешительное для себя, тем не менее воспользовались случаем изъявить свою недоброжелательность. В театре, в Бордо, они стали яростно кричать: «Да здравствует король!» На этот крик народ отвечал: «Долой королей!»
Молодые инфанты прибыли в Париж в июне, намереваясь провести здесь целый месяц. Квартиру им отвели у испанского посла.
Хотя Первый консул был просто временно назначенным сановником, однако же он при этом оставался и представителем Франции, а потому все преимущества королевской крови должны были уступить этому достоинству. Инфантам предложили нанести ему первый визит, который он им вернет на следующий же день. Второй же и третий консулы должны были первыми навестить инфантов. Таким образом, восстанавливались преимущества их достоинства и рождения.
На другой же день по прибытии графа и графини Ливорнских в Париж испанский посланник граф Азара повез их в Мальмезон. Первый консул встретил их, окруженный своим двором. Граф Ливорнский, не зная, как ему держаться, простодушно бросился в объятия Бонапарта, который тоже обнял его и дальше обращался с молодыми супругами с отцовским добродушием и вниманием, сквозь которые, однако же, просвечивало превосходство могущества, славы и лет.
Первый консул должен был в Опере представить графа и графиню Ливорнских парижской публике, но в условленный день почувствовал себя нездоровым. Консул Камбасерес вместо него поехал с инфантами в Оперу. Войдя в ложу консулов, он взял графа Ливорнского за руку и представил его публике, которая отвечала единодушными рукоплесканиями, без всякого злобного или оскорбительного умысла.
Между тем праздные люди, привыкшие находить для самых обыкновенных случаев затейливые объяснения, перемывали на сто ладов прибытие испанских принцев в Париж. Те, кто искал только случая поострить, говорили, что Камбасерес представляет Франции Бурбонов. Роялисты, все еще надеявшиеся получить от генерала Бонапарта то, чего он не мог и не хотел для них сделать, утверждали, будто это уловка с его стороны, посредством которой он готовил умы к возвращению старинной династии. Республиканцы, напротив, говорили, что он хотел этим царским жестом подготовить Францию к восстановлению монархии, но только для самого себя
Министрам поручили устроить праздники для царственных путешественников.
Талейрану не было надобности приказывать. Будучи образцом вкуса и изящества при королях, он теперь имел еще большее право на это звание. Он устроил великолепный праздник в замке Нельи, куда явилось все лучшее общество Франции.
Вечером среди блистательной иллюминации вдруг возникла Флоренция, изображенная с удивительным искусством. Тосканцы, танцуя и распевая песни на знаменитой Пьяццо Векьо, поднесли молодым монархам цветы, а Первому консулу — венок триумфатора.
Этот праздник стоил огромной суммы денег. В нем видна была вся расточительность времен Директории, но соединенная с изяществом прошлого и совершенно новым оттенком благопристойности, который старался сообщить нравам революционной Франции новый строгий властелин.
Целый месяц столица представляла собой зрелище беспрерывных празднеств, но Первый консул не хотел, чтобы инфанты присутствовали при республиканских торжествах июля месяца, и сделал все необходимые распоряжения касательно их отъезда из Парижа до 14 июля.
Среди этих блестящих празднеств Первый консул старался дать несколько советов молодым супругам, которым предстояло управлять Тосканой, но был поражен слабыми способностями принца, который, пребывая в Мальмезоне, занимался с адъютантами играми, едва достойными отрока. Одна принцесса демонстрировала ум и внимательно слушала его наставления. Первый консул предвидел, что новые монархи не много принесут пользы в одной из лучших частей Италии и что ему часто придется вмешиваться в дела их королевства.
«Вы видите, — говорил он открыто некоторым членам правительства, — что это такое — принцы старинной крови, а в особенности те, кто воспитан при южных дворах. Как вверить им управление народами? Впрочем, нелишне показать Франции этот образчик Бурбонов. Каждый увидит, могут ли эти старые династии вынести все тяготы нашего века».
И действительно, наблюдая молодого инфанта, все соглашались с замечанием Первого консула. Генерал Кларк был приставлен к молодым государям для руководства в звании французского министра при короле Этрурском.
Среди всех этих дел, среди этих празднеств не было забыто главное — мир на море. Переговоры, завязавшиеся в Лондоне между лордом Хоксбери и Отто, стали публичными. С тех пор как обе стороны пожелали скорее кончить дело, они начали действовать откровеннее.
В особенности хотело мира новое английское правительство: в договоре заключался единственный повод к его существованию, ибо если бы решили продолжать войну, Питт был бы гораздо полезней, нежели Аддинг-тон. Министры считали представившийся случай самым удобным и не хотели повторить ошибку, за которую так осуждали Питта: а именно — что он не заключил мира перед битвами при Маренго и Гогенлиндене.
Английский король, как мы видели, также вернулся к миролюбивым мыслям: частично из уважения к Первому консулу, частично из-за досады на Питта. Народ, угнетенный голодом, настроенный на перемены, также ждал от окончания войны улучшения своей участи. Рассудительные люди, все без исключения, находили, что десять лет кровавой борьбы — это слишком много и не стоит дальнейшим упорством давать Франции новый повод к возвеличиванию. К тому же в Лондоне немало беспокоились о приготовлениях к высадке, замеченных по берегам Ла-Манша.
Одно только сословие в Англии с неудовольствием смотрело на нововведения Аддингтона: люди, занимавшиеся крупными сделками и подписавшие огромные займы Питта. Они видели, что мир, открыв море флагам всех народов, отнимет у них монополию на торговлю и остановит огромные финансовые операции.
Начав успешно действовать в Египте, Англия хотела воспользоваться этим улучшением своих дел только для скорейшего заключения мира с Францией. Лорд Хоксбе-ри вызвал Отто в министерство иностранных дел и поручил ему представить Первому консулу следующее предложение: «Египет теперь занят нашими войсками, им будут посланы значительные подкрепления, и можно надеяться на их успех. Однако же мы сознаемся, что борьба не кончена. Так прекратим кровопролитие, согласимся не удерживать Египет, а очистить его и отдать Порте».
К этому предложению лорд Хоксбери присоединил намерение Англии удержать Мальту, «ибо, — говорил он, — Англия обязывалась освободить Мальту в награду за добровольное отречение Франции от Египта. А так как ныне оставление Египта уже не добровольная уступка со стороны Франции, а следствие военных событий, то с какой стати будет Англия вознаграждать ее возвращением Мальты?»
В Ост-Индии английский министр по-прежнему требовал Цейлон, но им и довольствовался. Он предлагал возвратить Голландии мыс Доброй Надежды и английские владения в Южной Африке. Но при этом желал получить один из больших островов Антильского архипелага — Мартинику или Тринидад, по усмотрению Франции.
Первый консул немедленно ответил на предложения лондонского кабинета. Английские министры основывали свои требования на египетских событиях, а он обосновал свой отказ на делах португальских.
«Лиссабон и Порту, — отвечал он лорду Хоксбери через Отто, — будут в наших руках, как скоро мы
Первый консул Люсьен БонапартЖозефина Богарне Эммануэль-Жозеф СийесЖозеф Фуше
Луи Фонтан Бенжамен КонстанКлод-Амбруаз Ренье Жан-Жак Режи Камбасерес Генерал Савари Маршал Мюрат Георг IIIЧарльз Дженкинсом, лорд Хоксбери Уильям Гренвиль Фридрих-Вильгельм III Маршал Массена Шарль ПишегрюЖорж Кадудаль Генерал МороАдмирал Нельсон Генерал ДезеГенерал Клебер Мурад-беи Кардинал Консалъви РЖ VII1/АОЕ БЕ 65лМ5 Папа Пий VII и кардина1\ Капрара Александр I Франц I Лорд КорнуоллисГенерал Леклерк Франсуа-ДоминикТуссен-ЛувертюрИоганн-Людвиг Кобенцель Генерал Ришпанс Дени Декре Генерал Латуш-Тревилъ Маршал де Сен-Сир Фердинанд IIIпожелаем. Сейчас в Бадахосе ведут переговоры о спасении владений вернейшего союзника Англии. Чтобы защитить свою страну, португальское правительство предлагает запереть все свои порты для англичан и сверх того заплатить большую военную контрибуцию. Испания, кажется, не прочь принять эти условия. Но все зависит от Первого консула: он может согласиться на этот договор или отвергнуть его. И он непременно согласится и займет важнейшие португальские провинции, если Англия не решится заключить мир на благоразумных и умеренных условиях.
Англия требует, чтобы Франция оставила Египет. Пожалуй, но тогда Англия, со своей стороны, пусть отступится от Мальты, пусть она не требует ни Мартинику, ни Тринидад, а довольствуется Цейлоном, прекрасным приобретением, которое пополняет ее ост-индийские владения».
Ответ английского министра на эти предложения был весьма невыгоден Португалии и доказывал (впрочем, все давно это знали), что Англия не слишком заботится о союзниках, на которых навлекла беду. «Если Первый консул займет владения Португалии в Европе, — отвечал лорд Хоксбери, — Англия займет ее владения за морем. Она захватит Азорские острова, Бразилию и, таким образом, приобретет залог, который в ее руках будет иметь гораздо большую цену, чем Португалия в руках Франции».
Первый консул понял, что нужно заговорить в решительном тоне и высказать свою заветную мысль, то есть намерение бороться с Англией до тех пор, пока она не умерит свои требования. Он объявил, что никогда и ни под каким видом не уступит Мальту, что Тринидад принадлежит его союзнику, интересы которого он будет защищать наравне со своими собственными, что англичане должны довольствоваться Цейлоном и что, впрочем, ни один из спорных пунктов не стоит самого ничтожного из страданий, причиняемых миру новой войной.
К этим дипломатическим объяснениям присоединил Бонапарт объявление в «Мониторе» и подробный перечень военных приготовлений, производимых в Булони.
Действительно, группы канонерских лодок, выходя из гаваней Кальвадосского, Нижне-Сенского, Сомского
16 Консульство
и Шельдского департаментов, стекались вдоль берега к Булони. Первый консул не решился еще на высадку в Англии, но хотел устрашить ее своими приготовлениями, а в случае окончательного разрыва перейти даже от угроз к действиям. Он подробно объяснил это на заседании Совета, в котором участвовали только консулы. Вполне доверяя преданности своих товарищей, Бонапарт объявил им, что с существующими в Булони средствами пока не может предпринять высадку, что таким образом он лишь намерен дать понять Англии, что на нее готовится непосредственное нападение, для успеха которого генерал Бонапарт не пощадит ни жизни, ни славы, ни счастья. И если он не успеет получить у британского кабинета благоразумной уступки, то решится на последнее средство: дополнит булонскую флотилию, чтобы она могла поднять до ста тысяч человек, и сам отправится с ней попытать счастья в опасном, но решительном деле.
Желая привлечь на свою сторону общественное мнение Англии и всей Европы, Первый консул присоединил к дипломатическим нотам статьи в «Мониторе», обращавшиеся ко всей европейской публике. В этих статьях, образцах ясной и убедительной полемики, написанных самим Бонапартом и с жадностью поглощаемых читателями всех стран, он хвалил английских министров, представлял их людьми умными, рассудительными, благомыслящими, но напуганными интригами Питта и в особенности Уиндхема. На последнего сыпалось больше всего насмешек, потому что Бонапарт почитал его главой партии, призывающей к войне.
Далее Первый консул стремился успокоить Европу насчет честолюбия Франции: доказать, что завоевания ее едва могли сравниться с приобретениями Пруссии, России и Австрии вследствие раздела Польши, что она возвратила втрое или вчетверо больше земель, чем удержала, что Англия теперь также должна возвратить большую часть своих завоеваний и, удерживая Ост-Индию, приобретает огромную область, перед которой спорные острова ничего не значат.
Первый консул старался не оскорбить британскую гордость, но намекал, что последним средством его будет высадка и что если английские министры хотят, чтобы война завершилась истреблением одного из двух народов, то не найдется француза, который бы не был готов к новому отчаянному усилию, чтобы разрешить этот давний спор к вечной славе и пользе Франции.
Первый консул заканчивал одно из этих воззваний следующими странными, но прекрасными словами, которые со временем можно было смело отнести к нему самому: «Счастливы народы, когда, достигнув высокой степени благоденствия, они имеют благоразумное правительство, которое не подвергает всех выгод прихотям и непостоянству одной удачи!»
Эти статьи, отличавшиеся силой логики и языком, полным жизни, обратили на себя всеобщее внимание и произвели на умы сильное впечатление. Ни одно правительство не говорило еще так открыто и эмоционально.
Слова Первого консула, сопровождавшиеся нешуточными приготовлениями на северных берегах Франции, неизбежно должны были подействовать на политиков за Ла-Маншем.
Формальное объявление, что Франция никогда не уступит Мальту, произвело глубокое впечатление, и британское правительство отвечало, что оно, пожалуй, откажется от этого острова, с тем чтобы он был возвращен ордену Св. Иоанна Иерусалимского, но потребует в таком случае мыс Доброй Надежды.
Уступка Мальты была уже шагом вперед в переговорах, но Первый консул не хотел уступать ни Мальту, ни мыс Доброй Надежды, ни голландские владения на американском материке.
Наконец, английский кабинет перестал требовать Мальту и начал претендовать на испанский остров Тринидад. Первый консул так же мало был расположен отдать Тринидад, как и французскую Мартинику. Это была испанская колония, и она служила бы Англии грозным опорным пунктом в Южной Америке.
В таком положении находились дела в конце июля и начале августа 1801 года. С обеих сторон демонстрировался горячий энтузиазм. Приготовления, устроенные но берегу Франции, повторялись и у англичан. Везде
16* обучали народное ополчение, подвозили телеги для транспортировки войск. Английские газеты, склонявшиеся к войне, стали совершенно невоздержанны на язык.
Князь Мира между тем решил принять предложение Португалии и довольствоваться для Испании крепостью Оливенса, для Франции — двадцатью миллионами контрибуции, а для обоих союзников вместе — изгнанием из португальских гаваней всех английских судов, как военных, так и торговых.
После принятия таких условий весь поход делался одной пустой забавой, придуманной для развлечения временщика, пресыщенного монаршими милостями и задумавшего искать воинскую славу непозволительными путями, согласными с его преступным и безрассудным легкомыслием.
Князь Мира стал воздействовать на своих государей, взывая к их родительской нежности, возбудить которую было нетрудно. Он внушал им страх перед французами, страх немного запоздалый и весьма неосновательный: ибо кому могло прийти в голову, чтобы всего пятнадцать тысяч французов вздумали завоевать Испанию или хоть обеспокоить ее слишком продолжительным пребыванием. Для этого надо бы предположить замыслы, которых еще не было в уме Бонапарта даже в зародыше и которые родились позднее, после неслыханных дел, непредвиденных ни им самим, ни кем-либо другим. В настоящее время он желал только одного: вырвать еще один остров из рук Англии, а остров этот принадлежал Испании.
Приняв условия, предложенные лиссабонским двором, князь Мира велел изготовить два экземпляра договора: один должна была подписать Испания, другой — Франция. Годой подписал договор от имени своего двора в Бадахосе (ибо все совершалось тогда в этом городе), а потом уже представил его на ратификацию королю. Люсьен, со своей стороны, подписал экземпляр, предназначенный для Франции, и отправил его на ратификацию своему брату.
Первый консул получил эти известия в то самое время, когда лондонские переговоры велись с наибольшим жаром. Нетрудно догадаться, как новости его разгневали.
Хотя он всегда испытывал к своей семье нежные чувства, иногда даже до слабости, однако с родными он еще меньше сдерживал свою вспыльчивость, чем с посторонними, и в этом случае, разумеется, можно простить его порыв гнева. Бешенство его, обрушившееся на Люсьена, не знало границ. Однако он надеялся, что, может быть, договор еще не ратифицирован, и послал гонцов в Бада-хос объявить, что Франция не соглашается на ратификацию договора. Но когда гонцы прибыли, договор уже был подписан Карлом IV и обязательство было принято.
Люсьен, стыдясь неловкой, даже унизительной роли, предстоявшей ему в Испании, вместо блестящей, о которой он мечтал, отвечал на гнев брата порывом вспыльчивости, к которой также был склонен, и послал министру иностранных дел прошение об отставке.
Князь Мира, со своей стороны, заговорил языком высокомерным, самым смешным и безрассудным с таким человеком, как тогдашний правитель Франции. Сначала он объявил о прекращении военных действий против Португалии, потом потребовал выхода французов из Испании, присоединив к тому решительное объявление, что, если новые войска перейдут через Пиренеи, этот переход сочтут нарушением дружественных отношений. Сверх того, он потребовал возвращения флота, блокируемого в Бресте, и немедленного заключения общего мира для расторжения союза, сделавшегося тягостным для мадридского двора.
Эти действия были столь же непристойны, сколь и противоположны истинным выгодам Испании. Нужно, впрочем, сказать, что это несчастная участь двух испанских кораблей так сильно огорчила народ и немало содействовала досаде, которая выражалась так не вовремя и таким вредным образом.
Первый консул, разгневанный в высшей степени, отвечал немедленно, что французы останутся в Испании до заключения мира между Францией и Португалией, что, если армия князя Мира сделает один шаг, чтобы приблизиться к французскому корпусу, это сочтут объявлением войны и что, если к непристойному своему языку князь осмелится присоединить недоброжелательные Действия, тотчас же пробьет последний час испанской монархии.
Люсьену он предписал немедленно ехать в Мадрид, действовать там в качестве посла и ждать его дальнейших приказаний.
Этого хватило, чтобы устрашить и обуздать недостойного царедворца, который так легкомысленно губил интересы своей страны. Он очень скоро стал самыми покорными письмами вновь искать милости у человека, влияния которого на испанский двор сильно боялся.
Между тем надо было на что-нибудь решиться в отношении непостижимых действий мадридского кабинета. Талейран уехал на воды для поправки здоровья. Первый консул передал ему все документы и получил в ответ весьма подробное письмо, в котором излагалось мнение искусного политика об этом важном деле.
По мнению Талейрана, война дипломатических нот, несмотря на легкость, с которой Франция могла бы доказать в этом случае свою правоту, ни к чему не вела. Война с Испанией, не говоря о том, что удаляла от цели, заключавшейся в общем примирении Европы, была бы противоположна истинной политике Франции и, сверх того, показалась бы делом смешным в то время, когда французские войска стояли в Испании, а флот ее находился в Бресте.
Талейран предлагал гораздо лучшее средство наказать испанцев: отдать Англии испанский остров Тринидад, бывший единственным затруднением, замедлявшим заключение мира. Ведь отныне Испания своими действиями освободила Францию от всякой заботы о ней. В этом случае, продолжал Талейран, надо не тратить время в Мадриде, а выигрывать его в Лондоне, ускоряя переговоры с Англией.
Это мнение было обоснованным, и Первый консул с ним согласился. Считая, однако же, долгом чести защищать даже изменившего союзника, он сообщил Отто новые свои распоряжения насчет Тринидада и изъявил согласие на уступку этого острова, впрочем, не тотчас, а только в случае крайней необходимости, когда не будет уже возможности избежать разрыва.
К несчастью, безрассудные действия князя Мира ослабили позицию французского уполномоченного, а недавно полученное известие о сдаче генералом Бельяром
Каира еще более его стеснило. Однако упорная оборона генерала Мену в Александрии поддерживала пока некоторое сомнение, благоприятное для требований Франции.
В Англии все были обеспокоены приготовлениями, производившимися на берегах Ла-Манша. Чтобы успокоить умы, английское адмиралтейство отозвало с Балтийского моря Нельсона и вверило ему начальство над морскими силами, находившимися здесь. Это были фрегаты, бриги, корветы и другие мелкие суда.
Четвертого августа на рассвете Нельсон явился к французскому побережью с тридцатью мелкими судами. Его флаг развевался на «Медузе». Он занял позицию вне выстрелов артиллерии и оттуда намеревался бомбардировать флотилию.
Начальником французской флотилии был храбрый моряк, человек с прекрасным воинским дарованием и блестящим будущим — адмирал Латуш-Тревиль. Флотилия была построена в три дивизии, на одной линии, параллельно берегу. Она состояла из крупных канонерских лодок, которые поддерживались бригами. На эти разнородные суда посадили три батальона пехоты, которая должна была содействовать храбрым морякам.
Нельсон разместил впереди своей эскадры отряд бомбардирских лодок и открыл огонь прямо с пяти часов утра. Но пускаемые из огромных мортир бомбы по большей части лишь залетали за береговую линию и падали в песок. Французские солдаты и матросы, стоя неподвижно под этим беспрерывным огнем, впрочем, более устрашающим, нежели убийственным, являли пример редкого хладнокровия и даже время от времени демонстрировали веселость. К несчастью, им нечем было отвечать на этот шквальный огонь: французские бомбардирские лодки, построенные наскоро, не выдерживали потрясения от огня мортир и только изредка отвечали неточными выстрелами. Порох, взятый из старых запасов, отсырел и снаряды не долетали на требуемое расстояние.
Французские экипажи настоятельно просили, чтобы их вели вперед: как для того, чтобы начать доставать неприятеля ядрами, так и для того, чтобы броситься на абордаж. Но канонерские лодки при дувшем в то время северо-восточном ветре маневрировали с трудом. А потому приходилось под этим градом, продолжавшимся шестнадцать часов, стоять неподвижно. Храбрый Латуш-Тре-виль находился среди своих солдат с адъютантом Первого консула полковником Савари.
До тысячи бомб пустили на флотилию, но каким-то чудом ни одного человека не ранило серьезно. Оказались потоплены две лодки, но при этом никто не погиб.
Несмотря на невыгодную позицию французов и влажность их пороха, англичане пострадали больше. В конце концов Нельсон решил отступить, обещая отомстить через несколько дней.
Теперь все ждали его возвращения, и французский адмирал принимал меры, чтобы встретить гостей как можно лучше. Он усилил свою линию, снабдил ее мощными орудиями, ободрял матросов и солдат, которые, впрочем, и так стремились в бой и гордились тем, что отбили атаки англичан в родной для них стихии.
Шестнадцатого августа Нельсон явился с отрядом гораздо более значительным: все предвещало, что он решился на упорную атаку, на абордаж. Французы только того и ждали.
У Нельсона было 35 судов, множество лодок и две тысячи отборного войска. Под вечер он построил свои лодки вокруг фрегата «Медуза»; четырем дивизиям следовало двинуться ночью на веслах и броситься на абордаж. Пятая дивизия, состоявшая из бомбардирских лодок, должна была встать уже не против флотилии, а сбоку, так, чтобы обстреливать ее перекрестным огнем.
Первая дивизия, под началом капитана Сомервиля, сбилась с курса и оказалась далеко за правым крылом французской флотилии.
Две дивизии центра, направленные прямо в середину французской линии, подошли к ней первые, около часу ночи, и немедленно атаковали ее.
Дивизия под началом капитана Паркера бросилась на один из больших бригов, поставленных между лодками для поддержания их. Это был бриг «Этна» под началом капитана Певрие. Шесть шлюпок окружили его, чтобы взять на абордаж. Англичане смело взобрались на палубу вслед за своими офицерами, но были встречены двумястами штыками и сброшены в море. В несколько мгновений неприятель был опрокинут, и с брига открыли по шлюпкам сильный огонь, который сбил большую часть матросов.
Немного далее дивизия капитана Котгрейва мужественно схватилась с французскими лодками, но так же безуспешно. Большая канонерская лодка «Сюрприз», окруженная четырьмя шлюпками, одну из них потопила, другую взяла в плен, а остальные две обратила в бегство.
В то время как вторая и третья английские дивизии встречали такой отпор, первая, которой следовало атаковать правое крыло флотилии, с опозданием, но достигла места сражения. Она угрожала крайним точкам линии и повторяла привычный маневр англичан: старалась пройти между берегом и французскими судами. Но отряды 108-й полубригады открыли по ней с берега убийственный огонь.
Английские моряки, не унывая, бросились на канонерскую лодку «Вулкан», охранявшую крайнюю правую точку линии. Командир ее, храбрый и решительный прапорщик Геру, встретил неприятелей со своими матросами. Завязался упорный бой. В то время как он защищался на палубе, английские моряки, окружавшие его, старались перерубить канаты, чтобы увести саму лодку. К счастью, одна из привязей была железной, и все усилия оборвать ее остались тщетными. Огонь с других французских лодок и с берега принудил англичан наконец отступить.
Уже занималась заря. Четвертая неприятельская дивизия, которая должна была атаковать левый фланг, для чего ей требовалось зайти далеко на запад, также не успела прийти вовремя. Бомбардирские лодки Нельсона, в свою очередь, благодаря ночной темноте не могли причинить большого вреда флотилии. Итак, атаки англичан оказались отражены на всех направлениях, море было усеяно трупами, многие суда потоплены или взяты в плен. Около четырех часов утра англичанам пришлось начать отступление. Это оказалась уже не просто неудачная попытка, а настоящее поражение.
Французские экипажи были в восторге: они потеряли очень немного людей, между тем как англичане понесли значительный урон. Радость победителей еще более усиливалась мыслью, что они разбили самого Нельсона и обратили в ничто угрозы, произнесенные им всенародно в адрес французской флотилии.
На другом берегу пролива это дело должно было произвести совершенно противоположное впечатление, и хотя сражение на якоре нисколько не доказывало, что подобная флотилия будет в состоянии совершить то же на море, однако же вера англичан в предприимчивый гений Нельсона очень ослабела, а неизвестная опасность, угрожавшая им и раньше, стала тревожить их больше прежнего.
Но затруднения, замедлявшие переговоры, понемногу исчезали. Вследствие действий испанского двора Первый консул наконец позволил Отто уступить Тринидад. Эта уступка и два дела при Булони положили конец нерешительности британского кабинета. Англия согласилась на предлагаемые условия, оставалось только преодолеть некоторые мелкие разногласия.
Уступая Мальту ордену Св. Иоанна Иерусалимского, Англия хотела отдать ее под покровительство какой-нибудь державы, которая поручилась бы за ее независимость, ибо вовсе не была уверена, что орден в состоянии защищать свой остров. Поочередно были предложены и отвергнуты Рим, Неаполь и Россия.
Наконец, выявились затруднения насчет самой формы, в которой следовало составить договор. Так как он должен был произвести сильное впечатление на общественное мнение в обоих государствах, то с двух сторон столько же дорожили формой, сколь и существенным содержанием.
Англия соглашалась перечислить в договоре все владения, которые она возвращала Франции и ее союзникам, но она хотела также перечислить и те, которые окончательно оставались за ней. Требование это было справедливо, гораздо справедливее желания Первого консула, который противился этому.
К таким неважным, в сущности, затруднениям присоединялись другие: насчет пленных, долгов, секвестра и в особенности насчет союзников с каждой стороны и веса, какой следовало им придать в протоколе.
Однако обе стороны желали как можно скорее закончить дело и успокоить встревоженное общество. Вследствие того решили немедленно утвердить полученные результаты, а детали отложить до окончательных переговоров. Для большей верности Первый консул решил назначить участникам переговоров определенное время. Дело было в середине сентября 1801 года, он дал им сроку до 2 октября. По истечении этого срока Бонапарт был намерен воспользоваться осенними туманами и привести в исполнение свой замысел: расположиться против берегов Англии и Ирландии. Все это излагалось с почтением по отношению к великому и гордому народу, но тем решительным тоном, после которого не остается никаких сомнений.
Отто и лорд Хоксбери были людьми достойными и желали мира: как ради самого мира, так и из весьма понятного и позволительного тщеславия видеть свои имена под одним из величайших договоров в истории. Поэтому они делали все, что, не противореча данным им инструкциям, могло облегчить составление предварительных условий.
Кроме всего вышеизложенного, нужно отметить, что Англия обещала очистить Порто-Феррайо для французов, они же, со своей стороны, обещали уйти из Тарент-ского залива.
Египет решено было освободить от войск обоих государств и возвратить Порте. Владения Португалии оказались также защищены.
Таковы были общие последствия этого прекрасного мира, самого славного, какой когда-либо заключала Франция. Немудрено, что французский уполномоченный горел нетерпением довершить начатое. Наконец, 1 октября вечером, накануне даты, определенной Первым консулом, Отто подписал предварительные условия мира. Было положено держать это известие в тайне одни сутки, чтобы курьер французского посольства мог сначала доставить договор своему правительству.
Курьер-счастливец 3-го числа в четыре часа пополудни прибыл в Мальмезон. Консулы в это время совещались, радость их по вскрытии депеш была неописуемой, они бросили работу и стали обнимать друг друга. Первый консул, охотно сбрасывавший личину скрытности перед людьми, которые пользовались его доверием, дал волю своим чувствам. Огромные результаты, которых он достиг за такое короткое время, возвращение Франции, благодаря его гению и неутомимому труду, благоденствия и мира — это были деяния, которым, разумеется, он мог радоваться и которыми мог гордиться!
Среди этих излияний всеобщего удовольствия Камба-серес сказал ему:
— Вот мы заключили с Англией мирный договор, теперь остается нам заключить договор о торговле, тогда будет уничтожен всякий повод к несогласию между обоими государствами.
— Не торопитесь, — отвечал Бонапарт с живостью, — мы добились политического мира — тем лучше, станем им пользоваться. Если сумеем, то добьемся и торгового. Но я ни за что не пожертвую промышленностью Франции, я помню бедствия 1786 года36.
Между тем консул Камбасерес, со свойственной ему тонкостью, коснулся затруднения, которое впоследствии опять рассорит эти два народа.
Известие немедленно было отправлено в Париж. Под вечер на улицах раздался пушечный салют. Все спрашивали друг друга, какое счастливое событие стало тому причиной. Любопытные сбегались в публичные места, где представители правительства объявляли о подписании предварительных условий мира. Всеобщий восторг при этом известии был весьма естественен, ибо договор с Англией утверждал спокойствие континента, уничтожал повод к коалициям и открывал весь мир французской торговле и промышленности.
Первый консул немедленно ратифицировал предварительный договор и поручил отвезти его в Лондон.
Если радость во Франции была общей и всеобъемлющей, то в Лондоне она доходила до исступления. Народ предавался неистовым порывам восторга, свойственным исключительно буйному характеру англичан. На общественных экипажах, выезжавших из Лондона, крупными буквами писали мелом: «Мир с Францией». Люди повсюду останавливали эти экипажи, выпрягали из них лошадей и тащили некоторое время сами.
Народ воображал, что разом прекратятся все его страдания, голод и дороговизна, люди мечтали о каких-то огромных, невозможных благах. Бывают дни, когда народы, подобно частным лицам, утомившись враждой, чувствуют необходимость в примирении, хотя бы преходящем и обманчивом. В течение этого периода народ английский был почти убежден, что он любит Францию, и с восторгом кричал: «Да здравствует Бонапарт!»
Такова уж радость человеческая: она может быть жива и сильна только при условии, что мы не знаем будущего. Возблагодарим премудрость Божью, закрывшую от человека Книгу судеб. Сколько сердец осталось бы холодными в тот день, если бы вдруг упала завеса, скрывавшая будущее, и англичане и французы увидели бы перед собой пятнадцать лет страшной ненависти, беспощадной войны, континент и море, орошенные кровью двух народов!
Нельзя не упомянуть об одном любопытном обстоятельстве: через несколько часов после подписания мирного договора прибыл из Египта курьер с известием о сдаче Александрии 30 августа 1801 года. Он прибыл через восемь часов после подписания договора, если б он приехал раньше, то из уважения к общественному мнению англичане могли бы требовать большего и переговоры, вероятно, были бы прерваны. Мир ведь дороже одного лишнего островка.
Это обстоятельство доказывает, что оборона Александрии принесла пользу и что даже в самом отчаянном положении всегда следует повиноваться голосу чести и держаться до последнего.
Для составления окончательного договора уполномоченным приказали приехать в Амьен, пункт, расположенный между Лондоном и Парижем. Британский кабинет избрал уполномоченным почтенного моряка, убежденного, что наступило время положить конец страданиям мира. Это был лорд Корнуоллис, один из наиболее уважаемых в Англии военачальников.
Отправляясь на место переговоров, лорд сначала заехал в Париж представиться Первому консулу.
Бонапарт избрал брата своего Жозефа, к которому был особенно привязан и который, по мягкости обращения и кротости, чрезвычайно подходил на роль миротворца, обыкновенно на него и возлагаемую.
Талейран, видя, что честь подписания этих договоров предоставлена человеку, совершенно постороннему трудам французской дипломатии, не мог удержаться от мимолетного движения досады, которое, как искусно он ни старался подавить его, все-таки было подмечено наблюдательными и язвительными дипломатами. Но искусный министр знал, что ему невыгодно настраивать против себя семейство Первого консула и что если, помимо доли Бонапарта, останется еще в этих договорах частица славы, то Европа никому не отдаст ее, кроме министра иностранных дел.
После этого переговоры, начатые с разными государствами и еще не законченные, были завершены почти немедленно. Первый консул одним ударом устранил все затруднения, замедлявшие мир с разными дворами, и решил оглушить Францию всякого рода радостями, быстро следовавшими одна за другой, изумить и упоить ее неслыханными результатами.
Первый консул закончил переговоры с Португалией и через Люсьена подписал в Мадриде отвергнутые прежде бадахосские условия, сделав в них небольшое изменение: он уже не настаивал на занятии одной из португальских провинций, потому что отныне не имелось никакой надобности удерживать залоги, которыми он вначале желал запастись.
Бонапарт потребовал только вознаграждения за военные издержки, предоставления французской торговле и промышленности некоторых льгот и закрытия для английских судов, военных и торговых, португальских портов.
Освобождение Египта уничтожало всякие недоразумения с Оттоманской Портой. Талейран оговорил с посланником султана в Париже предварительные условия мира, по которым положено было возвратить Египет Порте, восстановить прежние взаимоотношения с Францией и все торговые и морские договоры.
Подобные же конвенции заключили с Тунисом и Алжиром.
Был также подписан договор с Баварией, который укреплял те же дружественные отношения с Французской республикой, какие существовали между Баварией и древней французской монархией. Это оказалось настоящим возобновлением Вестфальского и Тешенского договоров: Бавария уступала Франции все, что прежде принадлежало ей на левом берегу Рейна; Франция, со своей стороны, обязывалась в будущих переговорах о делах Германии употребить все свое влияние для исходатай-ствования Баварии достаточного вознаграждения и, сверх то^о, ручалась за целостность ее владений.
Наконец, для довершения общего мира, Талейран и русский посол граф Морков после продолжительных споров подписали договор, которым официально объявлялся мир, давно уже существовавший на деле. Единственно, по поводу герцогства Сардинского согласились на статью, по которой обе державы обещали полюбовно заняться интересами короля Сардинского и соблюсти их во всем, что будет согласно с настоящим порядком вещей. То есть Первый консул обеспечивал себе полную свободу относительно этого монарха, а именно — право со временем вознаградить его передачей ему герцогства Пармского или Пьяченцы.
С Россией сначала подписали открытый договор, в котором было просто сказано, что между обоими государствами восстанавливается доброе согласие и что они не станут терпеть, чтобы выходцы из того или другого государства строили против прежнего своего отечества преступные козни. Эта статья относилась, с одной стороны, к польским выходцам, с другой — к эмигрантам.
К этому открытому договору была присоединена секретная конвенция, в которой обе державы обещали снова соединить свои усилия, чтобы произвести в Германии такие территориальные изменения, какие будут наиболее благоприятны для равновесия Европы. Далее говорилось, что Франция будет стараться исходатайствовать выгодные вознаграждения курфюрсту Баварскому, великому герцогу Вюртембергскому и великому герцогу Баденскому. (Последний, из уважения к императрице Елизавете Алексеевне, бывшей принцессе Баденской, был также внесен в число покровительствуемых Россией владетелей.) Кроме того, упоминалось, что по заключении морского мира неаполитанские владения будут освобождены, но в случае новой войны должны оставаться нейтральными.
Первый консул немедленно отправил в Петербург своего адъютанта Коленкура с весьма ловким и дружеским письмом к императору, в котором радовался заключению мира, извещал о многих мелочах и предлагал вести с ним сообща все важные дела мира.
Коленкур должен был, до приезда нового посла, занять место Дюрока, который слишком поспешно выехал из Петербурга. Его побудило к отъезду следующее обстоятельство.
Император Александр приказал пригласить Дюрока присутствовать при короновании, но граф Панин не передал ему приглашения. Впоследствии, когда это дело объяснилось, Александр I, негодуя на неисполнение своих приказаний, удалил графа из столицы, а на его место назначил Кочубея, одного из членов своего совета.
Одним словом, все предвещало доброе согласие с Россией. Тонкое и лестное внимание Первого консула должно было еще более скрепить это благорасположение.
Восторг французов не знал пределов, и для торжества общего мира решили устроить в Париже большой праздник. Его назначили на 18-е брюмера. Невозможно было лучше выбрать день, ибо все эти чудесные результаты явно проистекли из торжества Революции.
На празднике должен был присутствовать и лорд Корнуоллис. Он прибыл в Париж 7 ноября со множеством своих соотечественников: немедленно по подписании предварительных условий поток запросов на въезд во Францию значительно увеличился. Отто послали триста паспортов, но их оказалось мало, и он потребовал еще
некоторое количество. Так же усердно просили пропуска и суда собирающиеся закупать во Франции съестные припасы и ввозить туда английские товары. Все просьбы удовлетворялись без малейшего затруднения, так что торговые отношения тотчас же восстановились с невероятной скоростью и усердием.
Восемнадцатого брюмера Париж уже был полон англичан, горевших нетерпением взглянуть на новую Францию, вдруг озарившуюся таким блеском, а всего более — на человека, бывшего в то время предметом удивления для всего света.
В день праздника каретам было запрещено ездить по городу, исключение сделали для одного лорда Корнуоллиса. Толпа почтительно расступалась перед знаменитым представителем английских войск, приехавшим мирить свое отечество с Францией. Он с удивлением увидел Францию, нисколько не похожую на ту безобразную страну, как описывали ее в Лондоне эмигранты. Все его соотечественники разделяли это чувство и выказывали его с простодушным восторгом.
В то время как в Париже проходил этот праздник, в Лондоне, в Сити, дан был великолепный обед. Среди громких рукоплесканий провозглашались следующие тосты:
За короля Великобритании!
За принца Уэльского!
За свободу и благоденствие Соединенного королевства Великобритании и Ирландии!
За Первого консула Бонапарта и за свободу и благоденствие Французской республики!
Последний тост сопровождался шумными единодушными криками.
Итак, Франция помирилась со всеми европейскими государствами. Оставалось заключить еще один мир, который, может быть, представлял больше затруднений, чем все предыдущие, ибо требовал не военного, а совсем иного гения, а между тем был так же необходим, потому что восстанавливал спокойствие в сердцах и согласие в обществе. Это был мир Республики с Церковью.
Далее нам следует описать сложнейшие переговоры, проводимые с этой целью с представителем Святого престола.
КОНКОРДАТ
Первый консул желал, чтобы в годовщину 18-го брюмера, в день, назначенный для торжества по поводу примирения Франции с Европой, можно было также отпраздновать примирение Франции с церковью. Он употребил все возможные усилия, чтобы вовремя завершить переговоры с Римом о соединении религиозных обрядов с народными празднествами.
Но с духовенством гораздо труднее вести переговоры, чем со светскими властями: тут мало выигрывать сражения; в том и состоит величие человеческой мысли, что ее можно победить только силой, подкрепляемой убеждением. Религия явно принадлежала к тем вопросам, в которых революция перешла за пределы разума и справедливости. Ни один предмет не требовал так много исправлений, как этот.
Революция ослабила духовенство, его богатство, влияние и льготы; она поглотила его вместе с дворянством, парламентом и самим престолом. Иначе и быть не могло. Учредительное собрание поступило справедливо, уничтожив его и заменив духовенством, чуждым дел государственных, не имеющим недвижимости и получающим жалованье.
Но требовать от Рима утверждения таких преобразований уже было достаточно самонадеянно. Чтобы достичь успеха, следовало ограничиться только этим, а не подавать папе законный предлог возражать против посягательства на самые неизменные и святые начала веры.
Первый консул, успокоив своей властью всех пострадавших, извлек служителей церкви из их тайных убежищ, возвратил из изгнания и заменил присягу гражданской конституции простым обещанием повиноваться законам. Но с возвращением изгнанных раскол в церкви сделался еще очевиднее, может быть, даже соблазнительнее.
С одной стороны выступали священники конституционные, или присягнувшие, законным образом получившие право отправления священных обрядов и пользовавшиеся возвращенными им храмами. С другой стороны — неприсягнувшие, священники, не согласившиеся дать присягу: они совершали богослужение в частных домах и утверждали, что открытое богослужение в церквах неправедно.
Умершие священнослужители высшего ранга постепенно замещались правителями, получавшими тайные полномочия от Рима. Таким образом, почти канула в небытие одна из самых благоразумных и древних мер, принятых французской церковью: управление епархий капитулами, а не агентами Римского престола. Французская церковь утратила свою независимость, потому что поступала под непосредственное управление Рима.
Во французском обществе 1801 года нельзя было, не подвергаясь большой опасности, предоставить враждебным фракциям право руководить совестью народа. Нельзя было оставить в их руках факел гражданской войны, который они могли перенести куда угодно от Вандеи до Севенского хребта. Нельзя было допустить, чтобы они нарушали мир семей, тревожили умирающих, выманивая у них незаконные сделки, подрывали доверие к правительству и, наконец, посягали на всякого рода собственность, даже на ту, которой сама революция обещала вечную неприкосновенность.
Взгляд Первого консула на устройство общества был слишком глубок и верен, чтобы он мог равнодушно смотреть на религиозные беспорядки, терзавшие Францию; к тому же он имел и другие причины устранить их.
Могло ли быть в 1800 году что-нибудь, очевиднее необходимости восстановить алтарь Людовика Святого, Карла Великого и Хлодвига, короля франков, опрокинутый на время? Если бы Бонапарт вздумал быть пророком или проповедником, он выглядел бы смешно; восстанавливая же своими руками этот священный алтарь, собственным примером возвращая к нему заблудший народ, он совершал дело, назначенное ему свыше. Но только с его славой и можно было взяться за такое!
Два повода — утверждение порядка в государстве и в семействах и удовлетворение нравственной потребности душ — внушили ему твердое намерение восстановить католическую религию в прежнем ее виде, отняв у нее только политическое значение, которое он считал несовместимым с тогдашним положением французского общества.
При таких побудительных причинах нет надобности выяснять, действовал ли он по внушению религиозного чувства или из политических и корыстных видов. Он действовал из благоразумия, то есть вследствие глубокого знания человеческой природы, — и этого достаточно.
Надо, впрочем, заметить, что Бонапарт любил порассуждать о философских и религиозных вопросах с Мон-жем, Лагранжем, Лапласом, которых уважал и любил. Он нередко колебал их неверие ясностью, оригинальностью и силой своих доводов. К этому нужно еще прибавить, что он был воспитан в непросвещенной и благочестивой стране, под руководством набожной матери и что, следовательно, вид древнего католического алтаря пробуждал в нем воспоминания детства, всегда имеющие сильное влияние на восприимчивое и пылкое воображение.
Предпринятое им начинание между тем оказалось весьма затруднительным. Окружавшие его люди, почти все без исключения, мало были расположены к восстановлению древней религии; а все они — сановники, полководцы, литераторы и ученые — были творцами Французской революции и единственными ее защитниками. Следовательно, Первому консулу приходилось идти против мнения своих соратников и друзей.
Ученые, например, Лаплас, Лагранж и в особенности Монж, говорили Бонапарту, что он унижает свое правление и свой век перед Римом. Даже Редерер, самый отчаянный в то время приверженец монархизма, желавший быстрого и полного возвращения монархии, с прискорбием смотрел на проект восстановления религии.
Сам Талейран, усердный ревнитель всего, что могло сблизить настоящее с прошедшим, а Францию — с Европой, так успешно радевший об общем мире, довольно холодно относился к так называемому миру религиозному. Он рад был прекращению гонений на духовенство, но, озабоченный личными воспоминаниями, вовсе не желал восстановления старой католической церкви с ее правилами и дисциплиной.
Военные сподвижники генерала Бонапарта, полководцы, храбро сражавшиеся под его началом, но по большей части люди без всякого образования, пропитанные пошлыми лагерными шутками, тоже не были довольны происходящим. Окруженные славой, они боялись сделаться перед алтарем предметом насмешек.
Наконец, даже братья Первого консула, беспрестанно вращаясь в среде современных литераторов, опасаясь за власть брата и всего, что только было похоже на серьезное сопротивление, усиленно отговаривали его и называли его намерение неосторожной или по крайней мере преждевременной реакцией.
Итак, Первого консула осаждали всякого рода советами. Одни уговаривали его не вмешиваться в религиозные дела, ограничиться прекращением гонений на духовенство и предоставить присягнувшим и неприсягнувшим священникам улаживать между собой дела, как им угодно.
Другие, понимая опасность равнодушия и бездействия, советовали ему воспользоваться представившимся случаем, объявить себя главой французской церкви и, таким образом, вырвать из рук чужеземной власти огромную силу религии.
Третьи, наконец, предлагали обратить Францию в протестантизм и говорили, что, если он первый сделается протестантом, вся Франция с радостью последует его примеру.
Первый консул противопоставлял этим недальновидным советам всю силу своего ума и красноречия. Он составил себе библиотеку из немногочисленных, но отборных книг, относившихся по большей части к истории церкви, и преимущественно к взаимоотношениям церкви и государства. Он приказал перевести с латыни сочинения Боссюэ по этому предмету. Все это Бонапарт прочитал в немногие свободные минуты, остававшиеся ему от занятий делами, и, заменяя недостаток знаний гением, как было и при составлении Гражданского Кодекса, изумил всех точностью, обширностью и разнообразием сведений в области религии. Он каждый день рассуждал на эти темы со своими товарищами, с министрами, с членами Государственного совета и Законодательного корпуса, словом, со всеми лицами, мнение которых почитал полезным изменить. Он поочередно опровергал все предлагаемые ему ложные взгляды всегда самыми точными, ясными, решительными доводами.
У Бонапарта уже имелся план. Приняли решение помирить Французскую республику и римскую церковь, заключив договор с папой на основаниях, определенных революцией.
Условия договора были следующими:
1. Уничтожение духовенства, претендующего на политическую власть и обладающего земельной собственностью. Его следовало заменить духовенством, занимающимся исключительно отправлением обязанностей своего сана, получающим содержание от правительства, выбираемым правительством и утверждаемым папой.
2. Новое распределение епархий: шестьдесят вместо ста пятидесяти восьми.
3. Регулирование форм богослужения передано светской власти.
4. Подотчетность духовенства Государственному совету.
Это была та же гражданская конституция 1790 года,
с изменениями, которые позволили бы Риму принять ее.
План Первого консула был вполне приемлем для окончательного установления правил богослужения, но надо было подумать о переходе от настоящего состояния к будущему, предполагаемому. Как поступить с уже действующими духовными сановниками? Как прийти к согласию со всеми этими разными духовными лицами, епископами и простыми священниками, принесшими присягу и неприсягнувшими, из которых одни были приверженцами революции и отправляли богослужение открыто, в церквах, другие же, по большей части возвратившиеся эмигранты, исполняли обязанности своего сана втайне и враждовали с новым правительством?
Первый консул придумал решение, на принятие которого трудно было уговорить Рим, ибо на протяжении восемнадцати веков церковь никогда не делала того, что он собирался ей предложить. По его системе нужно было уничтожить все существующие епархии. Очистив, таким образом, все места действия, следовало начертить на карте
Франции шестьдесят новых епархий, сорок пять епис-копств и пятнадцать архиепископств. Для замещения всех должностей Первый консул должен был избрать шестьдесят прелатов, без разбора, из присягнувших и не принесших присяги, но более из последних, потому что они были многочисленнее и пользовались уважением и любовью прихожан. Тех и других следовало избирать из духовных лиц, заслуживших доверие правительства, пользовавшихся общим уважением и примиренных с революцией. Этих прелатов папе предстояло утвердить, после чего им оставалось немедленно вступить в должность, под надзором светской власти и Государственного совета.
Правительство должно было определить им приличное жалованье из государственных доходов. За это папа соглашался признать законным отчуждение церковных имуществ, примирить женатых священников с римской церковью, — словом, содействовать правительству в прекращении всех бедствий того времени.
План был, за исключением некоторых мелочей, превосходен — как для будущего, так и для настоящего. Но мы увидим, как трудно совершать добро, даже когда оно необходимо и удовлетворяет действительной и сильной потребности.
В Париже существовала партия насмешников, состоявшая из поклонников философии восемнадцатого века, старых янсенистов, обратившихся в конституционных священников, и, наконец, солдат, пропитанных простонародными предрассудками, — вот препятствие, которое имелось со стороны Франции.
В Риме же сохраняли верность обычаям старых времен: там боялись, коснувшись иерархической дисциплины, задеть в то же время и догматы; там господствовало искреннее или лицемерное уважение к ничтожным мелочам в религии; более же всего там питали ненависть к Французской революции и некоторую слабость по отношению к французской роялистской партии, состоявшей из эмигрантов, духовенства и дворян, частично живших в Риме, частично переписывавшихся с ним.
Первый консул стремился к исполнению своего плана с непоколебимой твердостью и терпением; переговоры его с Римом принадлежат к продолжительнейшим и труднейшим переговорам в истории церкви. Никогда еще светская и духовная власти не сталкивались при таких важных обстоятельствах и не имели таких достойных представителей.
Молодой человек, рассудительный и глубокий в своих намерениях и непоколебимый в своей воле, по странной прихоти Провидения встретился с первосвященником редкой добродетели, с наружностью и нравом истинно ангельскими, но в то же время до того упорным, что он был способен принять венец мученика, защищая интересы церкви. Лицо его, в одно и то же время и живое, и кроткое, прекрасно выражало восторженную чувствительность его души. Лет шестидесяти от роду, слабый здоровьем, со склоненной в раздумьях головой и взглядом умным и проницательным, он был достойным представителем не той уже надменной церкви, которая при Григории VII37 повелевала и достойна была повелевать варварской Европой, но гонимой религии, которая, не имея более в руках своих грома небесного, сохранила над людьми одну только силу — кроткого убеждения.
Тайное очарование влекло его к Бонапарту. Когда они встретились во время итальянских войн, вместо неистового ратника, которого описывали осквернителем алтарей и убийцей эмигрантов и священников, Пий VII нашел умного молодого человека, говорящего, как и он, на итальянском языке, с самыми умеренными мнениями, заботившегося о поддержании порядка и должном уважении к алтарям. И не только не гнавшего французских священников, но употреблявшего всю свою власть на то, чтобы уговорить итальянские церкви принимать их и давать им пропитание. Удивленный и очарованный, епископ Имолы (так назывался тогда папа Пий VII) удержал буйный дух итальянцев своей епархии и оказал генералу Бонапарту такие же услуги, какие тот оказывал его церкви.
Впечатление, произведенное этим первым общением, не изгладилось из сердца папы и имело влияние на все его действия по отношению к генералу, когда он уже стал консулом и императором. Вот верное подтверждение истины, что в любых обстоятельствах — ничтожных или важных — доброе дело не пропадает. И действительно, впоследствии, когда в Венеции созвали собор для избрания преемника Пию VI, скончавшемуся в Валенсе, память первых действий главнокомандующего Итальянской армией имела сильное и благодетельное влияние на избрание нового папы: выбор собора пал на Пия VII в надежде найти в нем миротворца, который сблизит Рим с Францией.
Первый консул, послав гонца, объявил свои намерения новоизбранному папе. До заключения дальнейших условий мир между Францией и Римом будет восстановлен йе /асШ на основании Толентинского договора. Святой престол также будет восстановлен и признан французами, как в прежние времена. О возвращении трех больших областей, Болонской, Феррарской и Романьи, не было сказано пока ни слова. Но папа возвратил себе свой престол, и в стране воцарился мир, — остальное он предоставлял воле Провидения.
Первый консул, кроме того, приказал неаполитанцам оставить Папскую область, и они действительно оставили ее, за исключением Беневенто и Понтекорво. Во время передвижений войск он приказал щадить папские владения. Наконец, он послал Мюрата, командовавшего французскими войсками в Нижней Италии, преклонить колена перед папским престолом.
Вследствие этих-то необыкновенных событий папа и отправил в Париж, по просьбе Первого консула, монсеньора Спину — генуэзского священника, хитрого, набожного и жадного, — для ведения переговоров как политических, так и религиозных.
Сначала монсеньор Спина не получил никакого официального титула, но скоро, видя, что, кроме прусского и испанского министров, которые уже находились в Париже, туда прибыли посланники русский, австрийский, баварский, неаполитанский, — словом, уполномоченные всех дворов, папа разрешил монсеньору Спине принять официальный титул посла и объявить о цели своего посольства.
Партия французских эмигрантов стала громко возмущаться и прилагать все возможные усилия, чтобы воспрепятствовать сближению Франции с церковью, зная, что если лишится такого мощного орудия пропаганды, то потеряет одну из главных своих опор. Но Пий, несмотря на то, что был огорчен, а иногда даже и запуган этими воплями, твердо решил поставить интересы религии и Святого престола выше интересов любых партий. Одна только причина замедляла еще исполнение его намерений, а именно: смутная и весьма безосновательная надежда вернуть легатства, утраченные по Толентинско-му договору. Монсеньору Спине было предписано замедлять дело, чтобы выждать, не придет ли Первому консулу в голову счастливая мысль возвратить Папскому престолу легатства. Несколько замечаний Первого консула зародили в душе папы гораздо больше надежды, чем ему хотели подать.
— Пусть святой отец положится во всем на меня, — говорил часто Бонапарт, — пусть отдастся в мои руки, и я сделаюсь для церкви новым Карлом Великим.
— Если он Карл Великий, — отвечали кардиналы, неплохо знакомые с историей, — то пусть докажет это, возвратив нам достояние св. Петра38.
Если французские патриоты, еще полные идей восемнадцатого столетия, с неудовольствием смотрели на укрепление католической церкви, то итальянские патриоты взирали на возможность восстановления правления церкви с истинным отчаянием. А потому невозможно было требовать, чтобы Первый консул вернул под власть папы еще совсем недавно освободившиеся легатства. Но римский двор, финансы которого находились в плачевном состоянии с тех пор, как он лишился большей части своих доходов, рассуждал иначе.
Впрочем, папа, живший отшельником среди пышного Ватикана, заботился о земных благах гораздо меньше, чем кардинал Консальви, а кардинал, в свою очередь, думал о них меньше, чем монсеньор Спина. Последний же хитрил в переговорах, выслушивал все, что ему говорили насчет религиозных вопросов, делая вид, что придает им величайшее значение, и в то же время, намекая ловко пущенной фразой на бедность Святого престола, старался обратить внимание сторон на легатства. Но хитрость не удавалась: его решительно не хотели понимать, и он все тянул дело в надежде получить положительный ответ.
Для переговоров с монсеньором Спиной Первый консул выбрал, как мы уже сказали, знаменитого аббата Бернье, примирителя Вандеи. Этот аббат, лишенный всякого внешнего блеска, одаренный глубоким знанием человеческой природы и чрезвычайным благоразумием, весьма сведущий в делах канонических, был главным инициатором восстановления мира в южных провинциях.
Ныне он очень сочувствовал всему, что могло укрепить добытый с таким трудом мир, и смотрел на сближение Франции с Римом как на одно из самых верных средств упрочить его. Поэтому он настаивал на том, чтобы как можно раньше начать переговоры с Римом.
Получив инструкцию Бонапарта, он объявил уже перечисленные нами предложения французского правительства. Монсеньор Спина пришел в ужас от этих условий, называл их неисполнимыми, противными вере и объявил, что его святейшество никогда на них не согласится. Он требовал, чтобы в начале Конкордата было сказано, что католическая вера — это государственная религия Франции, чтобы консулы всенародно ее исповедовали, а правительство отреклось от всех законов и актов, несовместимых с декларацией государственной религии.
Что касается нового распределения епархий, то Спина соглашался на число, назначенное Первым консулом, но говорил, что папа не в праве отрешать епископов, что от начала существования римской церкви ни один из его предшественников не дерзал этого делать, и если бы его святейшество позволил себе такое нововведение, то создал бы очередной раскол, направленный на этот раз против самого Престола. Тех из епископов, кто благорасположен к французскому правительству, могут назначить в их прежние епархии. Тех же из них, кто, напротив, вели или ведут себя так, что не заслуживают доверия правительства, можно оставить в стороне, а в ожидании их смерти, вероятно, весьма близкой, если судить по их летам, вместо них будут управлять в качестве викариев сановники, избранные папой и Первым консулом.
Кроме того, монсеньор Спина допускал в состав духовенства представителей разных групп священников, но только относительно вакантных епархий. И решительно не хотел, чтобы на эти места назначались присягнувшие новой конституции духовные лица, если только они не отрекутся, пусть и формально.
Статья о назначении епископов самим Бонапартом и утверждении их папой не представляла затруднений. Первый консул во всем уравнен с прежними королями Франции, а значит, назначение епископов должно принадлежать ему по праву.
Но должность Первого консула, по крайней мере в ту минуту, была избирательной. Да, Бонапарт был католиком, но преемники его могли быть и не католиками, а протестантским властителям Рим не давал права назначать епископов. Монсеньор Спина требовал, чтобы это исключение было обозначено специально.
Насчет священников обе стороны были согласны: их следовало назначать епископам, а гражданская власть их позже утверждала.
Обещание подчиняться законам государства было допущено с некоторыми изменениями.
Санкции папы на продажу церковной собственности стоили римскому уполномоченному больших усилий. Он сознавал невозможность исправить зло и вернуть утраченную собственность, но требовал, чтобы Риму было предоставлено право озвучить декларацию, которая могла бы прояснить мнение папы по этому предмету. Спина соглашался отказаться от дальнейшего выяснения всех обстоятельств, но не хотел даже формально признавать законность продаж.
В качестве компенсации он требовал возвращения еще не проданных имений и дозволения умирающим завещать свое имущество богоугодным заведениям.
Наконец, простить женатых священников и вернуть их в лоно католической церкви было лишь вопросом снисхождения и потому легко далось Риму, который всегда готов прощать, если согрешивший сознает свою вину.
Но монсеньор Спина исключил из общей амнистии два класса духовенства: бывших монахов и епископов, принесших присягу. Этим способом Папский престол показывал, что никак не может примириться с министром иностранных дел Талейраном.
Требования римского двора хоть и не исключали возможности договориться с французским правительством, однако предвещали большие разногласия.
Первый консул сильно досадовал и обнаруживал нетерпение. Он несколько раз виделся с монсеньором Спиной и объявил ему, что никогда не отступит от основных начал своего проекта. Он объяснил, что главная цель его правления состоит в соединении честных и благомыслящих людей всех партий и он приложит это правило к церкви, как приложил его к государству, что это единственное средство прекратить смятение во Франции.
Аббат Бернье, в свою очередь, обращался к монсеньору Спине с живейшими просьбами устранить затруднения, противопоставляемые римским двором намерениям Первого консула.
«Объявить, что католическая вера есть государственная религия, — говорил он, — решительно невозможно: это противоречит принятым во Франции идеям и никогда не будет допущено в качестве закона ни Трибунатом, ни Законодательным корпусом. Это утверждение можно заменить констатацией факта, а именно: католическая религия есть господствующее вероисповедание большинства французской нации. Первый консул может лично присутствовать при отправлении католического богослужения, и присутствие такого человека весьма важно, но ставить ему в обязанность отправление некоторых обрядов церкви, исповедь и причащение — неверно, потому что это значило бы потребовать, чтобы он шагнул за пределы, назначенные ему отношениями с французским обществом. Надо стараться обратить умы на путь истинный, но не давать им повод к смеху.
Наконец, — продолжал аббат Бернье, — наступило время закончить переговоры, потому что Первый консул становится недовольным. Он начинает думать, что папа не в силах развязаться с партией эмигрантов. Кончится тем, что он откажется от доброго дела, которое было затеял, и оставит французскую церковь на произвол судьбы, не говоря уже о том, что станет действовать неприязненно против римского двора в Италии».
Монсеньор Спина начинал сильно беспокоиться. Он был предан вере и, еще более, чем вере, — корысти. Требуя беспрестанно денег для своего двора, он хотел возродить богатство и расточительность прежних времен. Но безуспешность попыток вернуть утраченные провинции совершенно лишила его бодрости. Он замечал, что Первый консул, столь же хитрый, как и итальянские священники, не хочет открываться перед людьми, которые сами не желают открыться. Кроме того, он видел все дворы у ног Бонапарта, видел, что вся Германия зависела от Франции, что Португалия подчинялась ее воле и сама Англия, истомленная борьбой, вынуждена была приступить к переговорам о мире.
При таком положении дел монсеньор Спина понял, что остается только одно: подчиниться требованиям Первого консула и ожидать желаемого единственно от его милости.
Первый консул, с обычной своей энергией, вывел римского уполномоченного из затруднения. Он приказал написать проект Конкордата и предложить его монсеньору Спине. Этим вопросом занимались в министерстве иностранных дел два духовных лица, оставивших свое звание, Талейран и д’Отрив. По счастью, посредником между ними и монсеньором Спиной стал искусный Бернье.
Проект этот был прост, ясен и решителен. Изложенный в виде закона, он заключал в себе все, что могло предложить французское правительство. Незамедлительно по написании он был представлен монсеньору Спине. Прелат испугался и предложил отправить его в Рим, говоря, что сам не может его подписать.
«Но отчего же вы отказываете в своей подписи? — спросили его. — Разве вы не имеете полномочий? В таком случае для чего вы жили полгода в Париже? Для чего разыгрываете роль уполномоченного? Или, может быть, вы находите, что проект этот нельзя принять? В таком случае объявите о том, и французский кабинет, который не может изменить своих предложений, прекратит с вами переговоры. Поссорит это нас с римским двором или нет, мы увидим, но по крайней мере мы покончим с монсеньором Спиной».
Хитрый прелат не знал, что отвечать. Не смея сознаться, что считает предложения Франции неисполнимыми, он объявил, что по делам религии один только папа может подписывать договоры. И вследствие того снова предложил отправить проект его святейшеству. «Хорошо, — отвечали ему, — но по крайней мере одобрите его». Монсеньор Спина отказался и от одобрительного отзыва, только уточнил, что будет нижайше просить его святейшество о принятии договора, который должен восстановить во Франции католическую религию.
В Рим отправили курьера с проектом Конкордата и предписанием господину де Како, французскому посланнику при римском дворе, представить его папе для немедленного и решительного принятия. Курьер этот вез подарок, который должен был вызвать в Италии великую радость, — деревянное изваяние Пресвятой девы Л орете кой, похищенное во времена Директории из Лорет-ской соборной церкви и хранившееся с тех пор в Национальной библиотеке в Париже.
Первый консул знал, что многие истинно верующие люди считали помещение этого святого предмета в королевской библиотеке богохульством, и вознамерился прежде возвратить папе драгоценную святыню, а потом предложить ему проект.
Дар был встречен в Романье с восторгом, который трудно понять во Франции, и папа принял проект гораздо благосклоннее, чем ожидали. Достойный первосвященник, занятый выгодами веры гораздо больше своих суетных благ, не видел в проекте ничего невозможного и полагал, что с некоторыми изменениями в изложении статей он вполне удовлетворит желаниям Первого консула.
Он назначил кардиналов Кавандини, Антонелли и Гер-диля для предварительного рассмотрения проекта. Они Должны были представить донесение собранию в составе двенадцати кардиналов, предварительно произнеся клятву над Евангелием, что сохранят дело в глубочайшей тайне: папа, опасаясь интриг и протеста французских эмигрантов, старался спасти комитет от всякого влияния партий. При нем постоянно находился французский посланник Франсуа де Како, человек благородный и умный, проникнутый философскими взглядами восемнадцатого столетия, к которому принадлежал по летам и по воспитанию, и чувствами, которые Рим внушает каждому, кто живет среди его разрушенного величия и религиозной пышности.
Отправляясь из Парижа, Како просил у Первого консула инструкции. Бонапарт отвечал ему следующими прекрасными словами: «Обходитесь с папой так, как если бы у него было двести тысяч войска».
Како любил и Пия VII, и Бонапарта, и старался всячески расположить их друг к другу. «Доверьтесь Первому консулу, — твердил он беспрестанно папе, — он устроит ваши дела. Но исполняйте то, что он просит, — это необходимо ему для успеха». Первому консулу он говорил: «Не теряйте терпения. Папа самый святой, самый дружелюбный из людей. Он готов удовлетворить ваши требования, но дайте ему на то время. Надо сначала приучить умы кардиналов к решительным предложениям, которые вы сюда присылаете. В Риме люди гораздо преданнее вере, чем вы думаете. Со здешним двором надо обходиться кротко. Если обойтись с ним круто, он растеряется и бросится в какую-нибудь крайность: здесь, пожалуй, готовы принять мученичество как последнее прибежище».
Наконец, когда труд был окончен, папа и кардинал Консальви несколько раз совещались с господином Како. Они сообщили ему проект римского двора. Како, находя, что он имеет слишком много разногласий с проектом французского кабинета, употреблял все усилия, чтобы побудить папу к переменам. Для этого надо было снова собрать совет из двенадцати кардиналов, что опять отняло много времени, и Како, не получив значительных результатов, стал причиной потери целого месяца. Наконец договорились изложить проект, который отличался от проекта Бонапарта, в следующих статьях:
1. Католическая вера должна быть объявлена во Франции господствующей или государственной религией.
2. Консулы должны ее исповедовать публично.
3. Составится новое епархиальное разделение на шестьдесят епархий, не более, как того желает Первый консул.
4. Папа обратится к прежним епископам с требованием, чтобы они добровольно сложили с себя сан.
Почтенный первосвященник отправил Первому консулу трогательное послание, в котором между прочим говорил:
«Избавьте меня от всенародного отрешения старых прелатов, которые за благо церкви претерпели жесточайшие гонения. Во-первых, в этом отношении право мое весьма сомнительно, во-вторых, мне больно поступить так с несчастными и изгнанными служителями алтаря. Что ответили бы вы, если бы от вас потребовали, чтобы вы принесли в жертву генералов, которыми вы окружены и усердие которых так часто даровало вам победу?.. В сущности, результат, которого вы добиваетесь, будет тот же, потому что большая часть епархий упразднится или смертью, или отречением епископов, и вы их заместите. Что же касается небольшого числа епархий, остающихся занятыми вследствие отказа епископов, мы поручим их управление викариям, достойным нашего общего доверия».
В остальных статьях римский проект почти не разнился с французским.
Пока в Риме тратили время на собраниях кардиналов и совещаниях секретарей с господином Како, Первый консул в Париже окончательно потерял терпение. Он начинал подозревать, что римский двор интригует — или с эмигрантами, или с иностранными державами, а именно с Австрией.
К его природной недоверчивости присоединились внушения врагов религии, которые старались уверить его, что он обманут и что, при всей его проницательности, он сделался жертвой итальянской хитрости.
Первый консул не слишком был расположен верить, что можно оказаться хитрее его, однако хотел все же опустить свой лот в это море, которое ему представляли столь глубоким. И в тот самый день (13 мая), когда курьер отправлялся с депешами из Рима, Бонапарт в Париже
17 Консульство
впервые применил угрозы. Он потребовал в Мальмезон аббата Бернье, монсеньора Спину и Талейрана и объявил им, что не верит более в расположение римского двора, желание которого угодить эмигрантам, видимо, превозмогает желание примириться с Францией, а интересы партий господствуют над интересами религии. Заявил, что не может допустить совещаний с враждебными дворами, а может быть, и с предводителями эмигрантов, о том, должно ли вести переговоры с Французской республикой. Церкви, могущей получить от него великие благодеяния, следовало бы тотчас же или принять их, или от них отказаться, а не мешать благу народов бесполезной нерешительностью. Он обойдется и без римского двора, если ему не хотят помогать, оставит духовенство на произвол судьбы и удовольствуется наказанием бунтовавших священников, а других оставит жить, чем они знают. Он с легкостью может почитать себя в отношении Папского престола свободным от всяких обязательств, даже от обязательств Толентинского договора, потому что этот договор де /ас!о не действует со дня объявления войны между Пием VI и Директорией.
Первый консул произнес эти слова тоном холодным, решительным, убийственным и тем достиг своей цели: злосчастный Спина уехал из Мальмезона в совершенном расстройстве и поспешил в Париж, чтобы отправить своему двору депеши, исполненные страха, которым сам был проникнут.
Талейран, со своей стороны, написал господину Како депешу, в которой предписывал ему отправиться к папе и кардиналу Консальви и объяснить им, что Первый консул, полный доверия к самому святому отцу, решительно не доверяет его правительству, что он намерен прекратить эти бесконечные и не слишком чистоплотные переговоры и что ему — самому посланнику — предписано оставить Рим в течение пяти дней, если проект Конкордата не будет принят немедленно, и притом принят без малейших изменений.
Депеша эта была получена в Риме в последних числах мая. Она очень огорчила Како, который опасался встревожить римский двор, а может быть, даже довести его до отчаянных мер. Но приказания Первого консула были
так решительны, что не представлялось возможным отложить их исполнение.
Итак, господин Како отправился к папе и кардиналу Консальви и показал им свои инструкции, которые обоих сильно поразили. Кардинал Консальви перепугался особенно, потому что он был ясно обозначен в депеше как основной виновник бесконечных промедлений в этих переговорах. Однако на самом деле он был совершенно невиновен в этом деле: главную причину медлительности составляли старинные неповоротливые правила папской канцелярии, древнейшей в мире.
Французский посланник предложил папе и кардиналу Консальви идею, которая их сначала изумила и напугала, но за которую они потом ухватились как за единственное средство к спасению.
«Вы не хотите, — говорил он им, — принять Конкордат, присланный из Парижа, во всей его полноте, — хорошо, пусть тогда кардинал сам отправится во Францию, облеченный всеми нужными полномочиями. Он объяснится с Первым консулом, внушит ему доверие и получит его согласие на необходимые перемены в тексте документа. Если встретится какое-нибудь затруднение, он будет на месте, чтобы немедленно его устранить. Своим присутствием он предупредит потерю времени, которая более всего действует на нетерпеливый характер главы нашего правительства».
Прискорбно было папе расставаться с министром, без которого он уже не умел обходиться и который один помогал ему сносить бремя верховной власти. Кардинал, со своей стороны, приходил в ужас при одной мысли, что ему надо ехать в Париж, в эту революционную бездну, поглотившую, как ему рассказывали, множество жертв. Он дрожал, воображая себя перед лицом грозного полководца, предмета всеобщего удивления и страха.
Итак, кардинал решился ехать, но решился как человек, который идет на смерть. «Если непременно нужна жертва, — говорил он, — то я отдаю себя в жертву и полагаюсь на Провидение».
Он был так неосторожен, что даже писал в Неаполь письма, согласные с этими словами. О письмах этих узнал Французский посланник в Неаполе, который сообщил о них Первому консулу, но, по счастью, Бонапарт нашел их больше смешными, чем оскорбительными.
Но поездка Консальви в Париж не разрешала всех затруднений, не устраняла всех опасностей. Отъезд Како во Флоренцию, где находилась главная квартира французской армии, мог стать мрачным предзнаменованием для римского и неаполитанского правительств. Обоим правительствам действительно беспрестанно угрожали сдерживаемые до сих пор, но не менее прежнего бурные нападки итальянских патриотов. Папское правительство ненавидели люди, не желавшие оставаться под управлением духовенства, а количество таких людей в Папской области было очень значительно. Неаполитанское правительство было, в свою очередь, ненавидимо за пролитую им кровь. Итальянские буйные головы могли принять отъезд Како за некое разрешение и решиться на какую-нибудь опасную попытку. По крайней мере папа этого боялся.
Для предотвращения всякого неверного истолкования было решено, что Како и кардинал Консальви выедут из Рима в одной карете и вместе доберутся до Флоренции. Притом, выезжая, Како оставил в Риме секретаря посольства.
Консальви и Како выехали 6 июня, в одной карете, и кардинал везде показывал народу француза, приговаривая: «Вот французский министр», — до того он желал, чтобы все знали, что разрыва не произошло.
Во Флоренции кардинал Консальви расстался с Како и с трепетом отправился в Париж.
Между тем Первый консул, получив из Рима измененный проект и видя, что изменения касаются больше формы, нежели содержания, успокоился. Известие, что кардинал Консальви едет сам, чтобы окончательно согласовать все пункты, вполне удовлетворило его. Он видел в этом верный признак скорого соглашения и, сверх того, — славу для своего двора.
Поэтому Бонапарт приготовился принять первого министра римского двора как можно лучше. Кардинал прибыл в Париж 20 июня. Аббат Бернье и монсеньор Спина поспешили встретить его и успокоить насчет расположения Первого консула, но кардинал поехал в Маль-мезон все же весьма встревоженный мыслью увидеть самого Бонапарта.
Первый консул, будучи предупрежден, старался не увеличивать смущения кардинала. Он употребил в разговоре все искусство, каким одарила его природа, чтобы завладеть умом своего собеседника, выказать ему свое расположение к церкви, разъяснить, какие важные затруднения связаны с восстановлением во Франции религиозных обрядов, и в особенности дать ему понять, что интересы французов для него гораздо важнее, нежели неудовольствие духовенства, эмигрантов и низложенных принцев, которых в это время вся Европа презирала и оставила.
Бонапарт объявил кардиналу Консальви, что готов изменить в проекте некоторые мелочи, не нравившиеся римскому двору, но с тем чтобы в главном папа согласился на основание нового духовного учреждения, в котором соединились бы благоразумные и почтенные священники из всех партий.
Кардинал вышел от Первого консула совершенно успокоенный. Он мало показывался в Париже, жил с надлежащей скромностью, далекой и от чрезмерной строгости, и от итальянского легкомыслия, в которых обыкновенно упрекают римское духовенство. Прелат немедленно принялся за дело с аббатом Бернье, желая разрешить последние затруднения переговоров.
Наконец оба правительства согласились во всех вопросах, на разумных основаниях, обеспечивавших и независимость французской церкви, и совершенное согласие ее с Римом. Никогда еще не заключали с папой более либерального и в то же время более верного религиозным началам договора.
Между тем вокруг Первого консула происходило сильное волнение, имевшее целью удержать его от окончательного согласия. Люди, обыкновенно пользовавшиеся правом давать ему советы, осуждали его решение. Партия конституционного духовенства сильно беспокоилась, боясь быть принесенной в жертву. Эти священники еще прежде выпросили себе позволение собрать что-то вроде национального собора в Париже. Первый консул согласился на это, чтобы расшевелить римский двор и дать ему осознать опасность проволочек.
Была при Первом консуле оппозиция более важная — оппозиция, зародившаяся в самом министерстве.
Талейран, раздосадованный действиями римского двора, который оказался вовсе не так сговорчив и снисходителен, как он сначала полагал, сделался холоден и неблагосклонен к Папскому престолу. Приступив к переговорам довольно охотно, он стал потом явно противодействовать им.
Мы уже говорили, что он уехал на воды, оставив Первому консулу написанный в самых резких выражениях проект договора, оскорблявший папу безо всякой нужды. Римский двор, разумеется, не соглашался подписать его.
Обязанности Талейрана принял на себя д’Отрив. Будучи когда-то почти посвящен в духовное звание и отказавшись от него во время революции, д’Отрив не слишком благосклонно смотрел на желания папы. Он высказывал множество пустых возражений и в день подписания Конкордата даже послал Первому консулу записку по этому поводу.
По окончании всех этих споров собрался совет консулов и министров, и на нем вопрос был окончательно обсужден и решен. Тут опять повторились известные уже возражения. Консул Камбасерес, защитник Конкордата, говорил о нем с жаром и успешно опровергал эти возражения.
Он утверждал, что опасность оскорбить умы, о которой так беспокоятся уважаемые министры, существует только в отношении немногих строптивых умников, а общество с радостью увидит восстановление религии, в которой уже чувствует нужду; что денежные расчеты в этих вопросах не играют важной роли и что, напротив, государственная собственность будет обеспечена гарантиями Папского престола более, чем когда-либо.
Тут Камбасерес был прерван Бонапартом. Всегда непреклонный, коль скоро речь заходила о народном имуществе, он объявил, что заключает Конкордат именно ради сохранения этой собственности и раздавит своим могуществом глупых или неблагонамеренных попов, которые вздумали бы употребить во зло этот великий акт.
Консул Лебрен высказался в том же смысле, что и Камбасерес, и, наконец, Первый консул объявил свое мнение в немногих словах, но ясно, точно и решительно. Он знает сложность и даже опасность своего предприятия, но виды его простираются гораздо дальше временных затруднений, и он твердо решился.
После этого уже невозможно было противиться, оставалось разве что осуждать его и восставать против его решения за глаза. Все покорились, и Бонапарт отдал приказание подписать Конкордат в том виде, как его составили аббат Бернье и кардинал Консальви.
По своему обыкновению предоставлять старшему брату заключение всех важных договоров, Первый консул назначил своими уполномоченными Жозефа Бонапарта, государственного советника Крете и, наконец, аббата Бернье, который вполне заслужил эту честь своими стараниями и искусством.
Со стороны папы выступали кардинал Консальви, монсеньор Спина и отец Казелли, ученый итальянец, присоединившийся к свите, чтобы помогать своими познаниями в теологии.
Дипломаты съехались к Жозефу, прочитали еще раз бумаги, внесли мелкие изменения, какие обыкновенно оставляются на последний момент. И 15 июля 1801 года подписали этот договор, важнейший из всех, какие римский двор когда-либо заключал с Францией и другими державами, потому что договор этот означал конец одной из самых ужасных бурь, которым подвергалась католическая религия.
Много еще оставалось дел после подписания этого договора, получившего впоследствии название Конкордата. Следовало ратифицировать его в Риме, выхлопотать буллы, сопровождающие его обнародование, и папские грамоты с требованием сложения пастырского достоинства, обращенные к старому духовенству. Затем произвести новое распределение епархий, избрать шестьдесят епископов и во всех этих мерах действовать в согласии с Римом. То есть предстояли беспрерывные переговоры до того самого дня, когда можно будет отслужить благодарственный молебен в соборе Парижской Богоматери.
Первый консул, всегда нетерпеливо стремившийся к результату, желал, чтобы все это было окончено поскорее и можно было разом торжествовать мир с европейскими державами и мир с церковью. Он еще медлил с обнародованием договора, потому что сначала надо было получить ратификацию, но поспешил сообщить о нем Государственному совету на заседании 6 августа. Он не пересказывал самого акта, а только представил подробный отчет, к которому присоединил изложение всех причин, побудивших правительство к заключению договора.
Слышавшие его в этот день были поражены точностью, силой, величием его языка. Это было истинное красноречие сановника, главы государства. Однако же, сколь ни велико было восхищение этим простым и сильным красноречием, оно не позволяло благосклоннее смотреть на самое дело. Сановники хранили печальное молчание, как будто видели в прекращении раскола гибель одного из прекраснейших дел революции. Поскольку акт не был еще представлен на рассмотрение совету, то и не обсуждался, ничто не нарушило безмолвной холодности этого заседания. Но Первый консул изъявил свою волю, волю уже неизменную, а этого было довольно для многих и обеспечивало молчание и тех, кто боялись его гнева, и тех, кто, уважая его гений, решились извинять его ошибки.
Кардинал Консальви выехал из Парижа, чтобы возвратиться в Рим и призвать к папскому двору Како. Папа с нетерпением ждал их возвращения, потому что в Италии происходили сильные волнения. Итальянские патриоты в Неаполе и Папской области нетерпеливо выжидали повода к новому перевороту, а наемники королевы Неаполитанской ждали только подходящего случая, чтобы броситься на французов. Эти люди, столь несогласные в целях, готовы были соединить свои усилия, чтобы ввергнуть все в крайний беспорядок. Новости о договоре, заключенном между римским и французским правительствами, и уверенность во вмешательстве Мюрата, стоявшего неподалеку с войском, пока удерживали самых строптивых.
Папа был чрезвычайно рад возвращению в Рим кардинала Консальви и французского министра. Он немедленно созвал совет кардиналов, чтобы представить им договор, и велел изготовить буллы, грамоты и все акты, бывшие непременным следствием Конкордата. Однако же посреди этой радости папа оставался в сильном волнении. Он был убежден в благородстве своих действий, знал, что приносит интересы партии в жертву общему благу церкви. Но, хотя он и удалил от себя всех недоброжелателей, резкие слова их все-таки доходили до его слуха и тревожили его.
Полагая, что впредь надо действовать заодно с Первым консулом, Пий VII решил, что обряд ратификации будет совершен со всей возможной торжественностью. Для этого он объявил ее в Консистории, а чтобы придать этому действию больше величия, посвятил в сан трех кардиналов.
Папа избрал в качестве посла при французском дворе знаменитого римского дипломата кардинала Капрару, отличавшегося происхождением, образованностью, опытом и умеренностью. Сам Первый консул изъявил желание иметь его при себе, папа поспешил исполнить это желание и даже не щадил труда, чтобы уговорить кардинала, который был стар, слаб здоровьем и вовсе не желал возобновлять труд своей молодости. Однако же настоятельные просьбы папы и польза церкви наконец победили его упорство.
Папа решился возложить на кардинала Капрару высшее дипломатическое достоинство римского двора, объявив его легатом а 1а!еге. Такому легату даются самые обширные полномочия, он имеет право совершать все, что может быть совершаемо без личного присутствия папы.
Принимая дружеские жесты папы, Первый консул, со своей стороны, оказывал ему величайшее уважение. Он предписал Мюрату не беспокоить папских областей переходами, цизальпинцам приказал покинуть небольшое Урбинское герцогство, которым они овладели под предлогом споров о границах. Обещал вскоре очистить Анкону, а между тем послал деньги для содержания гарнизона, чтобы снять это бремя с папской казны.
Неаполитанцы непременно хотели присвоить себе две области, находившиеся посреди их владений, но принадлежавшие папе: Беневенто и Понтекорво. Первый консул вторично приказал покинуть эти области.
Наконец, он велел приготовить и роскошно меблировать один из богатейших домов в Париже для кардинала Капрары.
Местным начальникам везде приказано было принимать его сообразно его высокому сану. Они с готовностью исполняли это приказание, и население провинций, содействуя их усердию, изъявляло представителю Святого престола почтение, доказывавшее, как еще сильно было влияние старой религии на сельских обывателей.
Правительство боялось подвергнуть тому же испытанию насмешливых парижан и приняло меры, чтобы кардинал въехал в столицу ночью. Он был встречен со всевозможным вниманием и помещен в приготовленном для него доме. Ему дали знать, что половина расходов его миссии будет принята на себя французским правительством и что оно намерено ввести это как дипломатический обычай в отношении папы.
Кардинал Капрара был принят как иностранный посланник, но еще не в качестве представителя церкви. Последнее отложили до времени окончательного восстановления богослужения.
Необходимые формальности, которые должны были предшествовать обнародованию Конкордата, заняли гораздо больше времени, чем предполагалось, и продлились до того дня, когда в Лондоне подписали предварительные условия мира.
Первый консул желал, чтобы праздник 18-го брюмера совпал с религиозным торжеством. Но для утверждения в Риме нового епархиального разделения и новоизбранных епископов требовалось, чтобы сначала были там получены отречения старых епископов. Эти отречения возбуждали всеобщее внимание. Со всех сторон желали знать, как будет принято воззвание папы и Первого консула, требовавших от старых духовных сановников, друзей и врагов революции, рассеянных по России, Германии, Испании, Англии, чтобы они принесли свои звания, наклонности и даже гордость доктрины в жертву торжеству единства церкви и восстановлению спокойствия во Франции. Многие ли из них найдут в себе силы уважать эти причины и пожертвовать убеждениями и личными интересами?
Результат доказал мудрость смелого поступка папы и Первого консула, он доказал, какое влияние может иметь на души благородное воззвание достойного первосвященника и национального героя.
Надо отдать справедливость всем людям, содействовавшим великому делу воссоединения церкви.
Хотя некоторые из конституционных епископов и хотели воспротивиться, но так как большая часть из них искренно желала содействовать Первому консулу, то все без исключения сложили с себя должности. Они придумали форму исполнения папской воли, при которой, не упоминая об отступлении от прошлых заблуждений, могли изъявить только свою покорность и отречение от сана. Они объявили, что приступают к новому Конкордату и вследствие того слагают с себя епископский сан. Их было человек пятьдесят.
Эта часть дела была не самой трудной, потому что конституционные епископы почти все жили в Париже, недалеко от Первого консула и под влиянием друзей, которые навязывались им в защитники и руководители.
А вот неприсягнувшие епископы были рассеяны по всей Европе. Большая часть живших во Франции явила прекрасный пример благочестия и евангельской покорности. Ни один не поколебался в ответе, и они дали этот ответ в выражениях, достойных лучших времен церкви.
Епископ Марселя Беллуа, почтенный старец, бывший образцом старинного духовенства, поспешил подать своим собратьям пример самоотвержения. «Будучи преисполнен, — писал он, — уважения и покорности к повелениям Его Святейшества и желая всегда быть соединенным с ним душой и сердцем, я не колеблюсь вручить Святому Отцу отречение мое от епископства. Мне довольно знать, что он считает мое отречение нужным для сохранения религии во Франции, чтобы решиться на этот поступок».
В списке отрекавшихся епископов находились прекраснейшие имена прежнего духовенства и прежней Франции: Роган, Латур дю Пен, Полиньяк, Клермон-Тоннер и проч. Тут было какое-то всеобщее увлечение, напоминавшее великодушные жертвы французского дворянства в ночь 4 августа39, желание благородным самоотвержением содействовать исполнению Конкордата, который Како называл совместным творением героя и святого.
Епископы, удалившиеся в Германию, Италию, Россию, по большей части последовали этому примеру. Оставались еще восемнадцать епископов, удалившихся в Англию. С нетерпением ждали их ответа, чтобы понять, смогли ли они уберечься от окружавшего их неприязненного влияния. Английское правительство, примирившееся в то время с Францией, не стало вмешиваться в их решение. Но в Лондоне жили принцы из дома Бурбонов, предводители шуанов и участники заговора адской машины Жорж Кадудаль и его сообщники. Они плотным кольцом окружали епископов в твердом намерении не допустить воссоединения французского духовенства вокруг папы и Бонапарта.
В числе несогласных были: архиепископ Нарбонский, отказ которого приписывали самым корыстным побуждениям, ибо с престолом он лишался огромных доходов, и епископ Сен-Поль де Леон — по той же причине. Они стали воздействовать на епископов и увлекли за собой тринадцать человек, но в остальных встретили благородное сопротивление.
Итак, почти все старое духовенство покорилось. Дело папы было завершено, и с меньшим прискорбием для его сердца, нежели он сначала предполагал.
Все эти новости и тексты отречений публиковались в «Мониторе» рядом с договорами, заключавшимися со всеми европейскими державами. Вместе они производили сильное впечатление, которое глубоко врезалось в память современников.
Между тем приближалось 18-е брюмера, день, назначенный для празднования всеобщего мира. Первым консулом овладело эгоистическое чувство, которое в людях часто примешивается к самым благородным помыслам. Ему хотелось насладиться плодами своих усилий и отпраздновать в тот же день и восстановление религиозного мира. Но для этого были необходимы два условия: во-первых, чтобы из Рима прислали буллу о новом епархиальном разделении, а во-вторых, чтобы кардинал Капрара имел право посвятить новых епископов. В таком случае можно было избрать и посвятить новых сановников и уже в их присутствии отслужить благодарственный молебен в соборе Парижской Богоматери.
К несчастью, в Риме ждали ответа пяти французских епископов, находившихся в Северной Германии, а кардинал Капрара не имел права посвящать епископов, потому что этого права папы никогда и никому не предоставляли, даже легатам а Шеге.
Уже наступило 1 ноября, оставалось только несколько дней. Первый консул призвал кардинала, стал беседовать с ним самым язвительным образом,, с запальчивостью, недостойной его самого и нисколько не заслуженной легатом, жаловался на слабое содействие со стороны папы и крайне встревожил почтенного кардинала. Но тут же почувствовал, что неправ, и, желая смягчить впечатление, удержал кардинала на целый день в Мальмезоне, обворожил его своей любезностью и обходительностью и совершенно загладил свою утреннюю выходку.
Между тем 18-е брюмера прошло, а ни один из желаемых актов так и не прибыл. Впрочем, торжество это и без того оказалось блистательным и заставило Первого консула забыть о том, чего ему недоставало.
Наконец были получены ответы из Рима. Теперь ничто не препятствовало обнародованию великого религиозного акта. Но самое подходящее время было упущено. Таким образом, человеческие страсти и тут примешали свое неистовство к дивным делам великого человека и великой эпохи.
ТРИБУНАТ.
ЦИЗАЛЬПИНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Мы видели, при помощи каких неусыпных усилий Первый консул, покорив Европу, успел сблизить ее с Францией.
Мы видели также, с помощью каких, вызывающих не меньше уважения, действий он примирил церковь с Французской республикой и положил конец бедственному расколу.
Усилия его по восстановлению безопасности и удобства проезжих дорог, возобновлению торговли и оживлению промышленности, по приведению финансов в цветущее состояние и учреждению порядка в управлении были столь же постоянны и увенчались неменьшим успехом.
Безопасность больших дорог обеспечили в полной мере, и, тогда как в январе и феврале 1801 года невозможно было проехать из Парижа в Руан или в Орлеан, не подвергаясь опасности быть зарезанным, к концу того же года стало можно изъездить всю Францию вдоль и поперек без малейшего неприятного случая.
Первый консул, определив огромную сумму на ремонт двадцати главных дорог, пересекавших земли республики, сам наблюдал за использованием этой суммы и таким образом чрезвычайно усиливал рвение инженеров. Ремонт этих и еще почти сорока других дорог быстро продвигался вперед, и все предвещало, что в течение 1802 года сеть дорог будет приведена в превосходное состояние.
Кроме того, между разными частями Франции начали прокладывать новые пути сообщения. Четыре больших шоссе появились между Италией и Францией. Симплонская дорога была почти закончена. Начали уже строить ту, которая должна была соединить Пьемонт и Савойю,
проходя через гору Сени. И приступили к третьей, через гору Женевр, с целью соединения Южной Франции с Пьемонтом. В то же время был предпринят капитальный ремонт дороги в Тендском ущелье, пролегающем между Приморскими Альпами. Таким образом, фактически уничтожалась горная преграда между Францией и Италией и становилось возможным перемещение самых громоздких военных и торговых грузов.
Усиленно шли работы на Сен-Кантенском канале. Первый консул лично ездил инспектировать Уркский канал и приказал снова приняться за его строительство. Канал, проложенный из Эгю-Морта в Бокер, также был почти закончен. Кроме того, завершили строительство новых мостов через Сену, в которое вкладывали средства несколько капиталистов.
В 1800—1801 годах торговля уже расширялась, несмотря на то, что еще продолжалась война на море. Оборот ввозимых товаров увеличился до четырехсот семнадцати миллионов франков, то есть почти на целую четверть в течение года.
Этот успех происходил в результате стремительного роста потребности в колониальных товарах и ввоза большого количества сырья, необходимого для фабрик, как то: хлопка, льна, масла.
Вывоз товаров был гораздо менее значителен, чем ввоз, потому что внешняя торговля Франции еще не восстановилась и фабрикам следовало в первую очередь изготовить товары, претендующие на то, чтобы попасть за границу. И тем не менее товаров в IX году было вывезено на сумму триста пять миллионов, тогда как в VIII году — только на двести семьдесят один миллион. Это увеличение произошло преимущественно в связи с необыкновенным ростом популярности за границей французских вин и коньяков, что породило в Бордо большую производственную активность.
Производство шелка начинало снова расцветать на юге Франции. Лион, любимый город Первого консула, по-прежнему славился своими прекрасными мануфактурами. Из пятнадцати тысяч станков во времена народных волнений оставались в деле только две тысячи. И вот восстановили уже семь тысяч станков. Лилль, Сен-Кантен и Руан поддержали этот процесс.
Необходимо было получить подробные сведения о численности населения и земледелии после революции.
Статистические исследования, с тех пор как были учреждены префектуры и супрефектуры, сделались весьма удобными. Ревизия представила неожиданные результаты, которые, впрочем, были подтверждены советами департаментов, в первый раз собранными в IX году. Население, в 1798 году в шестидесяти семи департаментах насчитывавшее до 21 176 243 жителей, в 1800-м доходило до 22 297 443 человек. Это составляло приращение чуть больше чем в миллион сто тысяч душ. Такой результат, почти невероятный, если бы не подтверждался самыми верными, официальными сведениями, доказывал, что вред, причиняемый революционными переворотами, оказывается с виду гораздо значительнее, чем в действительности, по крайней мере в материальном отношении, и что зло изглаживается добром с изумительной быстротой.
Земледелие почти везде процветало. Запрет на охоту принес большей части провинций чрезвычайную пользу. Если этот запрет уничтожил одно из первых наслаждений высшего класса, то, с другой стороны, спас хлебопашество от разорительного ущерба.
Необходимость в продаже огромного количества земель привела к значительной их обработке; неплодоносные прежде поля возросли в цене. Многие земли, принадлежавшие ранее церквям, перейдя из-под нерадивого надзора в руки деятельных и сметливых владельцев, с каждым днем способствовали увеличению сельскохозяйственной продукции. Переворот, произведенный в земельной собственности, который, раздробив ее и распределив между тысячью рук, значительно умножил число владельцев и пространство возделанных полей, начинал уже приносить первые результаты.
Государственные и общинные леса также испытали на себе все «прелести» беспорядков последних лет. Финансовая администрация, получив от эмигрантов в наследство огромные леса, еще не научилась надзирать за ними и извлекать из них пользу. Леса начали вырубать, и многие владельцы, находясь в отсутствии или будучи запуганными, не возбраняли эти вырубки. Такой беспорядок следовало прекратить как можно скорее.
Первый консул обратил особенное внимание на сбережение лесного богатства Франции, начав водворять порядок и уважение к чужой собственности. Срочно требовался сельскохозяйственный кодекс.
Учреждение института префектов и супрефектов привело к самым быстрым и решительным результатам. За беспорядками и нерадивостью прежних чиновников последовали правильность и быстрота исполнения — очевидные и необходимые итоги единства власти. Дела государственные и муниципальные выиграли от этих перемен одинаково, составление поземельных списков и сбор податей совершались ныне повсюду вполне своевременно.
Однако еще многие организации страдали от беспорядка. Больницы, например, находились в самом печальном положении. Уничтожение части их доходов с продажей принадлежавших им земель и отменой множества сборов привели их к высшей степени расстройства. В некоторых городах придумали было ввести городские сборы и местные пошлины. Но эти сборы, не имевшие еще прочного основания, оказались недостаточными и не везде принимались с равным энтузиазмом.
Воспитательные дома также страдали от всеобщих беспорядков. На каждом шагу встречались несчастные, покинутые дети: их не принимали в заведениях общественного милосердия, но отдавали на руки бедным кормилицам, которым при этом не платили жалованья. В больницах повсюду чувствовали необходимость в прежних сестрах милосердия.
Приходские книги, отнятые у духовенства и порученные муниципальным чиновникам, составлялись очень плохо. Для того, чтобы привести в порядок эту часть управления, столь важную для семей, недостаточно было одной бдительности правительства, требовалось исправить сами законы, которые во многом были неточны. Всему этому мог помочь Гражданский кодекс, поступивший на рассмотрение Государственного совета.
Кроме того, жаловались на дробное деление коммун, на их многочисленность, и все желали, чтобы большая часть из них была объединена.
Первый консул придумал самое верное средство, чтобы знать обо всем, что происходит, и вносить в этот огромный механизм необходимые усовершенствования. Он поручил некоторым из своих самых способных государственных советников объезжать Францию и на местах наблюдать за работой администрации.
Советники эти, прибыв в главные департаменты, сзывали туда префектов из соседних департаментов и начальников разных управлений, а затем составляли общие советы. На этих совещаниях им открывали затруднения, которых нельзя было предвидеть из столицы, неожиданные препятствия, которые проистекали из естественного порядка вещей, и недостатки законов или постановлений, изданных в последние десять лет.
Советники наблюдали за тем, делает ли вся эта цепочка префектов, супрефектов и мэров свое дело с достаточным усердием, годны ли сами лица, занимающие эти должности, постигают ли они цели правительства и так ли тверды, трудолюбивы и беспристрастны, как это необходимо.
Эти объезды принесли прекрасные плоды. Государственные советники подстегивали усердие чиновников и возвращались в Париж со сведениями, полезными как для разрешения текущих вопросов, так и для составления правительственных постановлений.
Воодушевляемые энергией Первого консула, они смело сообщали ему о чиновниках слабых, неспособных или зараженных вредным духом.
Кроме того, адъютанты, посылаемые Бонапартом к армиям или в порты, чтобы личным присутствием повсюду подкреплять его волю, получили приказание между делом наблюдать за тем, что там происходит, и обо всем ему докладывать.
Полковники Лакюэ, Лористон, Савари, отправленные в Антверпен, Булонь, Брест, Рошфор, Тулон, Геную, имели предписание на обратном пути останавливаться в каждом городе, присматриваться, прислушиваться ко всему и собирать сведения: о состоянии дорог, торговли, образе действий должностных лиц, пожеланиях народа и общественном мнении. Ни один из них не обманул ожиданий, ни один не побоялся говорить правду перед справедливым и всемогущим властелином.
Этот властелин, который в то время думал только о благе, с удовольствием принимал всякую, им самим вызванную, истину и смело обращал ее в свою пользу, если ему надлежало наказать виновного чиновника, пополнить недостаток в новом учреждении или обратить внимание на предмет, ускользнувший ранее от его зоркого глаза.
Всеобщий интерес был в эту минуту обращен к заседаниям Государственного совета по поводу Гражданского кодекса.
Франция, без сомнения, испытывала величайшую потребность в таком законе. Прежнее гражданское законодательство, состоявшее из феодального, общего и римского права, не годилось для общества, целиком изменившегося.
Комиссия, составленная из Порталиса, Тронше, Биго де Преамене и Маллевиля, разработала проект Кодекса. Этот проект был отправлен для рассмотрения по всем законодательным собраниям. В результате сделанных в ходе обсуждения замечаний проект был во многом изменен и наконец представлен в Государственный совет, который разбирал все его статьи на протяжении нескольких месяцев.
Первый консул, присутствуя в качестве председателя на каждом заседании, обнаруживал систематичность, ясность и глубину взглядов, что не могло не поражать всех. Никто не удивлялся, видя в нем искусного правителя, потому что он привык повелевать армиями, управлять покоренными странами, и все знали, что это качество свойственно хорошему полководцу, но его способности в законотворческой области оказались неожиданностью. Знания по этой части Бонапарт получил, изучив забранные у Камбасереса некоторые книги, относящиеся к правоведению, и материалы, подготовленные еще во времена Конвента. Он поглотил их с жадностью, как и книги по теологии, которыми не так давно окружал себя, занимаясь Конкордатом.
Иногда недостаточное знание предмета заставляло Первого консула предлагать весьма странные идеи, но вскоре он возвращался к истине, убежденный доводами знатоков, которые его окружали и которых он внимательно слушал. При этом время от времени он становился их арбитром, когда из столкновения разнородных идей следовало извлечь самое естественное и разумное заключение.
Но главная заслуга Первого консула состояла в том, что своим непреклонным умом и постоянной силой воли, принуждавшей окружающих к труду, он двигал этот прекрасный памятник человеческого разума к завершению. Часто происходили продолжительные, упорные прения, но Первый консул всегда умел соединить все мнения, прекратить спор одним словом, а главное — он заставлял всех работать, сам работая целыми днями.
Протоколы этих замечательных заседаний были обнародованы. Но прежде чем отправлять их в «Монитор», консул Камбасерес тщательно их просматривал и выбрасывал все, что не стоило печатать: или потому, что Первый консул выразил какие-нибудь странные идеи, или потому, что он говорил о нравах в выражениях, которым лучше бы не выходить за пределы внутреннего обсуждения. Итак, в этих протоколах оставалась только сама мысль Первого консула, порой исправленная, лишенная колорита, но всегда глубокая и острая.
Публика была поражена и начала яснее осознавать, что именно Бонапарт является единственным источником тех преобразований, что происходили во Франции.
Первая книга Гражданского кодекса была завершена. Она составляла один из многочисленных проектов, которые отправили на обсуждение в Законодательный корпус.
Итак, примирение Франции и ее внутреннее преобразование подвигались вперед одновременно. Хоть и не все зло было еще исправлено, не все благое совершено, но сравнение настоящего с прошедшим наполняло души радостью и надеждой. Все хорошее приписывалось Первому консулу. Человек, правивший Францией с 1799-го по 1815 год, без сомнения, имел на протяжении пути упоительные дни славы. Но, конечно, ни он, ни Франция, которую он очаровал, не переживали времен лучше этих первых дней его правления.
Все эти чувства отражались на лицах людей, с благоговейным удивлением толпившихся около Первого консула. Бесчисленное множество иностранцев стекалось в Париж, чтобы посмотреть на Францию и увидеть двор Бонапарта.
Двор его был полувоенным-полугражданским, одновременно суровым и утонченным. Первый консул составил для себя и консулов военный штаб и окружил свою супругу придворными дамами. Консульская гвардия состояла из четырех пехотных гренадерских и егерских батальонов, в тысячу двести человек каждый, и двух кавалерийских полков, конно-гренадерского и конноегерского. И те и другие были составлены из лучших, храбрейших солдат армии. Многочисленная и хорошо устроенная артиллерия дополняла эту гвардию и превращала ее в настоящую дивизию из всех родов войск численностью в шесть тысяч человек.
Над этим отборным войском начальствовал блистательный штаб. Каждый батальон имел своего полковника, и каждые два батальона — своего генерала.
Это был корпус избранных, в который отличившиеся солдаты поступали в награду, который окружал правительство блеском, а в минуты битвы предоставлял непобедимый резерв.
К штабу консульской гвардии Первый консул присоединил еще губернатора Тюильрийского дворца, к нему в качестве адъютантов прикомандировали двух штаб-офицеров. Этим губернатором был Дюрок, ему издавна поручались важные и щекотливые задания. Ни один офицер не мог бы лучше его обеспечить во дворце порядок и этикет, соответствующий духу времени, и его таланты очень ценил Первый консул.
Надо было смягчить воинственный дух двора, придав ему некоторую гражданскую наружность. Государственный советник Бенезеш в течение первого года присутствовал на приемах и принимал иностранных посланников и других важных особ, желавших получить доступ к консулам. Теперь еще три гражданских сановника в звании придворных префектов присоединились к Бенезешу — Дидло, Люсе и Ремюза.
Как только распространился слух об этих новых назначениях, при дворе появилось множество соискателей, Даже из семейств, преданных прежде монархическому строю. Правда, просители не принадлежали к высшей аристократии, наполнявшей некогда Версаль: для нее еще не наступила минута покорности. Но это были все-таки представители знаменитых фамилий прежнего времени, не участвовавшие в эмиграции, и теперь они старались приблизиться к могущественному и успешному правительству.
Четыре придворные дамы были приставлены к госпоже Бонапарт, чтобы помогать ей в приеме гостей в салоне Первого консула: Лесюэр, Лористон, Талуэ и Ремюза. Самые заносчивые посетители парижских салонов не могли ничего возразить против этого выбора, а люди благомыслящие, которые требуют от двора только того, что предписывается приличиями, и вовсе не находили эту военно-гражданскую организацию достойной осуждения.
Двор Первого консула отличался важностью и достоинством. Его украшали своим присутствием жена Первого консула и его сестры, привлекающие внимание очаровательными манерами, умом и красотой. Мы прежде говорили о братьях Первого консула, теперь следует сказать несколько слов и о его сестрах.
Старшая сестра Первого консула Элиза Бачиокки хоть и обладала невыразительной наружностью, но отличалась замечательным умом и обаянием. Она собрала вокруг себя знаменитых литераторов и людей искусства того времени, к примеру, Сюара, Морелле, Фонтана.
Вторая сестра, Каролина Мюрат, жена знаменитого генерала, женщина честолюбивая и прелестная, упоенная счастливой судьбой брата и желавшая получить значительную долю благ для себя и мужа, придавала этому двору жизни и блеска.
Третья, Полина Бонапарт (в замужестве Леклерк, а затем принцесса Боргезе), была одной из первых красавиц своего времени. Тогда она еще не вызывала против себя злоречий, и хотя ее легкомысленное поведение печалило иногда ее брата, но она всегда умела его растрогать и обезоружить своей нежной привязанностью.
Госпожа Бонапарт, как жена Первого консула, стояла выше их всех. Своей природной грацией и манерой беседы она очаровывала и французов, и иностранцев, посещавших правительственный дворец.
Неизбежное и уже заметное соперничество между членами этого семейства, столь близкого к власти, едва сдерживалось самим Бонапартом, который хоть и любил своих родных, однако же с военной строгостью обращался с теми, кто нарушал мир и спокойствие в семье.
В это время произошло важное событие: был заключен брак Гортензии Богарне с Луи Бонапартом. Первый консул, который нежно любил обоих детей своей жены, хотел было выдать Гортензию за Дюрока, полагая, что взаимная страсть сблизила их сердца. Но этот брак, не нравившийся госпоже Бонапарт, не состоялся. Жозефина, мучимая страхом развода с тех пор, как потеряла надежду иметь детей, задумала выдать дочь за одного из деверей, полагая, что дети, которые родятся от этого союза, будучи связаны двойственными узами родства с новым главой Франции, получат шанс стать его наследниками.
Жозеф Бонапарт был женат, Люсьен вел беспорядочную жизнь и с неприкрытой неприязнью относился к своей невестке, Жером искупал некоторые заблуждения молодости службой во флоте. Один Луи мог соответствовать видам госпожи Бонапарт. Его она и выбрала. Луи был умен и образован, но своенравен и по характеру мало подходил своей невесте. Первый консул сначала противился, потом уступил и согласился на брак, который не мог составить счастья двух супругов, но, скорее всего, дал бы наследников державе.
Бракосочетание совершал кардинал Капрара в частном доме, как это происходило всякий раз, когда священнослужители принадлежали к неприсягнувшему духовенству. Там же совершили обряд бракосочетания между генералом Мюратом и Каролиной: они до тех пор еще не были обвенчаны, как и многие пары того времени, чей брак заключался только гражданским образом.
Бонапарт и Жозефина находились в точно таких же обстоятельствах. Жозефина усиленно просила своего мужа присоединить религиозный обряд к гражданскому, но из предусмотрительности или из страха признаться перед всеми в неполноте контракта, связывавшего его с госпожой Бонапарт, Первый консул не соглашался.
Как мы уже сказали прежде, раз в декаду Бонапарт принимал посланников и иностранцев, которых ему представляли министры. Он проходил вдоль рядов собравшихся на приеме в сопровождении адъютантов, вслед за ним появлялась госпожа Бонапарт со своими придворными дамами. Это был тот же церемониал, какой соблюдался при других дворах, только с меньшей свитой адъютантов и статс-дам.
Два раза в декаду Первый консул приглашал к своему столу знатнейших лиц Франции и Европы, а раз в месяц давал в Галерее Дианы обед, к которому приглашали иногда до ста особ одновременно. В эти дни в Тюильри появлялись высшие сановники, посланники, сливки французского общества, которые начинали сближаться с правительством.
Продумывая с расчетом все, даже мельчайшие детали, Первый консул сам предписывал своему семейству определенные наряды, чтобы ввести их в моду. К примеру, приказывал дамам надевать шелковые платья, чтобы тем самым оживить производство шелковых фабрик Лиона, или советовал жене носить наряды из батиста — для поощрения сен-кантенских мануфактур.
Вот письмо, написанное из Сен-Кантена консулу Кам-басересу:
«Мысль оживить эту заброшенную отрасль одной из наших прибыльнейших мануфактур и дать кусок хлеба такому множеству французов, право, стоит того, чтобы ввести батист в моду; притом пора уже снять с него опалу!»
Что же касается самого Первого консула, он выделялся среди всех своей простотой: носил скромный егерский мундир консульской гвардии.
Зима с 1801-го на 1802 год проходила в Париже блистательно: удовлетворение царило во всех сословиях. Одни радовались тому, что могли возвратиться во Францию, другие — тому, что наконец могут насладиться полной безопасностью, третьи были счастливы, предвидя в мирном договоре перспективу коммерческого благоденствия. Блеску зимних праздников способствовал и наплыв иностранцев. Из лиц, появившихся в это время в Париже, двое обращали на себя всеобщее внимание: один из них был знаменитый англичанин Фокс, красно-речивейший оратор, другой — эмигрант, имя которого некогда гремело в свете, — Шарль де Калонн, бывший министр финансов.
Фоксу не терпелось увидеть человека, к которому он, несмотря на весь свой патриотизм, чувствовал непреодолимое влечение. Он прибыл в Париж тотчас по заключении предварительных условий мира и был представлен Первому консулу английским посланником.
Первый консул велел, чтобы для Фокса открыли все архивы, и устроил ему прием, способный покорить врага и очаровать друга. С этим благородным иностранцем Бонапарт отложил в сторону весь этикет, вел с ним самые дружеские беседы и, казалось, в его лице хотел покорить весь английский народ.
Однако же часто они не сходились во мнениях. Фокс был одарен тем живым воображением, которое делает ораторов знаменитыми, но ум его не оказался ни положительным, ни рациональным. Англичанин был полон благородных мечтаний, которых Первый консул, несмотря на свое пылкое воображение и глубокий ум, никогда не разделял или от которых давно уже отказался. Бонапарт был к тому времени разочарован, как человек обыкновенно бывает разочарован после революции, начатой во имя человечества и завершившейся потоками крови. Он сохранил в себе только одно очарование революции — очарование величия — и довел его до предела. То есть оказался не настолько либерален, чтобы понравиться главе вигов, и слишком горделив, чтобы понравиться англичанину.
Итак, оба нередко задевали друг друга в своих мнениях. Фокс часто вызывал улыбку Первого консула наивностью и неопытностью, весьма странными в человеке, которому скоро исполнится шестьдесят лет. А Первый консул иногда пугал Фокса громадностью своих плохо скрываемых замыслов. Несмотря на это, они сошлись по Уму и по сердцу и были восхищены друг другом.
Первый консул прилагал всевозможные старания, чтобы показать Фоксу Париж, и часто сам сопровождал его во время визитов в публичные заведения. Тогда проходила выставка достижений французской промышленности, вторая со времени революции. Все поражались успехам французских мануфактур, которые посреди войн и смут смогли изобрести множество усовершенствований и новых способов производства. Иностранцы, казалось, были этим сильно удивлены, в особенности англичане, отличные судьи в таких вопросах.
Первый консул провел Фокса по залам этой выставки, расположенной прямо во дворе Лувра, наслаждаясь изумлением своего знаменитого гостя. Фокс высказал остроумную мысль, делавшую честь чувству и уму этого благородного человека и доказывающую, что справедливость суждений о Франции уживалась в нем с самым явным патриотизмом. В одном из залов выставки находился глобус, предназначенный для Первого консула: большой, красивый и чрезвычайно искусно сделанный. Кто-то из сопровождающих, развернув глобус и прикрыв рукой Англию, заметил, что эта страна занимает очень мало места на карте мира. «Да! — вскричал Фокс с живостью. — Да, на этом-то маленьком островке и рождаются англичане, и на нем хотят умереть, но, — присовокупил он, проведя руками вокруг обоих океанов и обеих Индий, — пока живут, наполняют собой весь этот шар и охватывают его своим могуществом!»
Первый консул рукоплескал такому своевременному и горделивому ответу.
Лицом, занимавшим наибольшее внимание публики после Фокса, был экс-министр де Калонн. По ходатайству принца Уэльского он получил позволение возвратиться в Париж и теперь высказывал мысли, довольно неожиданные и приводившие роялистов в сильное смущение. Он говорил, что не хочет служить новому правительству, будучи предан дому Бурбонов, но почитает своей обязанностью высказать правду друзьям. Никто в Европе, по его мнению, не может сравниться с Первым консулом: полководцы, министры, короли — все ниже его и от него зависят. Даже англичане от ненависти перешли к восторгу, чувство это господствует во всех классах и доведено до крайности, как и всякое чувство англичанина. А потому не имеет смысла рассчитывать на
Европу, чтобы низложить генерала Бонапарта. Но не следует также позорить дела роялистов гнусными заговорами, которые приводят в негодование честных людей всего света. Надо покориться обстоятельствам и ожидать результатов с течением времени, и либо управлять Францией без монархической власти, либо основать монархическую власть без Бурбонов. Что бы то ни было, а ожидать результатов следовало от Франции образованной, возвратившейся к более разумным принципам существования.
Эти речи, мудрые, но совершенно непривычные в устах де Калонна, порождали всеобщее удивление и заставляли думать, что экс-министр вскоре вступит в сношения с консульским правлением. Он действительно виделся с консулом Лебреном, который с согласия Бонапарта принимал у себя роялистов, и беседовал с ним о делах Франции. Поговаривали даже, что он сделается для финансов тем же, чем сделался Талейран для дипломатии: усмиренным вельможей, подкрепляющим гений Первого консула своей опытностью и влиянием своего имени. Но все эти предположения оставались безосновательными. Первый консул искал в людях не столько блеск ума, сколько прилежание (чего не имел де Калонн), и нашел все необходимое в Годене, который навел в финансовых делах замечательный порядок.
Несмотря на это, следуя только молве, де Калонна окружило множество просителей, полагая, что не могут выбрать посредника более подходящего, потому что он собственным примером оправдывал их преданность Первому консулу.
В Париже в это время находились агенты изгнанного дома, некоторые из них были весьма умны и очень хорошо знакомы со всеми обстоятельствами. Агенты эти посылали Бурбонам ежедневные рапорты. Вот выписка из одного такого рапорта, в котором речь идет о де Калонне:
«С месяц тому назад возвратился в Париж господин де Калонн. Перед отъездом из Англии он присутствовал на совещании министров и был ими очень хорошо принят. Его спросили, не намерен ли он по возвращении во Францию снова вступить в правительственную должность. Он отвечал, что его принципы, его действия во время революции и преданность королевской фамилии обязывают его отказаться от всякого места, предлагаемого новым правительством, но, будучи привязан к Франции по убеждению и внутреннему чувству, он согласен иногда давать советы, если у него их потребуют и если эти советы смогут принести пользу отечеству.
Приезд его в Париж произвел сильное впечатление. Каждый день он обременен визитами и окружен поклонниками, как в самую блестящую минуту прошлой славы и влияния. Молва о том, что ему опять будет поручено министерство, привлекает к нему кучу просителей, и, чтобы от них избавиться, он вынужден скрыться в деревню. Молва эта, кажется, неосновательна, и если бы ей действительно суждено было осуществиться, так, верно, не теперь. Известно только, что несколько дней назад его хотели представлять Бонапарту, для проведения затем тайного совещания.
Он видится со всеми старинными друзьями и открыто высказывает им свое мнение. Став свидетелем слабости и ничтожества иностранных держав, он полагает, что от них нельзя ожидать ни малейшей защиты против революции и еще менее — решительного покровительства королевской фамилии. Де Калонн повторяет то, что мы знали уже давно: главы всех европейских домов — это люди без средств и без характера, они не понимают времени, в которое живут, они не умеют обсудить настоящее и не предвидят будущее, они одинаково лишены и отваги, заставляющей приняться за дело, и твердости, умеющей настоять на своем.
Он убежден, что только во Франции можно трудиться для восстановления монархии, но не насильственными средствами, а занимаясь, без шума и огласки, переменой общественного мнения, разрушая предубеждения, ослабляя страх, соединяя всех верных слуг короля и держа их наготове, чтобы обратить в его пользу первое событие, которое возникнет из естественного хода дел.
Господин де Калонн уверяет, что в Англии восторг по отношению к Бонапарту не только всеобщий, но и дошел до крайних форм выражения. При дворе и в народе, в столице и в провинциях все классы граждан, от министров до ремесленников, спешат возносить ему похвалы и наперерыв воспевают его победы и блеск его могущества.
Впрочем, энтузиазм этот обнаруживается не только в одной Англии, вся Европа, так сказать, заражена им. Со всех сторон съезжаются в Париж, чтобы хоть раз в жизни взглянуть на великого человека, и полиция вынуждена была угрожать арестами, чтобы остановить, к примеру, датчан, которые всякий раз, как встречали его в общественном месте, преклоняли перед ним колена.
Вот одна из главнейших причин его силы и безграничной власти. Посмеют ли французы бороться с ним, когда видят у ног его все европейские державы?!»
Но кто бы мог подумать, что посреди стольких благих дел, уже совершенных или готовых совершиться, могла возникнуть оппозиция, и притом чрезвычайно сильная?
Между тем она готовилась, чтобы выступить с ожесточением, и притом против прекраснейших творений Бонапарта. Не в неистовых партиях, радикально противоположных правлению Первого консула, не в среде роялистов и революционеров готовилась оппозиция, но в той самой партии, которая желала ниспровержения немощной Директории, способствовала этому ниспровержению и признала новое правительство, в одно и то же время искусное и твердое. Умеренная революционная партия разделилась на части, как это всегда бывает с победоносными партиями, которые хотят созвать правительство и не сходятся во мнениях насчет того, как это сделать.
С первых же дней Консульства эта партия разделилась на два совершенно противоположных течения: одно из них стремилось завершить революцию демократической умеренной республикой, вроде той, которую Вашингтон основал в Америке; другое хотело привести ее к учреждению монархии, более или менее сходной с английской, если придется — и со старинной французской монархией, только без прежних предрассудков, без феодального начала и с добавлением еще большего величия.
Наступал третий год консульского правления, и оба эти течения все усиливались от самого своего противоречия. Одни снова становились почти революционерами, видя, что власть Первого консула все возрастает, что монархические идеи начинают распространяться, что в Тю-ильри обосновался настоящий двор, католическая религия почти восстановлена, и эмигранты толпами возвращаются во Францию. Другие почти обращались в прежних роялистов, до того им хотелось поскорее устроить реакцию и воссоздать монархию, до того они были расположены помириться даже с просвещенным самовластием, чтобы только положить конец революции. Что касается просвещенного самовластия, — тот, кто господствовал в эту минуту над Францией, олицетворял собой всеобщее успокоение, и соблазн действительно оказался велик.
Однако противодействие, дойдя с обеих сторон до высшей точки, ясно показывало, что скоро можно ожидать кризиса.
Трибунат, уже взбудораженный по поводу законов о финансах и мировых судах, ныне волновался еще больше при взгляде на все происходившее, при виде этого правительства, так быстро шедшего к своей цели. В особенности его приводил в негодование Конкордат как акт самый антиреволюционный, какой только можно придумать. Гражданский кодекс, по мнению депутатов, был несообразен с идеей о равенстве, даже договоры о мире, заключавшие в себе величие Франции, не нравились Трибунату по своему изложению.
Сийес, желая конституционными предосторожностями воспрепятствовать всякому волнению, не преуспел в своем намерении, потому что конституции не создают человеческих страстей и не могут их уничтожить, — они служат только сценой, на которой страсти разыгрываются. Возложив всю реальную деятельность на Государственный совет, предоставив шум и критику Трибунату, заставив его играть роль адвоката правительства перед Законодательным корпусом, поставив над всем этим праздный Сенат, Сийес нисколько не застраховал страстей того времени от взрыва; напротив, он даже породил нечто похожее на зависть между этими учреждениями. И странное дело, изобретатель этого нового порядка вещей, вследствие которого с одной стороны царила такая энергия, а с другой — такая неподвижность, Сийес сам стал томиться от собственного бездействия.
Человек умеренный и даже монархист по своим взглядам, он должен был бы одобрять действия Первого консула, но причины, отчасти неизбежные, отчасти случайные, начали их ссорить друг с другом. Этот великий созерцательный ум, вынужденный беспрестанно наблюдать и ничего при этом не делать, должен был невольно завидовать деятельному и могучему гению, который возвышался, овладевая Францией с каждым днем все больше. В блистательных делах Бонапарта Сийес уже видел зародыш его будущих ошибок и если не высказывал этого громко, то намекал иногда своим молчанием или одним словом, глубоким, как сама мысль. Может быть, ежеминутная внимательность могла бы успокоить его и снова привязать к Бонапарту. Но Первый консул слишком рано вообразил, что вполне расплатился с Сийесом, подарив ему кронское имение. Погруженный, сверх того, в свои обширные труды, он не обращал достаточного внимания на человека, который так благородно уступил ему первое место в день 18-го брюмера.
Праздный, завистливый и оскорбленный Сийес находил пищу для порицания даже в беспредельном благополучии, которое изливалось в эту минуту на Францию, он казался недовольным и оставался холодным наблюдателем действий Бонапарта. Первый консул не умел совладать со своим негодованием и хладнокровно выносить несправедливость противников. Он с насмешкой говорил о философии Сийеса, о его бессильном честолюбии, он отпускал по этому поводу тысячи саркастических слов, и слова эти тотчас же передавались недоброжелателями по адресу.
На стороне Сийеса оставались несколько друзей, людей замечательных. Таковы были, например, де Траси, оригинальный философ школы совсем не оригинальной40, человек с острым умом и далекими от религии взглядами, Тара, философ речистый, скорее с претензией на глубину, чем глубокий, Кабанис, посвятивший себя изучению материального в человеке и дальше границ материализма ничего не смысливший, Ланжюине, ханжа, человек честный, но неистовый, который некогда защищал жирондистов, а теперь охотно увлекся мыслью о сопротивлении новому кесарю.
Эти сторонники Сийеса составляли в Сенате уже довольно чувствительную оппозицию. Конкордат казался им, как и многим другим, ясным свидетельством близкой контрреволюции.
Первый консул, видя, что Франция и Европа восхищены его делами, решительно не подозревал, что единственный противник находится возле него самого. Негодуя на оппозицию, он называл ее идеологов, своих противников в Сенате, «мечтателями, направляемыми человеком, одержимым хандрой и жалеющим, что не имеет в руках власти, к которой неспособен», членов Трибуната — охотниками до смут, с которых он сорвет личину и докажет, что его нельзя испугать шумом, а недовольных из Законодательного корпуса — беглыми попами и янсенистами. Но неизменно прибавлял, что разрушит все эти препятствия и его ничто не остановит в делах, которые он хочет совершить.
Никогда раньше не проводя столько времени на собраниях, Первый консул не умел ладить с людьми, а этим не пренебрегал и сам Цезарь в римском Сенате, как он ни был силен. Бонапарт же высказывал свое неудовольствие публично, смело, с сознанием своей силы и славы, и решительно не слушал советов мудрого Камбасереса, который, как человек опытный в управлении собраниями, советовал ему умерять порывы и быть осторожным.
«Надо доказать этим людям, — отвечал Первый консул, — что их не боятся. Они сами почувствуют страх, когда увидят, что мы за себя не опасаемся».
Здесь уже заметны зачатки самодержавия, постепенно приближалась минута неизбежной монархии.
Оппозиция обнаружилась не только в государственных учреждениях, но и в армии. Армия, как и нация в целом, видя великие результаты, полученные в течение двух лет, была предана Первому консулу, однако между начальниками все же случались недовольные, одни от чистого сердца, другие — просто из зависти.
Открыто возмущались искренние революционеры, которые с неудовольствием смотрели на возвращение эмигрантов и предстоящую необходимость демонстрировать свои мундиры в церкви. Недовольные из зависти с досадой смотрели на то, что равный им сначала превзошел их в славе и теперь готов сделаться их властелином. Первые принадлежали по большей части к Итальянской армии, которая всегда была предана революции, вторые — к Рейнской, спокойной, умеренной, но завистливой.
Генералы Итальянской армии высказывали свое недовольство языком резким и не совсем приличным. Ожеро и Ланн, плохие политики, но воины-герои, позволяли себе самые необдуманные речи. Ланн, сделавшись командиром консульской гвардии, распоряжался ее кассой с необыкновенной расточительностью. Впрочем, Первый консул знал об этом и одобрял его действия. Штаб этой гвардии помещался в роскошнейшем доме. У Ланна был открытый для всех сослуживцев стол, и на этих-то солдатских пиршествах он беспрестанно восставал против правительства.
Первый консул не боялся, что от этого ослабеет преданность этих славных солдат. Он знал, что, стоит ему только подать знак, они все к нему бросятся, а сам Ланн — прежде всех. Однако же Бонапарт находил, что опасно давать слишком много воли этим головам и языкам, и потребовал Ланна к себе. Тот, привыкнув к короткому обхождению со своим главнокомандующим, вновь позволил себе вспышку гнева, но был тотчас же укрощен повелительно-холодным тоном Первого консула и вышел от него, скорбя о своем проступке и о недовольстве главнокомандующего. В порыве благородной гордости он хотел выплатить все суммы, с ведома Первого консула изъятые им из кассы гвардии, но, к несчастью, этот генерал, так долго участвовавший в итальянских войнах, почти ничего не имел за душой. Ожеро, человек с превосходным сердцем, но столь же неосмотрительный, отдал ему все свои деньги, сказав: «Вот деньги. Ступай к неблагодарному, за которого мы проливали кровь, отдай ему все, что должен, и пусть ни один из нас не будет ему ничем обязан!»
Но Первый консул не позволил своим старым товарищам по оружию, героям и неразумным детям одновременно, отказаться от любви к нему. Он просто разлучил их. Ланн был назначен в посольство в Португалии, в Ожеро получил предписание возвратиться к своей армии и быть осторожнее в будущем.
18 Консульство
Однако же эти сцены, преувеличенные недоброжелательством, которое их распространяло, производили на умы весьма невыгодное впечатление, особенно в провинциях. Правда, они нигде не порождали порицаний в адрес Первого консула, но внушали беспокойство и заставляли ожидать больших препятствий для власти.
История с офицерами Итальянской армии оказалась домашней ссорой друзей, которые сегодня повздорят, а завтра опять обнимаются. Но сцены с рейнскими генералами, холодными и непримиримыми, были гораздо важнее. К несчастью, начинал обнаруживаться гибельный раздор между главнокомандующими обеих армий, между генералом Бонапартом и генералом Моро.
Со времени австрийской кампании, в которой Моро своими успехами был отчасти обязан Первому консулу, этот генерал почитался вторым полководцем Республики. Никто, впрочем, не ошибался насчет его истинных качеств, но все опирались на неотъемлемые достоинства, которые делали из него при этом мудрого, острожного и храброго генерала, а потому ставили его в ряд первостепенных военачальников и почитали достойным соперником покорителя Италии и Египта.
Интриганы владеют удивительным чутьем в обнаружении слабостей у людей, выделяющихся на общем уровне. Они попеременно то льстят им, то оскорбляют их, пока не отыщут слабую сторону, через которую могут проникнуть в их сердце и внести туда свой яд. Довольно скоро открыли и слабую сторону Моро — тщеславие. Своей лестью интриганы вдохнули в него роковую зависть к Первому консулу, которая должна была со временем погубить беднягу.
К довершению несчастья Моро вступил в брак, который еще скорее привел его на эту пагубную дорогу. Женщины обоих семейств, Бонапартов и Моро, поссорились между собой из-за пустяка, из-за каких обыкновенно ссорятся женщины.
Семейство Моро старалось убедить генерала, что он должен быть первым, а не вторым, что Бонапарт дурно расположен к нему, старается унизить его достоинство и заставляет играть второстепенную роль. Бесхарактерный
Моро оказался слишком внимателен к этим опасным внушениям. Между тем Первый консул нисколько не был виноват перед своим генералом. Напротив, он осыпал его всеми возможными отличиями, старался выставить с гораздо лучшей стороны, чем действительно о нем думал. Наконец, обращался с ним всегда с изысканной предупредительностью, зная его слабости и чувствуя, что из малейшего невнимания тотчас выведут неприятную историю.
Но лишь только Моро первый пошел против него, Бонапарт не остался в долгу и с обыкновенной горячностью своего характера скоро с ним поквитался.
Однажды он предложил Моро поехать с ним на смотр. Моро сухо отказался, боясь, чтобы его не приняли за одного из штабных Первого консула, и в качестве отговорки заявил, что у него нет подходящей верховой лошади. Первый консул, оскорбленный этим отказом, хорошенько его запомнил.
Спустя некоторое время все высшие сановники были приглашены на обед в Тюильри на одно из больших торжеств, которые тогда часто устраивались. Моро жил в деревне, но, приехав накануне в город по делу, отправился к Камбасересу посоветоваться. Камбасерес, который постоянно играл роль миротворца, принял Моро как нельзя лучше. Удивляясь, что видит его в Париже, он поспешил уведомить об этом Первого консула и убеждал его пригласить главнокомандующего Рейнской армией на завтрашний обед. «Он раз уже дал мне публичный отказ, — отвечал Первый консул, — и я не хочу подвергаться опасности получить еще один!» Ничто не могло умилостивить Бонапарта.
Тогда на другой день, когда все высшие сановники и генералы собрались за столом Первого консула в Тюильри, Моро отомстил за пренебрежение, отправившись в штатском костюме обедать с толпой недовольных офицеров в один из наиболее посещаемых трактиров. Это обстоятельство было многими замечено и произвело самое неблагоприятное впечатление.
С того времени, то есть с осени 1801 года, генералы Бонапарт и Моро выказывали друг другу величайшую холодность. Вскоре это сделалось известно всем, и враждующие партии поспешили воспользоваться случаем. Они 18* начали превозносить генерала Моро в ущерб Бонапарту и старались наполнить сердца обоих ядом ненависти.
Эти подробности покажутся, может быть, недостойными истории; но все, что знакомит с человеком, что открывает жалкую мелочность даже в самых великих людях, — достойно истории, ибо все, что может научить, — ее законное достояние.
Первое заседание X года состоялось 22 ноября 1801 года.
Ни одно правительство не могло появиться перед Законодательным корпусом с такой гордостью, как консульское, которое воочию наблюдало плоды своих чрезвычайных усилий. Мир с Россией, Англией, германскими и итальянскими державами, Португалией и Портой, заключенный на самых выгодных условиях; проект примирения с церковью, который гасил религиозные волнения и, преобразовывая французскую церковь сообразно с началами революции, в то же время вынуждал верующих признать последствия этой революции; Гражданский кодекс — памятник, ставший впоследствии предметом удивления целого света; законы о народном просвещении, о Почетном легионе и о множестве других важных предметов; финансовые меры, уравновесившие государственный приход с расходом. Что можно было предоставить вниманию нации более полного и необыкновенного, чем эти труды?
Тем не менее все эти нововведения оказались очень дурно приняты!
Заседание Законодательного корпуса на этот раз открыл министр внутренних дел с какой-то особенной торжественностью. С той и с другой стороны были произнесены торжественные речи. Казалось, хотели подражать процедурам, принятым в Англии при открытии парламента. Этот новый церемониал, заимствованный у конституционной монархии, был с неудовольствием принят оппонентами.
Трибунат и Законодательный корпус собрались в полном составе и приступили к назначению председателей.
Законодательный корпус избрал председателем господина Дюпюи, автора знаменитой книги «О происхождении всех культов». Дюпюи совсем не был таким ревностным противником мер правительства, как можно предполагать, судя по его сочинению. В разговоре с Первым консулом он сам признавался, что считает необходимым примирение с Римом. Но само имя его в минуту, когда Конкордат составлял главную придирку к политике консульского правления, имело важное значение*. Легко было понять цель этого выбора, и публика поняла ее, а Первый консул даже преувеличил ее важность.
Когда оба собрания оказались полностью укомплектованы, три государственных советника представили отчет о состоянии Республики.
Этот отчет, продиктованный самим Первый консулом, был прост по изложению, и превосходен по своему содержанию. Он произвел на публику глубокое впечатление.
На следующий день большая депутация государственных советников представила целый ряд проектов новых законов. Эти проекты должны были обратить в закон договоры с Россией, Баварией, Неаполем, Португалией, Северо-Американскими штатами и Портой. Договор с Англией, заключенный первоначально в Лондоне в виде предварительных условий, как раз в это самое время обсуждался на конгрессе в Амьене и потому не мог быть еще представлен на обсуждение Законодательного корпуса.
Что же касается Конкордата, то Первый консул не желал подвергать его обсуждению в разгар оппозиции.
Порталис прочел свою знаменитую речь о главном содержании Гражданского кодекса, а трое государственных советников изложили три первые статьи Кодекса: 1-ю — об обнародовании законов; 2-ю — о правах гражданства и о лишении их; 3-ю — о действии гражданских постановлений.
Казалось бы, такой перечень законодательных трудов способен был уничтожить всякую оппозицию, однако же вышло наоборот.
Когда, по обыкновению, все эти проекты внесли в Трибунат, договор с Россией породил неожиданно напряженную сцену.
Шарль-Франсуа Дюпюи (1742—1809) считается родоначальником так называемой мифологической школы, в частности отрицающей историчность Христа.
Третий пункт этого договора заключал в себе весьма важную статью, которую оба правительства придумали, чтобы обеспечить себе защиту против тайных козней. В этой статье было сказано, что обе державы обещают «не дозволять никому из своих подданных вести прямую или тайную переписку с внутренними врагами настоящих правительств обоих государств, распространять идеи, противные их учреждениям, и производить в них смуты».
Французское правительство в этом случае имело в виду эмигрантов, русское — поляков. Такая предосторожность была вполне естественна, особенно для французского правительства, которое боялось Бурбонов и наблюдало за их действиями.
Но, желая обозначить людей, которые могли сделаться нарушителями спокойствия обеих держав, в договоре употребили слово, наиболее часто встречающееся в дипломатическом языке, — слово «подданные». Оно было употреблено без всякого намерения, его выбрали потому, что оно употребляется почти во всех договорах, где говорится о подданных республики или монархии.
Едва закончили чтение договора, как трибун Тибо, один из членов оппозиции, встал и попросил позволения говорить.
«В этот договор, — сказал он, — вкралось слово, которое не может быть допущено в наш язык. Я говорю о слове “подданные”, употребленном в отношении граждан одного из государств. Республика не имеет подданных, она состоит из граждан. Вероятно, это ошибка редакции, но ее необходимо исправить».
Слова его вызвали сильное волнение, председатель тотчас прекратил объяснения, которые должны были последовать, заметив, что обсуждение еще не началось и что всякое замечание должно быть сбережено до соответствующего момента. Это остановило спор, который готов был возникнуть, и для рассмотрения договора тотчас же назначили комиссию.
Случившееся еще более усилило волнение, господствовавшее в государственных собраниях, и сильно раздражило Первого консула. И во время выборов обнаружились столь же недружелюбные замыслы. В Сенате было несколько вакантных мест. Одно место освободилось вследствие смерти сенатора Красу, а два других следовало занять по предписанию конституции. Первый консул, Законодательный корпус и Трибунат обязаны были представить по кандидату, а Сенат уже сам потом избрал бы себе членов из этих кандидатов.
Начались выборы в Законодательном корпусе и в Трибунате. Члены оппозиционной партии в Трибунате выбрали Дону, который открыто поссорился с Первым консулом еще во время прошлой сессии. Он не хотел более являться в Трибунат, говоря, что не примет участия в законодательных трудах до тех пор, пока будет продолжаться самовластие. Действительно, он сдержал слово, и его никогда не видели в Трибунате. Так вот его-то оппозиция избрала в кандидаты на место в Сенате, разумеется, как лицо, максимально неприятное Первому консулу.
Решительные сторонники правительства в Трибунате в свою очередь избрали одного из авторов Гражданского кодекса — Биго де Преамене.
Тем не менее ни одна из партий не одержала верх, большинство голосов было отдано совершенно незначительному кандидату, трибуну Деменье, человеку чрезвычайно умеренному.
Законодательный корпус выразился яснее: он избрал в кандидаты аббата Грегуара. Этот выбор стал еще одним намеком на восстание, которое готовилось против Конкордата.
Первый консул, со своей стороны, также хотел сделать многозначительный выбор. Он мог бы выждать, пока оба собрания представят своих кандидатов. Весьма вероятно, что ни Законодательный корпус, ни Трибунат не захотели бы решительно рассориться с правительством; притом, будучи подвержены изменчивости, общей для всех собраний, которые сегодня пятятся назад, если слишком увлеклись вчера, эти законодатели сделали бы не столь разительный выбор и даже, может быть, назначили бы людей, приятных правительству. Так, например, Первый консул вполне мог одобрить Деменье, потому что сам обещал вознаградить его услуги званием сенатора. Может быть, имя Биго де Преамене и было бы представлено одним из собраний, и тогда Первый консул, в свою очередь, мог бы назначить тех из кандидатов, каких пожелает, а уж лицо, предложенное двумя избирательными сторонами из трех, наверняка было бы избрано большинством Сената.
Консул Камбасерес советовал Бонапарту так и поступить, но подобного рода уступчивость, весьма обычная в представительных правлениях, решительно не нравилась Первому консулу. Военный правитель, незнакомый с формами такого правления, он не хотел подчиниться и ждать, пока собрания произнесут свое слово, чтобы потом уже объявить свое. А потому он представил не одного кандидата, а трех разом, и выбрал их из генералов; это были Журдан, Ламартильер и Беррюе.
Правда, выбор сам по себе был превосходным. Генерал Журдан 18-го брюмера принадлежал к противной партии, но пользовался всеобщим уважением, вел себя благоразумно и долгое время оставался правителем Пьемонта. Представляя его в члены Сената, Первый консул демонстрировал истинное беспристрастие.
Что касается генерала Ламартильера, так это был один из старших артиллерийских офицеров, принимавший участие во всех войнах Революции.
Генерал Беррюе, престарелый офицер пехоты, успешно сражался в Семилетней войне и еще недавно был ранен в рядах республиканской армии.
Стало быть, Бонапарт предлагал наградить не временщиков, но старых слуг Франции, проливавших за нее кровь во время всех правительств.
Кроме того, предложение этих кандидатов сопровождалось словами, имевшими глубокий смысл. «Вы теперь наслаждаетесь миром, — говорило правительство Сенату, — но вы обязаны им генералам, которые пролили кровь свою в сотне сражений. Докажите, приняв их в среду вашу, что Отечество им благодарно!»
Сенат собрался, взбудораженный множеством интриг. Было заявлено, что если предпочтут аббата Грегуара, то Законодательный корпус, из благодарности, предложит на второе вакантное место генерала Ламартильера, одного из кандидатов Первого консула, и что Сенат, избрав потом этого кандидата, угодит обеим ветвям власти. Эта интрига удалась, и аббат Грегуар был избран большинством голосов.
Пока эти выборы занимали умы и чрезвычайно радовали оппозиционную партию, прения в Законодательном корпусе и Трибунате приняли весьма неприятный характер.
Договор с Россией, из-за злосчастного слова «подданные», сделался предметом самых жарких споров в комиссии, назначенной Трибунатом. Докладчик этой комиссии Коста, не принадлежавший к оппозиции, попросил у правительства объяснений. Первый консул его принял, разъяснил ему смысл статьи, на которую так нападали, и причины, почему она выставлена в договоре; а касательно слова «подданные» доказал со словарем Французской Академии, что оно в дипломатическом смысле употребляется одинаково в отношении граждан как республики, так и монархии, без различия.
Коста, убежденный ясностью этих доводов, сначала составил свой доклад об этой статье в самом выгодном смысле, но, испуганный раздражением Трибуната, тоже стал вскоре порицать слово «подданные» и описал статью весьма неловким образом: Россия в его изложении оказалась державой слабой, отдающей эмигрантов в руки Первого консула, а Первый консул выходил деспотом, преследующим эмигрантов даже в самом отдаленном их убежище.
Таким образом, Коста, как обыкновенно бывает с людьми осмотрительными, которые хотят угодить всем партиям разом, восстановил против себя и оппозицию, и Первого консула.
Когда наступил день совещания (7 декабря 1801 года), трибун Жард-Панвилье изъявил желание, чтобы прения проходили секретно. Это предложение было принято. Избавившись от присутствия публики, которая была к ним не слишком расположена, трибуны увлеклись крайностями. Они непременно хотели отвергнуть договор и предложить Законодательному корпусу сделать то же самое. Глупости, преступнее этой, никогда еще не бывало: из-за одного слова, и притом справедливого и вполне невинного, отвергать договор, на заключение которого потрачено так много времени и труда и который обещал мир с одной из сильнейших держав Европы, значило действовать безумно.
Шенье и Бенжамен Констан ораторствовали самым неистовым образом. Но тут неизвестный трибун, человек простой, однако со здравым смыслом, заставил наконец всех образумиться краткой речью:
— Я решительно не разбираюсь в дипломатии, — сказал он, — я не знаю ни ее искусства, ни языка; но я вижу в предлагаемом документе мирный договор. Мирный договор — вещь драгоценная, которую нужно принимать целиком, со всеми словами, которые она содержит. Поверьте мне, Франция не простит вам, если вы его отвергнете, и на вас падет страшная ответственность. Итак, я предлагаю прекратить прения, открыть заседание для публики, а договор немедленно поставить на голосование.
После этих кратких слов хотели уже собирать голоса, но кто-то из оппозиции призвал оставить дело до следующего дня, потому что было уже довольно поздно. Предложение приняли.
На другой день произошла такая же сцена, как и накануне. Бенжамен Констан произнес речь, очень обстоятельную и остроумную. Шенье снова начал неистовствовать, говоря, что пять миллионов французов пожертвовали жизнью, чтобы не называться «подданными», и что это слово должно навсегда оставаться погребенным под развалинами Бастилии.
Жирарден, один из самых благоразумных членов Трибуната, заставил собрание все же приступить к голосованию.
Большинство Трибуната желало доказать Первому консулу свое недовольство выбором лиц, но не хотело вступать с ним в борьбу по поводу договора. А потому договор был принят большинством в семьдесят семь голосов против четырнадцати. В Законодательном корпусе, благодаря устройству этого учреждения, он был принят без шума.
Эти сцены произвели в Париже самое неприятное впечатление. На Первого консула смотрели не как на министра, которому нежелательно терять большинство голосов, — ведь никто не боялся за его политическую самостоятельность, — напротив, на него смотрели как на лицо, которое в тысячу раз необходимее короля в благополучной монархии. Но все с огорчением взирали на малейшие признаки новых волнений, и спрашивали друг друга, чем может кончиться подобная борьба при характере генерала Бонапарта и при конституции, в которой забыли упомянуть право распускать государственные собрания.
И действительно, если бы такое право существовало, можно было бы очень скоро разрешить все затруднения, потому что Франция просто не избрала бы ни одного из противников правительства. Но, будучи вынужденными сосуществовать друг с другом до пятилетнего возобновления, государственные власти подвергались, как и во времена Директории, взаимному воздействию и нападкам. Потому-то при взгляде на эти события все разумные люди трепетали.
Прения по поводу Гражданского кодекса еще более увеличили опасения. Ныне, когда целый мир с уважением смотрит на Кодекс, нельзя и вообразить всех порицаний, которым он тогда подвергся. Оппозиционная партия прежде всего выразила свое удивление по поводу его простоты и недостатка новых форм.
«Как! Только-то? — говорили оппоненты. — Но в этом проекте нет ни одной новой идеи, нет никакого законодательного творчества, которое было бы приспособлено исключительно к французскому обществу; это просто перевод римского или обычного права. Взяли Домата41, Потье42, Институты Юстиниана43, изложили все, что в них содержится, по-французски, разделили на статьи, связали номерами, а не логической последовательностью, и представляют Франции эту компиляцию как памятник, имеющий право на ее удивление и уважение!»
Бенжамен Констан, Шенье, Женгене, которые могли бы гораздо достойнее употребить свои способности, насмехались над государственными советниками и говорили что прокуроры под руководством солдата соорудили пошлую вещицу с пышным названием.
Порталис и его соратники отвечали, что в деле законодательства главный предмет состоит не в оригинальности, а в ясности, мудрости и справедливости; что им предстояло не образовать новое общество, подобно Ликургу или Моисею, а переиначить старое, в некоторых пунктах изменив, а в других восстановив; что французское право существует уже десять веков и оно есть следствие римской науки, феодализма, монархических начал и духа новейших времен; что гражданское право, проистекающее из всех этих источников, ныне должно быть применено к обществу, которое отбросило аристократизм, чтобы сделаться демократическим. Поэтому надлежало пересмотреть законы о браке, о родительской власти, о наследстве и очистить их от всего, что противно настоящему порядку вещей, а законы о недвижимой собственности избавить от феодального рабства. И изложить это языком ясным, определенным, который не допускал бы двусмысленностей и бесконечных возражений.
Все сказанное было умно и совершенно справедливо. Кодекс в этом отношении являлся мастерски исполненным произведением законодательства. Законоведы, люди ученые и опытные, хорошо владеющие языком закона, правда, под руководством солдата, но солдата с умом необыкновенным, составили этот прекрасный свод французского права, очистив его от всех феодальных стихий. Его нельзя было составить иначе и лучше.
Конечно, в этом обширном труде можно было кое-где заменить одно слово другим, переместить статью из одного параграфа в другой — без особого риска, но и без особой пользы, а этим-то именно и любят заниматься собрания, единственно для того, чтобы показать, что и они приложили руку к труду, который им представлен.
Введение к Гражданскому кодексу отдали на рассмотрение комиссии, в которой трибун Андриё был назначен докладчиком. Это введение, за исключением некоторых ничтожных изменений в редакции, заключало в себе положения, которые уцелели доныне и составляют предисловие к этому памятнику законодательства.
Первая статья относилась к обнародованию законов. Прежняя система, при которой закон считался действительным не ранее, как по признании его парламентом и судами, была отвергнута. Ее заменили весьма простой идеей: обнародовать закон при помощи исполнительной власти и признавать его действительным в столице — через двадцать четыре часа со времени обнародования, а в провинциях — в сроки, сообразные с их расстоянием от столицы.
Вторая статья уничтожала обратную силу закона. Некоторые важные ошибки Конвента делали статью эту не только полезной, но даже необходимой. Надо было положить за правило, что закон не будет в состоянии изменить прошедшее, а должен только воздействовать на будущее.
Ограничив действия закона относительно времени, надлежало ограничить его и относительно места. Следовало указать законы, которыми французы должны руководствоваться повсюду, даже вне границ Франции, как, например, законы о браке и наследстве, и законы, которые действительны только в пределах Франции, но зато как для француза, так и для иностранца. К этому разряду относились законы, касавшиеся полиции или собственности, — они и составляли предмет третьей статьи.
Статья четвертая обязывала судей непременно произносить свое суждение, даже если закон казался им неудовлетворительным. Эти случаи нередко встречались в то время, когда один закон уже отменен, а на замену ему еще ничего не предложили. Часто суды, за недостатком законов, бывали в сильном затруднении при решении дела, а нередко совсем отказывались от обязанности произносить приговор.
Суды кассационной инстанции и Законодательный корпус были завалены вопросами об истолковании законов. Надлежало устранить это злоупотребление, обязав судей оглашать решение в любом случае, но надо было в то же время воспрепятствовать и судебному произволу. Это составляло предмет пятой статьи, которая воспрещала судьям пускаться в рассуждения, а обязывала только выносить решения на основании общих положений.
Наконец, шестая, и последняя, статья заключала в себе ограничение общепринятого обычая избегать строгости законов посредством заключения частных сделок. Эта статья, таким образом, делала неизбежными для всех законы, касавшиеся общественного порядка, семейных отношений и нравственности.
Введение было отвергнуто большинством в шестьдесят три голоса против пятнадцати. Оппозиция, обрадованная первой удачей, хотела продолжить свои усилия. По положению конституции Трибунат назначал для прений в Законодательном корпусе трех ораторов против трех государственных советников. Поручили хлопотать о непринятии введения Тьессе, Андриё и Фавару. И оно было отвергнуто в Законодательном корпусе с небольшим преимуществом голосов.
Этот результат был очень важен. Поговаривали, что и две последующие статьи Гражданского кодекса, о пользовании гражданскими правами и о формах гражданских записей, будут отвергнуты.
Доклад трибуна Симеона насчет статьи о пользовании гражданскими правами и о лишении прав гражданства действительно склонял к отмене статьи.
Симеон, человек обыкновенно очень рассудительный, в своей критике заметил, что предлагаемый закон «забыл» упомянуть, что дети, рожденные от французов во французских колониях, должны считаться французами по праву.
Мы приводим это странное замечание потому, что оно вызвало удивление и гнев Первого консула. Он созвал Государственный совет, чтобы решить, как поступить в этом случае: продолжать прения или переменить процедуру представления проектов Законодательному корпусу? Или, наконец, не отложить ли этот великий труд, столь нетерпеливо ожидаемый, до более благоприятного времени?
Первый консул был вне себя.
«Что прикажете делать с людьми, — возмущался он, — которые еще до начала совещания говорили, что государственные советники и консулы — ослы и что им надо бросить их труд в лицо? Что вы будете делать, когда человек, подобный Симеону, обвиняет закон в неполноте потому только, что в нем не объяснено, что дети, родившиеся во французских колониях от французских родителей, — французы? Поистине, перед такими заблуждениями невольно станешь в тупик! Когда мы, собравшись для обсуждения этих предметов с самыми благими намерениями, едва могли согласиться во мнениях, чего же надо ожидать от собрания, которое впятеро или вшестеро многочисленнее Государственного совета и судит неблагонамеренно? Как составить полный свод законов при таких условиях? Я читал речь Порталиса, произнесенную им в Законодательном корпусе: он уничтожил возражения трибунов совершенно, он им повырывал зубы! Но, приди оратор хоть с того света, говори без умолку хоть целые сутки, он ничего не достигнет в собрании, которое предубеждено и наперед решило ничего не слушать!»
После этих жалоб, выраженных языком резким и желчным, Первый консул потребовал мнения Государственного совета о том, как сделать, чтобы Трибунат и Законодательный корпус все-таки приняли Гражданский кодекс. Вопрос этот не был новостью для Государственного совета, там уже давно предвидели затруднения и предлагали разные способы к их устранению.
Одни советовали представить Законодательному корпусу только общие положения, а подробно рассматривать и принимать Кодекс самим, согласно уставу. Это было довольно неудобно, потому что трудно понимать общие положения закона и его развитие, когда они изложены порознь.
Другие предлагали план гораздо более простой: представить весь Кодекс разом. «По крайней мере, — говорили советники, — тогда со всеми тремя книгами будет столько же хлопот, сколько теперь с одной. Трибуны накинутся на первые главы, потом утомятся и оставят остальные в покое. Прения тогда прекратятся сами собой».
Совет этот был самым дельным и благоразумным. Но для того, чтобы он воплотился, требовалось многое. Тогда еще не имели права изменять предложения правительства путем небольшой жертвы — исправлением законов, посредством которых можно удовлетворить тщеславие одних и обнаружить предубеждения других. Кроме того, в оппонентах недоставало добросовестности, без которой всякие прения о важных предметах становятся невозможными. Да еще и сам Первый консул не имел того терпения, которое внушается лицам представительного правления привычкой к беспрерывным возражениям. Он не допускал мысли, что благо, которого от души желали и над которым так усердно трудились, может быть замедлено или испорчено в угоду «болтунам», как он называл своих противников.
Некоторые решительные умы предлагали даже представить Гражданский кодекс так же, как обыкновенно представлялись политические трактаты: с приложением, разъясняющим, как их понимать, и таким образом заставить принять решение сразу, выразив его словами «да» или «нет». Но подобное предложение показалось слишком диктаторским, и его также отвергли.
По совету образованнейших членов, и в особенности Тронше, было положено сначала выяснить, какая участь постигнет остальные две главы, представленные Трибунату. «Да, — сказал Первый консул, — мы можем рискнуть еще двумя битвами. Если мы их выиграем, то пойдем дальше, как начали. А проиграем, так возвратимся на зимние квартиры и рассудим, на что решиться».
Этот план был принят. Ожидали окончания двух остальных совещаний. Общественное мнение начинало сильно восставать против Трибуната. Руководители интриги смекнули, что ожидаются сложности, и придумали способ смягчить неприятное впечатление: решили принять одну статью.
Им особенно нравилась глава о формах гражданских записей, потому что она еще более утверждала революционные начала по отношению к духовенству и, отняв у него право вести списки о рожденных, умерших и бракосочетаниях, поручала эту заботу муниципальным чиновникам.
Глава эта, представленная государственным советником Тибодо, была превосходна, но это не спасло бы ее, если бы в ней не содержались начала, ограничивающие духовенство. Итак, решились принять именно ее. По порядку представления ей следовало быть третьей статьей, но ее пустили вперед и приняли без всякого затруднения, а затем так же решительно отвергли главу о пользовании гражданскими правами и о лишении их. Эту статью отвергли в Трибунате значительным большинством голосов. Разгром ее в Законодательном корпусе не подвергался сомнению. Затруднения должны были еще увеличиться при рассмотрении законов о браке,
о разводе, о родительской власти. Что же касается Конкордата и проекта о народном просвещении, то, очевидно, не оставалось и надежды, чтобы они были приняты.
Но дело дошло до последней крайности, когда предложили новый выбор лиц для замещения вакантных мест в Сенате, выбор, который обнаружил решительное неуважение к мнению Первого консула.
Аббат Грегуар уже стал сенатором в противовес предложениям правительства. Оставалось заменить еще два кресла. Выбор пал на Дону. Старались устроить так, чтобы одновременно представить его обоим законодательным собраниям, тогда выбор его в Сенат становился почти неизбежным.
По этому случаю хлопотали так деятельно и просили о назначении его с такой дерзостью, что можно только удивляться, что это происходило во время могущества Первого консула.
За Дону начали голосовать в Законодательном корпусе вместе с генералом Ламартильером, кандидатом от правительства. Он получил 135 голосов, а генерал Ламарти-льер — только 122. Корпус провозгласил его кандидатом на одно из мест в Сенате. В Трибунате Дону избирали также вместе с Ламартильером; он получил 48 голосов, тогда как на долю генерала пришлось 39: и здесь его объявили кандидатом. Итак, вместо одного представления Дону представили на двух собраниях. Выборы эти прошли 1 января 1802 года, в тот самый день, когда статья Гражданского кодекса о пользовании гражданскими правами была отвергнута.
По правилам представительного правления это значило утратить большинство, и в таком случае Первый консул должен был бы сложить с себя свое звание. Однако никто не смел и подумать о его исключении, потому что никто не был в состоянии такое совершить. Стало быть, из всей затеи вышла одна только жалкая уловка, недостойная порядочных людей. Это была самая ребяческая и в то же время весьма опасная выходка, потому что она могла вывести из терпения человека пылкого, полного сознания своей силы и на все способного.
Даже консул Камбасерес, всегда столь умеренный, видя в этом поступке непростительный промах, говорил, что нельзя дальше выносить такое явное противодействие и что он не отвечает за то, удастся ли ему и на этот раз укротить гнев Первого консула.
И действительно, гнев Первого консула не знал границ: он открыто объявил, что будет сокрушать всякое препятствие на пути к его благим намерениям.
На следующий день, 2 января, он как раз принимал сенаторов. На этот раз их собралось очень много, явились даже те, кто действовал против него: одни из любопытства, другие из боязни или чтобы присутствием своим разуверить его в своем участии в интриге.
Сийес также находился в числе посетителей. Бонапарт, по обыкновению, был в мундире; лицо его горело, все ожидали сильной сцены. Его окружили.
— Так вы уже не хотите избирать в сенаторы генералов? — сказал Первый консул. — Однако им вы обязаны миром: теперь и следует доказать им вашу благодарность!
После этих первых слов он обратился с жестокими упреками к сенатору Келлерману, Франсуа де Нёфшато и некоторым другим. Они защищались очень неловко, но потом разговор сделался общим, и Первый консул, устремив глаза на Сийеса, начал снова.
— Есть люди, — сказал он громко, — которые хотят дать нам Великого электора и помышляют об одном из принцев Орлеанского дома. Я знаю, что эта система имеет своих приверженцев в Сенате.
Слова эти относились к действительному или ложному проекту, который приписывали Сийесу и о котором враги его успели донести Первому консулу. Сийес, услышав эти оскорбительные слова, покраснел и поспешно вышел. Тогда Первый консул обратился к остальным сенаторам со словами:
— Объявляю вам, если вы изберете Дону сенатором, я приму это за личную обиду, а вам известно, что я не сношу обид.
Сцена эта испугала всех сенаторов и огорчила наиболее дальновидных из них. Боязнь невольно закралась в злобные, но трусливые души, и шумная оппозиция готова была робко унизиться перед человеком, которого прежде хотела побороть.
Консулы провели небольшое совещание о мерах, которые следовало принять. Бонапарт был готов на резкий поступок, на насильственную меру. Если бы он имел право упразднить Трибунат и Законодательный корпус, то произошли бы новые выборы, вполне соответствующие идеям Первого консула. Правда, эти новые выборы устранили бы всех лиц, участвовавших в революции, и вывели на сцену совершенно новых людей с более или менее монархическими чувствами. Это стало бы несчастьем другого рода. Надо сознаться, что на следующий день после кровавой революции играть конституционными учреждениями опасно. Освободившись от ослепленных революционеров, можно попасть в руки неблагонамеренных роялистов. Стоило поискать другой способ.
Первый консул предложил отозвать Гражданский кодекс, оставить Трибунат и Законодательный корпус в бездействии и представить на их рассмотрение только финансовые законы, а потом, когда Франция почувствует, что именно эти собрания виновны в остановке благодетельных трудов правительства, ухватиться за первый удобный случай и отстранить их.
Но консул Камбасерес, человек искусный и предусмотрительный, придумал средство более умеренное, более законное и единственно возможное при тех обстоятельствах. «Вы можете сделать всё, — говорил он Бонапарту, — от вас всё снесут. Ведь позволяли же Директории делать, что ей хотелось, а Директория не пользовалась ни вашей славой, ни вашим нравственным влиянием и не могла похвалиться такими военными и политическими успехами, как вы. Но переворот 18-го фрюктидора, несмотря на то, что был необходим, сгубил Директорию. Он до того унизил конституцию, что на нее перестали обращать внимание. Наша конституция гораздо лучше. Она не препятствует делать добро, надо только уметь ею пользоваться. Мы должны сберечь ее от всеобщего презрения, а не нарушать при первом препятствии!»
Камбасерес соглашался с отзывом Гражданского кодекса и обречением совещательных собраний на бездействие. Но праздность когда-нибудь должна закончиться. И консул нашел способ освободиться от всех препятствий посредством тридцать восьмой статьи Конституции, в которой было сказано: «Возобновление заседаний Трибуната и Законодательного корпуса должно произойти в течение X года».
Десятый год (1801—1802) уже наступил. От правительства зависело выбрать любой момент для возобновления обоих собраний. Можно было приступить к этому, например, в продолжение зимы, устранить пятую часть депутатов, что составило бы двадцать членов Трибуната и шестьдесят — Законодательного корпуса. Тогда из обоих собраний ушли бы самые недружелюбные члены, их сменили бы люди рассудительные и миролюбивые. И к весне стало бы возможно открыть чрезвычайное заседание для принятия законов, обсуждение которых теперь было остановлено неблагонамеренной оппозицией.
Это средство представлялось самым лучшим. Но чтобы преуспеть в таком деле, надлежало склонить на свою сторону Сенат: во-первых, чтобы истолковать тридцать восьмую статью Конституции в том смысле, который хотели ей придать; во-вторых, чтобы исключить именно членов оппозиционной партии и заменить их людьми, преданными правительству.
Камбасерес, который был коротко знаком с Сенатом, знал, что большая часть его членов — люди робкие, а оппоненты бездеятельны. Он гарантировал, что сенаторы, видя, до какой степени их увлекают за пределы благоразумия, сами охотно согласятся на все, чего от них пожелает правительство.
Тридцать восьмая статья не определяла способа увольнения пятой части собрания, и потому Сенат произвольно мог выбрать голосование или жребий. Фактически, жребий — единственное средство, которое можно допустить при обыкновенной системе выборов.
Но в предстоящем случае выбор возложили на Сенат, который большинством голосов легко мог обозначить пятого члена, назначаемого к исключению. Таким образом, здесь гораздо естественнее было прибегнуть к голосованию, чем к слепому жребию. И это согласовывалось с настоящим смыслом конституции, потому что, предоставив Сенату все права избирательного сословия, она сделала его судьей в случае возникновения разногласий между законодательной властью и правительством.
Одним словом, так хитрой уловкой восстанавливали право упразднения, необходимое при всяком нормальном правительстве. Но главная польза состояла в том, что можно было выйти из затруднительного положения, не нарушив своевольно конституцию.
Первый консул объявил, что согласен на всякий план, лишь бы избавиться от людей, которые мешали ему действовать на пользу Франции. Камбасерес взялся составить по этому случаю заключение. В Законодательный корпус послали официальное извещение о том, что правительство отзывает Гражданский кодекс.
Уже начинали бояться последствий гнева Первого консула, все ожидали явного взрыва. На другой день после сцены с сенаторами, 3 января, на имя председателя Законодательного корпуса был отправлен пакет. Его распечатали и прочли содержимое среди глубокого молчания, которое обнаруживало общий испуг.
Бумага заключала в себе следующее:
«Законодатели!
Правительство решило отозвать проекты законов Гражданского кодекса.
Оно с прискорбием видит, что должно отложить до другого времени законы, ожидаемые нацией с таким нетерпением; но оно убедилось, что не наступила еще минута, когда важные вопросы будут обсуждаться на совещаниях со спокойствием и единством намерений, которых они требуют».
Эта заслуженная строгость произвела величайший эффект. Законодательный корпус, пораженный этим ударом, пал к стопам правительства не совсем почетным образом. На том же заседании потребовали приступить к избранию третьего кандидата на последнее вакантное место в Сенате.
Возможно ли? Те же самые люди, которые с таким недоброжелательством представляли в кандидаты аббата Грегуара и Дону, теперь единогласно выбрали генерала Ламартильера! Из 252 избирателей на его долю пришлось 233 голоса. Подчиниться воле Первого консула с большим усердием было невозможно. Итак, генерал Ламартильер был объявлен кандидатом от Законодательного корпуса.
Это избрание предоставило Сенату возможность удовлетворить Первого консула без особенного для себя унижения. После сцены 2 января никто уже не думал об избрании Дону, но он был предложен двумя собраниями единовременно, и предпочесть кандидата правительства избраннику двух законодательных собраний значило бы слишком явно обозначить свое подчиненное положение.
Придумали весьма жалкий маневр, который не спас достоинства Сената, а только ярче выставил его замешательство. Четвертого января сенаторы собрались на совещание. Представление Дону было прислано 30 декабря, а представление Ламартильера — 3 января. И Сенат заявил, что ему неизвестно о декабрьском представлении, а только о январском, и потому один генерал Ламартильер является кандидатом Законодательного корпуса. Поскольку генерал Ламартильер был первым, а генерал Журдан — вторым кандидатом от правительства, то и решили считать генерала Журдана кандидатом на последнее вакантное место.
Конечно, очень хорошо, что уступили человеку необходимому, без которого Франция погрузилась бы снова в хаос, но лучше было совсем не оскорблять его, тем более если знали, что нельзя довести оскорбление до последней степени. Оппоненты Трибуната подняли шум, возмущаясь слабостью Сената, слабостью, в которой вскоре они сами превзошли сенаторов.
План, принятый правительством, был немедленно приведен в исполнение. Законодательные труды приостановлены, в печати объявили, что Первый консул оставляет Париж и едет в Лион, где пробудет около месяца.
Поездка эта имела целью одно из обычных для Бонапарта дел. Речь шла о том, чтобы дать конституцию Цизальпинской республике. Пятьсот депутатов разных лет и состояний перебирались в эту минуту через Альпы, несмотря на жестокую зиму, чтобы составить в Лионе Кон-сульту (законодательное собрание) и принять из рук Бонапарта законы, должностных лиц и само правительство.
Обе стороны собирались пересечься на полдороге, а Лион был избран как наиболее подходящее для такого собрания место, если не считать Парижа. Там уже все подготовили для этого величественного политического события. Ему хотели даже придать воинственный блеск, и потому двадцать две тысячи человек, оставшихся от Египетской армии и высаженных английским флотом в Марселе и Тулоне, шли в Лион, где их прежний полководец назначил им смотр.
Никто более не занимался ни Трибунатом, ни Законодательным корпусом. Их оставили в совершенном бездействии, не разъяснив планов правительства. Конституция не давала права не только упразднять собрания, но даже откладывать их заседания. В силу этого заседания не были закрыты, но собраниям не давали работы.
Кроме Гражданского кодекса, правительство отозвало и закон об установлении позорного клейма за подделку монет и государственных билетов. Преступления такого рода вследствие беспорядков революции размножились до невероятности. Наличные деньги, свидетельства о гражданстве, свидетельства о личности, требуемые у возвратившихся эмигрантов, чтобы очистить их от подозрений, и множество разного рода других письменных свидетельств породили отвратительный класс преступников, подделывающих документы. Первый консул желал установить для них особенный род наказания и набросал план об использовании позорного клейма.
«Подделка денег и бумаг обогащает, — писал он. — Фальшивомонетчик, вытерпев наказание, возвращается в общество и роскошью своей жизни заставляет забыть о своем преступлении. Надо заклеймить его, и тогда это не дозволит обогатившимся мошенникам сидеть за одним столом с честно разбогатевшими людьми».
Предложение это встретило такие же затруднения, как и Гражданский кодекс. И после того, как отозвали и его, собраниям не осталось ничего, что они могли бы обсуждать, потому что законы о народном просвещении и о восстановлении религиозных обрядов совсем не были представлены, а финансовые указы берегли, чтобы под предлогом их обсуждения назначить весной внеочередное заседание.
Решили, что Камбасерес, который ловко умел вертеть Сенатом, во время отсутствия Первого консула заставит сенаторов рассмотреть тридцать восьмую статью Конституции так, как нужно, и сам будет наблюдать за исключением восьмидесяти членов, которых хотели вытеснить из Трибуната и Законодательного корпуса.
До своего отъезда Первый консул занялся еще двумя важными делами: экспедицией в Сан-Доминго и Амьенским конгрессом.
Франция издавна славилась своей страстью к отдаленным владениям, а благоприятное для флота царствование Людовика XVI пробудило эту страсть с новой силой, и даже все морские неудачи не могли поколебать французов. Колонии были в то время предметом самых пламенных желаний у всех народов, развивающих свою торговлю. Египетская экспедиция, придуманная с целью оспорить владычество англичан над Индией, стала следствием этой всеобщей склонности, и неудачи ее заставили еще сильнее желать возмещения убытков.
Первый консул готовил для себя два вознаграждения: Луизиану и Сан-Доминго. Он отдал Испании Тоскану, прекрасную и драгоценную часть Италии, чтобы приобрести Луизиану, и в эту минуту требовал от мадридского двора исполнения обещания. В то же время он решился возвратить Франции остров Сан-Доминго.
Остров этот до революции был первым и важнейшим из Антильских островов и самой завидной из колоний по богатству запасов сахара и кофе. Он доставлял французским портам и морской торговле товары, наиболее популярные у других государств.
Негр, одаренный истинным гением, Туссен-Лувертюр, произвел на острове нечто вроде того, что совершил Первый консул во Франции. Он укротил возмутившееся население, принял бразды правления и восстановил относительный порядок. Благодаря ему резня прекратилась и на острове Сан-Доминго снова начали работать. Он написал конституцию, которую представил на рассмотрение Первого консула, и тем доказал приверженность нации к метрополии. Негр этот испытывал глубокое отвращение к Англии, он хотел быть свободным и французом.
Первый консул сначала допустил такой порядок вещей, но вскоре в нем пробудилось сомнение насчет верности Туссен-Лувертюра. Не желая вновь обращать негров в рабство, он, однако же, решился воспользоваться морским перемирием и отправить в Сан-Доминго эскадру и войско.
Бонапарт хотел сохранить рабство во всех колониях, куда не проникло еще возмущение, но желал смягчить его, а на Сан-Доминго — допустить свободу, стремление к которой невозможно было там погасить. Но он хотел обеспечить владычество метрополии на этом острове и для того разместить там армию. В случае, если бы негры, ставшие свободными, восстали и против метрополии, или если бы англичане затеяли новую войну, он собирался, не лишая восставших свободы, возвратить плантации прежним владельцам, которые вернулись в Париж нищими и донимали его своими жалобами и проклятиями в адрес правительства Туссен-Лувертюра.
Многие французские дворяне, уже лишенные революцией поместий во Франции, имели в то же время имущество на острове Сан-Доминго. Теперь они и там оказались лишены своих владений. Им не хотели возвращать имущество во Франции, но можно было отдать им сахарные и кофейные плантации на Сан-Доминго, и это, по-видимому, могло удовлетворить их.
Следовало торопиться. Несмотря на то, что окончательный мир, о котором теперь шла речь на Амьенском конгрессе, был почти несомненным, англичане могли предъявить еще новые, неисполнимые требования, а потому надлежало воспользоваться несколькими месяцами, в течение которых море будет свободно.
Первый консул приказал снарядить во Флиссингене, Бресте, Нанте, Рошфоре и Кадиксе огромный флот, состоявший из двадцати шести линейных кораблей и двадцати фрегатов, на которых помещалось двадцать тысяч человек.
Начальство над этой эскадрой он вверил адмиралу Вилларе-Жуайезу, а командование над войсками — генералу Леклерку, одному из лучших офицеров Рейнской армии, женатому на Полине Бонапарт. Первый консул потребовал, чтобы сестра сопровождала своего мужа. Он страстно любил ее, стало быть, посылал туда все, что было У него драгоценнейшего, а не хотел, как впоследствии говорили, сослать в смертоносную страну лихорадки солдат и генералов Рейнской армии, затмевавших его в бою.
Имелось еще одно обстоятельство, побуждавшее его поступить подобным образом. Мир, по-видимому, становился общим, и военные опасались, что карьера их закончится. Многие из них усердно просились в экспедицию, и эту милость Первый консул должен был им оказать в виде награды.
Прежде чем флотилия снялась с якоря, Бонапарту пришлось по этому поводу объясняться с английскими министрами, которые с большим подозрением смотрели на приготовления французов. Большого труда стоило их успокоить, хотя в глубине души англичане и сами желали этой экспедиции: английские министры в то время не с таким жаром смотрели на освобождение негров, как впоследствии. Свобода чернокожих на Сан-Доминго заставляла их опасаться за собственные колонии, особенно за Ямайку. Поэтому они желали успеха предприятию французов, но их пугали огромные средства, и им хотелось бы, чтобы войска отправлялись на коммерческих судах.
Наконец удалось их успокоить, и англичане согласились пропустить огромную французскую флотилию, но послали для наблюдения за ней свою эскадру. Они обещали даже предоставить в распоряжение французской армии все ямайские запасы продовольствия и военных снарядов, разумеется, за плату.
Главная дивизия, сформированная в Бресте, вышла в море 14 декабря. Другие вскоре последовали за ней. К концу декабря вся экспедиция находилась уже в открытом море и, следовательно, непременно должна была прибыть в Сан-Доминго, каким бы ни оказался результат амьенских переговоров.
Эти переговоры, проводимые лордом Корнуоллисом и Жозефом Бонапартом, шли очень медленно, впрочем, не было причин опасаться их прекращения.
Первая причина этой медлительности заключалась в самом составе Конгресса. В него входили не только уполномоченные Франции и Англии, но и голландский и испанский посланники. Испания, которая от тесной дружбы перешла почти к вражде, хотела досадить Первому консулу и не отправляла своего уполномоченного в Амьен. Поскольку она знала, что мир неизбежен и ей следует участвовать в протоколе только для того, чтобы отказаться от Тринидада, то и не торопилась отправлять посланника на Конгресс.
Англичане, со своей стороны, непременно хотели видеть на Конгрессе испанского посла, чтобы получить от него формальную уступку острова Тринидада.
Первый консул вынужден был заговорить с Испанией тоном, который пробудил ее от апатии. Он предписал генералу Сен-Сиру, посланнику, отправленному вместо Люсьена Бонапарта, обрисовать королю и королеве безрассудное поведение князя Мира и объявить им, что если Испания будет продолжать действовать в том же духе, то дело для нее кончится крахом.
Мы приведем это письмо, которое очень хорошо поясняет тогдашние отношения Франции и Испании.
«Гражданину Сен-Сиру, посланнику в Мадриде.
1 декабря 1801 года.
Я решительно не понимаю, гражданин посланник, поведения испанского двора!
Убедительно прошу Вас употребить все меры, чтобы открыть глаза кабинету и придать его действиям правильное и приличное направление. Предмет этот так важен, что я лично решаюсь писать Вам о нем.
Самая дружеская связь царила между Францией и Испанией, когда Его Величеству угодно было ратифицировать Бадахосский договор. В то время князь Мира передал нашему посланнику ноту, копию которой я приказал выслать Вам. Нота эта была наполнена такими грубыми оскорблениями, что я не счел даже нужным обратить на нее внимание.
Через несколько дней он вручил французскому посланнику другую ноту, в которой объявлял, что Его Католическое Величество намерено заключить отдельный мир с Англией. Эту ноту я также приказал переписать и переслать к Вам.
Тогда я убедился, как мало могу рассчитывать на содействие державы, министр которой выражается так неосмотрительно и обнаруживает в своем поведении такое непостоянство.
Зная волю короля, я написал бы ему прямо и открыл бы неприличные поступки его министра, но, к несчастью, в это время Его Величество занемог.
Я неоднократно предупреждал испанский двор, что отказ исполнить Мадридскую конвенцию, то есть, по сути, занятие одной четверти португальских владений, повлечет за собой потерю Тринидада, но двор не обратил внимания на мои слова.
Во время переговоров в Лондоне Франция защищала выгоды Испании как свои собственные, но Его Британское Величество никак не хотел отступиться от Тринидада, и я не мог тому воспротивиться, тем более что Испания грозила Франции отдельными переговорами и мы не могли, таким образом, надеяться на ее помощь для продолжения войны.
Амьенский конгресс открыт, и решительный мир будет скоро подписан. Однако Его Католическое Величество до сих пор еще не приказал обнародовать предварительные статьи и не объявил, на каких условиях он намерен мириться с Англией. Между тем для его влияния в Европе и для пользы его престола необходимо принять решение как можно скорее, иначе окончательный мир будет подписан без его участия.
Мне говорили, что в Мадриде собираются удержать за собой Луизиану. Франция никогда не изменяла ни одному договору, с ней заключенному, и не потерпит, чтобы какое-нибудь государство смело с ней так поступать. Король Тосканский занял свой престол и свои владения, и Его Католическое Величество слишком хорошо знает, как свято должно исполнять обязательства, а потому, вероятно, не замедлит отдать Луизиану.
Я желаю, чтобы Вы сообщили Их Величествам крайнее мое неудовольствие по поводу несправедливых и неосмотрительных поступков князя Мира. Если Испания будет продолжать в этом духе, то дело кончится громовым ударом.
Бонапарт».
И наконец Испания решилась отдать приказ парижскому посланнику Азара отправиться на Конгресс.
Уничтожив это препятствие со стороны Испании, оставалось уничтожить другое, со стороны Голландии.
Уполномоченный голландцев Шиммельпенник не хотел признать предварительные статьи, то есть уступку Цейлона, не выяснив сначала, как будут вознаграждены Голландия и ее низложенный штатгальтер, что произойдет с ее кораблями, перешедшими к Англии, и, наконец, как будет урегулирован вопрос о границах с Францией.
Жозеф Бонапарт получил предписание объявить Шим-мельпеннинку, что он может быть принят на Конгрессе не иначе, как с условием признания предварительных статей лондонского перемирия.
Чтобы избежать бесчисленных затруднений, условились не допускать к рассмотрению ни одного вопроса, лежащего вне предварительных статей. Таково было правило, принятое всеми.
Англичане действительно начали было снова рассуждать об оставлении Францией острова Тобаго. Первый консул, со своей стороны, потребовал новых земель в Ньюфаундленде, для улучшения французского рыболовства. С обеих сторон эти требования были отвергнуты. Оставалось определить в редакции договора все положения лондонских статей в подробностях.
Надо было решить два важных вопроса: оплата расходов за содержание пленных и власть над Мальтой.
Англия содержала гораздо больше французских пленных, чем Франция английских, и требовала, чтобы за превышающее число ей было заплачено. Франция отвечала, что по общепринятому правилу каждая нация должна содержать воинов, которых взяла в плен, и если это правило не хотят признать, то Франция вправе потребовать уплаты за содержание русских, баварцев и солдат других наций, бывших на жалованье Англии, которых она взяла в плен и кормила. «Впрочем, — прибавил французский посланник, — это вопрос чисто денежный, и его надо решать с помощью уполномоченных».
Вопрос по поводу Мальты казался гораздо важнее. В этом отношении и французы и англичане не доверяли друг другу. Казалось, они предвидели будущее и боялись, чтобы со временем этот остров не подпал под владычество той или другой державы.
Первый консул предлагал уничтожить все военные укрепления острова, оставить один незащищенный город, основать в нем огромный нейтральный лазарет, общий для всех наций, и превратить рыцарский орден в госпитальный, не обладающий никакой военной силой.
Англичан это предложение не устраивало. Они говорили, что сама скала — такая твердыня, которая даже без укреплений, построенных рыцарями, всегда остается чрезвычайно опасным пунктом. Они говорили, что жители острова восстанут против уничтожения их прекрасных крепостей, и предлагали восстановить Мальтийский орден на новых и более прочных основаниях. Они соглашались оставить французский язык, только если примут также язык английский и язык мальтийский для населения острова, чтобы дать ему возможность участия в правлении, и чтобы это новое образование было отдано под покровительство сильной державы, например, России. Англичане надеялись, что с английским и мальтийским языками они всегда смогут хозяйничать на Мальте и не допускать туда французов.
Первый консул настаивал на своем, говоря, что ныне трудно восстановить орден, что Бавария уже овладела его землями в Германии, что Испания, со времени учреждения над Мальтой покровительства России, думает о том же. Он напоминал, что папа, который теперь уже с неудовольствием смотрит на все, что делается с орденом, ни за что не согласится на новые преобразования. Он соглашался, если уж этого непременно хотят, на восстановление Мальтийского ордена на древних его основаниях, с сохранением существующих укреплений, но без английского и французского языков и под гарантией ближайшего двора, неаполитанского. Он не допускал покровительства России.
О внебританских договоренностях не было сказано ни слова. Первый консул строжайше запретил французскому посольству упоминать о них. Но поскольку английский король принимал живейшее участие в Оранском доме, лишенном штатгальтерства, Первый консул брался предоставить ему земельное вознаграждение в Германии. Взамен он требовал возвращения голландского флота, захваченного англичанами.
Первый консул желал кончить дело как можно скорее. Ему хотелось, чтобы договор подписали ко времени его возвращения из Лиона, потому что следовало вынести это дополнение ко всеобщему миру (вместе с Конкордатом и финансовыми законами) на обсуждение возобновленного Законодательного корпуса. Поэтому он приказал Жозефу быть посговорчивее насчет мелких подробностей и как можно скорее привести акт к подписанию.
Восьмого января Бонапарт выехал с женой и частью своего двора в Лион. Талейран отправился туда пораньше — уладить все дела, чтобы Первому консулу осталось только утвердить своим присутствием уже готовые результаты. Зима была суровой, но, несмотря на это, итальянские депутаты уже съехались и с нетерпением ждали Бонапарта, который представлял главный объект их интереса.
Пришло время устроить итальянские дела, вернув к жизни Цизальпинскую республику. Талейран был решительным противником этого. Министр говорил, что очень сложно устроить нормальное правление в любой республике. Он приводил в пример республики Батав-скую, Швейцарскую, Лигурийскую и Римскую и показывал, сколько было с ними хлопот и сколько еще остается доныне. Талейран говорил, что у Французской республики и без того уже слишком много таких дочерей и совсем не нужно прибавлять новую. Он предлагал учредить княжество или монархию, вроде Этрурии, которую можно поручить кому-нибудь из дружественных и зависимых от Франции государей, например, одному из членов Австрийского дома, великому герцогу Тосканскому, которому следовало дать вознаграждение в Германии, если его не вознаградят в Италии.
Эта комбинация, чрезвычайно приятная для Австрии, заставила бы ее дорожить миром. Она удовлетворила бы также и немецких владетелей, которые таким образом лишились бы одного из конкурентов при разделе владений. Она в особенности понравилась бы папе, который надеялся, что ему возвратят легатства, когда исчезнут обязательства, связывающие Францию с Цизальпинской республикой. Словом, эта комбинация была по вкусу всей Европе.
Сделать для Европы выносимее величие Франции и тем упрочить мир было, конечно, делом чрезвычайно важным. Когда границами Франции служили Альпы и Рейн, когда под ее непосредственным влиянием находились Швейцария, Голландия, Испания и Италия, когда она прямо владела Пьемонтом, с общего хотя и молчаливого согласия всех держав, когда она достигла такой степени величия, умеренная политика была бы для нее самой лучшей и благоразумной.
В этом отношении Талейран судил верно. Но в то же время, после всего, что уже было сделано, невозможно было не дать Италии конституцию. Отняв Италию у Австрии, следовало устроить дело так, чтобы она навсегда оказалась от нее отрезана, а это значило даровать ей прочную и независимую конституцию. Кроме того, надлежало отказаться от обладания Пьемонтом. Итальянцы хотя и предпочитают французов немцам, но в душе не любят ни тех ни других, ибо и те и другие для них чужды. Это естественное и законное чувство, которое надо уважать. Французы, покровительствуя Италии, но не обладая ею, привязывали ее к себе навсегда и не готовили себе в этой стране быстрых перемен.
По этому плану не следовало бы отдавать испанскому принцу Этрурию. Тогда, соединив Ломбардию, Пьемонт, герцогства Пармское и Моденское, Мантую, легатства и Тоскану, можно было образовать превосходное государство, простирающееся от Приморских Альп до Эча, от Швейцарии до Папской области.
Легко было выделить, в Тоскане или Романье, участок земли для вознаграждения папы, усердие которого не могло быть продолжительно, если рано или поздно не вознаградить его бедность.
Все эти земли следовало объединить под одним федеративным правительством, исполнительная власть которого покоилась бы на крепкой конституции и была бы в состоянии быстро консолидировать свои силы и дать время французской армии подоспеть на помощь. Союз этого государства с Францией действительно стал бы самым искренним, потому что оно не в состоянии было жить без Франции, а Франция была как никто другой заинтересована в его стабильности. Итальянское государство с населением в девять или двенадцать миллионов жителей, омываемое двумя морями, имеющее надежды увеличить свои владения приобретением венецианских земель и раскинуться до естественных границ Италии (то есть до Юлийских Альп), кроме того, могло впоследствии присоединить к себе посредством федеративной связи недавно образованную Генуэзскую республику, восстановить власть папы со всеми необходимыми условиями его политического и религиозного существования и освободить Неаполитанское государство от его безумного и кровожадного двора. Устроенное таким образом государство послужило бы основанием перерождения Италии и присоединило бы к Европе третью федерацию, которая вместе с существующими двумя, германской и швейцарской, была бы чрезвычайно полезна для сохранения политического равновесия.
Что касается трудности управления Италией, так это разрешалось покровительством Франции, которое могло бы продолжаться во времена первого правления.
Впрочем, этот план не лишал Италию блестящей будущности, потому что Пьемонт со временем вернули бы новому итальянскому государству, герцогство Пармское присоединилось бы к нему со смертью теперешнего герцога, наконец, даже сама Этрурия могла быть ему возвращена, если бы это понадобилось.
Впрочем, в тот момент, вероятно, было бы полезнее не раскрывать всего проекта преобразования Италии, чтобы не напугать им Европу.
Но раздробить прекрасные провинции, чтобы учредить еще одну монархию в пользу какого-нибудь австрийского принца, значило отдать Италию Австрии, потому что этот принц, что бы с ним ни делали, все-таки остался бы австрийцем, и народ, так бесчестно обманутый в своих надеждах, почувствовал бы к Франции заслуженную ненависть и отдался бы опять в руки врага.
Бонапарт, приобретя первую и, может быть, заслуженную славу за то, что вырвал Италию из рук Австрии, не мог совершить такой промах. Он принял решение, лежащее посередине двух крайностей. Итак, он отдал новой Цизальпинской республике всю Ломбардию до Эча, легатства, Моденское герцогство — словом, все, что она приобрела по Кампо-Формийскому миру. Герцогство Парма оставили без определенного назначения, Пьемонт в эту минуту принадлежал Франции.
19 Консульство
Цизальпинская республика была прикрыта спереди Альпами и Эчем, слева имела под рукой Пьемонт, справа — Адриатическое море, а в тылу ее оставалась Тоскана, находившаяся в зависимости от Франции.
Масштабные фортификационные работы, назначенные Бонапартом, в скором будущем сделали бы эту страну недоступной для австрийцев, давая ей притом средства в любое время получать помощь из Франции. Надо было устроить на дорогах надежные точки опоры, обширные военные лагеря, предназначенные или для временного размещения значительной французской армии, если она будет вынуждена ретироваться, или для сборных пунктов, где армия могла бы готовиться к нападению.
Для этой цели выбрали два места: одно при входе на Симплонскую дорогу, другое у начала трех других дорог — через Сени, Женевру и Тендское ущелье. Первое, менее значительное, укрепление на оконечности озера Маджиоре должно было принимать больных, раненых, все обозы отступающего войска и флотилию озера и защищаться три или четыре недели, пока не подоспеет вспомогательное войско, перешедшее через гору Сени.
Второе укрепление было обширным. С его помощью собирались удерживать Пьемонт; предполагали размещать там все военные средства французских армий, использовать его как точку опоры и возможность в любое время войти в Италию. Такое укрепление, по крепости и величине своей способное сравниться с Майнцем, Мецем или Лиллем и выдерживать долговременные осады, хотели устроить в Александрии.
Благодаря этим распоряжениям Франция приобретала возможность в любое время поспешить на помощь Ци-зальпинии, держать под контролем Верхнюю и Среднюю Италию и господствовать над Южной. Она могла посылать в Рим и Неаполь повеления, хоть не столь решительные, но которые там обязаны были исполнять так же, как в Турине и Милане.
Надлежало дать Цизальпинской республике правительство. С этой целью первоначально учредили временные власти, а именно: исполнительный комитет, состоящий из трех членов, господ Соммарива, Висконти и Руга, и Консульту, род совета, составленного из людей умных и усердных. Но этот порядок вещей не мог продолжаться долго.
В Париже уже находились посланник Цизальпинской республики Марескальки и господа Альдини, Сербелло-ни и Мельци, присланные во Францию для поддержания итальянских дел. Это были значительнейшие люди Италии. С ними Бонапарт и советовался, как организовать новую республику, и с их согласия начертал конституцию, которая была подражанием и французской, и всех старинных итальянских конституций.
Вместо выборных списков Сийеса, против которых начинали восставать даже во Франции, Первый консул и его помощники предложили три избирательные коллегии, бессменные и пожизненные. Первая должна была состоять из трехсот влиятельных землевладельцев; вторая — из двухсот богатых торговцев; третья — из литераторов, ученых и самых известных духовных лиц Италии, численностью также в двести человек. Этим коллегиям предстояло избирать из своего состава комиссию, состоящую из двадцати одного члена, называемую цензурным комитетом, который имел право назначать членов всех государственных собраний, исполняя роль избирателя (эту роль во Франции играет Сенат).
Следующим этапом становилось избрание Сената под названием Консульты, состоящей из восьми членов, которая, подобно французскому Сенату, контролировала соблюдение конституции, реагировала на чрезвычайные случаи в государстве, издавала указы об аресте всякого опасного лица, обсуждала договоры и назначала президента республики. Один из этих восьми сенаторов по праву назначался министром иностранных дел.
Государственный совет получал название Законодательного совета, состоял из десяти членов, пишущих законы и постановления и защищающих их перед Законодательным собранием. Наконец, Законодательное собрание должно было состоять из семидесяти пяти членов.
Во главе республики находились президент и вице-президент, избираемые на десять лет. Их назначала, как мы только что сказали, Консульта, или Сенат.
Для всех этих чиновников устанавливалось значительное жалованье.
19*
Всякому ясно, что это была та же французская конституция, но только с исправлениями, которые могли служить критикой творения Сийеса.
Далее следовало заняться выборами членов нового правительства. Эти выборы были тем важнее, что главные государственные учреждения создавались на долгий срок и добро или зло, проистекающее от их состава, могло дольше продлиться. Но Италия в то время, так же, как и Франция, находилась под влиянием партий, которые трудно было заставить договориться между собой.
С одной стороны находились почитатели прошлого, преданные австрийскому правительству, с другой — неистовые патриоты, готовые, как и везде, на крайности, но благодаря страху, в котором их постоянно держало французское войско, не проливавшие крови. Наконец, между этими двумя партиями находились умеренные либералы, обремененные тяготами управления и непопулярностью, которая с ними соединена, особенно в военное время, когда надо облагать страну множеством дополнительных налогов. При таких различиях выборы могли представить столь же неудовлетворительные результаты, как и во Франции.
Труднее всего было выбрать президента. Италия, всегда управляемая духовенством или иностранцами, не могла предложить истинно государственных людей, не могла выставить ни одного имени, перед которым другие решились бы отойти в тень.
Первый консул предложил себя в качестве президента, с тем чтобы назначить вице-президента, избранного из первейших лиц Италии, и поручить ему все дела, а себе оставить общее направление.
Для дебюта новой республики эта система представлялась единственно достойной. Предоставленная в столь смутное время туманной перспективе выборов и произвольного правления президента-итальянца, Цизальпинская республика скоро стала бы походить на корабль без компаса, отданный на волю ветров. Управляемая, напротив, итальянцами и (издали) человеком, который ее создал и еще долго должен был оставаться ее покровителем, она могла чувствовать себя вполне независимой и хорошо управляемой.
Такое начинание не могло обойтись без торжественности, его следовало облечь большим блеском. Нужно было произвести впечатление на Италию и на всю Европу.
Первый консул предложил собрать итальянцев в Лионе, потому что для них было слишком далеко ехать в Париж, а для него — в Милан. Лион, находясь у подножия Альп и будучи городом, куда Италия некогда стекалась на собор, оказался местом, наиболее для того удобным. К тому же Первому консулу представлялось очень важным смешать французов с итальянцами: он думал, что это будет, кроме всего прочего, способствовать восстановлению торговли обоих народов, потому что в Лионе в прежние времена товары Ломбардии выменивались на продукцию восточных французских провинций.
Некоторые из этих идей Талейран сообщил итальянцам, находившимся в Париже, то есть Марескальки, Альдини, Сербеллони и Мельци. От них утаили только мысль об избрании Первого консула президентом, поскольку предполагалось, что это устроится само собой, в порыве энтузиазма, во время собрания Консульты.
Виды Первого консула были слишком сообразны с истинными выгодами итальянского отечества, чтобы опасаться, что их не примут с радостью. Итальянцы выехали из Парижа и отправились трудиться над исполнением плана с французским посланником в Милане господином Петье, человеком чрезвычайно умным и влиятельным.
Проект конституции не встретил никаких возражений. Он был принят с большим удовольствием, потому что все желали поскорее выйти из неопределенного положения настоящего времени и получить надежду на более прочное существование.
Исполнительный комитет и Консульта, которым было поручено временное управление, приняли проект с восторгом и внесли только некоторые незначительные изменения, о чем и сообщили в Париж. Но все оставались в затруднении касательно обнародования новой конституции и избрания лиц, которые должны привести ее в действие. Петье по секрету сообщил некоторым влиятельным лицам идею: предложить Первому консулу самому назначить всех членов правительства, от президента до трех избирательных коллегий.
Едва эта мысль, устраняющая все противоречия Италии и клонившаяся к благу страны, была объявлена, как члены временного правительства за нее ухватились и тотчас же решили предоставить этот выбор Первому консулу.
К нему была отправлена депутация — объявить, что конституция принята, и изъявить желание итальянского народа предоставить Бонапарту, как первому лицу французского правительства, право самому произвести все назначения молодой Итальянской44 республики. О президентстве не говорили ни слова.
Еще следовало уговорить итальянцев прибыть в Лион; об этом сделали новое сообщение членам временного правительства. Им рассказали, как трудно образовать Цизальпинскую республику, сидя в Париже, что нельзя выбрать семьсот или восемьсот членов правительства, находясь вдали от людей и места; описали затруднение, с которым сопряжена поездка Первого консула в Милан, и выгоду от возможности разделить расстояние, объединив итальянцев в Лионе, куда и Первый консул может приехать и составить там что-то вроде большого итальянского сейма, на котором новая республика получит свою конституцию с пышностью и блеском.
Эта мысль заключала в себе нечто грандиозное и должна была понравиться пылкому воображению итальянцев. Она и в самом деле имела успех и, как все предыдущие предложения, была немедленно принята. Временное правительство тотчас же обратило проект в форму распоряжения и назначило в делегацию четыреста пятьдесят два депутата. Они отправились в декабре и совершили переезд через Альпы в одну из жесточайших зим, каких давно не бывало.
Первый консул отдал приказание, чтобы все было подготовлено — как по дорогам, так и в самом Лионе, — к приезду этих представителей итальянцев, которые спешили присутствием своим напомнить ему о первых и лучших его победах.
Префект Роны сделал большие приготовления и устроил огромные изящные залы для предстоявших торжеств. В Лион была отправлена часть Консульской гвардии.
Египетская армия, прославившаяся некогда победами в Италии и недавно высаженная на берега Европы, также прибыла туда.
Лионская молодежь была собрана и сформирована в кавалерийский корпус, вооруженный и разодетый на манер древней городской общины.
Талейран и министр внутренних дел Шанталь прибыли раньше Первого консула, чтобы принять членов итальянской Консульты. Туда же поспешили Мюрат и Петье из Милана, а Марескальки — из Парижа.
Первый консул заставил себя ждать по случаю Амьенского конгресса, который задержал его в Париже на несколько дней дольше. Итальянские депутаты начинали терять терпение, и, чтобы занять их, им предложили на рассмотрение проект конституции, предварительно разделив их на пять отделений, по числу провинций нового государства. Депутаты сделали некоторые полезные замечания, которые Талейран имел предписание выслушать, оценить и принять, не изменяя, впрочем, основных начал проекта. Новая конституция была единогласно одобрена.
Цизальпинским депутатам предложили также составить списки кандидатов, чтобы помочь Первому консулу в назначении многочисленных должностных лиц. Это задание потребовало у них много времени, которое они провели не без пользы.
Первый консул прибыл в Лион 11 января 1802 года. Жители селений, собравшись на больших дорогах, ждали его день и ночь. Они грелись около костров и бегали навстречу каждой карете, едущей из Парижа, крича: «Да здравствует Бонапарт!» Наконец Первый консул показался и доехал до Лиона среди беспрерывных изъявлений восторга.
Он прибыл в город вечером в сопровождении жены, детей, адъютантов и военных властей и был торжественно встречен итальянскими депутатами, штабом Египетской армии и лионской молодежью. Город, великолепно иллюминированный, блистал, как в ясный день.
Бонапарта попросили проехать через триумфальные ворота, на которых находился символ консульской Франции — спящий лев. Первый консул остановился в ратуше, которую отремонтировали специально для этого случая.
На следующий день он принимал депутации от департаментов, а после них — Консульту, четыреста пятьдесят членов из четырехсот пятидесяти двух, — пример редкой пунктуальности, если принять во внимание количество лиц, время года и расстояние.
Итальянцы, с которыми Первый консул разговаривал на их языке, были обрадованы, увидев его вновь и найдя в нем одновременно француза и итальянца.
На следующий день принялись за окончательные труды. Изменения, предложенные в редакции конституции, были приняты Первым консулом, списки кандидатов — составлены. Придумали образовать комитет из тридцати членов, избранных из Консульты, для обсуждения с Первым консулом длинной вереницы лиц, которых он должен был назначить. Это заняло несколько дней, в продолжение которых Бонапарт, посвятив часть времени совещаниям с итальянцами, в остальные часы занимался делами Франции, принимал префектов, департаментские депутации, выслушивал их желания и нужды и собственными глазами убеждался в настоящем положении дел республики.
Всеобщий восторг с каждым днем возрастал, и вскоре была пущена в ход идея провозгласить Первого консула президентом Цизальпинской республики. Марескальки, Петье, Мюрат и Талейран каждый день виделись с членами Комитета Тридцати и рассуждали с ними о выборе президента. Когда они увидели, что депутаты находятся в затруднении, им предложили облечь итальянца, которого они изберут, достоинством вице-президента и прикрыть на первых порах его неопытность славой Первого консула, которого можно провозгласить президентом.
Господина Мельци убедили принять на себя звание вице-президента, состоящего под началом Первого консула, и когда все было улажено, один из членов Комитета Тридцати предложил этот выбор комитету. Комитет принял его с радостью и тотчас же превратил проект в постановление.
Времени не теряли, и на другой же день, 25 января, проект был представлен Консульте. Она приняла его с восторгом и провозгласила Наполеона Бонапарта президентом Цизальпинской республики. Здесь в первый раз оба имени, Наполеон и Бонапарт, прозвучали вместе. Генерал должен был присоединить к титулу Первого консула Французской республики титул президента Цизальпинской.
В то время как происходили эти совещания, генерал Итальянской и Египетской армий делал смотр своим старым боевым товарищам. Египетские полубригады, которые успели собраться, были присоединены к Консульской гвардии, к многочисленным отрядам разных войск и к лионским добровольцам.
В этот день пасмурное зимнее небо прояснилось, и генерал Бонапарт под лучами сверкающего солнца проезжал перед фронтом своих верных солдат, которые принимали его с невероятным восторгом. Итальянские и египетские солдаты, восхищенные тем, что нашли юношу прежних лет столь возмужавшим героем, приветствовали его криками и хотели показать, что даже на минуту не переставали быть достойными его.
Первый консул вызывал из рядов опытных гренадеров, говорил с ними о битвах, в которых они участвовали, о ранах, которые получили. Он узнавал офицеров, встречавшихся ему не раз в сражениях, пожимал им руки, приводил их в какое-то упоение, которым не мог сам не увлечься в присутствии этих храбрецов, чья преданность помогла ему совершить истинные чудеса.
Возвратившись со смотра в ратушу, Первый консул нашел у себя депутацию Консульты, выслушал ее просьбу, объявил, что согласен ее исполнить и завтра ответит на этот новый знак доверия к нему итальянского народа.
На другой день, 26 января, он отправился в зал, предназначенный для главных заседаний Консульты. Зал этот находился в церкви, специально для такого события украшенной и отремонтированной. Все там происходило как на французском или английском королевском заседании.
Первый консул, окруженный своей семьей, французскими министрами, множеством генералов и префектов, находился на возвышении. Он произнес на итальянском языке простую и краткую речь, выразил свое согласие принять звание президента, высказал свои виды относительно правления и благоденствия новой республики и провозгласил назначение главнейших правительственных лиц, которых выбрал сообразно с желаниями Консульты.
Слова его были заглушены криками: «Да здравствует Бонапарт!», «Да здравствует Первый консул Французской республики!», «Да здравствует президент Итальянской республики!» Вслед за тем зачитали конституцию и список граждан всех классов, которые должны были способствовать приведению ее в исполнение.
Заседание это было торжественно и величественно; им достойным образом начинала свое существование новая Итальянская республика. И на этот раз, как и во многих других случаях, можно было пожелать Бонапарту одного: чтобы гений творчества шел у этого любимца Фортуны рука об руку с гением умеренности.
Первый консул уже двадцать дней находился в Лионе. Правительственные дела Франции требовали его присутствия в Париже, к тому же он должен был отдать последние приказания относительно подписания мира, который заключался на Амьенском конгрессе.
Во время его отсутствия консул Камбасерес и Сенат трудились над избавлением его от оппозиции, и благодаря их заботам он мог снова приняться за длинный ряд трудов, которые составляли счастье и величие Франции.
Итак, он спешил возвратиться в Париж, чтобы снова приняться за обычные свои занятия. Он отправился из Лиона 28 января, оставив лионцев восхищенными в полной мере необыкновенным человеком и его интересом к их городу.
Первый консул получил от императора Александра I ответ на письмо, в котором испрашивал у русского государя некоторые преимущества для лионской торговли. Письмо императора, в котором объявлялось самое решительное согласие России, было отпечатано целиком и произвело живейшее впечатление на жителей Лиона.
Жители Бордо прислали к Первому консулу депутацию с просьбой посетить их город. Он обещал исполнить их желание, как только заключение мира позволит ему высвободить хотя бы немного времени, и вернулся в Париж 31 января 1802 года.
XIV
ПОЖИЗНЕННОЕ
консульство
Поездка Первого консула в Лион была предпринята, чтобы дать Итальянской республике конституцию и поставить оппозицию Трибуната и Законодательного корпуса в затруднительное положение, подорвав к ней доверие народа и оставив ее в бездействии; наконец, для того, чтобы дать время Камбасересу исключить из обоих законодательных учреждений самых возмутительных и беспокойных членов.
Все, чего желал Первый консул, исполнилось. Итальянская республика получила конституцию и, не теряя своей самостоятельности, оказалась тесно связана с политикой Франции. Оппоненты в Трибунате и Законодательном корпусе, оставшись совершенно праздными, не представляли, как выйти из затруднительного положения. В этой-то ситуации консул Камбасерес нанес им последний удар гениальной выдумкой. Он призвал знаменитого юриста и сенатора Тронше и сообщил ему свой план.
В предыдущей книге мы ознакомились с этим планом: он состоял в истолковании тридцать восьмой статьи Конституции, по которой в X году предписывалось заменить пятую долю Трибуната и Законодательного корпуса. Можно было многое сказать «за» и «против» такого толкования тридцать восьмой статьи, но в любом случае следовало исправить недосмотр конституции, которая не предоставила исполнительной власти права роспуска.
Тронше, человек чрезвычайно умный, был убежден, так же, как и Камбасерес, что если Бонапарта не избавят °т докучной оппозиции Трибуната, то он, пожалуй, бросится в какую-нибудь решительную крайность, а потому согласился с видами правительства и взялся подготовить
Сенат к принятию нужных мер. Он легко преуспел в этом, потому что Сенат сам чувствовал, что обманут недоброжелательством оппонентов и играет роль сообщника. Когда план был одобрен главными членами Сената Ла-сепедом, Лапласом, Жакемино и другими, тотчас же приступили к его исполнению. Правительство представило Сенату 7 января 1802 года специальное заявление. Это обращение, цель которого легко было угадать, поразило оппонентов Первого консула и возбудило в них величайшее раздражение. Они бросились на поприще оппозиции из легкомыслия, по увлечению и теперь были крайне изумлены ударом, который им угрожал и который, без посредничества Камбасереса, был бы гораздо жестче.
Они собрались, чтобы составить просьбу, которую хотели изложить Сенату. Камбасерес, хорошо знавший почти всех из них, обратился к наименее виновным и дал им почувствовать, что подобным противоборством они только обратят на себя внимание Сената, которому будет предоставлено право исключения. Это замечание успокоило большую часть оппозиционеров, и они молча стали ожидать приговора верховной власти.
На заседаниях Сената 15-го и 18 января значительным большинством голосов определили, что пятая часть обоих законодательных собраний будет немедленно заменена и что замена эта будет произведена голосованием, а не по жребию. Но вместо того чтобы голосовать по поводу тех, кого следует исключить, решили голосовать за тех, кто должен остаться. В такой форме эта запретительная мера имела скорее вид предпочтения, чем отрицания.
Сенаторы, наиболее преданные правительству, были посвящены в тайну и знали имена тех, от кого правительство желало избавиться. В последних числах января голосование в Сенате закончилось, и противники правительства окончательно отделились от его сторонников. Шестьдесят членов Законодательного корпуса, оказавших наибольшее сопротивление проектам Первого консула, и двадцать самых беспокойных членов Трибуната были исключены, или, как тогда выражались, «отозваны».
Самыми значительными фигурами в этом списке являлись: Шенье, Женгене, Шазаль, Бальель, Куртуа,
Ганиль, Дону и Бенжамен Констан. Остальные — менее известные, по большей части литераторы, деловые люди, прежние члены Конвента и священники — попали в Трибунат благодаря дружбе Сийеса и его партии, и этой же дружбе были теперь обязаны своим исключением.
Таким оказался конец если не Трибуната (который существовал еще некоторое время), то минутного влияния, приобретенного этим учреждением.
Теперь оставалось пожелать, чтобы Первый консул решился дальше не обращать слишком большого внимания на горсть бессильных порицателей. Такое решение было бы достойно его могущества и позволило бы даровать Франции некоторую степень вольности, чтобы тем подготовить ее к принятию истинной свободы позднее.
Но в этом мире мудрость встречается гораздо реже, чем ум, потому что мудрость требует от человека победы над его страстями, победы, к которой столь же неспособны великие люди, сколь и ничтожные.
Нельзя не сознаться, что в этом случае Первый консул поступил неблагоразумно, и одно служит ему оправданием: то, что подобная оппозиция, переносимая терпеливо, могла со временем сделаться не только беспокойной, но опасной и даже непреодолимой, если бы в ней приняло участие большинство Законодательного корпуса и Сената, а это было весьма вероятно. Такое оправдание имеет некоторое основание и доказывает, что бывают времена, когда диктаторская власть становится необходимой даже в государствах свободных или готовящихся стать свободными.
Дальше надлежало заменить исключенную пятую часть Трибуната и Законодательного корпуса. Для этих выборов воспользовались выборными списками, придуманными Сийесом. Списки эти составлялись медленно и с большим трудом, потому что не пробуждали усердия граждан, которые в этом многоступенчатом процессе не видели прямого и верного способа влиять на состав правительства.
С величайшим трудом успели составить эти списки в восьмидесяти трех департаментах, которые и поучаствовали в выборах. В состав Законодательного корпуса было включено много землевладельцев, которым водворившееся спокойствие позволяло оставить прежнее уединение. Избрали также некоторых префектов и правительственных чиновников, которые в течение последних трех лет приобрели необходимые навыки в законодательной работе.
Между лицами, оказавшимися в Трибунате, находился Люсьен Бонапарт, возвратившийся из Испании после поездки, которая принесла больше хлопот, чем пользы. Он всеми силами демонстрировал, что не желает ничего, кроме спокойного существования на службе у брата, в недрах одного из главных государственных собраний.
Вместе с ним в состав Трибуната ввели и Карно, который недавно уволился из военного министерства, где его деятельность не устроила Первого консула. Карно был, как известно, мало расположен к консульскому правительству, но он играл важную роль, был всеми уважаем, и революция не могла оставить его в тени. Впрочем, этот выбор являлся последней жертвой, принесенной свободе.
Другим замечательным приобретением Трибуната стал Дарю, даровитый и неподкупный человек с умом светлым и деятельным.
Пока происходили все эти события, Первый консул возвратился в Париж после многодневного отсутствия. Он прибыл 31 января вечером.
Все сословия спешили принести ему свои поздравления и сопровождали их речами, в которых сквозь полагающиеся изъявления восторга проглядывало искреннее и глубокое уважение. Казалось, все уже видели на этой победоносной главе двойную корону Италии и Франции.
Теперь Бонапарт мог совершать все — как для устройства Франции, так и для своего величия. Теперь не нужно было опасаться, что законы, которые он уже составил и продолжал составлять, или договоры о мире и для внутреннего использования падут под ударами недоброжелательства или из-за предрассудков государственных собраний.
Но он думал не только об этих нововведениях. Уже несколько месяцев Бонапарт готовил обширную реформу народного образования, чтобы облегчить французскому юношеству привыкание к новому порядку вещей, установившемуся после революции. Кроме того, он работал над изобретением национальной награды, которая в виде военного ордена, могла бы служить знаком отличия за гражданские доблести ровно так же, как и за военные подвиги. Это был орден Почетного легиона, который мог считаться одним из славнейших дел, затеянных Первым консулом в республиканской Франции.
Ему хотелось также залечить одну из глубочайших ран революции — устранить эмиграцию. Множество французов еще жили за границей, лишенные семейств, состояния, отчизны, с горьким чувством, внушаемым изгнанием. Первый консул не мог принять такого положения дел. Но поскольку вопрос о государственной собственности все еще находился в недоработанном состоянии, возвращение эмигрантов казалось делом самым трудным, и нужно было иметь много твердости, чтобы решиться на него. Однако приближалась минута, когда становилось возможным осуществить этот замысел.
Наконец, если уж надлежало упрочить власть в руках человека, который употреблял ее так превосходно, если следовало дать его могуществу более возвышенный и продолжительный характер, чем нынешний, то минута для этого наступила именно теперь. Общественное благоденствие, плод порядка, победы и мира, достигло высшей точки и ощущалось всеми с живостью, которую время могло скорее изгладить, чем усилить.
Однако все эти планы об общественном благе и личном своем величии, обдумываемые Первым консулом в ту минуту, нуждались еще в одном, последнем, подвиге, а именно — в утверждении мира на море, о котором шли переговоры на Амьенском конгрессе.
Предварительные лондонские статьи не были еще превращены в окончательный договор, охотники до смут каждую неделю распускали слухи, что договаривающиеся стороны не пришли к согласию и скоро снова разгорится война на море, а вместе с ней и на суше.
Первый консул, возвратившись в Париж, тотчас же принялся за дело и придал амьенским переговорам больше энергичности. «Подписывайте договор, — писал он ежедневно Жозефу, — потому что со времени подписания предварительных статей не о чем более спорить и рассуждать!»
Это было справедливо. Предварительные лондонские статьи разрешили все важные вопросы. Спорных пунктов практически не оставалось, кроме побочных вопросов — вроде вопроса о содержании пленных или способе правления на Мальте.
Мы в предыдущей книге изложили затруднения, касающиеся военнопленных. Это был вопрос чисто денежный, и решался он просто. Вопрос насчет управления Мальтой представлял большие затруднения, потому что обе державы имели на нее виды и не питали друг к другу доверия. Наконец пришли к согласию по поводу языка и образа правления: было положено восстановить прежний порядок без прибавления дополнительных языков и назначить нового гроссмейстера, потому что не хотели оставлять на этом месте Гомпеша, который в 1798 году сдал Мальту генералу Бонапарту.
В ожидании восстановления ордена собирались потребовать у короля Неаполитанского гарнизон в две тысячи человек для занятия острова по выходе англичан. Для соблюдения большей осторожности требовалось, чтобы какая-нибудь сильная держава гарантировала эту сделку и обезопасила Мальту от одного из тех нечаянных нападений, посредством которых она в последние пять лет подпадала то под власть англичан, то под власть французов. Взять на себя эту гарантию хотели предложить России, основываясь на участии, какое она принимала в судьбе Мальты в царствование Павла I.
Насчет всех этих пунктов обе стороны были согласны еще до отъезда Первого консула в Лион. Но с его возвращением переговоры вдруг замедлились. Лорд Корнуоллис, казалось, был чем-то озабочен и отступал при каждом шаге, который делал в его сторону французский уполномоченный. Нельзя было заподозрить в чем-либо бесчестном этого воина с характером прямым и искренним, который от души желал покончить со всеми затруднениями и присоединить к своим военным заслугам заслугу гражданскую, даровав мир своему отечеству. Но инструкции английского кабинета вдруг сделались чрезвычайно резки, и по лицу почтенного лорда становилось ясно, насколько это ему неприятно. Ему действительно предписали оставаться как можно более неуступчивым,
бдительно следить за работой над договором и периодически выдвигать мелочные условия, к которым очень трудно было склонить надменного и недоверчивого Первого консула.
Честный генерал теперь опасался, что его давнишнее влияние и само имя пострадают от роли, которую ему навязали в переговорах. С горечью признался он в этом Жозефу Бонапарту и вместе с ним прилагал все усилия, чтобы устранить затруднения, замедлявшие заключение мира.
Но какая же причина могла так внезапно охладить расположение английского кабинета, которым управлял Аддингтон?
Причину эту легко понять. В Лондоне произошел переворот, весьма обыкновенный для свободных государств. Ведущие английские торговцы, которые больше всех желали возобновления военных действий, потому что война доставляла им всемирную торговую монополию, предполагали вознаградить свои потери частыми сношениями с французскими портами. Но нашли в этих портах запретительные постановления, которые стали следствием отчаянной борьбы обеих наций и которые еще не успели смягчить. Простой народ в то же время надеялся на понижение цен и видел, что надежда его до сих пор остается без исполнения, потому что нужен решительный мир, чтобы принудить барышников снизить цены на хлеб. Наконец, и средний класс, требовавший уменьшения налогов, до сих пор еще не смог воспользоваться плодами, обещанными всеобщим примирением.
И неизбежное разочарование последовало за необузданным восторгом, который шесть месяцев назад возник при мысли о мире и воодушевил всю Англию. Но сильнее всего подействовали на англичан события в Лионе. Полное владычество над Италией казалось англичанам столь важным для Франции и ее главы, что ревность Британской империи пробудилась в полной мере.
Все это служило достаточной опорой для партии, желавшей войны, уже начинали поговаривать, что Франция беспрерывно расширяется, а Англия, соответственно, уменьшается в размерах.
Новость, очень быстро распространившаяся, также сильно подействовала на умы: это было известие о значительном приобретении Франции в Америке. Франция уступила Тоскану одному из испанских инфантов в качестве Этрурского королевства, но Англия не знала о цене этого пожертвования. Теперь, когда Первый консул требовал от мадридского двора уступки Луизианы, тайна договора обнаружилась. Отсюда и из факта экспедиции в Сан-Доминго можно было вывести заключение о новых и обширных замыслах Франции относительно Америки. Ко всему этому Франция еще и обменяла на княжество Пьомбино весьма значительный порт на Средиземном море, порт острова Эльба.
Подобные слухи придавали новые силы партии, желавшей войны. Питт, который оставил кабинет в предыдущем году, молча смотрел на подписание предварительных статей. Он ни слова не говорил об условиях, но одобрял сам мир. Прежние его сотоварищи, лорды Уиндхем, Дандас, Гренвиль, люди, стоявшие гораздо ниже его и потому не настолько умеренные, восставали против слабости правительства Аддингтона и находили условия предварительных статей весьма невыгодными для Великобритании.
Узнав об отплытии в Сан-Доминго флота с двадцатитысячным войском, они стали возмущаться близорукостью Аддингтона и предсказывали, что он сделается жертвой своей неблагоразумной доверчивости. При известиях о лионских событиях, об уступке Луизианы и приобретении Эльбы они вознегодовали еще больше.
Питт по-прежнему молчал. Он полагал, что надо дать ослабнуть стремлению к миру, которое овладело жителями Лондона, и можно еще некоторое время поддерживать кабинет, потворствовавший этому мимолетному желанию.
Английский кабинет ограничился тем, что отправил к Антильским островам, для наблюдения за французским флотом, несколько военных судов и снабдил лорда Корнуоллиса новыми инструкциями, которые не изменяли дела в сущности, но затрудняли некоторые условия и заполняли окончательное соглашение бесполезными и оскорбительными для французского правительства предосторожностями.
Лорд Хоксбери требовал определения платы за содержание в Англии военнопленных и чтобы Голландия заплатила Оранскому дому денежную контрибуцию независимо от вознаграждения в Германии, а в договоре было непременно сказано, что прежний гроссмейстер не будет более главой Мальтийского ордена.
Вот в чем состояли новые инструкции, посланные лорду Корнуоллису. Кроме того, было еще одно предложение, которое лорд Хоксбери предполагал сделать прямо господину Отто. Предложение это касалось Италии.
«Мы видим, — сказал лорд Хоксбери, — что в отношении Пьемонта получить ничего нельзя. Но пусть Первый консул уступит хоть какое-то земельное владение королю Сардинскому, в каком бы то ни было уголке Италии, и мы тотчас же признаем все, что Франция сделала в этой стране».
Перемены, требуемые как лордом Корнуоллисом, так и Хоксбери, состояли больше в форме, чем в сущности дела, и казались совершенно безвредными для могущества и гордости Франции. Мир этот сам по себе был так прекрасен, что его следовало принять и в том виде, в каком его предлагали. Но Первый консул не мог понять, из-за чего возникали эти новые требования, из-за предосторожности ли английского кабинета или из-за тайного желания разрыва. А потому он поступил как всегда: прямо и решительно пошел к цели. Он согласился на то, что представлялось ему возможным, и наотрез отказал во всем остальном.
Он предложил составить комиссию, которая привела бы дело с пленными к ясности, считая английскими пленниками всех солдат, находившихся на жалованье Англии. Он соглашался, что Мальтийскому ордену назначат нового гроссмейстера, но без всякого отношения к Гомпешу, а также и на то, чтобы Мальта была отдана под покровительство не только России, но даже Австрии, Испании и Пруссии.
Наконец, он соглашался прибавить статью, которая формально обеспечила бы целостность владений, как турецких, так и португальских.
Что же касается признания Англией республик Итальянской и Лигурийской и королевства Этрурского, то
Бонапарт объявил, что обойдется и без этого признания и не собирается покупать его.
Отправив все эти ответы Жозефу и предоставив ему полную свободу в изложении договора, он советовал брату действовать максимально осторожно, чтобы в случае разрыва можно было доказать, что все пошло не от него, а от Англии.
Кроме того, он велел объявить в Лондоне и в Амьене, что если не желают принять его предложений, то надо кончить дело и он тотчас же поднимет Булонскую флотилию и разобьет лагерь против самых берегов Англии.
Но разрыва в Лондоне не желали так же, как и в Париже или Амьене.
Лорд Корнуоллис, который понимал, что английской дипломатии не будет никакого оправдания, поскольку новые затруднения произошли от нее, оказался очень сговорчив в вопросе изложения договора. Жозеф Бонапарт был не менее уступчив. Таким образом, 25 марта 1802 года вечером мир с Великобританией подписали.
В течение полутора суток договор перевели на столько языков, сколько было держав, принимавших участие в переговорах. Двадцать седьмого марта уполномоченные собрались в ратуше. Первый консул желал, чтобы все было устроено с величайшей торжественностью. Давно уже отправил он в Амьен отряд лучших солдат в обмундировании с иголочки, приказал отремонтировать дороги из Амьена в Кале и Париж и послал небольшое вспомоществование тамошним безработным.
Двадцать седьмого марта в 11 часов утра кавалерийские отряды отправились к квартирам уполномоченных и сопровождали их до ратуши, где для них был приготовлен зал. Уполномоченные просмотрели все страницы договора, а в два часа в зал впустили городские власти и толпу зрителей, которым хотелось присутствовать при торжественном примирении двух могущественных народов.
Оба уполномоченных подписали договор, дружески обнялись при всеобщих криках радости растроганных зрителей и до своих домов проехали в сопровождении самых шумных восклицаний восторга.
Лорд Корнуоллис немедленно отправился в Лондон, несмотря на приглашение в Париж. Он боялся, что английское правительство может не одобрить его уступчивость, и хотел обеспечить ратификацию договора своим личным присутствием.
Хотя счастливое завершение Амьенского конгресса не вызвало в английском народе таких восторгов, какие породило подписание предварительных статей, однако же оно послужило поводом к шумной радости.
Почти такой же эффект произвел этот мир на Францию. Народ французский не столько обнаруживал внешние изъявления восторга, сколько испытывал внутреннюю удовлетворенность происходящим. Наконец все уверились, что достигнут настоящий мир на море, необходимый для достижения мира континентального.
Молодой виновник этого счастья далеко еще не достиг своей цели. Он едва наслаждался тем, что совершил, до того велика была в нем жажда деятельности. Со всей страстью к устройству мира (хоть он и не был уверен, что этот мир окажется продолжительным), Бонапарт в то же время торопился закончить внутреннее обустройство Франции и соединить все, что революция произвела истинно хорошего, со всем, что было полезного в прежнем монархическом правлении.
Теперь более всего интересовали Первого консула: полное восстановление религии, учреждение народного образования, возвращение всех эмигрантов и основание Почетного легиона. Видя примирение и согласие во всех государственных собраниях, он воспользовался правами, данными конституцией, для открытия чрезвычайного заседания.
Оно должно было длиться до 20 мая, то есть полтора месяца, и оказаться достаточно продолжительным для выполнения его планов.
Первым проектом, внесенным в Законодательный корпус, оказался Конкордат. Из всех новых проектов этот труднее всего было заставить принять гражданских и военных сановников, окружавших правительство.
Папа, который вызвал столько задержек своими спорами по любому пункту, давно уже все выслал кардиналу Капраре, чтобы тот мог стать посланцем Святого престола, как только Первый консул сочтет нужным.
Бонапарт весьма справедливо решил, что удобнее всего воспользоваться всеобщей радостью и расположением после обнародования окончательного мира, чтобы заставить республиканскую Францию преклонить колена перед алтарями и возблагодарить Бога за ниспосланные благодеяния. Он устроил все так, чтобы в день Светлого Воскресения можно было торжественно отпраздновать великое восстановление церковной службы. Но две недели, предшествовавшие этому дню, оказались весьма трудными. Нужно было, во-первых, написать и представить церковный устав, который регулировал бы политику вероисповеданий на основе Конкордата и галликанской церкви. А во-вторых, избрать новые духовные лица для замещения прежних епископов, которые почти все сложили с себя сан. Выборы эти следовало проводить с величайшей осмотрительностью, чтобы не оскорбить ими религиозного чувства и излишним усердием не произвести новый раскол.
Вот затруднения, которые предстояли Первому консулу. Упрямство кардинала Капрары, прикрываемое кротостью, и страсти духовенства, столь же пылкие, как и в других людях, делали эти затруднения весьма важными и опасными.
Первый консул начал с устава, который был обширен и устанавливал отношения между правительством и всеми вероисповеданиями: католическим, протестантским и иудейским. Основой его являлись полная свобода вероисповеданий, безопасность и покровительство всем религиям, им предписывалась взаимная терпимость и уважение и общее подчинение правительству.
В этом мудром и глубоком законе, известным под названием «органических статей», ничто не противоречило Конкордату, — стало быть, римский двор не мог иметь причин для жалоб. Первый консул очень хорошо знал, что если религия будет восстановлена, то папа не нарушит мира между Римом и Францией из-за статей, которые относятся к внутренней политике Республики.
Эти статьи были переданы кардиналу Капрара, который вовсе не встревожился их содержанием, если судить по тому, что он написал о них своему двору. Он лишь сделал несколько замечаний и советовал Святейшему отцу не огорчаться, «потому что надо надеяться, — прибавлял он, — что эти статьи не будут исполняться во всей строгости».
Дальше нужно было заняться назначениями в среде духовенства. Для управления духовными делами Первый консул назначил Порталиса, человека, способного отлично ладить с духовенством, быть его представителем в государственных собраниях и защищать его с красноречием спокойным, но блистательным и полным религиозного чувства. Обыкновенно Порталис с почтительной твердостью противился замыслам Папского престола. На этот раз он как будто принял сторону кардинала Капрары, который от имени римского двора требовал, чтобы конституционное духовенство совершенно отстранили от выборов епископов.
С тех пор как Конкордат был подписан, то есть около восьми или девяти месяцев, кардинал Капрара, который втайне исполнял обязанность легата а Шеге и часто виделся с Первым консулом, представлял ему желания римской церкви с кротостью, но и с удивительным постоянством. Эти обращения не ограничивались только спором о составе духовенства, но состояли и в желании снова приобрести утраченные провинции — Болонью, Феррару и Романью.
— Святейший отец чрезвычайно обеднел, — говорил кардинал Капрара, — с тех пор как у него отняты самые плодоносные его провинции; он так беден, что не в состоянии содержать солдат или платить чиновникам и коллегии кардиналов. Посреди таких горестей восстановление религии во Франции составляет единственное его утешение; но не прибавляйте горечи к этому утешению, заставляя его утверждать отрекшихся от церкви священников.
— Хорошо, — отвечал Первый консул. — Святейший отец беден, и я помогу ему. Хотя границы итальянских владений определены, но это положение может еще быть изменено. Даже европейские границы пока решительно не обозначены. Но сейчас я не могу отнимать провинции у Итальянской республики, которая избрала меня своим главой. Между тем Святейшему отцу нужно больше денег, ему нужно несколько миллионов, я готов их Дать ему.
Что же касается духовных лиц, — прибавил он, — это Другое дело. Папа обещал, если епископы сложат с себя звание, принять в лоно церкви всех, кто подчинится
Конкордату. Ему надо сдержать слово. Я ему об этом напомню и надеюсь, что он не откажется от своих обещаний. К тому же я не о том забочусь, чтобы добиться победы для той или другой партии, я хочу примирить все партии, сохраняя между ними равновесие. Не так давно вы меня заставили читать историю церкви, и я увидел, что религиозные распри разыгрывались точно так же, как и гражданские. Все распри оканчиваются тем, что появляется какая-нибудь мощная власть и заставляет партии сблизиться и слиться воедино.
Итак, я присоединю нескольких конституционных епископов к тем, кого вы называете правоверными, изберу самых достойных, но изберу непременно. Вы примирите их с римской церковью, а я заставлю их подчиниться Конкордату, и все пойдет как нельзя лучше.
Великий консул, как его называл Капрара, вспыхивал мгновенно, если на него наступали слишком энергично, а потому кардинал сдержался и ничего не ответил на эту речь.
Папе же он написал:
«Не станем раздражать этого человека! Он один поддерживает нас в стране, где все против нас. Если ревностность его хоть на минуту охладеет, или если он, по несчастью, умрет, вера во Франции погибнет».
Чрезвычайно любопытна переписка кардинала Капра-ры в тех местах, где она открывает, как искусный воин употреблял поочередно хитрость, ласку и необычайную вспыльчивость, чтобы убедить старого кардинала, богослова и дипломата. Таким образом, к моменту обнародования Конкордата они так и не успели убедить друг друга.
Порталис, который только в одном пункте соглашался с папой, не посмел, как ему сначала хотелось, совершенно отстранить конституционных священников от шестидесяти мест, которые следовало занять, но представил только двоих из них.
Посоветовавшись с аббатом Бернье насчет выбора из правоверного духовенства, он предложил самых влиятельных и благоразумных из прежних епископов и довольно большое число почтенных священников, известных своей набожностью и умеренностью. Он поддерживал мнение аббата Бернье о том, что не назначать ни одного из прежних епископов, а выбрать только священников — значит создать духовенство новое и лишенное всякого авторитета. В то же время выбор одних старых прелатов, напротив, означал бы совершенное забвение духовных лиц низшего разряда, которые оказали государству немало услуг во время революции.
Суждения эти были совершенно справедливы, и Первый консул их принял. Но двумя конституционными прелатами он не удовольствовался. «Из шестидесяти епископств, — говорил он, — я хочу отдать духовенству революции пятую долю, то есть двенадцать мест. Это не много». Согласившись с Порталисом и Бернье, он вместе с ними произвел отбор.
Когда обо всех назначениях сообщили кардиналу Кап-раре, он возмутился и со слезами на глазах уверял, что не имеет права посвящать этих людей в епископы. Пор-талис и аббат Бернье объявили ему, что воля Первого консула неизменна, что надо или подчиниться ей, или решительно отказаться от восстановления алтарей.
Капрара подчинился и написал папе, что «во спасение душ, лишенных веры», он решился пожертвовать интересами преданного духовенства. «Может быть, меня станут порицать за это, но я следовал тому, что казалось мне голосом свыше!»
Итак, он согласился, но выговорил себе право потребовать от избранных конституционных священников отречения, которое прикрыло бы это последнее снисхождение римского двора.
Когда все было готово, Первый консул приказал вынести Конкордат на обсуждение Законодательного корпуса, чтобы обратить его в закон. К Конкордату прилагались и так называемые «органические статьи». Пятого апреля 1802 года Конкордат был представлен государственными советниками Порталисом, Ренье и Реньо де Сен-Жаном д’Анжели.
В этот же день в Париж пришло известие об Амьенском мире, подписанном 25 марта. На заседании было решено отправить депутацию, состоящую из двадцати пяти членов, чтобы приветствовать Первого консула по случаю всеобщего мира. В поздравительной речи ни словом не был упомянут Конкордат, что ясно показывало дух, господствовавший в то время в недрах даже обновленного законодательного сословия.
Депутация отправилась 6 апреля.
— Гражданин консул! — начал председатель Законодательного корпуса свою речь. — Первой потребностью французского народа, атакуемого Европой, была победа, — и вы победили! После победы самым заветным его желанием был мир, — и вы даровали ему мир. Сколько славы для прошедшего, сколько надежд для будущего! И все это создано вами! Наслаждайтесь славой и счастьем, которыми Республика вам обязана!
Первый консул воспользовался случаем и начал рассказывать о Конкордате людям, которые говорили только об Амьенском мире.
— Благодарю вас, — сказал он депутатам Законодательного корпуса, — за чувства, которые вы выразили. Заседание ваше начинается с важнейшего из всех дел, а именно с того, которое должно успокоить наконец религиозные распри. Вся Франция молит об окончании этих пагубных раздоров и о восстановлении алтарей. Надеюсь, и вы в решении вашем будете столь же единодушны, как она. Франция с живейшей радостью узнает, что законодатели утвердили мир духовный, мир семейный, который во сто раз необходимее для счастья народов, чем тот, с которым вы явились поздравить правительство.
Эти благородные слова произвели то действие, какого ожидал Первый консул. Проект Конкордата, немедленно перенесенный из Законодательного корпуса в Трибунат, был тщательно рассмотрен без всяких неистовых выходок и принят большинством в семьдесят восемь голосов против семи. В Законодательном корпусе в пользу его подали 228 голосов и только 21 — против.
Восьмого апреля проект был обращен в закон, и на этом все формальные препятствия исчезли. Это случилось в четверг, следующее воскресенье было Вербное, а через неделю наступало Светлое Христово Воскресение. Первый консул хотел посвятить эти торжественные дни великому празднеству восстановления религии. Он еще не принимал кардинала Капрару официально как легата римского двора, а потому назначил ему торжественный прием на следующий день, в пятницу.
В пятницу, 9 апреля, кардинал-легат торжественно отправился в Тюильри в экипаже Первого консула, сопровождаемый отрядом Консульской гвардии. Первый консул принял его, окруженный многочисленной свитой. Кардинал Капрара обратился к Бонапарту с краткой речью, в которой достоинство соединялось с выражением признательности. Первый консул отвечал ему в возвышенных выражениях, которые должны были эхом разнестись гораздо дальше Тюильрийского дворца.
Эта первая из готовившихся церемоний осталась практически незамеченной, потому что жители Парижа не были уведомлены и не успели проявить свое обычное любопытство. Через день настало Вербное воскресенье.
Первый консул заставил кардинала принять тех из главных прелатов, кого собирались назначить точно. Он хотел, чтобы они были посвящены в Вербное воскресенье и через неделю могли совершить литургию во время торжественной пасхальной службы. Речь шла об архиепископе Парижском Беллуа, Камбасересе, архиепископе Руанском, Бернье, архиепископе Орлеанском, и Пансе-моне, архиепископе Ваннском.
Собор Парижской Богоматери оставался еще в руках конституционного духовенства. Надлежало оформить специальное предписание, чтобы священники дали ключи от церкви. Этот прекрасный храм находился в самом печальном запустении. С помощью суммы, отпущенной Первым консулом, принялись за отделку, и с такой поспешностью, что только в день совершения обряда заметили отсутствие места для ризницы и устроили ее в соседнем доме.
Новые пастыри облеклись в ризы там и перешли в них через площадь. Народ, узнав, что готовится большая церемония, стал собираться у собора, соблюдая тишину и благочестие.
Наружность почтенного архиепископа Беллуа была так благородна, что тронула простые сердца, и все, мужчины и женщины, склонились перед ним с благоговением*. Церковь наполнили толпы прихожан, которые сокрушались о бедствиях религии и, не принадлежа ни к одной
Архиепископу было в то время уже около ста лет.
партии, с благодарностью принимали дар Первого консула. Церемония оказалась чрезвычайно торжественной, несмотря на отсутствие привычного великолепия, она трогала сердца благодаря чувству, с каким совершалась. Четыре пастыря были посвящены по всем принятым правилам.
С этой минуты можно было ожидать всеобщего одобрения большой церемонии, назначенной на следующее воскресенье. Все общество, за исключением крайних оппозиционеров, одобряло восстановление церкви, и Первый консул мог теперь убедиться, что его точка зрения оказалась гораздо вернее точки зрения его советников.
Через неделю, в день Светлого Воскресения, решили отслужить торжественный молебен по поводу всеобщего мира и примирения с церковью. Об этой церемонии было возвещено народу как об истинно национальном празднестве. О предварительных приготовлениях и церемониале опубликовали специальные материалы.
Первый консул хотел отправиться на это торжество во главе большой процессии, которая включала бы всех самых именитых людей государства. Через придворных дам он передал женам высших сановников, что они удовлетворят живейшему из его желаний, если отправятся в собор на торжественное молебствие. Большая часть тотчас же согласилась.
Всем известно, какие суетные желания присоединяются к религиозным чувствам и заставляют женщин торопиться на такие торжества. Самые блистательные дамы Парижа исполнили волю Первого консула, главнейшие из них собрались в Тюильрийском дворце, чтобы сопровождать госпожу Бонапарт в каретах нового двора.
Первый консул отдал и генералам формальный приказ сопровождать его. Это было устроить всего сложнее, потому что генералы повсюду выражались о самом начинании неприличными и оскорбительными словами. Мы уже видели, как удалили Ланна. Ожеро, оставленный в Париже, теперь кричал громче всех. Сослуживцы поручили ему явиться к Первому консулу и заявить, что они не желают ехать в собор. Бонапарт принял Ожеро на заседании, в присутствии всех консулов и министров.
Ожеро изложил цель своего посольства, но Первый консул напомнил ему о его долге с той важной строгостью, которую он умел выказывать, особенно в отношении к военным. Он дал ему почувствовать всю неприличность его выходки, напомнил, что Конкордат теперь обращен в государственный закон, а законам должны повиноваться все классы граждан, что он, впрочем, сам будет наблюдать за их выполнением как главнокомандующий и как глава Республики, что не офицеры армии, а правительство будет решать, прилична ли церемония, назначенная в день Светлого Воскресения.
Все было готово, но в последнюю минуту замыслы кардинала Капрары едва не уничтожили благородные планы Первого консула.
Епископы, избранные из конституционного духовенства, явились к кардиналу для допросного ритуала, который совершается в отношении всех прелатов, представляемых на утверждение римскому двору. Кардинал потребовал от них отречения от их прежних заблуждений в выражениях, которые самым позорным образом описывали их преданность гражданской конституции духовенства. Эта выходка была унизительна не только для них, но и для самой Революции.
Первый консул, узнав об этом, не хотел терпеть таких притязаний и приказал священникам не соглашаться, обещая вступиться за них и принудить представителя Папского престола отказаться от своих поистине нехристианских требований.
Кардинал Капрара не находил другого способа оправдать снисхождение папы, кроме решительного отречения священников от их прежних проступков. Но Первый консул понимал это не так. «Если уж я, — говорил он, — принимаю в епископы аббата Бернье, апостола Вандеи, папа также может принять янсенистов или ораторианцев, вся вина которых состояла в том, что они последовали за Революцией».
Он предписал священникам дать простое объяснение, что они признают Конкордат и подчиняются воле папы во всех статьях, изложенных в этом документе. Бонапарт весьма справедливо утверждал, что поскольку Конкордат заключает в себе все основания союза французской церкви с римской, то и нельзя требовать ничего большего, чем исполнение его статей без явного намерения унизить одну из сторон.
В Страстную субботу вечером, накануне торжества, спор этот еще не был окончен. Порталису поручили отправиться к кардиналу Капраре и объявить ему, что если он и дальше будет требовать отречения, то завтра торжество не состоится, а Конкордат не будет обнародован.
Когда кардинал наконец уступил, стояла уже глубокая ночь.
На следующее утро, 18 апреля 1802 года, Конкордат был зачитан во всех кварталах Парижа с большой торжественностью. Между тем как на улицах столицы происходило это обнародование, Первый консул ратифицировал в Тюильри статьи Амьенского мира.
Завершив это важное дело, он отправился в собор Парижской Богоматери во главе целой процессии. Длинный ряд карет составлял этот великолепный поезд. Войска первой дивизии, собранной в Париже, были расставлены по обеим сторонам дороги, от Тюильрийских ворот до самого собора.
Архиепископ Парижский вышел в сопровождении всего духовенства, с хоругвями и святой водой к дверям храма, навстречу Первому консулу. Главу государства отвели под балдахин на приготовленное для него место. Сенат, Законодательный корпус и Трибунат в полном составе стояли по обе стороны алтаря. За Первым консулом расположились генералы, явившиеся более из повиновения, чем по убеждению. Сам же Бонапарт со строгим выражением лица неподвижно стоял в красном консульском мундире, не разделяя ни растерянности одних, ни благоговения других. Он был спокоен, важен, ощущал себя властителем, который совершает великое действо и одним взглядом заставляет всех покориться.
Церемония оказалась продолжительной и торжественной, несмотря на дурное расположение духа большей части тех, кого привлекли туда насильно. Само собой разумеется, что повсюду в городе царила радость, и всякий, у кого в сердце не гнездились пагубные страсти партий, был счастлив всеобщим ликованием нации.
Министры устроили торжественные обеды, на которые были приглашены главнейшие члены правительства. Представители иностранных государств прибыли к министру иностранных дел. У Первого консула состоялся блистательный банкет, куда были приглашены кардинал Капрара, архиепископ Парижский, главнейшие из вновь посвященных духовных лиц и знатнейшие государственные чиновники.
Для довершения эффекта, который Первый консул хотел произвести в этот день, в «Мониторе» представили разбор новой книги, наделавшей в то время много шума. Эта книга называлась «Дух христианства», ее автором являлся молодой бретонский дворянин Шатобриан. Он блестящим образом описывал в этом сочинении красоты христианства и открывал нравственную и поэтическую стороны религиозных обрядов, так грубо осмеянных двадцать лет назад.
Жестоко раскритикованный Шенье и Женгене, горячо поддерживаемый сторонниками религиозного восстановления, «Дух христианства», как и все замечательные творения, громко превозносившийся и столь же громко порицаемый, произвел глубокое впечатление, потому что выражал чувства, господствовавшие в тогдашнем французском обществе, а именно: неясное сожаление о том, чего уже нет. Таково сердце человеческое! Настоящее его тяготит и утомляет, что прошло, вдруг становится для него привлекательным.
Вновь призвав духовных лиц к алтарю, заставив их выйти из убежищ, где они нередко замышляли крамолы против правительства, Первый консул исправил один из ужаснейших недостатков того времени и удовлетворил одну из величайших нравственных потребностей общества.
Но оставалась другая, очень печальная проблема: изгнание значительного числа французов, живших в чужих краях, в бедности, иногда чувствовавших ненависть к своему отечеству и получавших от враждебных Франции государств средства к существованию, порой ценой предательства.
Изгнание — ужасное последствие раздора: оно делает изгнанника несчастным, растлевает его сердце, заставляет его просить милостыню у иноземца и распространяет повсюду печальное зрелище внутренних смут государства. Из всех последствий революции это желательно загладить прежде всего.
Первый консул смотрел на возвращение изгнанников как на необходимое дополнение ко всеобщему миру. Ему хотелось преодолеть все препятствия и присвоить себе славу этого последнего этапа восстановления. Уже существовала система исключения из списков тех эмигрантов, которые были хорошо отрекомендованы, под предлогом случайного занесения их в списки. Таким образом, не всегда прощались действительно достойные прощения и невинно пострадавшие.
Итак, Первый консул составил план возвращения всех эмигрантов, за исключением весьма немногих. Против этой меры возникли серьезные возражения. Во-первых, конституция консульского правления провозглашала формально, что эмигрантам никогда не будет дано право возвратиться во Францию. Об этом объявили в свое время прежде всего для успокоения скупщиков государственного имущества, которые считали изгнание прежних владельцев необходимым условием собственной безопасности.
Первый консул, видя в себе самую твердую опору этих людей, полагал, что уже приобрел в полной мере их доверие и может наконец без опасности для них отворить врата Франции изгнанникам. Поэтому он приказал опубликовать постановление, первая же часть которого снова подтверждала нерушимость прав владельцев, приобретших у государства собственность. Потом опубликовали распоряжение, по которому все эмигранты могли возвратиться и по возвращении отдавались под надзор полиции. Те же, кто хоть однажды провинится снова, должны будут оставаться под таким надзором всю жизнь.
Впрочем, в распоряжении о всеобщей амнистии были сделаны некоторые исключения. В возвращении отказали: предводителям отрядов, вооружавшихся против Франции; тем, кто служил в неприятельских армиях; лицам, сохранившим места и звания у принцев из дома Бурбонов; генералам и другим представителям отдельных групп, которые договаривались с неприятелем (это касалось
Пишегрю и некоторых членов законодательных собраний); наконец, епископам и архиепископам, отказавшимся сложить с себя звание по требованию папы. Количество всех этих лиц оказалось весьма незначительно.
Труднее всего было решить вопрос, касавшийся пока не проданного имущества эмигрантов. Могло показаться весьма несправедливым, что правительство не возвращает эмигрантам тех земель, которые еще оставались у него в руках. «Я ровно ничего не сделаю, — говорил Первый консул, — если, возвратив эмигрантов во Францию, не верну им родовых имений. Я хочу изгладить все следы наших распрей, а наполнив Францию эмигрантами, которые будут жить в нищете, между тем как имущество их останется под секвестром правительства, я собственными руками создам класс недовольных, весьма для нас беспокойный».
Таким образом, Первый консул решил возвратить эмигрантам все непроданные имения, за исключением домов и строений, занятых под общественные заведения. Это решение было отдано на рассмотрение особому комитету, составленному из консулов, министров, нескольких членов Государственного совета и сенаторов. О нем спорили очень горячо и, по-видимому, сильно беспокоились об этой мере. Однако общее стремление ко всему, что могло восстановить порядок и загладить следы внутренних смут, благотворное влияние мира и решительная воля Первого консула, — все это вместе привело наконец к тому, что предложение возвратить эмигрантов было принято.
Живейший спор завязался относительно собственности эмигрантов. Советники упорно противились возвращению лесов, которые по новому закону объявлялись неприкосновенными. По их мнению, это значило отдать огромные богатства в руки эмиграции, лишить государство значительных выгод, в особенности лесов, необходимых для военных и корабельных построек.
Несмотря на все усилия, Первому консулу пришлось уступить, но он сохранил себе этим, сам того не зная, одно из главных средств влияния на старинное французское дворянство, средство, при помощи которого он впоследствии подчинил себе почти всех эмигрантов. Оно
20 Консульство состояло в полном возвращении собственности только тем эмигрантам, кто целиком покорялись его воле.
Изменив, таким образом, принятое Первым консулом решение, теперь готовились придать ему законный вид и издать в виде определения Сената. Дело это оставалось несогласным с конституцией и с этой стороны несомненно касалось Сената. Приняв незадолго до того меры самые строгие, Сенат мог теперь радоваться, что ему поручают исполнить акт народного милосердия.
Сначала проект прощения рассмотрели в Государственном совете, а десять дней спустя, 26 апреля 1802 года, проект был внесен в Сенат и утвержден без возражений.
Этот смелый поступок, внушенный милосердием, должен был заслужить одобрение всех благомыслящих людей, искренно желавших окончания внутренних смут.
Такая мера правительства удовлетворила честную и, к счастью, самую многочисленную часть роялистской партии, но встретила неблагодарность со стороны эмигрантов из высшего общества, которые отплатили правительству за его благодеяния злословием в парижских гостиных. По их словам, это решение являлось ничтожным, неполным и несправедливым, потому что допускало различие между лицами, находящимися в одинаковом положении, и не возвращало эмигрантам их имений, проданы они или нет.
Можно было обойтись и без одобрения этих пустых болтунов. Но Первый консул так жаждал славы, что жалкие пересуды ничтожных людей отчасти уменьшали удовольствие, которое ему приносило всеобщее одобрение Франции и Европы.
К счастью, стремление Первого консула к добру зависело не от похвал и порицаний. Едва совершил он благое дело, о котором мы сейчас рассказали, как уже принялся за другие, гораздо более важные в политическом и общественном отношении. Избавившись от препятствий, которые чинило ему противоборство Трибуната, он решился закончить или, по крайней мере, подвинуть вперед преобразование Франции.
Вот его идеи на этот счет.
В целом Бонапарт хотел изменить стесняющие методы революции, или, точнее сказать, некоторых революционеров, потому что в первых своих движениях революция всегда благородна и справедлива. Она намеревалась уничтожить нелепости и несправедливые отличия, проистекавшие из феодального начала, в силу которых, например, еврей, католик, протестант, дворянин, священник, мещанин, бургундец, провансалец, бретонец не имели одинаковых прав и обязанностей, не платили одних и тех же налогов, не пользовались теми же выгодами — словом, не жили по одному закону.
Сделать изо всех них французов, невзирая на различие религий, происхождения, языка, граждан, равных между собой в правах и обязанностях, — вот чего хотела революция в первых своих порывах и вот чего хотел Первый консул, когда исступление уступило место рассудку. Но это мифическое равенство, призванное поставить всех на одну доску, едва допускавшее природное различие ума и талантов, он презирал, потому что почитал его или химерой, свойственной самой системе, или признаком зависти.
Итак, он хотел, чтобы в обществе существовала иерархия, на ступенях которой стояли бы все люди, но сообразно своим личным достоинствам.
Первый консул решил учредить орден, который заменил бы почетное оружие с тем преимуществом, что мог предоставляться простому солдату и генералу, мирному ученому и воину. Он должен был представлять собой знаки, по виду похожие на те, что носят во всей Европе, и пенсии, особенно полезные для солдата, когда он возвращается к своим полям.
По мнению Бонапарта, это стало бы новым способом укрепления отношений юной Франции с остальными государствами. Если во всей Европе таким образом отличали в общественном мнении оказанные заслуги, почему не устроить ту же систему во Франции?
Одно обстоятельство особенно поражало Первого консула и даже обратилось для него в предмет серьезной заботы: участники революции были разъединены, у них не было никакой связи между собой, никакой силы против своих общих врагов. Старинные дворяне шли рука об руку друг с другом, вандейцы, хоть и покорившиеся, находились в тайном союзе друг с другом, духовенство, хоть и преобразованное, все еще составляло сильное сообщество, весьма двусмысленно относящееся к правительству; люди же, участвовавшие в революции, находились в разладе и даже не признавались общественным мнением.
Стоило только предоставить обществу полную свободу на выборах, — и тотчас на сцену явились бы или новые лица, о которых нельзя было пока сказать ни дурного, ни хорошего, или неистовые революционеры, память о которых возбуждала ужас.
Первый консул был убежден, и весьма справедливо, что если не остановить этот процесс разъединения, то скоро на сцене не останется ни одного из участников революции, а явится новый класс, который очень легко будет склонить к монархизму.
Итак, он считал необходимым замедлить ход развития институтов свободы, сохранить власть в руках поколения, которое устроило революцию, основать с этим поколением общество миролюбивое, верно устроенное и блестящее, в котором он будет главой, а его товарищи по оружию составят высший класс или аристократию, но аристократию всегда доступную для рождающегося достоинства, в рядах которой займут постоянное место люди, имеющие великие заслуги, и в которой всегда останется простор для людей способных.
Какую степень политической свободы предоставит он новому обществу? Этого он еще и сам не знал. Бонапарт был убежден, что в настоящую минуту нельзя дать чрезмерной свободы, потому что она тотчас превратилась бы в пагубное противоборство, к тому же он полагал, что излишняя свобода общества ограничит полет его творческого гения.
Согласно с этими идеями он и составил свою систему военных и гражданских наград и свой план народного образования. Первый консул придумал орден, по форме военный, но предназначенный не для одних военных, и назвал его орденом Почетного легиона, желая выразить тем идею собрания людей, посвятивших себя служению чести и защите известных начал. Легион этот должен был состоять из пятнадцати когорт, каждая когорта — из семи старших офицеров, двадцати командоров, тридцати офицеров и трехсот пятидесяти простых легионеров, то есть примерно из шести тысяч кавалеров разных степеней.
Присяга показывала, чему должен служить тот, кто вступает в Почетный легион. Каждый член давал обет посвятить себя защите Республики, неприкосновенности ее земель, начал равенства, нерушимости собственности.
Каждой степени были присвоены свои знаки и пенсии. Старшим офицерам назначалось в год по пять тысяч франков, командорам — по две тысячи, офицерам — по тысяче, а простым легионерам — по двести пятьдесят франков. На эти издержки выделили капитал, находящийся в государственной собственности.
Каждая когорта должна была иметь свою резиденцию в определенной провинции и состоять под управлением Орденского совета из семи членов: в него входили, во-первых, три консула, а во-вторых, четыре старших офицера. Совет Почетного легиона должен был наблюдать за управлением имуществом и обсуждать кандидатуры для принятия в легион.
Право на этот орден давали, наравне с военными подвигами, всевозможные гражданские заслуги на любом поприще — на государственной службе, в науках, искусствах, литературе.
Время, самый лучший судья всех общественных начинаний, оценило в полной мере пользу и достоинства этого ордена. Отбросим в сторону нечастые злоупотребления, присущие всем наградам, даваемым людям людьми же, и признаем все глубокое, прекрасное и новое, соединенное с учреждением, целью которого было украсить грудь простого солдата и скромного ученого тем же знаком отличия, который мог красоваться на груди предводителя армии, принца крови или короля.
Эта почетная награда стала самым блистательным торжеством равенства, но не того, которое уравнивает людей, унижая их, а того, что равняет их, возвышая.
После введения этой прекрасной системы наград Первый консул с неменьшим жаром занялся системой образования и воспитания французского юношества.
И действительно, тогдашнее образование фактически не действовало или находилось в руках врагов революции.
Религиозные общества, некогда занимавшиеся воспитанием юношества, исчезли вместе со старым порядком вещей. Они готовы были теперь снова возникнуть, но Первый консул не хотел вверять им молодое поколение, считая их орудиями своих тайных врагов.
Учреждения, которыми Конвент старался заменить эти общества, стали пустой химерой, почти совсем уже исчезнувшей. Конвент хотел дать простому народу бесплатное начальное образование, а для буржуазии еще и среднее сделать бесплатным. Из этого ничего не вышло. Общины отводили учителям начальных школ помещения по большей части те же самые, какие прежде занимали сельские священники, но не давали им жалованья вовсе, а если давали, то выплачивали его ассигнациями. И вскоре нищета рассеяла этих бедных наставников.
Школы, в которых давалось среднее образование, находились в главных городах департаментов и представляли собой что-то вроде академических заведений, где читались публичные курсы. Юношество могло там слушать лекции по несколько часов в день и потом возвращалось домой или в пансионы, устроенные частными промышленниками.
Дух учения был сообразен с духом времени. Классические предметы, на которые смотрели как на старые привычки, были почти совершенно оставлены. Естественные, точные науки и живые языки заняли место древних языков. При каждой из школ находился музей естественной истории.
Такое образование не могло иметь большого влияния на юношество, потому что обучение, продолжавшееся час или два в день, не в состоянии овладеть вниманием молодых людей.
Довершать их воспитание предоставили содержателям частных пансионов, которые по большей части являлись врагами нового порядка вещей и жадными спекулянтами, смотревшими на юношество как на товар, а не как на священный залог, вверенный им государством и семействами.
Сверх того, центральных школ, находившихся в ста двух департаментах, по одному на каждый город, было слишком много: для такого количества заведений не хватало учеников. Только тридцать две из этих школ привлекали к себе слушателей и смогли сделаться центрами просвещения.
Наконец, эти школы, не имевшие никакой взаимной связи, лишенные единства и общего направления, походили на разбросанные обломки, а не на великое здание народного просвещения.
Первый консул составил проект с обычной стремительностью своего ума.
Финансы Франции не давали правительству возможности организовать для народа повсеместное и бесплатное обучение в начальных школах; впрочем, и сам народ не имел бы времени воспользоваться этим даром. Не было никакой возможности содержать по школьному учителю в каждой общине, а потому решили открывать школы только в тех местах, где население жило в относительном достатке и могло содержать их за свой счет. Община отводила помещение для учителя и для школы, ученики платили за себя соразмерно с тем, что нужно было на содержание наставника.
В то время самым важным оказалось среднее образование.
Первый консул в своем проекте отменил центральные школы и предложил основать тридцать два заведения, которые назвал лицеями, именем, заимствованным из древности. Эти заведения представляли собой пансионы, где юношество, проводя самые лучшие свои годы, получало вместе с основательным образованием и строгое, религиозное и военное воспитание, сообразное с началами равенства.
Бонапарт хотел снова ввести старинное классическое правило, по которому изучение древних языков занимало первое место, второе принадлежало наукам точным, с предоставлением специальным училищам возможности дальнейшего усовершенствования в последних.
Он был прав в этом случае, как и во всех прочих. Изучение мертвых языков состоит не в знании одних лишь слов: это изучение древности, с ее законами, правами, искусством, ее историей, столь нравственной и назидательной.
Изучить все это человек способен только один раз в жизни, а именно в детстве. Когда приходит юношеский возраст с его страстями, склонностью к преувеличениям и ложным вкусом, тогда жизнь летит, и человек не уделяет ни одной минуты изучению как мертвого мира, так и языков, открывающих в него врата.
Из наук же следовало обучать тому, что полезно во всех случаях жизни и необходимо для перехода из средней школы в специальную.
Закон Божий должны были преподавать священники, военные науки — офицеры, вышедшие из рядов армии. Все передвижения в школах надлежало производить на военный манер, под звуки барабана.
Этот способ воспитания казался весьма подходящим для нации, которая вся без исключения готовилась владеть оружием или в армии, или в национальной гвардии.
Восемь преподавателей, один инспектор, надзирающий за преподаванием, эконом, заведующий материальной частью, и директор лицея составляли весь штат этих заведений.
Вот разновидность школы, в которой Первый консул хотел образовывать французское юношество. Но как привлечь его туда? В этом состояло все затруднение.
Первый консул употребил средство смелое и верное, к каким и должно прибегать, если непременно хочешь достигнуть цели. Он предложил учредить шесть тысяч четыреста ежегодных стипендий за счет казны, по семьсот или восемьсот франков каждая, что составило бы в год от пяти до шести миллионов, сумму по тогдашнему времени чрезвычайно значительную. Этих шести тысяч и нескольких сот воспитанников было достаточно, чтобы заполнить лицеи в первый год. Доверие семейств, которое надеялись приобрести впоследствии, со временем избавило бы государство от такой жертвы. Стипендий хватило бы на покрытие большей части издержек в новых заведениях.
Первый консул следующим образом хотел распределить эти стипендии: 2400 назначал он детям небогатых отставных военных и гражданских чиновников, которые принесли пользу своей службой, и жителей провинций, недавно присоединенных к Франции. Остальные 4000 предназначались для пансионов, уже существовавших. Бонапарт не хотел их уничтожать и присоединил к своему плану самым простым и действенным способом. Эти пансионы не могли впредь существовать иначе, как с дозволения правительства; ежегодно их должны были проверять лица, наделенные высшей властью; они обязаны были посылать своих воспитанников на лицейские курсы, с весьма незначительной за то платой.
Четыре тысячи стипендий предполагалось разделить между питомцами разных пансионов, смотря по достоинству и уровню этих заведений. Таким образом, и пансионы вошли в общий план образования.
Перейдя потом к специальному образованию, Первый консул занялся его расширением и дополнением. Он основал десять юридических училищ. Медицинских школ оставалось три, он решил основать еще шесть. Приличная политехническая школа уже существовала и была только преобразована.
К этому присоединили школу мостов и дорог, школу ремесел, прообраз будущих школ искусств и ремесел; наконец, были основаны школа высокого искусства и школа военного искусства, которая заняла замок в Фонтенбло.
Теперь недоставало только необходимого дополнения, то есть высшего заведения, которое поставляло бы всем школам наставников, вело бы над ними наблюдение, словом, того, что впоследствии назвали университетом. Но для этого не наступило еще время. Первый консул сказал тогда ученому Фуркруа: «Это только начало. Позднее мы сделаем больше и лучше».
Проекты были сначала внесены в Государственный совет и подверглись серьезному обсуждению.
Первый консул, не любивший публичных споров, на этот раз искал прений и даже вызывал их в недрах Государственного совета. Он вел себя по-свойски, оставался оригинален, красноречив, позволял себе и другим все, и столкновение его ума с умами противников порождало гораздо больше света, чем можно было ожидать от большого собрания, где торжественность трибуны и неудобство публичности беспрестанно стесняли истинную свободу мысли.
Такая форма обсуждения была бы очень полезна для разъяснения дел даже при неограниченном властителе, которому стоит только сказать слово, чтобы оставить все в пределах, назначенных его волей. Но для образованного самодержавия, желающего достичь истины, Совет оказался лучшим из вариантов.
Составленный из участников революции и немногих людей, возвысившихся в последнее время, Государственный совет представлял все оттенки общественного мнения, во всей их силе. Если, с одной стороны, Порталис, Редерер, Ренье де Сен-Жан д’Анджели защищали партию монархической реакции, то, с другой стороны, Тибодо, Берлье, Трюге, Эммери, Беранже были верными представителями партии революционной и защищали даже ее предрассудки. Здесь, в четырех стенах Государственного совета, прения оставались искренними и чрезвычайно полезными.
Государственный совет находил, что учреждение Почетного легиона оскорбительно для равенства, что оно возрождает уничтоженную аристократию и прежний порядок вещей.
Высокая цель, составлявшая предмет присяги, то есть сохранение революционных начал, нисколько не располагала в свою пользу оппонентов. Они спрашивали: «Разве обязательства, заключающиеся в этой присяге, не являются общими для всех граждан? Разве не все они должны защищать земли отечества, начала равенства, государственную собственность и прочее? Дав одним преимущество в этом отношении, не ослабишь ли ты тем обязанности остальных?»
Другие, указывая на конституцию, говорили, что она допускает только военные награды, и прибавляли, что нововведение стало бы понятнее, если бы предназначалось исключительно как награда за воинские подвиги.
Первый консул отвечал на все эти замечания в самых сильных выражениях.
«Что вы видите аристократического, — говорил он, — в отличии личном, пожизненном, даваемом человеку, оказавшему военные или гражданские заслуги, но не переходящем на его детей? Такое отличие есть решительная противоположность аристократии, потому что главное свойство аристократических титулов состоит в том, что они переходят от отца, их заслужившего, к сыну, который не сделал ничего достойного награды.
Спрашивают, что значит легион, состоящий из шести тысяч человек, и в чем будут заключаться его обязанности? Спрашивают, будут ли они отличаться от общего долга всех граждан защищать земли Франции, конституцию и равенство?
Во-первых, на этот вопрос можно ответить, что все граждане вообще обязаны защищать свое отечество, но, несмотря на то, существуют армии, на которые долг этот возложен в особенности.
Тогда никого не должно удивлять, что в этой армии будет особенный, избранный легион, от которого потребуют большей ревностности в исполнении обязанностей и большей готовности жертвовать своей жизнью.
Этот легион — опыт организации для творцов и приверженцев революции, которые не принадлежат ни к эмигрантам, ни к вандейцам, ни к духовенству. Нужно, чтобы люди, принимавшие участие в революции, объединились между собой, составили бы крепкий союз и перестали зависеть от первого же случая, который поразит одну голову. Недоставало, чтобы вы оказались снова погружены в хаос и беззащитно преданы в руки ваших врагов.
В течение десяти лет мы только постоянно разрушали. Пора наконец и воздвигнуть здание, чтобы мы могли в нем обосноваться и жить.
Притом, будьте уверены, борьба с Европой еще не окончена, можно сказать наверняка, что она возобновится. Мы должны считать себя счастливыми, что имеем в руках такое легкое средство поддерживать и возбуждать храбрость наших солдат!
Нужно, чтобы гражданские доблести имели свою часть в наградах, наравне с доблестями военными. Те, кто этому противятся, рассуждают как варвары. Они нам советуют поклоняться грубой силе! Но разум имеет гораздо больше прав, нежели сила. Сила без разума ничего не значит! Во времена героические вождем становился всегда самый ловкий, самый сильный из бойцов, во времена просвещенные — умнейший из храбрых.
Когда мы стояли в Каире, египтяне не могли понять, как Клебер, с его величественной фигурой, не является главнокомандующим. Но когда Мурад-бей присмотрелся к нашей тактике, он понял, что я, и никто другой, должен быть вождем армии, которая действует таким образом.
Вы судите по-египетски, если хотите ограничить награды одной воинской доблестью. Солдаты рассуждают лучше вас. Зайдите к ним на бивуак, послушайте их. Не думаете ли вы, что между офицерами самый рослый, самый величественный с виду внушает им наибольшее уважение? Нет, они уважают храбрейшего. Вы думаете, может быть, что храбрейший, по их мнению, выше всех? Правда, они стали бы презирать воина, которого подозревали бы в трусости; но выше храброго они ставят умнейшего.
Да я и сам... Неужели вы думаете, что я имею власть над Францией только потому, что слыву великим полководцем? Нет, это происходит потому, что мне приписывают достоинства государственного человека и правителя. Франция никогда не потерпела бы над собой власти солдафона, кто думает иначе, жестоко ошибается. Франция — страна слишком благородная и разумная, чтобы покориться материальной власти и поклоняться одной физической силе.
Почтим же разум и доблесть, одним словом, гражданские заслуги во всех их проявлениях и станем награждать их отличием, для всех равным!»
Эти доводы, высказанные с жаром, силой и притом устами величайшего полководца новейших времен, убедили и увлекли весь Государственный совет. Надо сознаться, слова эти были искренни, но не совсем бескорыстны. Первый консул хотел, чтобы все, и в особенности военные, видели, что он стал главой государства не только как предводитель войска, но и как государственный человек.
Видя, что нельзя заставить его отказаться от этого проекта, предложили отложить проект на время, говоря, что слишком рано пускать его в ход и после Конкордата надо остановиться, чтобы дать общественному мнению время прийти в себя.
Но Бонапарт не хотел слушать этих советов. Ему было необходимо достичь результата как можно быстрее.
Проект новой системы народного образования также подвергся серьезному обсуждению в Государственном совете. Партия монархической реакции желала восстановления духовных училищ. Противная партия ратовала за восстановление центральных школ и требовала улучшения, а не полного изменения системы. Она выказывала также некоторое недоверие к стипендиям, которые должно было раздавать правительство.
Первый консул отвечал на это:
«Старинные духовные учебные учреждения не годятся в наше время: духовенство теперь ладит с новым правительством, предпочитает его Конвенту и Директории, но Бурбоны были бы ему гораздо более по сердцу. Что касается центральных школ, — то их попросту нет, это призрак!
Может быть, опасаются, что стипендии придуманы с целью приобрести новое влияние? Но это у нынешнего правительства просят со всех сторон, его завалили доверительными письмами всякого рода!
Эти шесть тысяч стипендий необходимы на образование нового общества в духе настоящего времени. Четыре тысячи питомцев, которых мы поселим в частных пансионах, составят основу будущего общества. Семейства не отдадут нам в руки детей своих, если мы не примем мер, чтобы привлечь их. Если мы откроем лицеи без стипендий, они будут во сто крат пустее центральных школ, потому что родители без опасения пошлют детей на публичные лекции по латыни и математике, но не решатся отдать их в пансионы, находящиеся в полном распоряжении начальства. Только одно средство может привлечь их: стипендия.
Жителей недавно присоединенных провинций надо также “офранцузить”. И для этого существует только одно средство: их детей поместить вместе с сыновьями наших офицеров, наших чиновников, наших богатых родов, и безвозмездное воспитание расположит их к доверию, без того невозможному».
Эти глубокие доводы, высказанные на нескольких заседаниях, заставили в конце концов одобрить проект. Господину Фуркруа поручили представить его Законодательному корпусу и защищать от доводов оппонентов.
Закон о народном образовании не встретил больших затруднений и, при поддержке Фуркруа, был принят значительным большинством голосов.
Но не так просто оказалось с законом о Почетном легионе. Закон этот в обоих собраниях встретил живейшее сопротивление и хоть и был принят, но никогда еще большинство голосов не было так слабо. Это произошло потому, что Первый консул тут задел чувство равенства — единственное, которое оставалось еще в сердцах. Но всякое чувство, если оно живо, недоверчиво и раздражительно. Первый консул слишком поторопился, в этом он сознался. «Нам бы следовало подождать, — сказал он, — это правда. Но мы были правы; а когда бываешь прав, можно иногда и рискнуть».
Плодотворная сессия законодательных собраний подходила уже к концу, а Амьенский договор все еще не был представлен в Законодательный корпус. Хотели, чтобы он послужил венцом всех деяний Первого консула. На принятие договора смотрели как на способ выражения признательности виновнику всех благ, которыми наслаждалась Франция.
Легко было воспользоваться этим чувством для исполнения тайных желаний Первого консула, состоявших в том, чтобы приобрести навсегда власть, которую ему вручили только на десять лет. В отношении этого предмета все умы пришли уже к одному определенному мнению. За исключением небольшого числа роялистов и якобинцев, никто не пожелал бы, чтобы власть от Бонапарта перешла в другие руки. На продолжение этой власти смотрели как на самое простое и неизбежное дело.
Итак, весьма легко было превратить это расположение умов в законный акт. Теперь стоило только заикнуться о такой возможности, и тотчас же Первому консулу предложили бы настоящую верховную власть, под тем названием и в той форме, как он сам бы захотел. Достаточно было выбрать удобный случай и сделать предложение, — и его бы немедленно приняли.
Наполеон Бонапарт желал верховной власти, это было естественно и простительно. Творя добро, он действовал по внушению своего гения, но, поступая таким образом, он надеялся и на награду. В этом не было ничего преступного, тем более что, по его убеждению, для довершения всех начатых им благ необходим всемогущий правитель на долгое время. В государстве республиканском по случаю и монархическом по природе, окруженном врагами и потому воинственном, неспособном управляться и защищаться из-за недостатка единства действий, Бонапарт был прав, желая верховной власти, как бы она ни называлась. Вина его не в том, что он присвоил себе власть, а в том, что не всегда употреблял ее так, как в первые годы своего славного правления.
Первый консул глубоко в сердце скрывал желания, которые ясно видели все, даже простой народ. Он доверял свои мысли разве что братьям. Никогда не говорил он прямо, что ему мало титула Первого консула на десять лет. Когда вопрос касался теории, он давал волю словам и высказывал свои мысли об этом предмете. Но в его речи никогда не обозначалось желание продлить свою власть.
Одновременно доверчивый и скрытный, он сообщал кое-что одним, кое-что другим, и кое-что скрывал от всех. Со своими товарищами, — особенно с Камбасере-сом, мудрость которого высоко ценил, с Фуше и Талей-раном, которым предоставил большое влияние, — Бонапарт открыто говорил об общественных делах гораздо больше, чем с братьями, которым не решался доверить государственные тайны. Но о вещах, касавшихся его лично, он мало говорил со своими товарищами и министрами, а больше — с братьями. Но даже им он не открыл тайной мечты своего сердца, хотя ее так легко было угадать, и в кругу его семейства ему беспрестанно говорили, что наступило наконец время создать себе что-нибудь попрочнее и попродолжительнее эфемерной и преходящей власти, которой он облечен.
Жозеф, с мирной кротостью своего характера, и Люсьен, со своей природной живостью, видимо, стремились к одной и той же цели. Поверенными и помощниками их были друзья, отчасти принадлежавшие к Государственному совету, отчасти — к Сенату. Реньо, Лаплас, Талейран и Редерер (последний — с особенным жаром) утверждали, что нужно как можно скорее возвратиться к монархии.
Талейран, более спокойный, но не менее деятельный, был привязан к монархическому образу правления, в особенности к утонченному и блистательному, и желал видеть монархию в Версале, но только без Бурбонов, с которыми в то время считал невозможным ужиться. Он беспрерывно твердил, что в переговорах с Европой выгоднее говорить от имени монархии, чем от имени республики, что Бурбоны становятся для королей беспокойными и ненужными гостями, что Бонапарт, с его славой, могуществом и смелостью, был бы для них самым приятным и желанным королем.
Однако разом перейти к наследственной верховной власти с титулом императора или короля казалось всем делом рискованным. Может быть, выгоднее было достичь этой цели, пройдя через одно или несколько промежуточных состояний. Не отменяя титула Первого консула, представлялось более удобным дать ему власть, равную королевской, а именно: пожизненное консульство с правом назначать себе преемника.
Внеся в конституцию небольшие изменения, на которые легко пошел бы Сенат, можно было создать реально действующее самодержавие под республиканским названием. С правом назначения преемника приобретались все выгоды наследования: поскольку у Первого консула не было детей, а только братья и племянники, то ему предоставлялась возможность выбрать из них достойнейшего.
Эта мысль казалась самой благоразумной и осуществимой, и на ней, по-видимому, остановилось семейство Бонапарт.
Семейство это в тот момент находилось в странном волнении. Братья Первого консула, на челе которых отражался луч его славы, но которым этого было мало и хотелось видеть его королем, чтобы самим превратиться в принцев крови, тревожились и жаловались, что не имеют никакого влияния и, хотя способствовали возвышению брата, не занимают в государстве никакого видного места, соответствующего их достоинству и заслугам.
А госпожа Бонапарт была скорее испугана, чем обрадована теми изменениями, которые произошли в биографии ее мужа и отразились на ее собственной жизни.
Министр Фуше в большей степени, чем другие придворные, разделял тревоги госпожи Бонапарт. Но он был очень умен и с опаской смотрел на нетерпение семейства, яснее всех слышал глухие вопли побежденных республиканцев, немногочисленных, но возмущенных таким быстрым переходом, да и сам чувствовал какое-то отвращение к тому, что предстояло сделать. Фуше не хотел лишиться доверия Первого консула, а, напротив, больше, чем когда-либо, желал привязать его к себе, потому что Первый консул вскоре должен был стать полновластным хозяином страны; несмотря на это, он отчасти раскрыл свой образ мыслей.
Будучи в дружеских отношениях с госпожой Бонапарт, он слышал, как она выражала свои опасения, и, боясь гнева ее мужа, старался ее успокоить.
Развязка этой тревожной ситуации была близка. По мере того как подходила к концу сессия X года, вокруг все чаще и громче повторяли, что надо придать власти больше прочности, а благодетелю Франции и всего света — изъявить благодарность.
Однако нельзя было прийти к этой развязке без помощи одного человека, а именно консула Камбасереса. Мы уже говорили о незаметном, но постоянном и искусном влиянии его на Первого консула. Влияние его на Сенат было так же велико. Так как в настоящее время Бонапарт не мог сам провозгласить себя пожизненным консулом или императором, нужно было, чтобы какое-нибудь влиятельное государственное учреждение сделало ему такое предложение. Разумеется, сделать это мог один Сенат, а в Сенате — только тот, кто имел на него наибольшее влияние.
Хоть Камбасерес и был привязан к Первому консулу, однако с неудовольствием смотрел на перемену, которая удалит его на еще большее расстояние от знаменитого сотоварища. Но зная, что всякое сопротивление желаниям генерала Бонапарта бесполезно и что, впрочем, в настоящих своих границах желания эти вполне законны, Камбасерес решился стать посредником и придать правлению устойчивую форму, которая удовлетворила бы честолюбие Первого консула и в то же время не изменила бы республиканского духа, еще слишком дорогого многим людям.
Камбасерес первый заговорил со своим сотоварищем о том, что происходило. Он не скрыл от него, как опасна торопливость в делах такого рода и как выгодно сохранить скромную и вполне республиканскую форму, обладая такой огромной властью. Предложив ему от себя и от имени третьего консула Лебрена всевозможное содействие, он объявил, что они оба готовы избавить его от необходимости действовать лично в деле, где ему следует оставаться принимающей стороной.
Первый консул, выразив Камбасересу свою благодарность, согласился, что опасно желать слишком многого и так скоро, но объявил, что вполне доволен настоящим своим положением и не видит необходимости менять его. Впрочем, он прибавил, что надо бы непременно внести некоторые изменения в форму правления, но ему нельзя вмешиваться в это дело, потому что он имеет к нему слишком прямое, личное отношение, а поэтому будет ждать и сам ничего не предпримет.
Камбасерес отвечал Первому консулу, что если ему угодно будет объясниться на этот счет со своими товарищами, то они, узнав его намерения, избавят его от труда их обнаруживать и немедленно сами примутся за дело.
Оттого ли, что Бонапарту было совестно обнаружить свои желания, или потому, что он хотел, может быть, даже самодержавной власти, но только он снова укрылся за непроницаемой завесой и повторял одно и то же, что не имеет никакого определенного намерения, но будет очень доволен, если его товарищи возьмут на себя труд наблюдать за общественным мнением и даже направят его.
Но Камбасерес очень хорошо понимал, что с пожизненным консульством, соединенным с правом назначать себе преемника, можно получить все выгоды наследственной монархии, избежав неудобств, могущих произойти от перемены титула, которая сильно бы огорчила многих совестливых граждан. Вот почему он остановился на этой мысли и старался распространить ее в Сенате, в Законодательном корпусе и в Трибунате. Но если и нашлось много лиц, которые готовы были тотчас же отдать свой голос в пользу чего угодно, то нашлись и другие, не столь решительные люди, которые соглашались только на продление консульской власти еще на десять лет.
Первый консул намеренно откладывал представление Амьенского договора на утверждение Законодательному корпусу. Камбасерес, понимая, что это обстоятельство поможет среди всеобщего восторга внести желаемое изменение, устроил все наиболее удобным образом. Шестое мая было назначено для представления договораа в Законодательном корпусе. Президент Трибуната, Шабо д’Алье, был одним из друзей Камбасереса. Тот пригласил президента к себе и решил с ним, как вести дело. Они договорились, что в тот момент, когда договор будет обсуждаться в Трибунате, Симеон предложит отправить к Первому консулу депутацию для изъявления ему благодарности. Тогда президент встанет со своего места и попросит, «чтобы Сенат дал консулам свидетельство народной признательности».
Представление договора взяли на себя три государственных советника: Ренье, Тибодо и Биго де Преамене. Едва они закончили свой доклад, как трибун Симеон встал со своего места и предложил отправить к правительству депутацию, чтобы поздравить его с заключением всеобщего мира.
Это предложение было тотчас же принято. Вслед за тем президент Шабо д’Алье предложил Трибунату выразить Первому консулу признательность каким-нибудь значительным действием и передать это пожелание Сенату, Законодательному корпусу и самому правительству. Предложение было единогласно принято.
Сенат составил с этой целью специальную комиссию. Депутацию, отправленную к правительству, приняли в Тюильри на следующий же день, 7 мая. Первый консул, в окружении своих товарищей и множества высших должностных лиц и генералов, принял депутатов спокойно и доброжелательно.
Симеон произнес прочувствованную речь, закончив ее следующим образом: «Боюсь, чтобы слова мои не приняли за лесть, тогда как речь идет только о справедливости и о выражении глубокого чувства, которое одна неблагодарность была бы в состоянии подавить».
Поблагодарив Симеона, Первый консул заметил: «Что до меня, я принимаю с чувствительнейшей благодарностью желания, выраженные Трибунатом. Не желаю другой славы, кроме той, что заслужил, выполняя возложенные на меня обязанности. Не ищу другого вознаграждения, кроме любви моих сограждан».
Теперь оставалось только определить форму награды. Никто на этот счет не обманывался, все знали, что только увеличением власти можно отплатить знаменитому генералу за благодеяния, им оказанные.
Сенаторы тут же спросили Первого консула, будет ли ему приятно продление полномочий еще на десять лет. Он отвечал с притворным смирением, что всякое изъявление общественной благодарности будет для него достаточным и равно приятным. Мало что понявшие из этих объяснений сенаторы вернулись к консулам Камбасересу и Лебрену, чтобы спросить у них совета.
— Назначьте его консулом на всю жизнь, — отвечали сенаторам, — это будет лучше всего.
— Но он говорит, что не хочет этого! — возражали наивные люди. — Что он будет доволен и продлением полномочий еще на десять лет. Зачем же делать больше, чем он хочет?
Лебрену и Камбасересу стоило больших трудов убедить их. Камбасерес сообщил об этом Первому консулу.
— Вы напрасно не хотите объясниться, — сказал он. — Ваши враги — а они есть у вас даже в самом Сенате, — воспользуются вашим молчанием.
Первый консул не казался ни удивленным, ни обрадованным усердием сенаторов.
— Оставьте их, пусть делают, что хотят, — отвечал он Камбасересу. — Большинство Сената всегда готово делать гораздо больше, чем от него требуют. Они пойдут дальше, чем вы думаете.
Партия Сийеса, по-прежнему не расположенная к Первому консулу, стала действовать активно, но тайно. Сенаторы уверяли своих товарищей, что Первый консул довольствуется продлением власти на десять лет, что такое вознаграждение действительно лучший выход, потому что в таком случае республика и достоинство нации не пострадают. И простодушный Лефевр (из числа обманутых) подал голос в пользу продления консульства на десять лет, полагая, что тем угодит Бонапарту в высшей степени.
Обсуждение в Сенате продолжалось уже двое суток, пора было его заканчивать. Искусные враги Первого консула заставили принять предложение Лефевра, и 8 мая вечером Сенат действительно принял это решение. Лефевр поспешил в Тюильри, чтобы сообщить новость, в полной уверенности, что привезет приятное известие. Но весть эта уже долетела туда и произвела на всех столь же неожиданное, сколь и неприятное впечатление. ,
Первый консул, а также Жозеф и Люсьен с живейшим неудовольствием узнали об этом результате. В первую минуту Бонапарт думал просто отказаться от предложения Сената. Он тотчас же послал за Камбасересом, который явился немедленно. Слишком благоразумный, чтобы обрадоваться своей предусмотрительности и промаху Первого консула, он сказал только, что это случай, без сомнения, очень неприятный, но поправимый. Прежде всего, не нужно показывать неудовольствия, а делу просто следует дать новый поворот, и он берет это на себя. «Мы спросим нацию не о том, может ли генерал Бонапарт принять власть еще на десять лет, но о том, не следует ли ему оставаться консулом всю жизнь. Если бы Первый консул сам сделал что-нибудь подобное, это было бы очень неловко. Но я, как лицо, совершенно незаинтересованное в деле, могу ему в этом помочь. Останусь в Париже, созову Государственный совет и заставлю его выдвинуть новое предложение, которое мы и представим на суд нации».
Эта искусная уловка была принята с большим удовольствием. Первый консул на следующее же утро, 9 мая, уехал, составив накануне с Камбасересом ответ Сенату.
Камбасерес созвал государственных советников, привыкших способствовать видам правительства, и договорился с ними насчет того, как приняться за дело в Совете.
На следующее утро Государственный совет собрался на чрезвычайное заседание. Оба консула и все министры, исключая Фуше, присутствовали на этом заседании, председательствовал Камбасерес. Он изложил причины созыва совещания и попросил совета у этого просвещенного собрания.
Биго де Преамене, Редерер, Реньо, Порталис тотчас же подтвердили, что устойчивость правительства теперь составляет первую потребность государства; что бессменное правительство Первого консула — самое верное к тому средство; что власть, данная ему на десять лет, призрачна и не имеет должного веса и величия, что, обратившись к верховной власти народа, нужно просто и ясно изложить этот вопрос: «Должен ли Первый консул быть консулом всю лсизнь?»
Префект полиции Дюбуа, член Государственного совета и человек с решительным и независимым характером, сообщил мнение по этому вопросу, господствовавшее в Париже. Предложение Сената повсюду находили смешным, и все говорили, что власть Первого консула следует сохранить навсегда.
Камбасерес спросил, не желает ли кто-нибудь высказать против этого решения свои возражения, но все молчали, и он поставил решение на голосование. Оно было принято значительным большинством голосов.
Итак, на всенародное голосование вынесли вопрос: «Быть ли Наполеону Бонапарту пожизненным консулом?»
После принятия этого решения Редерер, самый смелый из членов монархической партии, предложил дополнить первый вопрос еще одним, а именно: «Будет ли Первый консул вправе назначить себе преемника?» Будучи человеком чрезвычайно упорным, Редерер настоял на своем и заставил поставить на голосование и второй вопрос. С ним согласились, как и с предыдущим.
Специально созданная комиссия представила акт, который собирались обнародовать на другой день.
Вот его содержание:
«Консулы Республики, полагая, что для народа, вопрошаемого насчет самых драгоценных его интересов, не должны существовать никакие границы, кроме этих интересов, постановили... и проч.
Народу французскому будут предложены следующие два вопроса:
1. Быть ли Наполеону Бонапарту пожизненным консулом?
2. Будет ли он иметь право назначить себе преемника?
По этому поводу во всех мэриях, в канцеляриях судов, у нотариусов и во всех прочих государственных учреждениях будут выложены журналы записей».
Для подачи голосов был назначен трехнедельный срок.
Вслед за тем Камбасерес отправился к Первому консулу, чтобы показать ему определение Государственного совета. Бонапарт, по необъяснимому расположению ума, упорно отвергал второй вопрос.
— Кого вы хотите, чтобы я назначил себе преемником? — говорил он. — Моих братьев? Но Франция, признавшая меня правителем, согласится ли признать Жозефа или Люсьена? А если я вас назначу, консул Камбасерес? Решитесь ли вы принять на себя такую обязанность?
К тому же, если не приняли во внимание завещание Людовика XIV45, то примут ли мое? Когда человек умер, кто бы он ни был, он ничего не значит.
Невозможно было разуверить Первого консула на этот счет, и он заставил исключить из решения Государственного совета второй вопрос, относившийся к избранию преемника. В таком виде и отправили решение в «Монитор», где оно было опубликовано 11 мая.
Объявить, что такой вопрос предложен Франции, значило объявить, что он уже решен. Можно было твердо рассчитывать, что общественное мнение немедленно утвердит все, что ему предложат на благо Первого консула. Французы питали к нему доверие, благодарность и все возможные чувства, какие только живой и восторженный народ в состоянии испытывать по отношению к великому человеку.
Воззвание к воле народа отводило Государственному совету очевидную роль простого редактора в вопросе, предлагаемом самой Франции.
Разумеется, увлечение не было всеобщим до такой степени, чтобы не возникали и протесты, например, в тайных убежищах, где верные республиканцы скрывали свое отчаяние, или в блистательных гостиных Сен-Жер-менского предместья, где роялисты проклинали новую власть, которой тогда еще не служили.
Но это порицание, едва заметное среди похвал, возносившихся вокруг Первого консула, не имело никакого влияния. Только мыслящие люди, а их всегда очень немного, могли выводить заключения о превратностях революции и противоречиях этого поколения, которое опрокинуло двенадцативековую монархическую власть, в исступлении хотело даже разрушить все европейские монархии, а теперь, охладев после первых порывов, воссоздавало по частям низринутый престол.
Законодательный корпус и Трибунат в полном составе отправились к Первому консулу в Тюильри, чтобы своим поступком подать пример одобрения мысли о бессменности его власти.
Поводом к этому послужило то, что депутаты, удерживаемые по случаю чрезвычайного заседания в своих законодательных креслах, не могли голосовать каждый в своей общине.
Такой пример мог только увлечь граждан к голосованию в пользу Первого консула, если бы они нуждались в подобном побуждении. Но люди и без того беспрерывно спешили к мэрам, нотариусам и в судебные канцелярии, чтобы вписать свое согласие в подготовленные для того списки.
Наступил конец мая. Эту кратковременную и достопамятную сессию законодательных собраний поспешили заключить рассмотрением финансовых законов.
Предложенный бюджет был в высшей степени удовлетворительным. Все доходы благодаря миру увеличились, в то время как военные издержки и расходы на флот значительно уменьшились.
Бюджет X года достигал пятисот миллионов франков, то есть оказался сокращен на двадцать шесть миллионов против бюджета IX года. Мирное время породило в некоторых частях экономию, в других — расходы, но в целом подготавливало равновесие, которого все желали и которого за два года перед тем никто не предвидел.
Военное управление, разделенное на два министерства, одно — по части кадров, а другое — по материальной части, теперь должно было обходиться в двести десять миллионов вместо двухсот пятидесяти. Может быть, покажется удивительным, что вся разница между военным и мирным временем состояла только в сорока миллионах, но не нужно забывать, что победоносные французские армии жили до этого в других странах, а теперь, вступив опять в границы Франции, содержались за счет казны.
Флоту назначили было восемьдесят миллионов, полагая, что этого достаточно, с тех пор как прекратились военные действия; но Первый консул увеличил сумму до ста пяти миллионов, говоря, что именно мирное время и надо употребить для обустройства флота.
Сокращение многих других расходов ясно показывало счастливые результаты возрастающего доверия к правительству. Облигации сборщиков податей, успех которых мы наблюдали в предыдущих частях книги, шли по полпроцента в месяц, то есть составляли до шести процентов годовых.
Принятые меры снизили расходы государственной казны с тридцати двух миллионов до пятнадцати. Никакая экономия не могла принести правительству больше чести и общественного доверия.
В то же время учитывались и некоторые возросшие расходы по бюджету. К примеру, по вновь принятому закону государственный долг был оценен в 59 или 60 миллионов, по пять процентов годовых. Но для успокоения умов надлежало определить цифру, до которой различные траты могли его повысить. Особой статьей бюджета за X год было определено, что долг этот не должен превышать пятидесяти миллионов ежегодной ренты. Статья прибавляла, что с той минуты, как новые долговые обязательства превысят эту сумму, тотчас же для погашения будет назначен новый залог, который в течение пятнадцати лет сможет покрыть превышающую государственный долг сумму.
Государственному долгу отвели отдельную статью бюджета, проценты по нему приняли решение платить прежде всех остальных издержек и всегда в течение месяца, следующего за полугодовым сроком. Гражданские пенсии были ограничены суммой в 20 миллионов.
Единственными издержками, которые могли вырасти, оставались расходы на внутреннее обустройство, на пути сообщения и публичные здания, на духовенство и учреждение новых приходов. Что же касается расходов на народное образование и Почетный легион, то их покрыли за счет государственной собственности.
Доходы, между тем, росли быстрее расходов. Таможни, почты, налоги на имущество доставляли огромные сборы. Кроме того, могли служить источником дохода уже и косвенные налоги46. В этом году в Законодательном корпусе и в Трибунате снова жаловались на тяготы прямых налогов и представляли новые доводы в пользу введения налога на продовольственные товары.
Точные расчеты явно продемонстрировали возрастание доли прямых налогов. Налог на недвижимость доходил до 210 миллионов, подушный налог и налог на движимое имущество — до 32 миллионов, налог на двери и окна47 — до 16 миллионов, на лицензии и патенты — до 21 миллиона. Всего, стало быть, прямые налоги составляли больше половины бюджета.
Несомненно, требовалось восстановление более справедливой пропорции между разными видами налогов. Естественным заключением стало возобновление старинных пошлин на напитки, табак, соль и прочее.
Итак, состояние финансов Франции было превосходным и с каждым днем улучшалось. После десятилетней войны расходы снова ограничивались пятьюстами миллионами, то есть бюджетом 1789 года, с той только разницей, что долг этот был ныне ничтожен по отношению к доходам. Стало быть, революция, не считая благодетельного преобразования гражданского общества, принесла еще и другую пользу, по крайней мере в материальном отношении.
Трибунат и Законодательный корпус разошлись 20 мая, оставив Францию в состоянии, в каком она еще не бывала и, может быть, никогда не будет.
В эту минуту народ спешил в мэрии, суды и нотариальные конторы, чтобы дать ответ на вопрос, предложенный Государственным советом.
Количество поданных голосов доходило до четырех миллионов. По-видимому, этого было мало для населения в 36 миллионов человек, но, в сущности, это большая цифра, даже больше, чем требуют и обыкновенно получают в конституционных государствах, где только триста, четыреста, максимум пятьсот тысяч голосов выражают волю всего народа.
И действительно, из 36 миллионов жителей нужно отделить половину, принадлежащую полу, не имеющему права голоса. К остальным 18 миллионам принадлежат старцы и дети, после исключения которых мужского населения остается не более 12 миллионов.
Из 12 миллионов жителей найти 4 миллиона граждан, способных составить свое мнение и в особенности выразить его, — результат действительно необычайный.
В то же время за спиной правительства происходило некое брожение: по поводу изменений, устанавливающих пожизненное консульство, которые надлежало внести в конституцию, распускали множество разнородных слухов, источниками которых были тайные желания всех партий.
Братья Наполеона (и в особенности Люсьен) не совсем еще отказались от мысли о наследственной монархии, которая сразу поставила бы их в ряд принцев и выше всех прочих государственных сановников. Но довольно сильное волнение среди людей, окружавших верховную власть, даже среди самых преданных, ясно предостерегало Первого консула, что дальше этого ему идти не следует.
А сам он в это время занялся необходимыми изменениями в конституции. Хотя он и порицал творение Сий-еса, однако старался сохранить его основу и присовокупил только некоторые новые льготы для правительства.
При этом Первый консул повторял свою любимую мысль о том, что для спасения революции нужно прежде всего спасти ее виновников, удержав их во главе правительства, и что без него они давно бы уже исчезли вследствие всеобщей неблагодарности.
«Теперь, — говорил Бонапарт, — нужно составить правительство из людей, участвовавших в революции, опытных и заслуженных, у которых нет кровавых пятен на одежде, кроме разве русской или австрийской крови. Потом присоединить к ним небольшое число недавно проявивших себя способных людей, или даже людей прежнего времени, взятых хоть из Версальского дворца, лишь бы они имели способности и явились как покорные приверженцы, а не как надменные покровители.
Для достижения этой цели конституция Сийеса очень хороша, за исключением некоторых статей, требующих изменений. Прежде всего следует еще раз подтвердить великое достижение Французской революции, состоящее в гражданском равенстве, то есть в справедливом распределении всего: законодательства, судебных мест, налогов, военной службы, гражданских должностей и прочего. Есть еще и другой результат, который также необходимо поддерживать, — это величие Франции.
Ныне нам необходимы: порядок, спокойствие, благоденствие и сохранение нашего внешнего величия. Борьба за него еще не окончена, она опять возобновится, и чтобы ее выдержать, нам нужно много сил и единства в правительстве».
Из этих речей легко угадать образ мыслей Бонапарта. Он видел благо современной Франции в объединении всех партий, в поддержке и завершении преобразований в обществе, начатых революцией, наконец, в развитии могущества, приобретенного французским оружием.
Что же касается свободы, то он отдалял ее, так как видел в ней возврат к смутам и препятствие тому благу, какое намеревался принести. Он представлял себе свободу как проблему трудную, темную, решение которой его нисколько не интересовало, потому что двенадцатилетние волнения надолго истребили любовь к этой свободе и веру в ее необходимость.
Первый консул не хотел трогать Сенат, напротив, он желал дать ему больше силы, но придумал изменение, являющееся, по сути, уступкой народному влиянию.
Списки выборных, из которых должны были избираться члены окружных и департаментских советов, члены Законодательного корпуса, Трибуната и сенаторы, казались слишком формальными и оставляли правительство, так сказать, без всякой связи со страной.
Кроме того, Первый консул полагал, что увеличение власти должно быть вознаграждено с его стороны какой-нибудь уступкой народу. Он решился возобновить избирательные коллегии.
Во-первых, учредили собрания кантонов, составленные из жителей кантона, по возрасту и статусу имевших право голоса. Они избирали две коллегии, окружную и коллегию департамента. Окружные коллегии включали в себя по одному члену на каждые пятьсот человек, а департаментские составлялись исходя из расчета: один выборщик на тысячу жителей. Количество выборщиков при этом не могло быть больше шестисот. Окружные и департаментские коллегии избирались бессрочно. Правительство назначало председателей как кантонных собраний, так и избирательных коллегий. Оно также имело право распускать эти коллегии.
Кантонные собрания и обе избирательные коллегии представляли консулам кандидатов для мировых судов и других муниципальных властей. Окружные коллегии представляли двух кандидатов для Трибуната, департаментские коллегии — двух кандидатов для Сената. И каждая из этих коллегий представляла по два кандидата на вакантные места в Законодательном корпусе.
Из этого ясно видно, какие изменения внесли в конституцию. Они выглядели незначительными, потому что пожизненные избирательные коллегии были почти так же тяжеловесны, как и списки выборных, но коллегии по крайней мере собирались для избрания кандидатов, и в этом отношении граждане приобретали некоторое влияние на состав правительственных собраний. Эта уступка казалась в то время необычайно серьезной, коллеги Первого консула говорили, что нужна весьма твердая, уверенная в себе власть, чтобы предоставить народу столь обширное влияние.
Затем занялись расширением прав Сената, сообразно с потребностями, на которые указывали последние события. Прежде всего, Сенату по-прежнему предоставляли право избирать все государственные собрания. Кроме того, ему хотели дать более полное учредительное право. Весьма удобно было иметь под рукой учредительную власть, всегда готовую внести необходимые поправки в закон и новые постановления.
Итак, решили, что Сенат посредством своих сена-тус-консультов будет вправе истолковывать конституцию, пополнять ее, словом, делать все, что покажется необходимым для более полного ее действия.
Кроме того, Сенат мог в особых случаях приостанавливать действие конституции или судебной власти в некоторых департаментах и решать, когда заключенный под стражу по какому-нибудь необычному делу может быть отдан под суд или оставлен в заточении.
Наконец, этому сословию присвоили два чрезвычайных права: одно — принадлежавшее раньше только королевской власти, другое — и вовсе не могущее принадлежать ни одной ветви власти в государстве.
Первым было право на роспуск Законодательного корпуса и Трибуната, а вторым — право на отмену приговоров суда, если эти приговоры окажутся вредны для государственной безопасности. Последнее право показалось бы сомнительным, если бы обстоятельства того времени его не поясняли. Некоторые суды действительно выносили приговоры по делам о государственной собственности, которые могли довести до отчаяния многочисленный и сильный класс ее нынешних владельцев.
Затем постановили, что Сенат, который в течение десяти лет должен был с шестидесяти членов увеличиться до восьмидесяти посредством назначений двух новых сенаторов ежегодно, тотчас же получит полный состав. Первому консулу, сверх того, было предоставлено право лично назначать сенаторов, до сорока включительно, что, вместе с назначенным составом, доводило количество сенаторов до ста сорока.
Таким образом, правительство оградило себя от новых неприятностей, наподобие тех, с которыми оно столкнулось в начале сессии X года.
Трибунат и Государственный совет также подверглись изменениям. Тогда как состав Государственного совета мог быть доведен до пятидесяти членов, состав Трибуната, напротив, пришлось урезать до этого количества. Таким образом, Трибунат становился вторым Государственным советом, обязанность которого состояла в критике келейным образом и, стало быть, без необходимой делу энергичности.
Наконец, у Законодательного корпуса и Трибуната отняли право утверждать международные договоры. Первый консул помнил, что произошло в связи с заключением договора с Россией, и не хотел снова подвергаться подобному риску. Он учредил тайный совет, составленный из консулов, двух сенаторов, двух государственных советников и двух офицеров Почетного легиона. Только этот совет имел право голосовать по поводу ратификации договоров. Ему же была поручена редакция сена-тус-консультов.
На основании пожизненного консульства оставалось организовать исполнительную власть.
Первый консул хотел, чтобы полномочия его товарищей были также продолжены. «Вы столько для меня сделали, — сказал он Камбасересу, — что я обязан упрочить ваше положение».
И принцип пожизненного правления распространили на всех консулов, как в настоящее время, так и на будущее.
Оставался важный вопрос о назначении преемника Первого консула, которое должно было заменить право наследования. В случае избрания следовало со всей торжественностью представить преемника Сенату, где он принес бы присягу на верность Республике в присутствии консулов, министров, Законодательного корпуса, Трибуната, архиепископов, председателей избирательных коллегий, высших офицеров Почетного легиона и мэров двадцати четырех главных городов Республики. Предполагалось, что после этой церемонии он займет место в Сенате рядом с консулами, непосредственно после третьего.
Если бы Первый консул не захотел назначить себе преемника при жизни, а пожелал обозначить его в духовном завещании, то следовало еще при жизни вручить завещание другим консулам в присутствии министров и председателя Государственного совета. Завещание должно было храниться в архивах республики.
Если бы Первый консул не совершил избрания при жизни или не оставил бы завещания, тогда консулы назначили бы и представили бы Сенату преемника сами.
Великое право прибавили также к власти Первого консула, а именно: право миловать. Это значило фактически уравнять его власть с властью государя.
При избрании нового Первого консула закон должен был определить ему содержание. На этот раз оно составляло шесть миллионов франков, а для двух его товарищей — миллион двести тысяч.
Ко всем этим переменам присоединили и некоторые новые распоряжения, относившиеся к органам правосудия. С правительством дела обстояли лучше, чем с правосудием, потому что оно больше зависело от беспристрастного и твердого властителя. А суды пользовались своей независимостью и свободой, как и все учреждения, но обладали и всеми недостатками эпохи. Порой они преследовали новых владельцев государственного имущества, а иногда, напротив, пристрастно им покровительствовали. В судебных делах не наблюдалось никакого порядка, а потому необходимым стало новое положение, относившееся к судебной дисциплине. Суды первой инстанции были подчинены апелляционным судам, а апелляционные — Кассационному суду.
Во главе всей судебной власти находился «великий судья», с правом председательствовать в любом суде, следить за ними и управлять ими. Эта должность совмещалась с постом министра юстиции.
Вот дополнения, внесенные в Конституцию отчасти по воле Первого консула, отчасти по советам его приближенных. Все эти изменения изложили в специальном сена-тус-консульте, который внесли в Сенат на утверждение.
Это была все та же конституция Сийеса, способная развернуть государство в сторону аристократии или деспотизма в зависимости от того, кто будет управлять им; конституция, ведущая теперь к самодержавию под рукой Бонапарта.
Но при преемнике не столь великом, с умами, пробудившимися после долгого бездействия, следовало ожидать совершенно иного зрелища. Новая аристократия департаментов, из которой составлялись избирательные коллегии, и аристократия национальная, из которой был составлен Сенат, представляя одна другой кандидатов, весьма легко могли со временем вступить в состязание и создать в Трибунате и Законодательном корпусе большинство, непобедимое для нового правителя, таким образом снова оживив свободу, правда, свободу аристократическую.
Новая конституция была готова, граждане отдали уже свои голоса, и консул Камбасерес предложил Первому консулу предоставить Сенату заботу свести их воедино и сосчитать. «Это, — говорил он, — будет очень справедливо, это самый естественный способ вывести Сенат из неловкого положения, в которое поставила его ошибка».
Сенат, предложив только десятилетний срок консульства, действительно совершил ошибку и с тех пор замолчал, ничего не предпринимая больше в этом отношении. Предоставить ему обнародование результатов значило вновь сделать его участником политической жизни республики.
«Подайте руку помощи людям, которые обманулись, слишком стараясь разгадать ваши загадки и угадать ваши желания», — сказал Камбасерес Первому консулу.
Бонапарт загадочно улыбнулся своему мудрому товарищу и тотчас же изъявил согласие на его разумное предложение.
Списки тотчас же стали отсылать со всей страны в Сенат. Подали свои голоса 3 577 259 граждан, и из этого числа 3 568 885 человек объявили свое согласие на пожизненное консульство. На это огромное число одобривших
21 Консульство
начинание пришлось восемь тысяч и несколько сот несогласных — цифра вполне ничтожная.
Объявив этот результат, Сенат издал постановление, состоявшее из трех статей.
Первая из них гласила:
«Французский народ назначает и Сенат провозглашает Наполеона Бонапарта Первым консулом на всю жизнь».
С этой-то поры имя Наполеон стало появляться на государственных актах рядом с фамилией Бонапарт. Это блистательное имя, впоследствии так часто повторяемое всеми народами, до тех пор упоминалось только раз, в конституционном акте Итальянской республики. По мере приближения к монархии имя мало-помалу отдалялось от фамилии, и генерал Бонапарт стал впоследствии называться просто Наполеоном.
Вторая статья постановления определяла: воздвигнуть статую, олицетворяющую мир; в одной руке у статуи будет находиться лавр победы, а в другой — декрет Сената, как свидетельство народной благодарности.
Наконец, последняя статья призывала Сенат отправиться с этим постановлением к Первому консулу для изъявления ему доверия и любви всего французского народа.
Аудиенцию сенаторов в Тюильри назначили на день большого дипломатического приема. Это было 3 августа 1802 года.
Все посланники примиренной Европы собрались в огромном зале, где Первый консул обыкновенно принимал их вместе с другими знатными иностранцами. Едва только началась аудиенция, как возвестили о прибытии Сената в полном составе.
Президент Сената Бартелеми вкратце описал все великие деяния Бонапарта на войне и в мирное время, предсказал будущее благоденствие страны, а потом зачитал сам декрет.
Первый консул, поклонившись сенаторам, отвечал следующими словами:
— Жизнь гражданина принадлежит его отечеству. Народ французский хочет, чтобы вся моя жизнь была посвящена ему, — я повинуюсь его воле! Моими стараниями, вашим содействием и содействием всех властей государства, благодаря доверию и по воле этого великого
народа свобода, равенство и благоденствие Франции будут защищены от прихоти судьбы и от неизвестности будущего.
Лучший из народов станет и счастливейшим, он достоин этого; и благоденствие его будет способствовать счастью всей Европы.
Я был призван по воле Того, от Кого все исходит, устроить порядок, правосудие и равенство и без сожаления услышу, как пробьет мой последний час, и не потревожусь о приговоре будущих поколений.
Изъявив свою искреннюю благодарность Сенату, Первый консул проводил его членов и продолжал принимать иностранцев.
На следующий день, 4 августа, новые статьи, изменившие конституцию, представили на заседании Государственного совета. Первый консул председательствовал на этом собрании. Он прочитывал каждую статью по порядку и делал вполне определенные и резкие замечания, сам задавал вопросы и сам же на них отвечал.
После внесения небольших поправок постановление было направлено в Сенат и обращено в форму сена-тус-консульта. На другой день, 5 августа, оно было обнародовано и сделалось, таким образом, дополнением консульской конституции.
Между тем члены семьи Первого консула, обнаружив, что их опасения не подтвердились, а желания не осуществились, разделили общую радость.
Госпожа Бонапарт начала успокаиваться, видя, что исчезает сама мысль о королевской власти. Принятый род наследования, предоставлявший главе государства право избрать себе преемника, вполне соответствовал ее желаниям, поскольку у нее не было детей от Первого консула, но была любимая дочь Гортензия, жена Луи Бонапарта, которая готовилась стать матерью. Госпожа Бо-гарне желала и надеялась скоро иметь внука и думала Увидеть в его лице наследника всей державы. Муж ее разделял эти надежды.
Братья Наполеона (так мы будем называть его отныне) были не настолько довольны, по крайней мере Люсьен, вечно мятежный дух которого ничем не мог успокоиться.
Но для них придумали новое положение. Закон о Почетном легионе постановлял, что совет ордена должен включать в себя консулов и представителей каждого из главных государственных собраний. Государственный совет назначил от себя Жозефа Бонапарта, а Трибунат — Люсьена. Итак, оба брата Наполеона сделались главными лицами нового учреждения, которое раздавало все награды, а кроме того, и членами Сената. Жозеф, более умеренный в своих желаниях, казалось, был совершенно доволен. Люсьен испытывал только частичное удовлетворение.
Только одно лицо осталось обойденным в этот момент всеобщего возвышения, а именно Фуше, министр полиции.
Потому ли, что личное мнение Фуше о замыслах семейства Бонапарт распространилось в народе, или потому, что старания врагов уронили его во мнении властителя, а скорее всего по причине того, что Первый консул ко всем своим делам милосердия и примирения хотел присоединить еще одну меру подобного же характера, но министерство полиции было упразднено. Полиция отныне управлялась министерством юстиции, во главе ее оказался государственный советник Реаль. Управление же самим министерством поручили Ренье, человеку образованному, красноречивому, умевшему внушить к себе доверие. Вместе с постом министра Ренье получил титул «великого судьи».
По самим свойствам своего образования (Ренье был адвокатом) новый министр не мог руководить действиями Реаля в его сложных расследованиях, а потому последний, разделяя труд свой напрямую с Первым консулом, сделался почти независимым от министерства юстиции.
К несчастью, вместе с утратой Фуше утратили то знание людей и те связи со всеми партиями, которыми он один владел в полной мере. Эта поспешная жертва, принесенная идеям минуты, была безрассудна и имела самые неприятные последствия.
Однако правительство не желало показать, что министр Фуше впал в немилость: ему дали место в Сенате, а акт, которым Фуше назначался сенатором, весьма лестно отзывался о его заслугах.
Кроме этой, произошли еще некоторые перемены в кругу высших правительственных чиновников. Редерер, который не ладил с министром внутренних дел Шапта-лем, уступил свое место ученому Фуркруа, а сам получил место в Сенате. Первый консул назначил сенатором и почтенного архиепископа Парижского Беллуа. Бонапарт поступил так не для того, чтобы духовенство начало влиять на дела политические, он желал только, чтобы все общественные движения имели в Сенате своих представителей, стало быть, и религия должна иметь своего.
Пятнадцатого августа впервые всенародно отпраздновали день рождения Первого консула. С этой даты началось постепенное внедрение монархических обычаев, согласно с которыми именины государя становятся народным праздником.
Утром в этот день Первый консул принимал Сенат, Трибунат, Государственный совет, духовенство, гражданских и военных чиновников столицы и дипломатический корпус, — все они явились поздравить его. В полдень в соборе Парижской Богоматери и во всех церквях Франции отслужили молебен. Вечером блистательная иллюминация представляла в Париже то изображение Победы, то изображение Мира, то, наконец, на одной из башен собора — знак Зодиака, под которым родился виновник всех благ, за которые народ благодарил Небо.
Несколько дней спустя, 21 августа, Первый консул отправился в Сенат, чтобы приступить к деятельности на посту председателя.
По обе стороны дороги от Тюильри до Люксембургского дворца стояли войска. Карету властителя Франции, сопровождаемую многочисленным штабом и конной гвардией, везли восемь великолепных лошадей. В следующих каретах ехали второй и третий консулы, министры и председатели Государственного совета.
По прибытии в Люксембургский дворец Первого консула встретила у входа депутация из десяти сенаторов, а затем он, сидя в кресле, весьма похожем на трон, принял присягу двух своих братьев, Жозефа и Люсьена.
Затем государственные советники, выбранные по этому случаю, доложили пять проектов сенатских постановлений.
Первое описывало церемониал высшей власти, второе — порядок пополнения Законодательного корпуса и Трибуната, третье — как следует поступать в случае упразднения обоих собраний, четвертое определяло двадцать четыре главных города республики, и, наконец, пятое утверждало присоединение острова Эльба к землям Франции.
Чтобы дать Сенату понятие о влиянии, какое было ему обещано в важнейших государственных делах, Та-лейран прочел официальное сообщение о готовящемся вознаграждении землями в Германии наследных государей, лишившихся владений на левом берегу Рейна. Объясняя Сенату в этом сообщении виды Франции, Первый консул открывал свои мысли и всей Европе. Говоря яснее, он знакомил всех со своей волей, ибо было известно, что он никогда не отступится от решения, высказанного официально.
По окончании чтения Бонапарт удалился, предоставив Сенату рассмотрение постановлений.
Лето проходило, близился к концу август. Первый консул переселился в замок Сен-Клу, куда не хотел ехать прежде, когда ему предлагали этот дворец как загородную резиденцию. Изменив свое мнение, он приказал произвести там небольшие переделки, но потом началась перестройка всего замка, которая закончилась как раз к этому времени.
В назначенные дни Бонапарт принимал здесь высших сановников, иностранцев и посланников. По воскресеньям в придворной церкви служили обедню, и противники Конкордата присутствовали на этом богослужении, как некогда присутствовали на обеднях в Версале.
Первый консул и его жена выслушивали очень короткий молебен, потом он общался в галерее замка с визитерами. Присутствующие, стоя в два ряда, ждали его слов, как ждут речей коронованных особ или гениальных людей.
Это была уже почти императорская власть, власть, данная единодушным согласием народа; но в ней заключалась еще некоторая степень республиканской скромности, которая очень шла этой новой власти.
Часто после продолжительного путешествия по обширной и прекрасной стране путник на минуту останавливается, чтобы с высокого места взглянуть на пройденный путь. Поступим так же, остановимся и бросим взгляд назад, чтобы обозреть дивные деяния генерала Бонапарта, совершенные со дня 18-го брюмера.
Какое обилие, какое разнообразие, какое величие событий!
Переплыв моря, вступив во Францию, изумленную и восхищенную его внезапным появлением, опрокинув Директорию, захватив власть, приняв конституцию Сий-еса, Бонапарт стремительно внес относительный порядок в администрацию, восстановил сборы податей, поднял кредит доверия к финансам правительства, послал первую помощь армиям, воспользовался зимой, чтобы поразить Вандею неожиданным соединением войск, быстро выдвинул эти войска к границам и создал у подошвы Альп огромную армию, которая должна была неожиданно напасть на неприятеля, не верившего даже в возможность ее существования.
Приготовившись выступить в поход, он предложил Европе на выбор мир или войну, а когда предпочли войну, приказал перейти через Рейн, послал Моро на Дунай, отправил Массена в Геную, чтобы остановить и удержать там австрийцев.
Потом неожиданно перешел через Альпы без дорог, с артиллерией, которую тащили в стволах деревьев, появился посреди изумленной Италии, отрезал австрийцам обратный путь и в одной решительной битве, несколько раз проигранной и выигранной вновь, захватил их армию, отнял Италию, силой вырвал у пораженной Европы шестимесячное перемирие.
В эти-то шесть месяцев подвиги Первого консула оказались еще изумительнее.
Ведя переговоры и управляя в одно и то же время, он изменил направление политики, обратил любовь Европы к Франции, заставил ее ненавидеть Англию, завоевал сердце Павла I, разрешил сомнения Пруссии, придал Дании и Швеции мужество противостоять насилию на море, которому подвергалась их торговля, устроил, таким образом, союз нейтральных держав против Великобритании, закрыл для нее все порты материка и подготовил огромную армию для помощи Египту.
В этот же период времени Первый консул закончил преобразование финансов, уплатил звонкой монетой государственные долги, создал Французский банк, отремонтировал дороги, прекратил разбой на дорогах, проложил в Альпах превосходные пути, основал там лагеря, защитил Александрию, усовершенствовал укрепления Мантуи, проложил каналы, набросал проекты новых мостов, начал работу над кодексами.
Наконец, после этого шестимесячного перемирия, когда Австрия еще медлила с подписанием мира, он двинул вперед Моро, и тот вырвал под стенами самой Вены обещание мира, который и был вслед за тем подписан в Люневиле.
В эту-то минуту ужасное злодеяние с адской машиной возмутило кипучую душу Бонапарта и вызвало единственную его ошибку: ссылку без суда ста тридцати революционеров. Печальные следствия революционного самоуправства!
Сделавшись властителем континента, лишив всеобщего доверия и отстранив от дел двух главных вдохновителей всех коалиций, Тугута в Вене и Питта в Лондоне, Первый консул поднял на Англию всю Европу. Нельсон, поразив датчан при Копенгагене, и Россия, лишившаяся императора Павла, спасли англичан от угрожавших им несчастий, но, спасая их, не дали им ни бодрости, ни средств для продолжения войны.
Английская нация, узнав Бонапарта, была поражена страхом, удивлением и наконец согласилась на Амьенский мир, самый блестящий из всех, которые Франция когда-либо заключала.
И тогда Первый консул захотел присоединить к миру с европейскими державами примирение с церковью: он поторопил переговоры о Конкордате и поспешил примирить Рим с революцией, восстановить алтари, возвратить Франции все то, что необходимо образованному обществу. Достигнув третьего года своего консульства, представил нации превосходный свод законов, новую систему народного просвещения и славную систему общественных наград, даровал прощение всем изгнанникам, а Европе — мир на континенте и на море.
Но, хоть Первый консул и предстал с руками, полными всех этих благ, он встретил неожиданное, неистовое противоборство, происходившее от благородных и в то же время позорных чувств, у одних — от зависти, у других — от любви к свободе, в то время невозможной. Избавленный искусством своего товарища Камбасе-реса от этого сопротивления, Бонапарт наконец завершил все свои деяния, заставив принять все соглашения, заключенные им с Европой, Конкордат, систему народного образования и Почетный легион.
Теперь, если бы мы, забыв все, что произошло впоследствии, представили себе, что этот диктатор навсегда остался бы столь же мудрым, сколь был велик, что он соединил бы в себе все противоположности, которые Бог никогда еще не соединял в одном человеке, что он успокоил бы взволнованное французское общество и подготовил его к той свободе, которая составляет честь и потребность нового общества, тогда... Кто бы мог тогда с ним сравниться!..
Мудрый Тронше, восхищавшийся им и любивший его, ибо видел в нем спасителя Франции, сказал однажды с грустью Камбасересу: «Этот молодой человек начинает как Цезарь. Боюсь, как бы он не кончил подобно ему».
СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ
Пожизненное консульство не изумило и не оскорбило европейские кабинеты. Напротив, большая часть из них видела в этом возвышении Бонапарта новый залог спокойствия для всех держав.
В Англии, где с тайной тревогой наблюдали за всем, что происходило во Франции, Аддингтон поспешил выразить господину Отто свое удовольствие и полное одобрение британского кабинета. Хотя честолюбие генерала Бонапарта начинало уже беспокоить многих, но ему пока еще прощали его, потому что оно служило укрощению революции. А решение восстановить религию и возвратить эмигрантов и вовсе приводили английскую аристократию в восторг, в особенности эти перемены восхищали Георга III.
В Пруссии выказывали неменьшее удовлетворение. Двор этот, потерявший уважение европейской политики после заключения мира с Конвентом, теперь гордился своей связью с правительством столь успешным и считал себя счастливым, видя, что дела Франции находятся в руках человека, способного поддержать честолюбивые виды Пруссии. Министр Гаугвиц с живейшим чувством поздравлял французского посланника и даже сказал, что лучше было бы сразу обратить пожизненное консульство в наследственную монархическую власть.
Император Александр, который делал вид, что совершенно чужд предрассудков, и вел с главой французского правительства постоянную переписку, также выразился о новых переменах самым благосклонным и любезным образом. Основой было все то же чувство: в Петербурге, как и в Берлине и Лондоне, радовались, что порядок во Франции прочно обеспечен на долгое время.
Даже в Вене, где более всего чувствовали удары, нанесенные мечом победителя при Маренго, по-видимому, зарождалось расположение к Наполеону. Ненависть к революции была так сильна в столице Германской империи, что могучему и мудрому правителю охотно прощали победы полководца. Там считали его правительство решительно контрреволюционным, тогда как оно оставалось только восстанавливающим порядок.
Эрцгерцог Карл, который в то время управлял военным департаментом, говорил французскому послу Шампаньи, что Первый консул своими кампаниями доказал, что он величайший полководец новейших времен, а трехлетним управлением — что он искуснейший из всех современных государственных деятелей. Соединив, таким образом, подвиги военные с заслугами государственными, он поставил на свою славу печать вечности.
Но еще удивительнее, что знаменитая королева Неаполитанская Каролина, мать австрийской императрицы и заклятый враг революции и Франции, находясь в Вене и принимая у себя Шампаньи, самым неожиданным образом поразила его своими поздравлениями.
«Генерал Бонапарт, — заявила она, — великий человек. Он причинил мне много зла, но это зло не мешает мне признать его гениальность. Обуздав беспорядки во Франции, он оказал услугу нам всем. Он достиг кормила власти, и нужно сказать, что он достоин этого больше всех в вашем отечестве. Я каждый день ставлю его в пример молодым принцам: советую им изучать этого необыкновенного человека, чтобы перенять искусство, с каким он управляет народами и делает для них выносимым иго власти».
Разумеется, никакая похвала не могла польстить Первому консулу так, как суждение враждебной и побежденной королевы, столь же замечательной своим умом, сколь и пылкостью своих страстей.
Папа римский, который вместе с Первым консулом только что завершил великое дело восстановления религии и, несмотря на разные неприятности, именно в этом видел славу своего правления, радовался, наблюдая, как приближался к престолу человек, которого он считал самой прочной опорой веры против святотатственных предубеждений века.
Наконец, Испания, которую непостоянная и неприличная политика фаворита отдалила было от Франции, также не осталась равнодушной к этой перемене.
Итак, на Наполеона смотрели как на настоящего государя Франции. Иностранные посланники, беседуя о нем с французскими министрами, употребляли те же почтительные выражения, какие обыкновенно использовались в дипломатических разговорах, когда речь шла о королях. Придворный этикет стал уже почти монархическим, а французские посланники облеклись в зеленые мундиры, в цвета Первого консула.
В этом возвышении Первого консула можно было предвидеть его честолюбие, а в честолюбии — близкий позор Европы. Но только самые прозорливые умы в состоянии были проникнуть так глубоко в будущее, а именно они и чувствовали лучше всех необъятное благо, разлитое над Францией консульским правлением.
Впрочем, поздравления — вещь мимолетная; дела вскоре заслоняют восторги правительств так же, как и восторги частных людей, — всей своей неизбежностью и беспрерывностью.
В Англии начинали чувствовать первые последствия мира. Последствия эти, как бывает почти всегда, не вполне соответствовали надеждам.
Триста английских кораблей, почти единовременно отправленные в разные французские порты, не могли продать всего своего груза, потому что привезли товары, запрещенные законами революции. Договор 1786 года, весьма неосмотрительно открыв все французские рынки для британской продукции, в короткое время ослабил французскую промышленность, в особенности хлопчатобумажное производство. Со времени возобновления войны запретительные меры, принятые революционным правительством, послужили стимулом для французских мануфактур, которые вновь принялись за дело и достигли замечательных успехов.
Первый консул при обсуждении предварительных статей в Лондоне не решился изменить сложившегося положения дел, поэтому ввоз английских товаров сделался весьма затруднительным, и торговцы в Лондоне на это горько жаловались.
Впрочем, оставалось еще одно средство — контрабанда, которую ввозили в огромных количествах: частично через плохо защищенные границы Бельгии, частично через Гамбург. Гамбургские торговцы, распространяя английские товары по Европе, скрывали их происхождение и таким образом делали возможным их проникновение во Францию и ее колонии.
Бирмингемские и манчестерские мануфактуры работали чрезвычайно активно. Эта деятельность, а также понижение цен на хлеб и отмена налога на доходы до некоторой степени служили противодействием ропоту в среде буржуазии. Но ропот этот оставался силен, потому что торговцы не извлекали серьезной выгоды из спекуляций, основанных на контрабанде. Моря были усеяны соперничающими или враждебными кораблями, монополия, предоставленная войной, закончилась, а финансовые операции Питта уже не могли выступать в качестве компенсации.
Вследствие этого торговое сословие громко выступало против призрачных выгод мира, против ущерба, нанесенного Англии, и преимуществ, предоставленных Франции.
Флот расформировали, без дела осталось огромное количество людей, которых британская торговля в настоящем своем положении не в состоянии была занять. Несчастные матросы толпами бродили по берегам Темзы, нередко в нищенских рубищах. Это зрелище было столь же прискорбно для англичан, как прискорбно было бы французам видеть, что герои Маренго просят милостыню на улицах Парижа.
Аддингтон, постоянно воодушевляемый дружеским расположением французской стороны, дал Первому консулу почувствовать, что надо бы придумать какую-нибудь торговую сделку, выгодную обоим народам, и даже объявил, что это единственное средство, способное упрочить мир.
Первый консул, разделяя мысль Адцингтона, решил отправить в Лондон посланника для обсуждения какого-нибудь способа примирить выгоды обеих наций, не принося в жертву французскую промышленность.
Но это была весьма трудная задача. Отношение общественного мнения ко всему, что касалось торговых сделок, оставалось в Лондоне таким серьезным, что приезд французского агента наделал много шума. Звали его Кокбер, имелось и прозвище — Кольбер, поскольку говорили, что он потомок великого Кольбера. Все хвалили выбор, сделанный французским правительством для заключения торгового договора48. Но, несмотря на желание и способности этого дипломата, ожидать счастливых последствий пока было рано. С обеих сторон требовались большие и почти невосполнимые жертвы. Производство чугуна и хлопчатобумажных изделий — и поныне самые прибыльные отрасли промышленности Англии и Франции и в то же время предмет их торгового соперничества. Англичане требовали, чтобы Франция открыла свои порты для их продукции. А Первый консул, внемля жалобам французских фабрикантов и желая и дальше развивать во Франции мануфактурное производство, не хотел идти на уступки.
Французы, в свою очередь, стремились ввозить в Англию вина и шелк. Англичане на это не соглашались по двум причинам: во-первых, потому что обязались преимущественно допускать ввоз португальских вин, а во-вторых, так как желали поощрить шелковое производство, которое уже начинало развиваться в Англии. Прекращение сообщения между обоими государствами не только дало ход бумагопрядильням во Франции, но и распространило шелковые мануфактуры в Англии.
Согласовать такие различные интересы представлялось делом почти невозможным. Сначала предложили определить на границах обоих государств, при ввозе товаров, пошлины, соответствующие штрафам, налагаемым на контрабанду, чтобы таким образом сделать торговлю свободной и выгодной для казны. Это предложение привело в ужас и французских, и английских производителей.
Кокбер предложил меру, приемлемую на первый взгляд, но, в сущности, почти неисполнимую: ввозить во Францию любые английские товары с самой небольшой пошлиной, но с непременным условием, чтобы корабль, который привез их, загружался бы на обратном пути на ту же сумму французскими товарами. То же правило следовало соблюдать французским кораблям, пристающим к английским берегам.
Эта задумка могла служить поощрением промышленности Франции в той же мере, в какой она принесла бы пользу английским мануфактурам.
Но предлагаемая комбинация, которая имела целью заключить английскую торговлю в некоторые границы, к несчастью, представляла значительные затруднения, и ее решительно не приняла ни одна из сторон. Между тем она занимала умы и порождала надежду на договоренности.
Однако невозможность согласовать коммерческие интересы не могла еще служить предлогом к войне между государствами, если бы их политические виды совпадали, и в особенности если бы правительство Аддингтона смогло защитить свою позицию в противодействии со сторонниками Питта. Аддингтон считал себя творцом мира, знал, что в этом заключается его преимущество, и хотел удержать его за собой. В продолжительной беседе с послом Отто он высказал на этот счет несколько здравых и доброжелательных мыслей. «Торговый договор, — говорил он, — был бы самым верным и прочным ручательством в мире. Необходимо, чтобы Первый консул стал снисходительнее в некоторых вопросах. Мы не говорим о распространении французского могущества, мы предоставляем вам материк. Но есть государства, в отношении которых английский народ не может оставаться равнодушным, — это Голландия и Турция. Я вас прошу, не создавайте нам препятствий такого рода. Заключим какую-нибудь выгодную для обеих сторон торговую сделку, подумаем о гарантиях в отношении Мальты, и вы увидите: мир упрочится, и последние признаки вражды исчезнут».
Слова Аддингтона были чистосердечны. Он доказывал это своими стараниями склонить другие державы к новому порядку вещей, установленному на Мальте Амьенским договором. К несчастью, Талейран по беспечности, которая у него проявлялась иногда в самых важнейших делах, забыл дать французским посланникам инструкции по этому делу и, таким образом, заставил одних англичан заботиться о гарантиях, которые составляли необходимое предварительное условие освобождения Мальты.
Питт, несмотря на то, что не принадлежал к кабинету, был сильнее, чем когда-либо. Он держался в стороне от противников Амьенского договора и, предоставив своим друзьям все неудобство явных призывов к войне, хранил величественное молчание, стараясь удержать благосклонность большинства, которое поддерживало его в течение восемнадцати лет и которое он теперь уступил Аддинг-тону, но только до тех пор, пока не настанет момент снова им воспользоваться.
К несчастью, одна из ошибок, какие часто совершают в своем нетерпении оппозиционные партии, доставила Питту нечаянную удачу. Хотя оппозиция вигов уже боролась с правительством Аддингтона наравне с друзьями Питта, однако она чувствовала к последнему непримиримую ненависть. Барон Бердет предложил расследовать положение, в которое привел Англию Питт своим управлением. Друзья Питта немедленно сделали другое предложение, а именно — попросили у короля разрешения изъявить народную признательность великому государственному деятелю, который спас конституцию Англии и удвоил ее могущество.
Они хотели, чтобы этот вопрос был тотчас же поставлен на голосование, но оппоненты потребовали, чтобы дело на несколько дней отложили. Спустя пару дней предложение снова поставили на голосование. На этот раз Питт даже не присутствовал на заседании, но и в его
отсутствие большинство отвергло предложение Бердета и приняло решение воздать экс-министру должное.
Таким образом Питт получил шанс возвыситься с помощью ненависти своих врагов, а возвращение его к делам уже становилось реальной угрозой миру.
Между тем английские газеты хоть и не употребляли больше прежних резких выражений насчет Первого консула, однако были к нему уже не так благосклонны и снова начали выступать против честолюбия Франции. Тем не менее они еще не доходили до того отвратительного неистовства, которым ознаменовали себя впоследствии. Эта роль была предоставлена, к сожалению, французским эмигрантам, которых мир лишил всех надежд и которые, оскорбляя Первого консула и отечество, старались вновь пробудить вражду двух наций.
Памфлетист Пельтье, преданный слуга Бурбонов, писал самые гнусные пасквили против Первого консула, против его жены и братьев, и приписывал им всевозможные пороки. Эти пасквили, принятые англичанами с презрением, какое свободная нация обыкновенно испытывает к такого рода непристойностям, в Париже производили совершенно другое действие. Они наполняли сердце Первого консула горечью; ничтожный писака, орудие самых низких страстей, мог уязвить на вершине славы величайшего из людей, подобно насекомым, которые в природе терзают иногда благороднейших животных.
К этим оскорблениям присоединялись интриги знаменитого Жоржа и епископов Арраса и Сен-Поль-де-Леона: полиция захватила их агентов, которые везли памфлеты в Вандею.
Эти действия, сколь ни были ничтожны, приносили все же истинный вред и вынудили наконец французский кабинет обратиться к британскому правительству с весьма определенным заявлением. Первый консул потребовал, на основании союзного договора, изгнания из Англии этих зачинщиков вражды.
Аддингтон, которого обстоятельства поставили лицом к лицу с противником, готовым осыпать его упреками за малейшее снисхождение к Франции, не отказал напрямую, но постарался замедлить дело, ссылаясь на необходимость щадить общественное мнение. Первый консул, не принимавший всерьез таких причин, возмутился слабостью Аддингтона с почти оскорбительным высокомерием.
Несмотря на это, отношения двух кабинетов все еще оставались дружественными, оба старались всеми средствами предотвратить войну.
Испания постепенно приходила в себя после длительных бедствий. Значительное количество пиастров, сокрытое на время войны в Мексике и Перу, было перевезено в Европу; в Мадрид уже доставили более трех миллионов.
Если бы судьбой Испании управляло мудрое правительство, а не безумная прихоть беспечного и бездарного фаворита, она могла бы снова увеличить свое влияние, восстановить силы на море и с большей славой участвовать в войнах, еще предстоявших Европе. Но эти сокровища Америки, принятые и расточаемые неискусными руками, не были употреблены нужным образом. Самая незначительная часть их послужила поддержанию кредитоспособности бумажных денег, большая часть пошла на издержки двора. На арсеналы в Ферроле, Кадисе и Картахене не было потрачено ничего, или почти ничего.
Испания только и делала, что жаловалась на союз с Францией, приписывая ему потерю Тринидада, как будто это Франция несла ответственность за ту жалкую роль, которую князь Мира заставил играть Испанию как на войне, так и во время мирных переговоров.
Союз тогда полезен для государства, когда приносит ему существенную силу, которую государство способно оценить и за которую обязано отвечать. Но Испания, вступив вместе с Францией в морскую войну, не умела ее поддержать и сделалась для своих союзников более бременем, чем опорой, таким образом мало-помалу перейдя от дружбы с Францией к вражде. С французской дивизией, отправленной в Португалию, как мы уже видели, поступили самым недостойным образом, и Первый консул был вынужден серьезно угрожать и увещевать испанский двор, чтобы предотвратить последствия такого безумного поведения.
Тем не менее, кроме главных интересов, которые оставались у этих стран общими в течение целого столетия, имелись еще и интересы, весьма близкие сердцам испанского короля и королевы. Эти интересы поневоле должны были сблизить их с Первым консулом. Речь идет, разумеется, о королевстве Этрурия.
Мадридский двор жаловался на начальнический тон, которым изъяснялся французский посланник во Флоренции генерал Кларк. Первый консул услышал эти жалобы и приказал Кларку обходиться с молодыми инфантами с большим снисхождением и давать им поменьше советов. Из уважения к испанскому двору Бонапарт также допустил, чтобы титул великого герцога Пармского сохранился за братом королевы Марии Луизы до самой смерти, но после смерти герцога владения его перешли к Франции. Карл IV и его жена пламенно желали приобрести их для своих детей. Первый консул не отказывал наотрез, но просил повременить, чтобы этим новым самовластным поступком не раздражить сильные державы.
Эти новые распоряжения относительно герцогства Пармского хоть и были отсрочены, но не замедлили сблизить мадридский и парижский кабинеты. Карл IV с женой и со всем двором торжественно отправился в Барселону, чтобы заключить там два брака: наследника испанской короны, впоследствии Фердинанда VII, с принцессой Сицилийской и неаполитанского наследника с одной из испанских инфант. Из этого города с французским двором обменялись самыми лестными изъявлениями дружбы. Карл IV поспешил известить Первого консула о двойственном союзе. Наполеон отвечал ему в выражениях самой искренней дружбы. Он хотел воспользоваться этой минутой, чтобы улучшить отношения обоих государств, и добиться восстановления торговых преимуществ, дарованных некогда на полуострове большей части французских товаров.
Генерал Бернонвиль, недавно назначенный посланником в Берлине, оставил столицу Пруссии и отправился на семейное торжество, готовившееся в Барселоне.
Безопасность плавания по Средиземному морю, между тем, в особенности волновала Первого консула. Алжирский дей (турецкий наместник) вздумал довольно безрассудно обходиться с Францией — так же, как со второстепенными христианскими державами. Два французских корабля были перехвачены и отведены в Алжир, а французского офицера оскорбил на Тунисском рейде алжирский офицер. Арабы захватили в плен экипаж корабля, разбившегося у африканских берегов. Наконец, неаполитанское судно захватили африканские корсары близ Йерских островов.
Французское правительство требовало объяснений. Дей Мустафа* дерзко отвечал, что Франция, если хочет избежать таких неприятностей, должна платить дань, какую платят Испания и мелкие итальянские государства.
Первый консул, разгневанный донельзя, тотчас же отправил к дею адъютанта Гюллена с письмом, в котором напоминал о падении царства мамелюков, объявлял, что вышлет против него эскадру и войско, и угрожал покорением всего африканского берега, если тотчас же не будут выданы пленные французы, итальянцы и захваченные корабли.
Три корабля были отправлены из Тулона, еще двум велели выйти на рейд, а пять получили предписание пройти прямо в Средиземное море. Но все эти распоряжения оказались напрасными. Дей, поняв, с какой державой имеет дело, бросился к ногам победителя Египта, выдал христианских пленников, неаполитанские и французские суда, которые были захвачены, произнес смертный приговор всем, на кого жаловалась Франция, и только уступив настойчивой просьбе французского посланника, даровал им жизнь.
Италия оставалась совершенно спокойной.
Новая Итальянская республика начинала приходить в себя под управлением президента, которого она выбрала и который своей властью усмирял колебания, свойственные всем новым республиканским образованиям.
Мустафа VI бен Ибрагим был леем Алжира с 1799-го по 1805 год.
Первый консул решился официальным образом присоединить к Франции остров Эльбу и Пьемонт. Эльба только что была освобождена от англичан. Присоединение Пьемонта, оставленное Англией без внимания во время амьенских переговоров и допущенное Россией, которая ограничилась тем, что потребовала только вознаграждения Сардинскому дому, всеми дворами воспринималось как неизбежность. Пруссия и Австрия готовы были подтвердить его, только бы им обещали земли при распределении владений духовенства.
Итак, присоединение Пьемонта, официально определенное сенатус-консультом от 11 сентября 1802 года, никого не удивило и не стало ни для кого неожиданностью. Прекрасные земли Пьемонта были разделены на шесть департаментов и посылали в Законодательный корпус семнадцать депутатов. Турин объявили одним из главных городов республики.
Это стало первым шагом, который Наполеон сделал за так называемые естественные границы Франции, то есть за пределы Рейна, Альп и Пиренеев.
Лучше всего было бы закончить объединение Италии немедленно, но Первый консул не владел еще Европой настолько, чтобы позволить себе подобное дело. Ему пришлось оставить часть Италии Австрии, которая обладала древней Венецианской республикой до Эча, а другую часть он уступил Испании, выпросившей для двух своих инфантов Этрурское королевство.
Ему пришлось также оставить Папскую область — из религиозных интересов и неаполитанских Бурбонов — для выгод общего мира.
Но, основав в недрах Италии республику, он заронил в нее зерно свободы и независимости. Взяв себе Пьемонт, он заложил там крепкий фундамент для борьбы с австрийцами: породил их соперников, призвав туда испанцев. Оставляя в покое папу, стараясь привязать его к себе, терпя неаполитанских Бурбонов, он щадил тем самым традиционную европейскую политику, не жертвуя ей, однако же, политикой Франции.
Словом, то, что он делал теперь, стало только началом, готовившим для последующих времен лучшее и более определенное положение.
Отношение Франции к Риму с каждым днем становилось все дружественнее. Первый консул с сочувствием выслушивал жалобы папы на разные предметы, которые огорчали его святейшество. Почтенный первосвященник оказался чрезвычайно чувствителен ко всему, что касалось дел церкви. Он горько жаловался на лишения, не из-за себя, потому что сам жил настоящим отшельником, но из-за духовенства, которое с трудом мог содержать.
Хоть Пий VII и ставил религиозные интересы гораздо выше интересов мирских, однако с глубоким огорчением жаловался и на знаменитые «органические статьи». Все эти жалобы Наполеон выслушивал, но не удовлетворял, потому что признавал «органические статьи» в высшей мере мудрым и необходимым законом.
Наконец, состояние религиозных дел в Итальянской республике и секуляризация в Германии, в результате которой церковь вот-вот лишилась бы части немецких земель, доводили горе папы до крайности, и он часто повторял, что без утешения, которое ему приносит восстановление католической религии во Франции, жизнь его стала бы одним мученичеством.
Впрочем, в его словах была видна самая искренняя привязанность к Первому консулу, а последний выслушивал прелата с невероятным терпением, совершенно несвойственным его характеру.
Он потребовал выдачи всех подданных Рима, бывших в плену в Алжире, и возвратил их папе. Но так как у владыки Рима не было ни одного судна, способного уберечь его берега от африканских пиратов, то Первый консул приказал вывести из Тулонского арсенала два брига, вооружить и отделать их с роскошью и, назвав их «Святой Петр» и «Святой Павел», отправил в подарок Пию VII. Почтенный первосвященник радушно принял французских моряков в Риме и показал им все великолепие католической службы в соборе Святого Петра.
Одно из тех неожиданных и горячих желаний, какие часто рождались у Первого консула, поставило Римский престол в затруднительное положение, но, к счастью, затруднение это было мимолетно и скоро исчезло.
Наполеон желал, чтобы новая церковь Франции имела своих кардиналов в Ватикане, так же, как и старая (в прежние времена во Франции насчитывалось их до десяти). Первый консул видел в этом превосходное средство воздействия на французское духовенство, жадное до почестей, а кроме того, выгоднейший способ влияния на Священную коллегию, избирающую пап и управляющую важнейшими делами церкви.
В эту минуту папа никак не мог назначить необходимого Наполеону количества кардиналов. Правда, оставалось несколько вакантных мест, но их имело смысл приберечь до момента раздачи, который приближался. Папа предлагал в этой связи шести главным католическим державам выдвинуть по кандидату и награждал этих кандидатов кардинальскими шапками.
Как же было в этой ситуации удовлетворить желание Первого консула?.. Но последний, несмотря на объяснения и извинения папы, разгневался и объявил, что если ему откажут, то он не примет ни одного места, потому что не потерпит, чтобы французская церковь имела меньше кардиналов, чем другие христианские державы.
Папа, который старался жить в мире с Первым консулом, уступил ему и решил даровать Франции пять вакантных мест. Первый консул хотел предоставить место де Бейану, который с давних пор был аудитором Роты* от Франции и одним из ее судей.
Затем Бонапарт предложил папе кандидатуры Бел-луа, архиепископа Парижского, аббата Феша, своего дяди и архиепископа Лионского, Камбасереса, брата второго консула и архиепископа Руанского, и, наконец, де Буа-желена, архиепископа Турского.
К этим пяти избранным он хотел присоединить еще шестого, а именно аббата Бернье, архиепископа Орлеанского, примирителя Вандеи. Но этот человек так ярко показал себя в междоусобной войне, что мысль об увеличении его влияния сильно беспокоила Первого консула. Он открылся в этом папе и просил его назначить аббата Бернье, но сохранять это решение в тайне и объяснить прелату причину такой отсрочки. Все это очень огорчило
Высшего апелляционного трибунала римско-католической церкви.
аббата Бернье, который пока слишком мало наград получил за свои заслуги.
С этой минуты французская церковь сделалась одной из блистательнейших и наиболее влиятельных церквей в христианском мире.
Оставалось при содействии папы римского организовать церковь Италии.
Первый консул требовал для Итальянской республики Конкордата. Но на этот раз папа сам хотел остаться побежденным. Италия включала в себя легатства, и заключить с ней соглашение значило, по его мнению, признать независимость этих провинций.
Решили заменить Конкордат рядом папских грамот, каждая из которых будет предназначена для наведения порядка в определенной области.
Наконец, в отношении Мальтийского ордена Пий VII совершенно положился на советы Первого консула. Приоры ордена собрались в разных странах Европы для избрания нового гроссмейстера и предоставили окончательный выбор папе Римскому. По совету Наполеона папа выбрал итальянца, римского князя Русполи: Наполеону римлянин был приятнее, чем немец или неаполитанец. Избранный гроссмейстер оказался, впрочем, человеком очень умным и вполне достойным предложенной ему чести.
Французские войска вышли из Анконы и Таренто. Они вступили в Итальянскую республику, где должны были оставаться до тех пор, пока итальянцы не создадут свое собственное войско. Солдаты помогали в ремонте альпийских дорог и строительстве укреплений в Александрии, Мантуе, Вероне и Пешьере. Шесть тысяч человек охраняли Этрурию в ожидании испанского корпуса.
Стало быть, со стороны Франции все условия Амьенского договора относительно Италии были выполнены.
В то время как в большей части европейских держав умы под благодетельным влиянием мира начали успокаиваться, в Швейцарии страсти разгорались с новой силой. Жители этих гор еще волновались, и волновались неистово.
Две партии, унитариев и федералистов (одна революционная, другая консервативная), боролись между собой. Обе действовали с одинаковой силой, не одолевали друг друга, но порождали бесконечные смуты.
Надежда играть более значительную роль на мировой сцене в то время живо наполняла сердца швейцарцев, гордых своей храбростью и влиянием, которое она им создала некогда в Европе. Давно уже опостылел им нейтралитет, заставлявший служить в иностранных войсках.
Одно обстоятельство делало волнения в Швейцарии еще более опасным явлением, а именно — намерение партий искать себе поддержку у иностранных держав, что всегда происходит в государствах слишком слабых, чтобы встать на ноги без посторонней помощи, и слишком значительных по своему географическому положению, чтобы соседи могли глядеть на них равнодушно.
Французские войска все еще находились на швейцарских землях, но это не могло продолжаться долго. Франция скоро должна была оставить Швейцарию, как уже оставила Италию.
Поскольку Люневильский договор обеспечивал независимость Швейцарии, то до тех пор, пока французские войска не вышли, можно было считать условия договора не совсем выполненными и мир еще сомнительным. Потому-то все обратили свое особое внимание на Швейцарию, которая волновалась, и на Германию, где делили владения духовенства.
Первый консул принял решение не нарушать мира из-за этих двух стран, если только контрреволюция, которую он не желал видеть ни у одной из французских границ, не вздумает обосноваться среди Альп.
Ему было бы так же легко сделаться законодателем для Швейцарии, как раньше для Италии, но Консульта произвела на Европу, и в особенности на Англию, такое впечатление, что Наполеон не решился повторить эту победу дважды. Он ограничился мудрыми советами, которые выслушали, но не привели в исполнение, несмотря на присутствие французских войск.
Он призывал швейцарцев отказаться от мечты об объединении, невозможном в стране, настолько подверженной случайностям, как их отечество, и нестерпимом для мелких кантонов, которые не могли платить больших налогов, подобно Берну и Базелю. Он советовал им основать централизованное правительство для управления внешними делами Конфедерации, что же касается внутренних дел, то предоставить местным властям распоряжаться делами сообразно с нравами и духом жителей.
Первый консул предлагал швейцарцам заимствовать у Французской революции только то, что в ней было действительно хорошего и полезного: равенство классов и равенство частей государства; оставить разделенными враждебные друг другу провинции, каковы, например, Ватланд и Берн, итальянские округи и Ури; прекратить в больших городах попеременное правление разных сословий и образовать правительство из представителей среднего класса, но без систематического исключения прочих классов; наконец, перенять политику примирения всех партий, которая возвратила спокойствие Франции.
Советы эти, понятые образованными людьми и не признаваемые людьми, ослепленными страстями, которые всегда составляют большинство, остались без последствий. Но партия федералистов приняла их с радостью, убаюкивая себя мечтами о восстановлении монархии, как некогда французские эмигранты в Париже, и полагая, что Первый консул, потому только, что он умерен, желает восстановить прежний образ правления.
Это положение еще более запутывало территориальный вопрос.
Во время революции Швейцария и Франция от системы нейтралитета перешли к наступательному и оборонительному союзу. Швейцария не замедлила уступить Франции, договором 1798 года, военную дорогу через Валлис, примыкающую к подошве Симплона.
Во время заключения последних договоров Европа не посмела восстать против этой сделки, а ограничилась тем, что потребовала независимости Швейцарии.
Первый консул, предпочитая нейтралитет Швейцарии союзу с ней, желал пользоваться Симплонской дорогой, не занимая земли у Швейцарии, что было несообразно с нейтралитетом; для этого он придумал устроить так, чтобы Валлис отдали ему во владение.
Требование это было не слишком сложно исполнить, потому что Швейцария получила Валлис, некогда независимый, от самой же Франции.
Первый консул хотел получить его не безвозмездно: взамен он предлагал провинцию, которую Австрия уступила ему по Люневильскому договору, а именно Фрик-таль, маленький кусок земли, но весьма важный с точки зрения положения: граница простиралась от слияния Ара с Рейном до Базельского кантона и, следовательно, связывала этот кантон со Швейцарией.
Благодаря этому обмену Франция уже не нуждалась бы в швейцарской земле для прохода своей армии, и от союзной системы можно было перейти к нейтралитету.
Швейцарцы ни за что не хотели уступить Валлис за Фрикталь. Они требовали других уступок, по всему протяжению Юры, но даже и на этих условиях еще неохотно отдавали Валлис: маленькие кантоны, опасаясь, что Симплонская дорога уничтожит выгоды Сен-Готардской, всеми силами старались не допустить этого обмена.
Первый консул велел трем батальонам занять Валлис, но ни на что еще не решался, выжидая окончания швейцарских дел.
В стране учредили временное правительство, составленное из Исполнительного совета и немногочисленного Законодательного корпуса. Написали несколько проектов конституции, которые тайно представили на рассмотрение Первому консулу. Он выбрал из них один, по его мнению, более дельный, и отправил его в Берн с короткой рекомендацией. Временное правительство, состоявшее из самых умеренных патриотов, приняло эту конституцию и представило ее на утверждение Генеральному сейму.
Унитарная партия обладала в Сейме значительным большинством. Вскоре она составила новый проект конституции в духе всеобщего объединения и, делая вид, что не боится Франции, провозгласила Валлис неотъемлемой частью Швейцарской конфедерации.
Представители мелких кантонов сразу заявили, что никогда не подчинятся такой конституции.
Умеренные патриоты, возглавлявшие временное правительство, видя, что происходит, посоветовались с французским посланником Вернинаком и упразднили сейм в связи с тем, что тот превысил свои полномочия и объявил себя конституционным собранием, не получив на то одобрения нации. Двадцать девятого мая 1801 года они сами утвердили конституцию и объявили выборы в Сенат, Малый совет и выборы ландмана.
При избрании ландмана, на звание которого имелось два кандидата: Рединг, предводитель партии федералистов, и Долдер, глава умеренных революционеров, — большинство голосов отошло Редингу.
Долдер был человек благоразумный, способный, но не слишком энергичный. Рединг же был старым офицером, плохо образованным, но пылким, он служил в швейцарских войсках на жалованье иностранных держав и вел в 1798 году довольно успешную борьбу в горах против французов. При всей своей грубости Рединг обладал некоторой хитростью: новое звание льстило его самолюбию, и ему хотелось удержать его за собой. Но он понимал, что для этого ему необходимо согласие Франции.
Он неожиданно вздумал отправиться в Париж и попробовать уверить Первого консула, что партия федералистов есть партия честных людей и надо сохранить ее во главе правительства, тогда Швейцария навсегда останется преданной союзницей Франции.
Первый консул принял Рединга благосклонно и внимательно его выслушал. Тот предложил разные процедуры, вследствие которых Сенат увеличился бы до тридцати членов, с тем чтобы пятерых новых сенаторов избрали исключительно из одних патриотов. Из них же предполагалось выбрать второго ландмана, который наравне с первым обладал бы всей полнотой власти в правительстве. Кроме того, были предложены некоторые другие мелкие изменения.
На таких условиях Первый консул обещал признать независимость Швейцарии, вернуть ей снова нейтральное положение и отозвать из нее французские войска.
Чтобы сохранить военную дорогу, Рединг предложил разделить Валлис пополам и уступить Франции ту часть, которая находится на правом берегу Роны. Франция же, со своей стороны, уступила бы Фрикталь, за исключением одного округа около Юры.
Рединг уехал из Парижа полный надежд, полагая, что приобрел благосклонность Первого консула и право делать в Швейцарии все, что ему вздумается. Так несчастная Швейцария, за год перед тем отданная на произвол унитариев, в этом году сделалась жертвой контрреволюционных попыток федералистов.
Тогда Первый консул принял меры в отношении Валлиса: он объявил, что отделяет его от Конфедерации и возвращает ему его независимость.
Это, очевидно, было самое лучшее решение вопроса, потому что, разделив эту обширную долину на две половины, французы поступили бы самым неестественным образом, а предоставив ее всю Швейцарии и обустроив на ее территории дорогу и военные учреждения для себя, у Швейцарии отняли бы возможность оставаться нейтральной.
Узнав об этом решении, Рединг восстал. Он заявил, что Первый консул изменил своему слову (что было несправедливо), и предложил Малому совету отправить Наполеону письмо до такой степени дерзкое, что члены Совета, прочтя его, содрогнулись от ужаса.
Из-за роста напряжения между федералистами, старавшимися вернуть прежний порядок, и революционерами, восставшими в Ваадте и требующими присоединения его к Франции, положение становилось невыносимым. Долдер и его друзья в Малом совете собрались на совещание и, воспользовавшись отсутствием Рединга, который на несколько дней уехал в маленькие кантоны, отменили все его решения, упразднили кантонные комиссии и созвали в Берне совет выборных, составленный из сорока семи граждан самых почтенных и умеренных.
На их рассмотрение представили Конституцию 29 мая, рекомендованную Францией: в нее следовало внести необходимые изменения и тотчас же организовать согласно ее началам государственные власти.
Чтобы лишить федералистов поддержки Сената, это учреждение решили просто распустить. При известии об этом Рединг поспешил в Берн и начал протестовать против принятых мер. Но оказавшись без поддержки Сената, вынужден был снова удалиться в маленькие кантоны и начал сеять там смуту. Его сочли отрешенным от должности и передали звание первого ландмана гражданину Рюттимману.
Так Швейцария вновь оказалась в руках умеренных революционеров. К несчастью, во главе их не было, подобно французским умеренным 18-го брюмера, могучего предводителя, чтобы подкрепить мудрость силой. Однако наученные событиями, сторонники революции хоть и держались разных мнений, но предпочли сойтись и признать Конституцию 29 мая, если в нее будут внесены некоторые изменения.
Но Рединг все еще старался поднять маленькие кантоны, и потому становилось почти необходимым прибегнуть к могучей руке вне Швейцарии. Однако как ни была очевидна такая необходимость, никто не смел в этом признаться, а сам Наполеон, не желая тревожить Европу, решился, если только его не принудят к тому какие-нибудь непредвиденные обстоятельства, не допускать французские войска к участию в волнениях Швейцарии.
И точно, хотя тридцать тысяч французов были рассеяны среди Альп, генералы их никогда не исполняли просьб различных партий, и французские солдаты преспокойно наблюдали за беспорядками. Пассивность их даже давала повод к упрекам: патриоты говорили, и, по-видимому, довольно справедливо, что поскольку в Европе господствует мир и французской армии не нужно защищать швейцарцев от австрийцев, а против внутренних смут она защищать их не хочет, то они от французских солдат не видят ничего, кроме необходимости их кормить и неприятности самого присутствия иностранной армии на своей земле.
Вывод французских войск из Швейцарии вскоре сделался общенациональным требованием, и умеренные почли своим долгом удовлетворить в этом отношении все партии: они попросили у Первого консула вывода войск в то самое время, когда Рединг разжигал пламя восстания в горах Швица, Ури и Унтервальдена. Это желание тем более следовало выполнить, что отделение Валлиса стало чувствительным ударом для швейцарских патриотов.
Первый консул согласился отозвать войска, желая тем обозначить полную нравственную поддержку умеренной партии, но внутренне опасался последствий этого шага.
Тотчас же был отправлен приказ о выступлении. В распоряжении нового правительства остались только три тысячи швейцарских солдат, и близ границ расположились швейцарские полубригады, находившиеся на французской службе.
Недолгое спокойствие последовало за этими волнениями. Конституция 29 мая была принята повсюду, кроме нескольких маленьких кантонов.
Валлис сделался независимым, находясь под покровительством Франции и Итальянской республики. Военную французскую дорогу объявили свободной от всякого рода сборов, что составляло для страны истинное благодеяние.
Но в целом судьба Швейцарии оставалась нерешенной. Наполеон говорил, что ему не нужна эта страна и он предпочитает всеобщий мир, но что не потерпит в ней правительства, враждебного Франции, и на этот счет намерения его тверды, как никогда.
В Англии просьбы федералистов вмешаться во внутренние дела страны произвели некоторое движение, но не в кабинете, а в партии Питта и Гренвиля, которая во всяком деле искала новый способ обвинить Францию.
В Австрии и Пруссии были слишком заняты разделом Германии, чтобы вмешиваться в швейцарские дела. К тому же там до такой степени нуждались в благосклонности Первого консула, что боялись дать ему даже малейший повод к неудовольствию.
Россия, очень хорошо знакомая с намерениями Первого консула, поняла, что волнения в Швейцарии стали для него скорее беспокойством, которого он желал бы избежать, чем искусно подготовленным предлогом завладеть новой землей или приобрести новое влияние.
Как ни важны были сами по себе дела Швейцарии, но в эту минуту они не могли отвлечь внимания всех держав от германских дел.
Мы уже видели, что уступка Французской республике левого берега Рейна лишила многих немецких князей владений и что в Люневиле договорились вознаграждать их с помощью секуляризации церковных владений. Наступило время предпринять эту всеобщую и в значительной степени насильственную переделку огромной земельной собственности.
Внимание большей части северных дворов не могло обращаться к другим вопросам.
Теперь надо проникнуть глубже в темное и трудное дело германских вознаграждений, начатое на Раштадт-ском конгрессе после Кампо-Формийского мира, оставленное по причине создания второй коалиции, возобновленное после Люневильского мира, часто начинаемое и никогда не заканчиваемое. Дело это стало для Европы важным вопросом, который всячески старались решить, но так и не смогли. Его в состоянии была решить только твердая воля Наполеона, потому что сама Германия с ним не справилась бы.
По Кампо-Формийскому и Люневильскому договорам левый берег Рейна сделался собственностью Франции: от места, где Рейн течет между Базелем и Гуннингеном в Швейцарии, и до той части, где эта река оказывается на территории Голландии между Эммерихом и Нимвеге-ном. Но вследствие этой уступки германские князья, как наследные, так и церковные, потерпели значительный ущерб в землях и доходах. И по правилам строгой справедливости должны были получить вознаграждения на германской земле. Эрцгерцоги Карл Людвиг и Фердинанд, издавна бывшие также итальянскими принцами, не имели никакого права на получение земель в Германии, кроме того, разве, основания, что они родственники австрийского императора. Притом сам император вовлек несчастную Германию в войну, привел ее к страшным потерям земель, и он же хотел ныне заставить ее вознаградить его родственников, против их воли вынужденных принимать участие в этой безумной войне!
То же можно сказать и о штатгальтере, принце Оранском. Если этот государь утратил свои владения, так не Германии же следовало вознаграждать его за ошибки, которые он совершил!
Но штатгальтер был шурином прусского короля, а король этот, желая для своего родственника сделать то же, что австрийский император делал для своих, требовал, чтобы Оранско-Нассаускому дому были отданы земли в Германии.
Итак, кроме немецких князей, следовало еще удовлетворить эрцгерцогов, лишенных владений в Италии, и Оран-ско-Нассауский дом, лишенный штатгальтерства.
У Франции по Люневильскому договору, и еще прежде по Кампо-Формийскому, требовали согласия на получение эрцгерцогами владений в Германии. Пруссия и Англия хотели, чтобы штатгальтер был вознагражден правом выбрать земли в Германии.
Франция, которая смотрела на эти компенсации только с точки зрения всеобщего равновесия и которой было решительно все равно, епископ ли или принц Нассауский поселится в городе Фульда и архиепископ или эрцгерцог сделается владетелем Зальцбурга, могла только согласиться на эти требования.
Итак, почти с единодушного согласия решили, что штатгальтер и два эрцгерцога получат часть секуляризованных епископств.
Для удовлетворения князей немецких, итальянских и голландских в Германии, конечно, имелось достаточно прекрасных владений. Посредством секуляризации можно было найти владения обширные и богатые и составить из них государства для всех жертв войны. По Вестфальскому миру многие из них стали уже светскими владениями, но прочие составляли почти одну шестую долю всей так называемой Германии, как по пространству, так и по населению. Что же касается доходов, то, если верить оценке того времени, они могли доходить до тринадцати или четырнадцати миллионов гульденов.
Надо сказать, что, если бы не требовалось удовлетворить эрцгерцогов и штатгальтера, которые втроем просили почти четверть всех земель, не было бы надобности уничтожать все церковные владения. Секуляризовать их все разом значило глубоко потрясти саму структуру Империи, потому что они играли в ней весьма значительную роль.
Здесь требуются некоторые подробности для описания германского государственного устройства, древнейшего из всех в Европе, самого почтенного после английского,
22 Консульство которое теперь погибало от алчности самих же немецких князей.
Германская империя имела в своей основе выборный принцип организации. Хотя императорская корона с давних пор не покидала австрийского дома, однако при каждом престолонаследии именно формальное избрание возлагало ее на главу наследника этого дома. Он по рождению считался королем Богемии и Венгрии, эрцгерцогом Австрийским, герцогом Милана, Каринтии и Штирии и проч., но не был главой Империи.
Избрание производилось восемью курфюрстами, из них пятеро были светскими, а трое — церковными. Пятеро светских: от Австрийского дома — курфюрст Богемии; курфюрст Рейнский — от Баварии и Рейнского Пфальца; герцог Саксонский — от Саксонии; король Прусский — от Бранденбурга; король Английский — от Ганновера. Три церковных: архиепископ Майнцский, владевший частью обоих берегов Рейна в окрестностях Майнца, самим Майнцем и берегами Майна до Ашаффенбурга; архиепископ Трирский, владевший Трирской областью, то есть долиной Мозеля, простиравшейся от границ старой Франции до соединения Мозеля с Рейном; и, наконец, архиепископ Кельнский, владевший левым берегом Рейна, от Бонна до границ Голландии.
Эти три архиепископа избирались, в свою очередь, капитулами, которые составляли (тоже в результате выборов) представители высшего дворянства Германии.
Итак, восемь курфюрстов избирали императора. Притом большинство оставалось на стороне католических курфюрстов, их было пятеро против троих, а потому и предпочтение Австрии сделалось естественным и вековым.
Империя была не только выборной, но и представительной. Совещания о делах союза происходили на общем Сейме, собиравшемся в Регенсбурге под председательством канцлера, архиепископа Майнцского.
Этот Сейм состоял из трех коллегий: Коллегии избирателей, в которой заседали восемь названных нами курфюрстов; Коллегии князей, в которой заседали князья светские или церковные, каждый от лица той земли,
которой владел непосредственно; наконец, Сейм включал Коллегию городов, где заседали сорок девять представителей вольных городов, которые были по большей части разорены и почти не имели влияния на это совещательное правление.
Процесс голосования оставался чрезвычайно громоздким. Когда заседание объявлялось открытым, каждая из трех коллегий подавала свой голос отдельно. В коллегиях не совещались, каждое государство, по порядку старшинства, словесно объявляло свое мнение через своего представителя. Мнения собирались по несколько раз, и, таким образом, каждый имел время изменить его. Когда коллегии не сходились между собой во мнениях, то собирались на совещания, делали друг другу в чем-то уступки и оканчивали общим мнением, которое называлось конклузум.
Значение этих трех коллегий было неодинаковым. Городская коллегия не ставилась почти ни во что. В средние века, когда все богатство было сосредоточено в вольных городах, они, давая деньги или отказывая в них, имели средство заставить себя слушать. Но все это изменилось, с тех пор как Нюрнберг, Аугсбург и Кельн перестали являться центрами торгового и финансового могущества.
Курфюрсты, то есть важнейшие дома, брали верх почти во всех совещательных вопросах.
Независимо от главного правительства, в Германии существовало еще местное правительство — для охранения частных интересов и участия в общих расходах Конфедерации. Это местное правительство было окружным. Германия состояла из десяти округов, крупнейший владелец в округе был в нем главным распорядителем. Он сзывал на совет владетельных князей, земли которых составляли округ, приводил в исполнение их резолюции и являлся на помощь к тем, кому угрожало насилие.
Два имперских суда, один в Вецларе, другой в Вене, творили суд и расправу над конфедератами, королями, князьями и епископами.
Какова бы она ни была, но эта система оставалась почтенным памятником прежних веков. Она предоставляла ту свободу, которая защищает слабые государства против сильных, доставляя им возможность обеспечивать свое существование, собственность, частные права и прибегать к правосудию всех против сильного притеснителя.
Секуляризация произвела бы в этой системе значительные изменения. Прежде всего, она устраняла из Коллегии избирателей трех церковных курфюрстов, а из Коллегии князей — значительное число членов-католи-ков. Католическое большинство, таким образом, исчезло бы, потому что почти все князья, которые унаследовали бы церковные голоса, являлись протестантами. Конечно, веротерпимость, следствие духа времени, отняла у слов «партия протестантская» и «партия католическая» их прежнее религиозное значение, но слова эти приобрели чрезвычайно важный политический смысл.
Партия протестантская означала — партия прусская; партией католической была партия австрийская. Впрочем, эти два влияния уже давно разделяли Германию на две части. Можно сказать, что Пруссия стала в Империи главой оппозиции, а Австрия — главой правительственной партии.
Фридрих Великий, поставивший Пруссию в ряд первостепенных держав, отняв австрийские владения, разжег между этими двумя великими домами непримиримую ненависть. Эта ненависть, на минуту потухшая перед Французской революцией, вскоре опять вспыхнула, когда Пруссия, отделившись от коалиции, заключила с Францией мир и обогатилась благодаря своему нейтралитету, между тем как Австрия истощала свои силы, поддерживая войну, начатую вместе.
Пруссия, естественно, хотела воспользоваться секуляризацией, чтобы навсегда ослабить Австрию.
Австрия требовала, чтобы ее двух эрцгерцогов щедро вознаградили, и под этим предлогом желала расширить свои собственные границы.
Она вовсе не заботилась о герцоге Моденском, давно уже получившем, по Кампо-Формийскому и Люневиль-скому договорам, Брисгау, маленькую провинцию в баденских землях, о которой он мало думал, предпочитая спокойно жить в Венеции и наслаждаться несметным богатством, накопленным беспримерной скупостью.
Но Австрия очень заботилась об эрцгерцоге Фердинанде, прежнем владельце Тосканы. Она требовала для него прекрасное архиепископство Зальцбургское, которое соединяло Тироль с Австрией, и аббатство Берхтес-гаден, окруженное зальцбургскими землями. Для того же эрцгерцога просили также епископство Пассауское, которое доставило бы Австрии важный город Пассау, прекрасное епископство Аугсбургское, простиравшееся вдоль Леха, в самом сердце Баварии, наконец, графство Верденфельс и аббатство Кемптенское, два владения, лежащие на склоне Альп близ Тироля и господствующие над реками, протекающими через Баварию.
Если прибавить к этому девятнадцать вольных городов в Швабии, двенадцать больших имперских аббатств и вспомнить, что Австрия сама имела множество владений в Швабии, то весьма легко понять ее намерения. Под видом вознаграждения эрцгерцогу Фердинанду Австрия претендовала на центр Баварии, чтобы, сжав ее в когтях имперского орла, заставить наконец уступить себе ту часть владений, на которую давно уже метила, то есть все течение Инна, а может быть, и Изера.
При таком плане город Мюнхен, лежащий на Изере и находящийся на самой границе, не мог уже оставаться резиденцией баварского правительства; и тогда курфюрсту захотели предложить в качестве столицы город Аугсбург. Но это значило бы сократить это курфюршество более чем вполовину и вытеснить дом курфюрста в Швабию.
Если бы даже не удалось осуществить эту мечту, у Австрии в утешение оставался Инн. Ей хотелось бы иметь Инн во всем его течении, от входа в Баварию до соединения с Дунаем. Эта линия заключала бы в себе меньше земли, чем течение Изера, но земля эта зато была прекрасной и в военном отношении представлялась гораздо более выгодной.
Ту или другую территорию Австрия надеялась приобрести посредством обмена. А потому с тех пор, как вопрос о вознаграждениях начал волновать кабинеты, она не переставала докучать предложениями и даже угрозами несчастному курфюрсту Баварскому, который тотчас же сообщал о возникших у него опасениях двум своим естественным покровительницам, Пруссии и Франции.
Австрия же за все потери, понесенные Баварией на левом берегу Рейна, назначала ей два епископства во Франконии, Вюртембергское и Бамбергское, весьма выгодные по своему положению. Пруссии Австрия хотела предоставить какое-нибудь значительное епископство на севере, например, Падерборн, и, может быть, два или три аббатства вроде Эссена и Вердена. Наконец, штатгальтеру она определяла клочок земли в Вестфалии, то есть всего какую-нибудь четверть того, что требовал для себя и своего родственника Бранденбургский дом.
Из значительных северных земель Германии и из остатков курфюршеств Кельнского, Майнцского и Трирского Австрия стремилась образовать владения для трех церковных курфюрстов и тем спасти свое влияние на всю Империю.
Можно составить себе довольно верное представление о намерениях Пруссии, если взять решительно противоположное тому, чего хотела Австрия. Прежде всего, она довольно справедливо полагала, что потери герцога Тосканского преувеличиваются по крайней мере вдвое: в Вене утверждали, что он лишился четырех миллионов гульденов ежегодного дохода. А Пруссия настаивала, что Зальцбург, Пассау и Берхтесгаден если не превышают, то равняются доходам Тосканы, не считая того, что Тоскана, отделенная от австрийской монархии, перестает быть для нее ценной по своему положению, тогда как Зальцбург, Берхтесгаден и Пассау, связанные с Империей, обеспечивают ей превосходную границу.
Впрочем, Пруссия меньше говорила о неумеренности претензий Австрии, чем о законности своих собственных требований. Она оценивала свои потери вдвое против того, что они стоили в действительности, и наполовину уменьшала ценность земель, которые просила себе в вознаграждение.
Она имела с Австрией одно общее желание — проникнуть в центр и на юг Германии. Она хотела поступить во
Франконии так же, как Австрия поступила в Швабии, — удвоить там свои владения.
В первом порыве Пруссия потребовала епископства Вюрцбургское и Бамбергское, которые, по общему мнению, рассматривались как вознаграждение Баварии. Эта претензия встретила сильное сопротивление, особенно в Париже, и от нее пришлось отказаться. Тогда Пруссия пожелала ни больше ни меньше как целую часть Северной Германии, то есть епископства Мюнстер, Падерборн, Оснабрюк, Хильдесхейм, остатки Майнцского курфюршества, Эрфурт и, наконец, во Франконии, от которой она никак не отступалась, епископство Эйхштет и город Нюрнберг.
Для Оранско-Нассауского дома Пруссия требовала герцогство Вестфальское, Реклингсхаузен и остатки Кельнского и Трирского курфюршеств. В результате штатгальтер, кроме прикрытого Пруссией тыла, имел еще и другую выгоду, а именно — близость Голландии и возможность воспользоваться первым же удобным случаем для возвращения.
Поддержку, которую Австрия искала себе в России, Пруссия искала во Франции. Она обещала, если ее требования будут поддержаны, соединить свою политику с политикой Первого консула и обеспечить гарантии выполнения всех его распоряжений в Италии.
Прусский кабинет употреблял все усилия, чтобы начать в Париже такие же переговоры, какие Австрия старалась вести в Петербурге, поскольку было ясно, что поддержку только и можно ожидать, что со стороны Франции, и перенести переговоры в другое место значило бы оскорбить Первого консула.
Германские князья, следуя примеру Пруссии, прибегали к помощи Франции. Вместо того чтобы просить в Лондоне, Петербурге, Вене или Берлине, они просили в Париже. Бавария, мучимая Австрией, герцоги Баденский, Вюртембергский, Гессенские, завидовавшие друг Другу, мелкие владетели, устрашенные алчностью сильных, вольные города, которым угрожало насильственное присоединение, земельное дворянство, подверженное той же опасности, что и вольные города, — все хлопотали в Париже, одни через посланников, другие — лично. Бывший штатгальтер отправил туда своего сына Вильгельма, принца Оранского, человека с большими достоинствами, которого Первый консул принял чрезвычайно благосклонно.
Многие другие принцы также прибыли в Париж и усердно посещали Сен-Клу, где главу республики чествовали как короля.
Первый консул не обращал внимания на движение, происходившее вокруг него, и на заботы искателей. Он знал, что переговоры непременно будут происходить в Париже, потому что этого хотел он и потому что так во всех отношениях будет лучше.
Свободный в своих действиях со времени подписания общего мира, Наполеон поочередно выслушал все заинтересованные партии и убедился, что без вмешательства сильной воли спокойствие Германии, а следовательно, и всего материка, будет всегда подвержено опасности. Поэтому он решил предложить, а в сущности, заставил принять свое посредничество и уладить дело так, чтобы оно отвечало принципу справедливости Франции и его собственной политике.
Наполеон ясно видел, что при ненадежном отношении Англии нужно всеми мерами стараться предотвратить новую войну, что для этой цели необходимо составить прочный союз на материке, что дружба Пруссии в этом случае выгоднее всех, что, привязав ее к себе прочными узами, можно разрушить тем всякое покушение на коалицию. Ведь при той силе, какой достигла Франция, против нее осмелились бы восстать только все государства вместе; но если в союзе не будет хоть одного, а тем более если это одно государство примет сторону Франции, то всякая попытка сделается невозможной и Европа не отважится на эфемерный успех новой войны.
Однако, собираясь вступить в союз с Пруссией, Наполеон с редкой проницательностью понимал, что нельзя усиливать ее до такой степени, чтобы она могла подавить Австрию, ибо тогда она, в свою очередь, из полезной союзницы сделается опасной соперницей. Пожертвовать Пруссии все небольшие государственные образования — наследственные, церковные и республиканские — значило бы фактически содействовать осуществлению германского объединения, гораздо более опасного для европейского равновесия, чем некогда было могущество Австрийской империи.
Полный этих благоразумных мыслей, Первый консул сначала хотел склонить Пруссию к более умеренным требованиям. С помощью удовлетворенной Пруссии он затем надеялся принудить Австрию к согласию. А поладив с ней, планировал вступить в переговоры с другими претендентами и удовлетворить их желания посредством справедливого распределения земель. Потом он намеревался начать в Петербурге переговоры, полные уступок и реверансов, чтобы тем польстить молодому императору, гордость которого он вполне представлял себе, несмотря на скромность, которой та прикрывалась.
Первая мысль Наполеона касательно распределения земельной собственности в Германии состояла в том, чтобы отделить друг от друга три большие центральные державы материка — Австрию, Пруссию и Францию — и оставить между ними земли Германской конфедерации. С этой целью он согласен был уступить Австрии все течение Инна, то есть епископство Зальцбургское, земли, лежащие между Инном и Зальцем, и находившиеся в Тироле епископства Бриксенское и Триентское.
Получив, таким образом, компенсацию как для себя, так и для своих эрцгерцогов, Австрия могла отказаться от владений в Швабии, вся осталась бы за Инном, защищенная превосходной границей, наслаждалась бы спокойствием и оставила в покое Баварию, с которой постоянно спорила из-за владения Инном. Пруссию точно так же можно было вынудить отказаться от Франконии и маркграфств Анспаха и Байрота. Из этих маркграфств и смежных с ними епископств Вюрцбургского и Бамбергского, из владений в Швабии и епископств Фрейзингенского и Эйхштедского в Баварии составилась бы для Рейнского Пфальца прекрасная территория, отделяющая Францию от Австрии.
Пруссия, удаленная от Франконии, как Австрия от Швабии, была бы совершенно отодвинута на север. От Австрии она отделилась бы Франконией, а от Франции — берегами Рейна.
Из оставшихся свободных герцогств можно было еще составить государства для Мекленбургского и Оранского домов и, сверх того, вознаградить дома Гессенский, Баденский, Вюртембергский и всех мелких князей.
В этом плане, так глубоко продуманном, Австрия, Пруссия и Франция находились довольно далеко друг от друга, Германская конфедерация соединялась в одно целое и оказывалась среди больших держав континента с благородной и полезной ролью: разделять их и не допускать воинственных союзов; германские государства были превосходно разграничены, а структура Империи изменена, но не разрушена.
План Первого консула, представленный прежде всех Пруссии, не отвергли сразу. Согласие ее зависело от количества земель, которые будут ей предложены при разделе.
Но если княжества Центральной Германии могли быть удобно перемещены на север, юг, восток или запад, то невозможно было предложить то же самое принцам Мекленбургским, твердо укоренившимся на своих землях: их было бы очень трудно уговорить. Самостоятельно или по наущению, они решительно отказались от всего, что им предлагали. Между тем Пруссия, которой поручили с ними объясниться, сообщила, что Франция, избирая их своими соседями, хотела завязать с ними дружбу и быть для них особенно щедрой при разделе вознаграждений.
Как ни важна была часть плана, неудавшаяся вследствие их отказа, он все-таки стоил того, чтобы постараться осуществить остальное. Но Пруссия и Австрия оставались чрезвычайно упорны в своих требованиях относительно самих себя. Хотя граница Инна казалась Австрии в высшей степени притягательной, она не хотела уступить ни пяди в Швабии, кроме Зальцбурга и Берх-тесгадена, и требовала еще епископство Пассау. Епископства Бриксенское и Триентское она вовсе не считала приобретением, так как они находились в Тироле, а все, что было в Тироле, она давно и так привыкла считать своей собственностью.
Пруссия, со своей стороны, не хотела отказаться от притязаний на Франконию.
При таком положении дел Первый консул решил пожертвовать желаемым, чтобы достичь возможного, — тяжкая необходимость, но часто встречающаяся в больших делах! Прежде всего он объявил свое твердое решение не допускать, чтобы чей-либо интерес оказался принесен в жертву, не отдавать всего большим государствам в ущерб маленьким, не уничтожать вольные города, не сокрушать католическую партию полностью.
Генерал Бернонвиль, французский посланник при берлинском дворе, находился в это время в отпуске в Париже. Ему поручили в течение мая 1802 года объясниться с прусским посланником Луккезини и составить конвенцию, в которой были бы изложены отдельные соглашения с домами Бранденбургским и Оранским.
Пруссия повторила свои требования, но знала, что ей выгодней всего будет вести переговоры с Францией, а потому согласилась на сделку, хоть и не столь значительную, как ей бы хотелось. Франция обещала Пруссии епископства Хильдесхейм и Падерборн, часть епископства Мюнстерского, Эрфурт и Эйхсфельд, остатки прежнего курфюршества Майнцского, наконец, несколько аббатств и вольных городов, так, чтобы все вместе представляло доход около миллиона восьмисот тысяч гульденов. Пруссия подписала акт, делая вид, что приносит великую жертву, но была чрезвычайно довольна своими новыми приобретениями.
На следующий день с прусским кабинетом заключили отдельную конвенцию, касавшуюся вознаграждений Оран-ско-Нассауского дома: ему отвели земли в Верхнем Гессене, епископство Корвей, аббатство Вейнгартенское и несколько других. В этом случае Оранский дом оказывался близко к Нассау, в которое уходили корни всей фамилии.
Вот выгоды, которые были предоставлены Пруссии и родственным ей домам49, для того чтобы заключить с ней союз.
За это Бонапарт потребовал у главы Оранско-Нассау-ского дома признания Батавской республики и отречения от штатгальтерства и получил их; от Пруссии он хотел признания Итальянской республики, королевства Этрурии и согласия прусского кабинета на присоединение Пьемонта к Франции.
Таким образом, Фридрих-Вильгельм III должен был показать полное свое одобрение политики Первого консула, даже в том, что она имела неприятного для Европы. Он, однако же, не колебался и написал слова одобрения прямо на акте, представленном ему на подпись.
Завершив дела с Пруссией, Первый консул в тот же день подписал конвенцию с Баварией. Он называл ее в этом договоре давней союзницей Франции, определял ей все церковные владения, находящиеся внутри ее земель, епископства Аугсбургское (за исключением города Аугсбурга, который был признан вольным городом) и Фрейзингенское, склоны Тироля, которые так сильно желала приобрести Австрия, земли Пассау, но без епископства, предназначенного эрцгерцогу Фердинанду, епископства Вюрцбургское и Бамбергское, составлявшие значительную часть Франконии, наконец, несколько аббатств и вольных городов в Швабии, и проч.
Пфальц, расположенный в Швабии и Франконии, приобретал, таким образом, только герцогство Бергское, лежавшее на окраине Вестфалии, которое оставалось отделенным от главных его владений. Баварию заставили отказаться от всего Рейнского Пфальца с целью соединить ее владения, и она была вполне вознаграждена за это, получив в порядке компенсации три миллиона и несколько сотен тысяч флоринов.
Труднейшее дело вознаграждения Пруссии и Баварии сочли наконец завершенным. Две державы, дружественные Франции и наиболее влиятельные в Империи после Австрии, были удовлетворены.
Однако же оставалось поладить с Баденом, Вюртембергом и двумя Гессенскими княжествами. Бадену и Вюртембергу покровительствовала Россия, и, стало быть, дело надлежало решать с ней. Первый консул предложил пригласить императора Александра к участию в переговорах: он хотел заинтересовать его, оказывая особое внимание и высоко ценя его влияние.
Наполеон рассудил, что не нужно ждать, пока Россия сама предъявит свои права на вмешательство в дела германского вознаграждения, и потому в личной переписке с молодым императором с особой доверительностью беседовал с ним обо всех важных делах Европы и спрашивал, что тот намерен предпринять касательно Вюртембергского и Баденского домов.
Действительно, вдовствующая императрица Мария Федоровна, супруга Павла Петровича и мать Александра, была принцессой Вюртембергской, царствующая императрица Елизавета Алексеевна, супруга императора, принадлежала к дому Баденскому, была одной из трех блистательных сестер, рожденных при маленьком дворе в Карлсруэ и занимавших в это время престолы баварский, русский и шведский.
Русский царь, отвечая на предупредительность Первого консула, охотно принял его предложение, даже не думая склоняться в пользу желаний Австрии, которой хотелось перенести переговоры в Петербург, и уполномочил Моркова завершить переговоры в Париже. Вюртемберг и Баден составляли для него самый незначительнейший интерес в этой истории. Главный же состоял в полновесном участии во всех переговорах. Что касается этого, Первый консул исполнил все, чего желал император Александр: он предложил ему такое же точно влияние в переговорах, какое имел в них французский кабинет, объявив, что Франция и Россия будут посредницами между государствами Германского союза.
Мысль эта оказалась одной из самых счастливых. Все заключенные уже частные договоренности следовало представить на утверждение Германского сейма, собравшегося в Регенсбурге. И Первый консул решил сделать это от имени Франции и России. Эта идея спасала достоинство Германского сейма, показывая, что он подчинен не только диктаторской воле Франции, а принимает и третейский суд двух значительных держав Европы.
Истинная политика состоит именно в том, чтобы всегда ставить существенный результат выше внешнего впечатления. Притом внешнее впечатление всегда возьмет свое, только если получен нужный результат.
По принятии императором Александром предложения Первого консула было решено представить Германскому сейму ноту, подписанную обоими кабинетами и заключавшую в себе суть их посредничества. Оставалось только договориться насчет распределений, которые следовало обозначить в этой ноте.
Первому консулу стоило большого труда убедить Мор-кова признать уже принятые с главными германскими державами решения, потому что они были противоположны видам Австрии. В то время как молодой император явно показывал, что не разделяет ни одной из склонностей европейской аристократии, послы его — Морков в Париже, а Воронцов в Лондоне — не оставались чужды интересов, воодушевлявших разные партии. В особенности Морков, составивший себе о могуществе русского двора понятие, совершенно несообразное с обстоятельствами времени.
Но нужно было заканчивать долгие прения, и Морков наконец уступил.
Вознаграждения, предоставленные Первым консулом Пруссии и Оранскому дому, вошли в окончательный план, несмотря на то, что Морков серьезно против них восставал.
Франция усердно защищала мелких князей и предложила им доходы, сообразные с теми, которые у них были отняты.
Об Англии заботились весьма мало, потому что она, казалось, не слишком интересовалась вопросом о германских вознаграждениях. Однако не забывали, что английский король Георг III является в то же время и курфюрстом Ганноверским и очень высоко ценил эту старинную корону своей семьи. Он смотрел на нее даже как на последнее прибежище в минуты, когда ему казалось, что Англия непременно будет уничтожена революцией.
Чтобы приобрести расположение Георга III, ему уступили епископство Оснабрюкское, смежное с Ганновером. Это вознаграждение многим превышало потери и могло очень живо заинтересовать Англию в успехе переговоров.
Оставалось условиться по поводу структурных изменений в Германском государстве.
Первому консулу сначала хотелось сохранить двух церковных курфюрстов, но, будучи раздражен противодействием Австрии, он решил сохранить только одного.
Тогдашний курфюрст Майнцский был представителем дома Дальбергов. Кроме личных своих достоинств, он имел право на поддержку и по важности занимаемого им места, потому что к этому месту примыкали должность канцлера Германской империи и управление сеймом. За ним оставили звание великого канцлера Империи и епископство Регенсбургское, где собирался сейм. Кроме того, ему предоставили Ашаффенбургский округ (остаток прежнего курфюршества Майнцского) и доход в миллион гульденов.
Итак, из трех церковных курфюрстов был оставлен один, с пятью светскими их становилось, таким образом, шестеро. Первый консул желал увеличить число курфюрстов и сделать его нечетным. Он предложил назначить девять избирателей. Титул курфюрста был дан маркграфу Баденскому за его благоразумное поведение по отношению к Франции и родство с Россией, а также герцогу Вюртембергскому и ландграфу Гессенскому как оценка их влияния в Конфедерации.
Таким образом, шесть протестантских курфюрстов объединились против трех католических. Вследствие этого большинство в Избирательной коллегии перешло на сторону протестантской партии, но было еще не так велико, чтобы отнять у Австрии ее законное влияние.
Кроме того, предложили, чтобы князья, получившие церковные земли, заседали в Коллегии князей от тех княжеств, которые приобрели. Это изменяло большинство и в Коллегии князей в пользу протестантской партии. Но благодаря уважению, которое внушал императорский дом, новые протестантские голоса не все оказались враждебны Австрии.
Хотя протестантская, или, если угодно, прусская, партия и приобрела вследствие новых распоряжений численное большинство в коллегиях, полагали, что Австрия, окруженная своим древним величием, всегда найдет средство противодействовать оппозиции Пруссии и не допустить анархии в составе Германской конфедерации.
Наконец, следовало обновить Коллегию городов — незначительную во все времена и неспособную иметь влияния и в будущем.
Хотя в Люневильском договоре ни слова не было сказано об уничтожении вольных городов, а говорилось только об упразднении церковных княжеств, существование многих из этих городов оставалось таким призрачным, а управление ими таким тягостным для них же самих, что большую часть из них пришлось бы уничтожить поневоле.
То покровительство, которого вольные города некогда искали в лице Австрии, добиваясь достоинства имперских городов, то есть зависящих только от одного императора, они теперь нашли в справедливых начинаниях века и в строгом соблюдении законности.
Первый консул считал своим долгом сохранить главные из них. Он хотел поддержать Аугсбург и Нюрнберг по причине их исторической значимости, Регенсбург — как место проведения Сейма, Вецлар — потому что в нем находилось императорское казначейство, и Франкфурт и Любек — из-за их торговой ценности.
Он предлагал присоединить к ним еще два: Гамбург и Бремен, которые хотя и считались важнейшими из всех по своей торговой активности, но доселе не были имперскими городами.
Вольные города объявили нейтральными в войнах Империи, освободили от всех военных повинностей, как то: от рекрутства, денежного взноса, постоя войск. Кроме того, были упразднены громадные пошлины на важнейших реках Германии — Рейне, Везере и Эльбе. Потери прибрежных государств от этой отмены наперед просчитали и компенсировали.
Одной Франции, ее упорной настойчивости, города были обязаны всеми этими благодеяниями.
По окончании столь бурной деятельности ее результаты изложили в виде конвенции, которая и была подписана 4 июня Морковым и французским уполномоченным.
Получая ежедневные известия о действиях Моркова, Австрия не вступала в переговоры. Первый консул, со своей стороны, желал сначала получить согласие каждого государства отдельно, чтобы потом всеобщим согласием победить упорных. В этом отношении прямые договоренности с Вюртембергом и другими княжествами
являлись столько же составными частями плана, сколько и отдельными договорами Франции с вознаграждаемыми государствами.
Морков немедленно объявил, что дал в этом деле только условное согласие и хочет связаться со своим двором. Решили, что если двор императора одобрит план, то нота об этом согласии должна быть прямо отослана в Регенсбург и представлена сейму от имени России и Франции, объявляющих себя посредницами в германских делах.
Привязав, таким образом, Россию к своему плану, Первый консул предполагал победить упорство Австрии. Но он все еще опасался усилий, которые она употребит в Петербурге, чтобы поколебать решимость молодого императора, возбудить в нем сомнения и заставить его отказаться от почетной роли. Поэтому Наполеон поручил генералу Гедувилю, французскому посланнику при петербургском дворе, объявить, что согласия России и ратификации конвенции намерены ожидать только десять дней.
В это время император Александр был в отсутствии: он находился в Мемеле, на встрече с королем Прусским. Хотя русская дипломатия благоволила к Австрии и восставала против Пруссии из-за ее честолюбия и уступчивости в отношении Франции, император Александр не разделял этих мнений. Он был убежден, что Пруссия гораздо более опасна, чем Австрия, поскольку великое искусство вести войну сохранилось в рядах прусской армии еще со смерти Фридриха Великого.
Александр слышал много хорошего о Фридрихе-Вильгельме III, о его молодости, добродетелях, образованности, о его противоборстве с консервативными министрами; русский император находил в этом много сходства со своим собственным положением и хотел познакомиться с прусским королем лично.
Фридрих-Вильгельм принял это предложение с удовольствием, потому что все еще желал стать посредником между Россией и Францией в надежде, удерживая между ними равновесие, сохранить его и в Европе, и к важности этой роли присоединить еще и прочный мир, сохранение которого составляло предмет постоянных его забот. Эта роль, о которой он мечтал еще при Павле, становилась гораздо легче при Александре, которого сближали с ним возраст и склонности.
Еще более утвержденный в этой мысли Гаугвицем, он отправился в Мемель, полный самых благородных мечтаний. Два монарха сошлись, понравились друг другу и поклялись в вечной дружбе. Король Прусский был простодушен и несколько неловок. Александр был ловок, умен, любезен, вежлив. Он не побоялся сделать первый шаг навстречу потомку великого Фридриха и выразил ему живейшее чувство дружбы.
Прекрасная королева Прусская присутствовала при этом свидании; с этой минуты император Александр сделался самым почтительным ее поклонником.
Они расстались восхищенные друг другом и в полном убеждении, что любят друг друга не как государи, но как люди.
По возвращении император Александр твердил всем окружающим, что наконец нашел достойного друга. На все, что ему говорили о прусском кабинете, о его честолюбии и жадности, он всегда отвечал одно: слухи эти могут быть справедливы насчет Гаугвица, но совершенно ложны в отношении молодого и благородного короля. В глубине души Александр, несомненно, желал, чтобы точно так же объясняли все действия русского двора.
В ту минуту, когда монархи собирались расстаться, курьер доставил Фридриху-Вильгельму письмо от Первого консула. В этом письме короля извещали о выгодах, предоставляемых Пруссии, и о плане, насчет которого окончательно условились с Морковым. «Все теперь зависит, — прибавлял Первый консул, — от согласия русского императора».
Фридрих-Вильгельм хотел воспользоваться удобным случаем, чтобы переговорить насчет германских дел с другом. Но уклончивый Александр не захотел его выслушать и обещал ответить, как скоро посланник сообщит ему план, составленный в Париже.
Все описанные события происходили в середине июня 1802 года.
Курьеры ожидали императора Александра в Петербурге, а генерал Гедувиль, чрезвычайно точный в исполнении своих обязанностей, уже представил ноту, в которой объявлял, что, если в положенный срок ему не дадут ответа, он примет это молчание за отказ и передаст его в Париж.
Вице-канцлер Куракин, гораздо более расположенный к Франции, чем его товарищи, просил генерала Гедувиля забрать ноту, чтобы тем не оскорбить императора Александра, и обещал, что по прибытии государя дело будет ему тотчас же представлено и ответ будет получен без промедления.
Император, возвратившись в столицу, выслушал своих министров, очень многие из которых убеждали его не принимать предлагаемый план. Мнение кабинета, казалось, разделилось, но в целом он был больше расположен к Австрии, чем к Пруссии.
Александр тотчас понял, что Наполеон отдает ему все внешние почести роли, существенное значение которой сберегает для себя. Он видел, что условия, которые следовало предложить на рассмотрение Сейму, уже составлены в Париже. Несмотря на это, он остался доволен внешними знаками уважения, оказываемого его империи, и предложением, которое укрепляло право России вмешиваться в дела Германии.
Кроме того, требования Австрии казались ему совершенно безрассудными, а письма прусского короля с каждым днем становились все убедительнее. Вследствие всех этих причин он решился наконец одобрить предложенный план и утвердил конвенцию, можно сказать, почти против желаний своих министров.
В то время как император давал согласие, в Петербург прибыл принц Людовик Баденский: он просил защиты родственных прав и представил план, который увеличил бы богатства и безопасность его дома. Он очень скоро обнаружил, что все желания его уже исполнены.
(Несколько дней спустя бедный принц умер в Финляндии в результате несчастного случая, во время переезда от одной своей дочери, русской императрицы, к другой — шведской королеве50.)
Император Александр хотя и согласился на план, однако изъявил два желания, выполнение которых предоставил Первому консулу.
Первое относилось к епископу Любекскому, принцу из Ольденбургского дома, доводившемуся императору дядей51. В результате раздачи земель в Германии этот принц терял значительный доход и просил о прибавке вознаграждения.
Второе желание императора относилось к званию курфюрста: ему хотелось предоставить его Мекленбургскому дому. Это дело устроить оказалось гораздо труднее, потому что количество курфюрстов должно было увеличиться до десяти, и требовалось получить на то согласие Сейма.
Курьеры, возвращавшиеся из Петербурга, проезжали прямо в Регенсбург и доставляли русскому и французскому посланникам депеши с приказанием немедленно приводить их в исполнение.
Россия по этому случаю чрезвычайным посланником назначила Бюлера, бывшего ее представителем при баварском дворе. Первый консул, со своей стороны, выбрал для этой роли Лафоре, французского посланника в Мюнхене. Лафоре по образованности и по знанию Германии больше всего подходил для трудного дела, для которого его избрали.
Оба посланника получили предписание немедленно выехать из Мюнхена и отправиться в Регенсбург. Они прибыли туда 16 августа.
Сейм избавил себя от трудного дела новой организации Германии, поручив его депутации из нескольких важнейших германских государств: Пруссии, Саксонии, Баварии, Богемии, Вюртемберга, Тевтонского ордена, Майнца и Гессен-Касселя. Но посланники из всех этих стран еще не собрались, и Лафоре прилагал величайшие усилия, чтобы созвать их в Регенсбург.
Нота двух держав-посредниц, написанная дружеским тоном, но с достоинством и твердостью, гласила: «Так как немецкие державы до сих пор не смогли прийти к единому мнению насчет выполнения Люневильского договора, а вся Европа заинтересована в делах Германии, от устройства которых она ожидает упрочения мира, Франция и Россия предлагают Сейму свое посредничество, представляют ему план и объявляют, что выгоды Германии, прочные основания мира и всеобщее спокойствие Европы требуют, чтобы все, касающееся германских вознаграждений, было непременно окончено в течение ближайших двух месяцев».
Назначение срока, конечно, заключало в себе нечто повелительное, но и придавало вмешательству впечатление важности и в этом отношении представлялось необходимым.
Председатель Сейма тотчас же передал ноту чрезвычайной депутации.
Пока так решительно действовали в Регенсбурге, французский посланник при венском дворе сообщил австрийскому кабинету о намерении посредничества и объявил, что Австрию нисколько не хотели этим оскорбить, но по причине невозможности договориться с нею вынуждены были прибегнуть к этой решительной мере. Впрочем, Шампаньи (французский посланник) получил предписание не входить ни в какие подробности и дать почувствовать, что все серьезные прения должны происходить исключительно в Регенсбурге.
Среди этих неизбежных проволочек дипломатии немецкие князья горели нетерпением занять предназначавшиеся им земли и просили позволения тотчас же вступить во владение ими. Франция согласилась на это, чтобы сделать свой план неотменимым. Тотчас же Пруссия заняла Хильдесхейм, Падерборн, Мюнстер, Эйхсфельд и Эрфурт, а Вюртемберг и Бавария отправили отряды в свои церковные владения. Жестокость новых владельцев в некотором отношении весьма напоминала жестокость, в которой некогда упрекали Французскую революцию.
Естественной покровительницей этих несчастных оставалась Австрия, облеченная императорской властью. Но большая часть из них находилась вдали от ее владений, тем же, кто был близко, она не могла оказать помощи, не вторгаясь в баварские земли, а этот шаг имел бы непредсказуемые последствия.
Но одно из этих епископств нетрудно было оградить от притязаний Баварии, а именно епископство Пассауское. Предпринять шаги в его защиту значило для Австрии показать свою силу и укрепить несколько пошатнувшееся влияние.
Венскому двору хотелось, чтобы город Пассау перешел к эрцгерцогу вместе с епископством. Австрийские войска стояли почти у самых ворот города, искушение было велико, а предлоги представлялись каждую минуту. Действительно, несчастный епископ, видя приближение баварских войск, прибегнул к императору как к естественному защитнику каждого государства, входящего в состав Империи и подвергающегося насилию.
План, по которому одна часть его епископства переходила в руки Баварии, а другая — к эрцгерцогу Фердинанду, оставался пока еще только проектом, и до тех пор исполнение его могло считаться незаконным. Правда, такого рода дела совершались в то время во всей Германии, но там, где можно было им воспрепятствовать, почему бы и не вступиться, почему не показать признаков силы?
Австрия пребывала в крайней степени раздражения. Она жаловалась на всех: на Францию, которая, не сказав ей ни слова, составила с Россией план раздела, на саму Россию, которая скрывала от нее сам факт посредничества, на Пруссию и ее союзников, которые искали поддержки у чужеземных держав, чтобы ослабить Империю.
Жалобы ее не имели никакого основания, и во всеобщем равнодушии ей следовало обвинять только себя, свои ни с чем не сообразные притязания и плохо придуманные хитрости. Она хотела вступить в переговоры с Россией тайком от Франции, а Франция сговорилась с Россией тайком от нее. Она хотела заставить иностранца вмешаться в дела Империи, прибегнув к помощи императора Александра, — Пруссия и Бавария прибегли к помощи Франции сами; разница состояла только в том, что Пруссия и Бавария обратились к державе, имевшей право вмешаться в германские дела на основании договоров.
Как бы то ни было, но раздраженная Австрия, желая показать, что не упала духом от стечения несчастных обстоятельств, совершила действие, решительно несообразное с ее всегдашней осмотрительностью. Император велел войскам пройти через Пассау и занять город. Восемнадцатого августа австрийские войска вступили в Пассау. В то же время туда входили и баварские полки. Едва не произошла жестокая стычка, которая подожгла бы всю Европу. Однако благоразумие офицеров, которым было поручено занять город, предотвратило несчастье. Австрийцы заняли город.
Поступок этот был смел, в нем чувствовалось даже больше смелости, чем Австрия могла себе позволить, ибо так она оказывала явное сопротивление декларации дер-жав-посредниц.
Действия Австрии произвели сильное впечатление на представителей всех государств, собравшихся в Регенсбурге. В город съехалось множество правителей вольных городов, духовных сановников, дворян. Мелкопоместные дворяне, наводнявшие армии и канцелярии германских дворов, выступали в Регенсбурге в роли посланников. Так, например, Гёрц был сторонником плана вознаграждений прусского двора, но в качестве мелкопоместного (а не имперского) дворянина чрезвычайно сожалел о прежнем порядке вещей. Посланники многих других германских дворов думали точно так же.
Все эти персоны вместе составляли публику, чрезвычайно эмоциональную и расположенную к Австрии. Они больше всего роптали не на Францию, а на Пруссию и Баварию, и осыпали их самыми строгими порицаниями.
Известие о занятии Пассау произвело на эту публику самое живое и приятное впечатление. «Надо действовать силой, — говорили они. — У Франции нет войска на Рейне, ее мир с Англией не так прочен, чтобы она могла вмешиваться в дела Германии, притом Первый консул в награду за примирение Европы только что получил почти монархическую власть: он не вправе так скоро отнять благодеяние, за которое ему заплачено такой дорогой ценой. Итак, надо только действовать энергично, перейти за Инн, преподать урок Баварии, и тогда сразу опустятся все руки, поднятые против Империи».
Впечатление, произведенное в Регенсбурге, вскоре распространилось по всей Европе. Первый консул, внимательно следивший за ходом переговоров, был им поражен.
До сих пор он тщательно сторонился всякого действия, могущего нарушить всеобщий мир. Целью его стало упрочить этот мир, а не подвергнуть его опасности. Но он в то же время не желал допустить, чтобы ему оказывали публичное неуважение, а в особенности чтобы испортили результат, которого он добился ценой таких усилий.
Наполеон понимал, какое воздействие может оказать на Регенсбург смелость Австрии, если он ее не остановит. Он тотчас же вызвал к себе прусского посланника Луккезини и баварского посланника фон Нетто и дал им почувствовать необходимость скорого и энергичного решения при новом положении дел, созданном Австрией, показал всю опасность, которой подвергнется план о вознаграждениях, если будет продемонстрирована хоть малейшая нерешительность. Оба посланника вполне понимали справедливость этих слов и, не колеблясь, согласились с мнением Первого консула.
Он предложил им заключить союз и объявить о готовности употребить все возможные средства, чтобы заставить принять проект посредничества. А если в шестьдесят дней, назначенных для окончания трудов Сейма, город Пассау не будет освобожден, Франция и Пруссия соединят свои силы с Баварией, чтобы утвердить за ней город, назначенный ей в качестве вознаграждения.
Эту конвенцию подписали вечером 5 сентября 1802 года. Первый консул не пригласил на подписание Моркова, потому что предвидел с его стороны тысячу затруднений, придуманных в пользу Австрии.
Конвенция эта становилась тем серьезнее, что была подписана двумя державами, которые решительно готовились привести ее в исполнение. О ней сообщили Морко-ву, прося передать в Петербург, чтобы и русский кабинет мог присоединиться к союзу, если сочтет это нужным.
На следующий день Первый консул отправил своего адъютанта Лористона с конвенцией и письмом к курфюрсту
Баварскому. В этом письме он просил курфюрста успокоиться, снова ручался за вознаграждение, обещанное прежде, и объявлял, что в назначенный срок французская армия вступит в Германию, чтобы сдержать слово Франции и Пруссии.
Адъютанту Лористону следовало проехать в Пассау, чтобы его там увидели и чтобы он собственными глазами мог оценить численность австрийских войск, находящихся на границе Баварии. Потом он должен был явиться в Регенсбург, оттуда проехать в Берлин и возвратиться через Голландию. Он вез с собой письма для большей части германских князей. Этого было более чем достаточно, чтобы отрезвляюще подействовать на горячие немецкие головы.
Полковник Лористон тотчас же выехал из Парижа и, не теряя ни минуты, прибыл в Мюнхен. Приезд его очень обрадовал несчастного курфюрста, а Лористон уже продолжал свое путешествие: убедившись собственными глазами, что численность австрийцев на Инне слишком ничтожна и может только служить хвастливой угрозой, он отправился в Регенсбург, а оттуда проехал в Берлин.
Быстрота этих действий изумила Австрию, устрашила всех оппонентов Сейма и показала им, что такая держава, как Франция, недаром публично объединилась с Пруссией, и если они хотят, чтобы план их был выполнен, то хотят этого серьезно.
Между тем чрезвычайная депутация, которой Сейм поручил составить заключение, наконец собралась. Заседание было объявлено открытым, и каждый мог изложить свое мнение. Из восьми государств четыре, не колеблясь, приняли проект посредничества. Пруссия, Бавария, Гессен-Кассель и Вюртемберг выражали свою благодарность могущественным державам, которые решили помочь Германскому союзу выйти из затруднительного положения; они, кроме того, объявили, что план составлен чрезвычайно умно и может быть принят, за исключением некоторых деталей, которые следует обговорить отдельно. Затем члены депутации подтвердили мнение, что необходимо закончить дело как можно скорее — как для спокойствия Германии, так и для мира во всей Европе. Однако же не высказались определенно по поводу именно двухмесячного срока.
Следовало бы ожидать одобрения Майнца, потому что это старинное курфюршество только и было сохранено и, сверх того, вознаграждено доходом в миллион гульденов. Но барон Альбини, представитель курфюрста-архи-епископа, человек умный и чрезвычайно ловкий, до глубины души желавший успеха посредникам, затруднялся одобрить план, фактически уничтожавший старинную церковь Германии, и сделать это только потому, что владения его архиепископа не были уничтожены.
Итак, Альбини, от лица Майнца, выразил мнение довольно двусмысленное; он благодарил великие державы за их дружеское вмешательство, очень сожалел о бедствиях германской церкви и разделил план на две части: распределение земельных владений и общие рассуждения, приложенные к плану. В вопросе распределения земель майнцский посланник одобрял предложение держав-по-средниц. Что же касается общих рассуждений, то он находил их неполными, и в особенности пенсии духовенства, по его мнению, не были обеспечены в достаточной степени.
Надо сознаться, что замечания эти оказались совершенно справедливы. Итак, мнение Майнца не заключало в себе формального одобрения.
Саксония просила возможности пока повременить с оглашением окончательного мнения; такое случалось на сейме: так как голоса собирались по несколько раз, то можно было отложить свое решение до следующих заседаний. Государство это, находившееся обыкновенно под влиянием Пруссии, но предпочитавшее Австрию, католическое по исповеданию своего государя, но протестантское по вере народа, находилось в большом затруднении, не зная, что предпочесть: привязанность ли свою к старой Германии, или голос рассудка, говоривший в пользу плана посредников.
Богемия и Тевтонский орден представляли собой вполне австрийские образования: австрийский император являлся также королем Богемии, а эрцгерцог Карл, брат императора, его генералиссимус и военный министр, — гроссмейстером Тевтонского ордена. В Вене и в Регенсбурге богемский и имперский посланники вели себя по-разному. Шраут, посланник Богемии, представлявший исключительно Австрийский дом, произносил самые горькие и страстные речи. Хюгель, посланник, выступавший от имени самого императора, старался выражаться с большей важностью и смотрел на вещи с точки зрения общей пользы Империи. Он был не так искренен и более педантичен.
Итак, четыре голоса выступали «за», один голос, Майнца, нужно было довести до полного одобрения, один голос, Саксонии, хотел присоединиться к большинству, когда все мнения будут собраны, и, наконец, два голоса, Богемии и Тевтонского ордена, выступали «против», пока Австрия не будет удовлетворена.
Этот результат довели до сведения Первого консула. Когда он узнал мнение Богемии, которая называла именно Францию и ее «упорное молчание» причиной того, что германские дела до сих пор не были закончены, то не захотел оставаться под ударом этого обвинения. Он тотчас же ответил нотой, которую Лафоре приказали представить Сейму.
В этой ноте Наполеон выражал свое сожаление о том, что его вынуждают обнародовать договоренность, которой следовало бы остаться тайной, и объявлял, что предложения, сделанные Австрией французскому кабинету, имели целью не общее устройство германских вознаграждений, а распространение границ Австрии до Изера и Леха, то есть исключение Баварии из числа немецких держав. Эти предложения сопровождались угрозами, и державы-посредницы сочли своим долгом вступить в дело, чтобы обеспечить спокойствие Германии и мир в Европе.
Это возражение, вполне заслуженное, но преувеличенное в одном пункте (в обвинении, будто Австрия хотела расшириться до Леха, тогда как в действительности она говорила только об Изере), огорчило венский кабинет, который обнаружил, что имеет дело с противником, столь же решительным в политике, как и на войне.
Однако же требовалось заканчивать переговоры.
Лафоре употребил все необходимые средства, чтобы получить согласие Майнца. Альбини было обещано, что доход великого канцлера обеспечат не процентами, а землями. К этому обещанию, сделанному официально, прибавили несколько довольно ясных угроз на случай, если план не будет принят. Таким образом, Альбини уговорили подать голос в пользу плана.
Честь Германского союза требовала, чтобы чрезвычайная депутация, приняв план в его основе, изменила в нем хотя бы некоторые детали. Выгоды нескольких мелких князей заставляли прибегнуть к этим изменениям, к тому же Пруссия соглашалась с мнением Майнца, что общие рассуждения следует отделить от самого плана и изложить в иной форме.
Кроме того, постановили завершить весь процесс к 24 октября 1802 года, что оставляло для него ровно два месяца.
Итак, пять держав из восьми утвердили это предварительное заключение. Тогда и Саксония выразила свое мнение: она желала, чтобы план был принят.
Богемия и Тевтонский орден по-прежнему противились принятию. По заведенному порядку посланник императора обязан был сообщить заключение посланникам держав-посредниц. Хюгель не хотел этого делать. Впрочем, он беспрестанно извинялся, что разные препятствия заставляют его замедлять переговоры, и каждый день уверял обоих посланников, что малейшая уступка в пользу Австрийского дома, могущая по крайней мере спасти его честь, заставит его согласиться на план.
Вся политика Хюгеля состояла в эту минуту в том, чтобы утомить русское и французское посольства и добиться от Первого консула или уступки земель до Инна, или такого состава голосов в Сейме, который обеспечил бы влияние Австрии на дела Империи.
Лафоре, человек опытный в тактиках такого рода, неотступно шел к цели, невзирая на австрийское посольство, ни на что не соглашался в Регенсбурге и отсылал австрийских посланников в Париж, говоря, что там им, может быть, и сделают уступку, но только после того, как они согласятся на договор в целом.
Несмотря на активное противодействие уполномоченных императора, приняли решение, что все требования мелких князей, адресованные Сейму, будут сообщаться обоим посланникам в виде нот, а изменения, внесенные вследствие этих требований, составят окончательное заключение — конклузум.
Мелкие князьки, заинтересованные в этих изменениях, старались изо всех сил, чтобы найти себе протекцию. К несчастью, некоторые французские чиновники, привыкшие к беспорядкам Директории, замарали руки денежной мздой, которую немецкие князья, желавшие поскорее улучшить свою участь, им щедро подносили. По большей части мошенники, принимавшие эти взятки, продавали влияние, которого сами не имели.
Первый консул, узнав об этих злоупотреблениях, написал несколько писем министру полиции, приказывая ему остановить гнусное лихоимство.
Главное затруднение состояло не в назначении дополнительных вознаграждений, а в извлечении их из имений, которые и без того доставляли пенсии духовенству. Пруссия силилась спасти от этого двойного налога имения, находившиеся в ее владениях; это породило сильные споры и жестоко повредило гордости берлинского двора.
Прежде всего следовало найти добавочный доход, обещанный великому канцлеру, курфюрсту Майнцскому. В этой связи придумали следующий план. В числе сохраненных вольных городов находились Регенсбург и Вецлар. Последний удержал достоинство вольного города, потому что в нем заседала канцелярия императора. Будучи дурно управляемы, оба эти города не могли похвалиться благополучием, которое стоило бы продолжить. Их присудили великому канцлеру. В обоих городах, и в особенности Регенсбурге, чрезвычайно обрадовались при известии об этом новом назначении.
Владея теперь Ашаффенбургом, Регенсбургом и Вецла-ром, канцлер имел 650 тысяч гульденов верного дохода. Оставалось найти еще 350 тысяч для него, 53 тысячи для Штольбергского и Изенбургского домов и 10 тысяч для принца Ольденбургского, дяди императора Александра. Баден и Вюртемберг приняли на себя часть выплат, приходившуюся на оставленные в их владениях земли.
Пруссии и Баварии оставалось разделить между собой пополам эти 413 тысяч гульденов, которые еще следовало добыть.
Бавария в финансовом отношении была обременена чрезвычайно, потому что на ее долю пришлось очень много пенсий и долги ее с прежних владений были перенесены на новые. Пруссия же не хотела принять на себя даже и двухсот тысяч гульденов. Она придумала другой способ достать требуемую сумму, а именно — возложить ее на вольные города Гамбург, Любек и Бремен. Эта скупость произвела в Регенсбурге неприятное впечатление, а прусский посланник Гёрц был до того сконфужен, что даже хотел подать в отставку, но Лафоре удержал его в интересах продолжения переговоров.
Германский союз находился именно в таком положении, в каком находилась Франция во времена Учредительного собрания, после уничтожения феодальных прав. Гессен-Кассель завидовал тому, что было сделано для Бадена, Гессен-Дармштадг — тому, что получил Гессен-Кассель, Оранско-Нассауский дом возмущался обещаниями, данными бывшему герцогу Тосканскому, и все они требовали прибавок, которых, впрочем, негде было взять.
Захват владений силой еще больше увеличивал всеобщее смятение.
В дополнение к этой печальной картине Пруссия, завладев епископством Мюнстерским, не хотела отдавать имперским дворянам участки из этого епископства.
Австрия, понимая, что надо уступить, решила все же согласиться на план посредников, если ей отдадут берега Инна в обмен на некоторые швабские владения, которые она соглашалась уступить Баварии. Кроме того, она снова предлагала Баварии в качестве столицы город Аугсбург и требовала назначения еще двух курфюрстов: эрцгерцога Тосканского, будущего владельца Зальцбурга, и эрцгерцога Карла, гроссмейстера Тевтонского ордена. На этих условиях она готова была признать своих эрцгерцогов вполне удовлетворенными и согласиться на желание посредников.
Но после того, что произошло в Пассау, Первый консул уже не мог уговорить Баварию на уступку границы
Инна, и в особенности казалось невозможным заставить Германию принять трех курфюрстов из Австрийского дома. Наконец, Наполеон не хотел жертвовать и вольным городом Аугсбургом. А потому отвечал, что хоть и готов просить у Баварии некоторых уступок, например, Эйхштедского епископства, но идти дальше не видит никакой возможности.
Время уходило. Приближался срок, назначенный для окончания переговоров, — 24 октября. Было сделано новое распределение голосов в Коллегии князей, вследствие этого в обеих коллегиях произошел перевес голосов в пользу протестантов. Чтобы уравновесить обе партии, Австрии присвоили новые голоса за Зальцбург, Штирию, Карниолу и Каринтию. Но пропорция тем не менее состояла в тридцати одном голосе католическом против шестидесяти двух протестантских.
Однако из этого нельзя заключать, что Австрия утратила свое большинство. Не все голоса протестантов держались прусской партии: с помощью прав, присвоенных императорской короне, и при уважении, которым все еще пользовался Австрийский дом, а ныне и при опасениях, которые начал вселять дом Бранденбургский, равновесие между обеими партиями могло держаться еще долго.
Что касается Коллегии городов, то ей придали независимый характер и значение, которое ставило ее почти на один уровень с двумя прочими коллегиями.
Пруссия желала, чтобы третья коллегия была упразднена совершенно и чтобы каждому из вольных городов был присвоен голос в Коллегии князей. Но французская дипломатия воспротивилась этому распоряжению.
Наконец окончательный проект внесли на обсуждение чрезвычайной депутации. Пруссия, Бавария, Гессен-Кас-сель, Вюртемберг и Майн его одобрили. Саксония, Богемия и Тевтонский орден объявили, что они принимают его к сведению, но выскажут свое окончательное мнение по завершении переговоров, начатых Австрией в Париже. Иначе, говорили они, можно, пожалуй, одобрить план, который потом придется изменить.
Чрезвычайная депутация была обязана высказать свое окончательное мнение, а до назначенного срока оставалось не более трех или четырех дней. Честь могущественных держав, принявших на себя посредничество, требовала, чтобы план приняли в назначенный срок. Лафоре и Бю-лер, действовавшие согласованно, прилагали для этого величайшие усилия, но встречали бесконечные затруднения, потому что Хюгель распространял всюду слух, будто он с часу на час ожидает из Парижа курьера, который должен привезти значительные изменения, и что в самом Париже желают некоторого замедления всего процесса. Он дошел до того, что стал даже стращать Альбини, утверждая, что скоро получит от курфюрста Майнцского предписание отказаться от уже изложенного мнения и не подавать голос в пользу плана. Угрозы эти привели лишь к тому, что Альбини оскорбился и еще более утвердился в своем решении.
Наконец, несмотря на все искусство, с которым придумывались затруднения, 23 ноября 1802 года рецесс (заключение) был изложен и принят чрезвычайной депутацией.
В нем не указывали источник, из которого следовало извлечь 413 тысяч гульденов, требуемых для выплаты компенсаций. Сначала имело смысл узнать результат переговоров Австрии с Францией.
Итак, императорское посольство было совершенно побеждено энергичностью и постоянством посланников стран-посредниц. Хюгель наконец решился оставить дело на произвол судьбы.
Обсуждение рецесса требовалось перенести на заседание Сейма. При этом хотели обойтись без посредничества императорских представителей, но немцы, даже благосклонно расположенные к плану, настаивали, чтобы все конституционные правила строго соблюдались. Они находили, что Империя и без того уже довольно расстроена, в уничтожении прежнего государственного устройства они видели новое господство, которого боялись не меньше, чем старого.
Даже те, кто вначале являлись приверженцами Пруссии, обратили свои взоры в сторону Австрии как совершеннейшего образца привычного порядка вещей. Дошли до той точки, до которой обыкновенно доходят в революциях, то есть начали не совсем доверять новым властителям и перестали так сильно ненавидеть старых.
Итак, все желали присутствия императорских посланников, и известие о переговорах Австрии с Первым консулом в Париже породило надежду на сближение.
Теперь следовало обратиться к Сейму с целью придания рецессу формы имперского закона.
Здесь пришлось бы принять новые меры предосторожности относительно состава Сейма. Допустить до голосования представителей государств, упраздненных на левом берегу Рейна (вследствие завоеваний Франции) и на правом берегу (вследствие секуляризации), значило бы возбудить против себя с их стороны активнейшее сопротивление. Согласились с мнением великого канцлера — позвать только те образования, которые сохранились в составе Империи.
Таким образом, в Коллегию курфюрстов не пригласили ни трирского, ни кельнского, а только майнцского курфюрста, титул которого был утвержден новым уставом. Из Коллегии князей исключили светских и церковных князей: Цвейбрюкена, Монбельяра, Люттиха, Вормса, Шпеера, Базеля, Страсбурга. В Коллегии городов сохранили только шесть мест: Аугсбург, Нюрнберг, Бремен, Гамбург и Любек.
Такие предосторожности были необходимы, и они увенчались успехом. Ни один представитель упраздненных княжеств не явился, и в первые же дни января Сейм начал свои совещания. Дело дошло до той точки, до которой Первый консул хотел довести его, прежде чем приступить к удовлетворению требований Австрии. В крайнем случае можно было обойтись и без ее согласия и заставить коллегию вынести решение, несмотря на ее сопротивление.
Немцы, даже самые недовольные, чувствовали, что нужно наконец решить дело: они готовы были высказаться в пользу рецесса, который придал уже совершившемуся занятию земель законный характер, после чего отказ императора в утверждении не мог помешать князьям наслаждаться обладанием новыми владениями.
Однако сопротивление императора новой конституции поставило бы Империю в ложное, неопределенное положение, несообразное с миролюбивыми намерениями держав-посредниц. Лучше было уступить и получить
23 Консульство
утверждение венского двора. Так думал и Первый консул; он ждал столь долго лишь для того, чтобы сделать Австрии как можно меньше уступок и потребовать как можно меньше жертв от Баварии, потому что все то, что желали дать первой, следовало взять у последней.
Действительно, в последних числах декабря Первый консул согласился вступить в переговоры с Кобенцелем и наконец условился с ним насчет некоторых уступок в пользу Австрии.
Бавария никак не соглашалась отдать линию по Инну, и тогда Наполеон решил уступить Австрии епископство Эйхштедское на Дунае, приносившее 350 тысяч гульденов дохода и предназначенное первоначально дому Пала-тинов. Епископства Бриксенское и Триентское также секуляризовали в пользу Австрии.
Итак, Австрия открыто сознавалась в тайных интересах, которые она скрывала под личиной родственного усердия. Она требовала, чтобы были назначены еще два курфюрста из ее дома; остановились на одном, а именно на великом герцоге Фердинанде, который, таким образом, получил титул курфюрста Зальцбургского.
Эти условия были включены в конвенцию, подписанную в Париже 26 декабря 1802 года Кобенцелем и Жозефом Бонапартом. Моркова также пригласили подписать ее от имени России.
Пруссия не оказывала сопротивления и оставалась нейтральной. Австрия обещала не препятствовать более делу посредничества и почти сдержала слово. Бавария покорилась, но просила, чтобы ее хотя бы избавили от уплаты 413 тысяч гульденов.
Однако же нужно было наконец решить вопрос об этих деньгах, которые никто не хотел брать на себя.
Бавария не могла принять на себя уплату 200 тысяч. Она отказалась от них, и все нашли, что отказ этот был весьма справедлив. Но Пруссия, которая ничего не потеряла, также не хотела принять на себя даже части этого незначительного бремени.
«За двести тысяч гульденов не объявить войну!» — говорил Гаугвиц. Жалкие слова! Они оскорбили всех в Регенсбурге и поставили Пруссию гораздо ниже Австрии, которая, противоборствуя, отстаивала, по крайней мере, земельные владения и конституционные начала. Первый консул мог бы победить эту скупость, но, нуждаясь в Пруссии для успеха своего плана, должен был поберечь ее.
Не знали, чем платить великому канцлеру, откуда взять пенсии духовным лицам и деньги на покрытие долгов, издавна лежавших на оставленных имениях. Наложить эту уплату в виде римских месяцев52 на весь Германский союз было невозможно, потому что испокон веку еще ни разу не удавалось заставить всю конфедерацию внести деньги на общие расходы. Пришлось придумать средство, которое несколько изменило первоначальный французский план относительно свободного судоходства по рекам. Пошлины на Эльбе, Везере и Рейне упразднили, но нужно было подумать о некоторых необходимых издержках, как, например, содержание дорог для бечевой тяги, без чего судоходство остановилось бы. Решили установить на Рейне умеренный сбор и из него выплачивать недостающие деньги великому канцлеру, Ольденбургскому, Изенбургскому и Штольбергскому домам и еще несколько тысяч гульденов, к уплате которых никак не удавалось склонить мелких князей.
Таким образом, удовлетворили скупости Пруссии, избавили Баварию от 200 тысяч гульденов, которых она не в состоянии была достать, исполнили обещание, данное великому канцлеру, обеспечив ему независимый доход.
Все этого хотели, ибо полагали, что миллион гульденов ежегодного дохода был едва достаточен для председателя Германского сейма и последнего представителя трех церковных курфюрстов Священной империи. Великого канцлера сделали единственным распорядителем этой пошлины, вместе с Францией, которая имела право следить за тратами, производимыми на левом берегу Рейна. Франция не могла пожаловаться на такое решение, потому что с этой минуты собственный интерес великого канцлера заставлял его быть с ней всегда в хороших отношениях.
Наконец план, переделанный в последний раз, одобрили 25 февраля уже как окончательный акт и немедленно представили Сейму, где он и был принят всеми тремя коллегиями почти единогласно.
Он встретил сопротивление только со стороны Швеции, монарх которой, уже обнаруживавший умственное расстройство, лишившее его впоследствии престола, приводил тогда всю Европу в изумление своим царственным безумством. Он обрушился с жестоким порицанием дер-жав-посредниц и немецких государств, содействовавших нанесению такого сильного удара вековому устройству Империи. Эта смешная выходка государя, на которого никто в Европе не обращал внимания, нисколько не омрачила радости, вызванной прекращением продолжительных тревог Империи.
Немцы признавали, что Германия в этом случае пожинала неизбежные плоды безрассудной войны, что раздел этот, без сомнения, оказался более выгодным для больших государств, чем для мелких владетелей, но без помощи Франции это неравенство стало бы еще значительнее. Структура Империи, измененная во многих отношениях, однако же была спасена в главных своих началах и не могла быть преобразована в духе, более бережном и просвещенном.
Но чувства германцев к главе тогдашнего французского правительства лучше всего доказываются тем, что при наличии множества вопросов, оставшихся еще нерешенными, все хотели, чтобы его могучая рука не покидала дел Германии. Общим являлось желание, чтобы Франция, в качестве обеспечивающей державы, приняла на себя обязанность наблюдать за своим творением.
Но Первый консул не мог взять на себя разрешение всех этих затруднений, потому что для этого ему пришлось бы сделаться постоянным законодателем Германии. На нем лежала только обязанность установить равновесие в Империи, составлявшее часть равновесия всей Европы, определив каждому государству его долю земельных владений и влияния на Сейм.
Остальное касалось самого Сейма, который один обладал законодательной властью. Поддержанный Францией, Сейм мог все это выполнить, ибо она теперь стала порукой новой германской конституции, как некогда была покровительницей старой.
Слабые, притесняемые сильными, уже прибегали к покровительству Франции. Только главнейшие немецкие дворы могли своей умеренностью отвратить новое вмешательство чужеземной власти. К несчастью, об этом нельзя было и думать, глядя на действия Пруссии и Австрии.
Император Австрийский, заставив довольно долго ждать своей ратификации, прислал ее наконец, но с двумя оговорками: одна касалась сохранения всех привилегий имперского дворянства, другая — нового распределения католических и протестантских голосов в Сейме. Это значило только наполовину сдержать слово, данное Первому консулу при составлении конвенции 26 декабря.
Впрочем, самые серьезные европейские затруднения, то есть земельные, благодаря мощному и благоразумному вмешательству Наполеона были преодолены. Вес его в Европе сделался еще очевиднее. Пользуясь для ограничения Австрии (не доводя ее, впрочем, до отчаяния) попеременно честолюбием Пруссии и гордостью России, он настоял на своей воле, для пользы Германии и для спокойствия мира, — единственный случай, когда дозволено и полезно вмешиваться в дела другого государства.
РАЗРЫВ АМЬЕНСКОГО МИРА
Первый консул, устраивая дела Европы, хотел в то же время восстановить колониальное величие Франции на всем пространстве от Индии до Америки.
В 1789 году Франция получала из своих колоний до двухсот пятидесяти миллионов сахаром, кофе, индиго и прочей продукцией. Из этого количества она сама потребляла на восемьдесят или на сто миллионов, а остальное распространяла по всей Европе, в основном в виде поставок сахара.
В эпоху, о которой мы говорим, то есть в 1802 году, Франция, лишенная колониальных товаров, и преимущественно сахара и кофе, даже для собственного потребления, обращалась за ними к американцам, к ганзейским городам, Голландии и Генуе, а с заключения Амьенского мира — и к англичанам. Она расплачивалась за них звонкой монетой, не находя еще в своей только зарождавшейся промышленности возможности платить продукцией мануфактур.
А поскольку наличные деньги уже не печатались во Франции в прежнем изобилии, она постоянно в них нуждалась, что доказывали беспрерывные усилия Французского банка добывать пиастры, вывозимые из Испании контрабандой. Поэтому очень часто слышались жалобы торговцев на недостаток звонкой монеты, на необходимость покупать сахар и кофе за наличные деньги, тогда как прежде Франция получала их из собственных владений.
Если к этому присовокупить тот факт, что многочисленные владельцы плантаций, некогда богатые, а теперь разоренные, собираясь в Париже, присоединяли свои жалобы к жалобам эмигрантов, то можно составить себе
полное представление об обстоятельствах, влиявших на Первого консула и побуждавших его к важным решениям.
Под влиянием этих причин он отдал Карлу IV Этрурию, чтобы получить взамен Луизиану. Условия договора с его стороны оказались выполнены: инфанты заняли этрурский престол и были признаны всеми державами Европы. Теперь он хотел, чтобы свою часть обязательств выполнила и испанская сторона, почему и требовал немедленной сдачи Луизианы французам.
Экспедиция из двух линейных кораблей и нескольких фрегатов находилась в водах Голландии, в Гельветслуйсе, чтобы доставить войска на рейд Миссисипи и привести эту прекрасную страну под владычество Франции.
Первый консул, располагая герцогством Пармским, готов был уступить его Испании в обмен на Флоридские острова и небольшую часть Тосканы, а именно Сиенский округ, которым он хотел вознаградить короля Пьемонтского Карла Эммануила IV. Из-за нескромности испанского правительства английский посланник узнал о подробностях этих переговоров, и английская зависть придумала тысячу препятствий к заключению этого нового договора.
В то же время Наполеон занимался Индией и вверил управление французскими представительствами в Пон-дишери и в Шандернагоре одному из лучших офицеров Рейнской армии, генералу Декану.
Этот офицер, умный и храбрый, способный на самые отважные предприятия, отправился в Индию с планами отдаленной по времени, но далеко идущей политики.
«Англичане, — говорил Декану Первый консул, — владычествуют на индийской земле; они ведут себя там беспокойно и недоверчиво, не надо давать им ни малейшего повода для подозрения, нужно вести себя любезно и просто, терпеть все, что только честь допускает вынести, и не иметь с владетельными князьями по соседству других сношений, кроме самых необходимых для содержания войск и поселений.
Но, — добавлял Первый консул, — надо присматриваться к князьям, и народам, которые с нежеланием покоряются английскому игу, изучать их нравы и способы общения с ними в случае войны, исследовать, какая европейская армия им потребуется для свержения английского владычества, каким военным снаряжением должна быть обеспечена эта армия, в особенности — каким образом ее можно будет снабжать. Кроме того, необходимо отыскать порт, способный служить местом высадки для привезенного войска, и определить время и средства, нужные для того, чтобы сразу овладеть этим портом.
После шестимесячного пребывания надо составить первое донесение касательно всех этих вопросов, отправить его с офицером верным и умным, который видел все сам на месте и мог бы устными пояснениями дополнить привезенный им рапорт.
Еще через полгода следует снова заняться теми же вопросами — сообразно с вновь приобретенными сведениями, и второе донесение отправить с другим офицером, столь же верным и сметливым. Словом, каждые полгода возобновлять исследования и отправление донесений. В изложении этих записок строго взвешивать смысл каждого выражения, потому что одно слово может иметь влияние на самые важные решения.
Наконец, в случае войны надо поступать сообразно с обстоятельствами: или оставаться в Индии, или удалиться на Иль-де-Франс, а в метрополию отправить побольше мелких судов, чтобы известить ее о том, на что решился главнокомандующий».
Вот какие инструкции были даны генералу Декану — не для того, чтобы развязать войну, но чтобы искусно ею воспользоваться в случае, если бы она разгорелась.
Главные усилия Наполеона были направлены на Антильские острова, средоточие французского колониального владычества. С Мартиникой, Гваделупой и Сан-Доминго Франция имела некогда самые выгодные торговые сношения. Сан-Доминго поставлял по крайней мере три пятых всей продукции, которую Франция в прежние времена получала из своих колоний. Тогда Сан-Доминго был прекраснейшим и самым завидным из заморских владений.
Мартиника счастливо избегла последствий возмущения местного населения. Но Гваделупа и Сан-Доминго были ввергнуты в хаос, и требовалось использовать почти целую армию, чтобы восстановить пусть не рабство, сделавшееся в Сан-Доминго невозможным, но хотя бы законное господство метрополии.
На этом острове, простирающемся в длину на сто, а в ширину на тридцать миль, плодородном, удобно расположенном у входа в Мексиканский залив, более двадцати тысяч чернокожих невольников обрабатывали землю и собирали богатый урожай общей стоимостью в 150 миллионов франков. Тридцать тысяч французских матросов занимались перевозкой в Европу произведенных в Сан-Доминго товаров, в обмен на равноценную французскую продукцию.
Ни в одной колонии не было столь богатых и высокомерных белых, нигде мулаты до такой степени не завидовали преимуществам белого населения, а чернокожие не мечтали так страстно скинуть с себя иго и тех и других.
Когда в неспокойной стране возникли идеи, проповедуемые в Париже, они вызвали там ужасную бурю, подобную ураганам, рождаемым на море внезапной встречей двух противоположных по направлению ветров.
Белые и мулаты, которых и вместе едва ли хватило бы для защиты, вступили в борьбу и, заразив чернокожих своими страстями, довели их до восстания. Сначала они терпели жестокость восставших невольников, а потом их торжество и владычество.
Ужасы этой революции превзошли все, что показала Франция в девяносто третьем году, и, несмотря на отдаленность, всегда ослабляющую ощущения, Европа, уже пораженная событиями на континенте, была глубоко взволнована неслыханной бесчеловечностью, до которой безрассудные и часто жестокие владельцы довели свирепых рабов своих.
Законы человеческого общества, повсюду одинаковые, породили там после продолжительных бурь утомление и потребность во властелине, то есть существе необыкновенном. Властелин этот звался Туссен-Лувертюр.
Это был старый невольник, не имевший доблестной отваги Спартака, но одаренный талантом притворства и склонностью к государственным делам.
Будучи воином весьма посредственным, умея только организовывать в почти неприступной стране засады, хотя и в этом отношении уступая некоторым из своих сподвижников, он приобрел сверхъестественное влияние сметливостью и умением вникать в детали.
Варварская порода, не ненавидевшая европейцев за их презрение к себе, гордилась тем, что имеет в своих рядах существо, высокие дарования которого признавали сами белые. Она видела в нем олицетворение права на свободу и уважение. И она приняла его иго, во сто раз более тягостное, чем иго прежних колонистов, и подверглась жестокой обязанности работать тяжело и много — обязанности, которая даже во времена рабства была для нее делом самым ненавистным.
Этот невольник, сделавшись диктатором, восстановил на Сан-Доминго довольно сносный общественный порядок и совершил дела, которые можно назвать великими, если забыть об их быстротечности.
На этой земле, как и во всякой стране, бывшей долго жертвой междоусобной войны, образовался раздор между классом воинственным, умевшим владеть оружием и занимавшимся этим из страсти, и классом рабочим, менее склонным к битвам, охотно возвращавшимся к труду, но, впрочем, готовым снова кинуться в огонь, если бы оказалась в опасности его свобода. Само собой разумеется, что первая категория была вдесятеро малочисленнее второй.
Туссен-Лувертюр образовал из первого постоянное войско почти в двадцать тысяч человек, разделенное на полубригады по образцу французских армий, с офицерами в большинстве своем из чернокожих, а отчасти — из мулатов и белых. Это войско, получавшее приличное жалованье, хорошо снабженное, казалось довольно устрашающим в климате, который оно одно могло выносить, на почве каменистой, покрытой густым и колючим кустарником. Оно было разделено на многие дивизии и находилось под начальством вождей больше свирепых, нежели искусных.
Туссен объявил, что население острова свободно, но люди обязаны еще пять лет обрабатывать земли своих старых владельцев, с правом на четвертую часть собранных урожаев.
Белых владельцев приглашали возвратиться на выгодных условиях. Предложение это сделали даже тем из них, кто в минуту отчаяния принял участие в попытке англичан овладеть островом.
Значительное число прежних богатых владельцев не явились сами и не выслали своих поверенных. Их владения были конфискованы, как во Франции, и проданы чернокожим офицерам за очень низкую цену.
Благодаря порядку, заведенному Туссеном, большую часть покинутых плантаций начали снова возделывать. И в 1801 году, после десятилетних беспорядков, земля Сан-Доминго, орошенная такими обильными потоками крови, вновь давала урожаи, почти равнявшиеся урожаям 1789 года.
Туссен, пользуясь обретенной независимостью от Франции, предоставил колонии почти неограниченную свободу торговли. Такая свобода в высшей степени полезна для богатой колонии, не имеющей нужды ни в чьем покровительстве для сбыта своих товаров и потому находящей огромные выгоды в свободном сношении со всеми государствами и приобретении предметов первой необходимости и роскоши там, где они лучше и дешевле.
В таком положении находился Сан-Доминго. От свободного пребывания в его портах иностранных кораблей, в особенности американских, остров получил большую выгоду. Съестные припасы имелись здесь в изобилии, европейские товары продавались дешево, туземные — раскупались нарасхват, как только появлялись на рынках.
Прибавьте к этому, что новые плантаторы, как черные, возвысившиеся через революцию, так и белые, введенные снова во владение, освободившись от обязательств в отношении капиталистов метрополии, не были, подобно прежним плантаторам 1789 года, обременены долгами и вынуждены отделять от своих доходов проценты на огромные суммы, занятые ими у европейцев.
Города Кап-Франсез, Порт-о-Пренс, Сен-Марк, Ле-Ке снова приобрели некоторый блеск, следы войны в них почти изгладились.
Чернокожий глава колонии довершил ее благоденствие смелым занятием испанской части Сан-Доминго.
Этот остров некогда разделялся на две части, из которых одна, лежащая на востоке и первой предстающая перед кораблями, плывшими из Европы, принадлежала испанцам, а другая, западная, обращенная к Кубе и внутренней стороне Мексиканского залива, — французам.
Западная часть оказалась гораздо удобнее восточной для плантаций, которым необходимо быть поближе к месту транспортировки урожая. Испанская часть, напротив, довольно плоская, включала в себя не так много сахарных и кофейных плантаций, но зато там было множество пастбищ для крупного рогатого скота, лошадей, мулов. Обе эти части, соединенные вместе, могли оказаться чрезвычайно выгодны друг другу, тогда как, будучи разделены колониальной системой, они являли собой два отдельных острова, каждый из которых богат тем, чего не имеет другой, но не может обменяться своим богатством из-за расстояния.
Туссен, изгнав англичан, обратил все свои помыслы на захват испанской части.
Притворяясь совершенно покорным метрополии и все-таки действуя только по своей собственной воле, он воспользовался Базельским договором, по которому Испания отдавала Сан-Доминго в полное и исключительное владение Франции, и потребовал от испанских властей сдачи этой провинции.
Тогда на острове находился французский комиссар: со времени революции Францию в Сан-Доминго представляли рядовые посланники, чьих мнений никто не слушал. Агент, боясь последствий, которые эта операция могла вызвать в Европе, и не имея от своего правительства никаких предписаний, всеми силами старался отговорить Туссена от его намерения, но напрасно. Последний, не внемля никаким возражениям, двинул все дивизии своей армии, потребовал от испанских властей, неспособных защищаться, ключи Сан-Доминго и отправился по всем городам, принимая на себя титул представителя Франции, но в действительности поступая как независимый государь и заставляя встречать себя в церквях с крестом и святой водой.
Соединение обеих частей острова под одним владычеством имело быстрые и замечательные последствия для торговли и внутреннего порядка.
Благодаря всем этим мерам Туссен-Лувертюр за два года привел колонию в цветущее состояние. Нельзя иметь верного представления о его политике, не зная, как он поступал в отношении Франции и Англии.
Этот невольник, сделавшись свободным человеком и государем, в глубине сердца сохранил пристрастное отношение к нации, рабом которой он прежде был, и не мог равнодушно видеть в Сан-Доминго англичан. Поэтому он употребил максимальные усилия для изгнания их с острова и совершенно преуспел в этом. Его ум, глубокий, хоть и лишенный систематического образования, помог ему уразуметь, что английское владычество опаснее любого другого, потому что англичане имели полное превосходство на море, что делало их власть на острове прочной и неограниченной. Они, оставляя Порт-о-Пренс, предлагали ему королевский титул и немедленное признание, если только он согласится отдать торговлю колонии в их руки. Туссен-Лувертюр не согласился, оттого ли, что был еще привержен метрополии, или оттого, что, испуганный вестью о мире, боялся французской экспедиции, которая могла обратить в прах его королевское величие. Итак, он захотел остаться французом.
Держать англичан на почтительном расстоянии, живя с ними в мире, признавать мнимую власть Франции и повиноваться ей именно настолько, чтобы не вооружить против себя, — такой политики придерживался этот удивительный человек.
Когда Туссен узнал о заключении Амьенского мира и мог предвидеть восстановление власти метрополии, он поспешил созвать совет колонии и написать конституцию.
Совет этот собрался и действительно составил довольно странную конституцию. Согласно ей, совет колонии составлял законы, генерал-губернатор их утверждал и обладал исполнительной властью во всей ее полноте. Туссен, разумеется, был назначен генерал-губернатором, и притом на всю жизнь, с правом избрать себе преемника.
Это казалось вполне ребяческим подражанием тому, что делалось во Франции. Что же касается власти метрополии, то о ней не было сказано ни слова. Конституцию следовало только представить метрополии на утверждение, но, утвердив этот документ однажды, она фактически лишалась всякого права на колонию.
Когда Туссен спрашивали, в каких отношениях Сан-Доминго будет находиться с Францией, он отвечал: «Первый консул будет посылать комиссаров для переговоров со мной».
Некоторые из друзей его, более благоразумные, и в особенности французский полковник Винсент, которому поручили управление фортификационными работами, говорили ему об опасности таких слов, уверяли, что он накличет на себя гнев метрополии и погибнет. Но самолюбие этого человека взяло верх над благоразумием. Он хотел, как сам говорил, чтобы первый среди чернокожих на Сан-Доминго был по закону и на деле тем же, чем первый среди белых стал в Европе, то есть пожизненным владыкой с правом назначить себе преемника.
Он отправил в Европу полковника Винсента с поручением рассказать Первому консулу о своем новом положении и добиться его согласия. Кроме того, он просил об утверждении всех туземных офицеров в присвоенных им военных чинах.
Это подражание его величию заставило Первого консула улыбнуться, но, в сущности, нисколько не изменило его намерений. Он готов был позволить называть себя первым среди белых тому, кто сам себя называл первым среди чернокожих, но только с условием, чтобы колония оставалась покорна метрополии, а обладание этой землей, уже несколько веков принадлежавшей Франции, сохранялось и дальше.
Что касается утверждения местных начальников в присвоенных им чинах, то он считал это делом пустым, утвердил их всех, а Туссен-Лувертюра назначил генерал-лейтенантом, начальствующим на Сан-Доминго от имени Франции.
Но Наполеон хотел иметь там французского главнокомандующего: без этого условия остров Сан-Доминго не принадлежал более Франции. А потому он решился отправить туда генерала и войско.
Колония вновь находилась в цветущем положении, приносила такие же доходы, как некогда, владельцы плантаций, оставшиеся в Париже, громко требовали возврата своих владений, войска были праздны, офицеры, полные усердия, просили службы в какой бы то ни было части света. Итак, можно ли оставаться безучастным, когда такое прекрасное владение ускользает из рук Франции, и не удержать его всеми силами?
Вот причины, побудившие к экспедиции, об отплытии которой мы уже говорили прежде.
Генерал Леклерк, свояк Первого консула, получил предписание пощадить Туссен-Лувертюра, предложить ему чин французского генерала, утверждение всех чинов и имений, пожалованных его офицерам, гарантию свободы невольников, но с полной властью метрополии, представляемой французским главнокомандующим.
Чтобы доказать Туссену расположение правительства, к нему отослали двух его сыновей, воспитывавшихся во Франции, в сопровождении их наставника. К этому Первый консул присовокупил лестное письмо, в котором, обращаясь к Туссену как к первому человеку на острове, он проводил очень ловкое сравнение между миротворцем Франции и успокоителем Сан-Доминго.
Но Наполеон предвидел сопротивление и принял все меры для преодоления его силой.
Если бы не так торопились воспользоваться подписанием предварительных статей Люневильского мира, то, вероятно, заставили бы эскадры собраться в каком-нибудь определенном месте, чтобы они могли вместе двинуться в Сан-Доминго и застать Туссена врасплох, прежде чем он успеет приготовиться к обороне. К несчастью, неизвестность — состоится ли подписание окончательного мира в минуту, когда экспедиция будет назначена, — заставила отправить эскадры из портов Бреста, Рошфора, Кадикса и Тулона без обязательства поджидать друг друга, а только с приказанием торопиться к месту назначения.
Дивизии адмирала Вилларэ де Жуайеза, отплывшие из Бреста и Лорьяна на шестнадцати кораблях, численностью в семь или восемь тысяч человек, получили предписание оставаться некоторое время в Бискайском заливе, поджидая адмирала Латуш-Тревиля, который должен был выйти из Рошфора с шестью линейными кораблями, шестью фрегатами и тремя или четырьмя тысячами войска.
Если бы адмиралу Вилларэ де Жуайезу не удалось соединиться с Латуш-Тревилем, ему следовало направиться к Канарским островам навстречу эскадре Линуа, вышедшей из Кадикса, или дивизии Гантома, идущей из Тулона. Наконец, он должен был плыть в Саманскую бухту, первую, которая появляется на пути из Европы.
Сообразуясь с данными им предписаниями, все эти эскадры, отыскивая друг друга, в разное время прибыли в одно сборное место, в Саману. Адмиралы Вилларэ де Жуайез, с эскадрами брестской и лорьянской, и Ла-туш-Тревиль, с рошфорской эскадрой, имели в своем распоряжении не менее одиннадцати или двенадцати тысяч человек.
Переговорив с начальниками флота, генерал Леклерк решил, что нельзя терять времени, а следует появиться неожиданно перед всеми портами острова, чтобы разом овладеть колонией, не дав Туссену даже времени очнуться.
Вследствие этого генерал Керверсо с двумя тысячами солдат, посаженных на фрегаты, должен был отправиться к Санто-Доминго, столице испанской части острова, адмирал Латуш-Тревиль — пристать к Порт-о-Пренсу, и, наконец, сам генерал Леклерк, с эскадрой Вилларэ де Жуайеза, вознамерился направиться к Кап-Франсез и овладеть им.
Французская часть острова, заключая в себе, кроме значительного пространства земли, и два мыса, разделялась на северный, западный и южный департаменты.
В северном департаменте Кап-Франсез был главным портом и столицей, в западном департаменте ту же роль играл Порт-о-Пренс. Ле-Ке и Жакмель соперничали на юге своим богатством и влиянием.
Заняв Санто-Доминго в испанской части, а Кап-Франсез и Порт-о-Пренс во французской, можно было овладеть почти всем островом, за исключением, правда, внутренних гор, которыми удалось бы завладеть только со временем.
Морские дивизии оставили бухту, где стояли на якоре, и вышли в море, каждая по своему назначению, в первых числах февраля.
Туссен-Лувертюр, извещенный о прибытии множества кораблей в Саману, поспешил туда лично, чтобы
собственными глазами убедиться в угрожавшей ему опасности. Не сомневаясь более, при виде французского флота, в ожидавшей его участи, он решился прибегнуть к последней крайности, но не подчиниться игу метрополии.
Он не думал, чтобы чернокожих снова хотели подвергнуть рабству, но догадывался, что его самого хотят подчинить Франции, и этого оказалось достаточно, чтобы побудить его к сопротивлению.
Он решил уверить своих соплеменников, что свобода их в опасности, заставить их бросить поля и взяться за оружие, опустошить приморские города, сжечь все жилища, перерезать белых и потом скрыться в морны (небольшие прибрежные горы). В этом убежище хотел он выждать, пока климат ослабит белых, чтобы кинуться на них и закончить их истребление.
Однако же, надеясь еще удержать французскую армию простыми угрозами, а может быть, и боясь, что туземные начальники не исполнят в точности его повелений, если он станет побуждать их к жестокостям, потому что они, по его же примеру, состояли с белыми в дружеских отношениях, он приказал офицерам отвечать на первое требование эскадры, что они не имеют предписания принять ее. Если французы будут настаивать, пригрозить, в случае высадки, истреблением городов. Если же, наконец, французы действительно высадятся, следовало истреблять и умерщвлять всё и всех и потом отступить во внутреннюю часть острова.
Таковы были предписания, данные Туссен-Лувертю-ром Кристофу, управлявшему севером, неистовому Дес-салину, главе западных войск, и Лаплюму, более человечному военачальнику, руководившему югом.
Эскадра Вилларэ де Жуайеза, достигнув берега, потребовала лоцманов, чтобы направить корабли на рейды Форт-Дофина и Кап-Франсез, и едва смогла добраться до них.
Бакены были сняты, форты укреплены, намерение сопротивляться прослеживалось со всей очевидностью.
Фрегат, отправленный к берегу, получил ответ, продиктованный Туссен-Лувертюром: «Мы не имеем предписаний, — говорил Кристоф, — надо дождаться указаний главнокомандующего, который теперь в отлучке; но на всякую попытку высадиться мы будем отвечать пожаром и истреблением».
Власти Кап-Франсез, состоявшие из знати, белой и туземной, явились к генералу Леклерку с изъявлением своих опасений. Они хоть и радовались прибытию войск, но в то же время приходили в ужас от страшных угроз Кристофа.
Страх жителей скоро овладел и главнокомандующим, который оказался перед выбором между обязанностью исполнить данное ему поручение и риском подвергнуть население города гневу бывших невольников. Тем не менее ему необходимо было высадиться на берег.
Итак, он обещал жителям Кап-Франсез действовать быстро, внезапно напасть на Кристофа и не дать ему времени исполнить его жестокие намерения. Он убеждал их вооружиться для защиты своих семейств и имущества и передал им прокламацию Первого консула, которая могла успокоить чернокожее население насчет цели этой экспедиции.
Затем, подчиняясь изменившемуся направлению ветра, Леклерк вынужден был снова выйти в море и вместе с Вилларэ де Жуайезом составил план высадки, который заключался в следующем: войска решили перевести на фрегаты, высадить десант в окрестностях Кап-Франсез, за высотами, господствующими над городом, близ пристани Лимбе. Потом, в то время как солдаты пойдут в обход города, эскадра зайдет в фарватер, и приступ начнется с двух точек.
Надеялись, что при стремительной атаке город окажется в руках французов прежде, чем Кристоф успеет привести в исполнение свои угрозы.
Капитан Магон и генерал Рошамбо, если им удастся овладеть Форт-Дофином, должны были также содействовать плану.
На следующее утро войска перешли на фрегаты и легкие суда и высадились близ Лимбейской бухты. Операция заняла целый день.
На следующий день войска двинулись в обход города, а эскадра потянулась в фарватер. Два корабля, «Патриот» и «Сципион», встали на якорь перед фортом Пиколе, из которого в них стреляли раскаленными ядрами, и вскоре заставили артиллерию замолкнуть.
День склонялся к вечеру. Береговой бриз, который по вечерам обыкновенно сменяет морской, принудил эскадру снова удалиться в море и начать приступ на следующий день.
Уходя в открытое море, французы с горечью увидели сначала красное зарево, отражавшееся от поверхности воды, а потом и пламя над кровлями Кап-Франсез. Кристоф, хоть и не столь свирепый, как его повелитель, исполнил его приказания: поджег главные части города и, ограничившись умерщвлением нескольких белых, вынудил многих других последовать за собой.
Пока некоторые белые погибали под ударами или оказывались в роли пленников, остальные попытались скрыться от Кристофа и поспешили под защиту французской армии.
Эта страшная ночь произвела одинаково ужасное впечатление и на несчастных, ставших жертвами ярости бывших невольников, и на французские войска, которые видели тяжелое положение своих соотечественников и не могли им помочь.
На другой день, 6 февраля, в то время как генерал Леклерк шел на Кап-Франсез, адмирал Вилларэ де Жуайез поплыл к гавани и бросил там якорь. С отступлением мятежников прекратилось и сопротивление. Адмирал немедленно высадил тысячу двести матросов, чтобы оказать помощь городу, спасти уцелевшие здания и подкрепить силы главнокомандующего. Леклерк, со своей стороны, приближался к городу, но не мог настичь бежавшего Кристофа. Часть жителей, последовавшая за городскими властями, скиталась в отчаянии, но скоро ободрилась, увидев такую быструю помощь и избавление от опасности. Жители кинулись к своим горевшим домам, моряки помогали им тушить огонь, а солдаты пустились в погоню за Кристофом. Преследование помешало мятежникам разорить богатые фермы на равнине и освободило от них множество белых, которых они не успели увлечь за собой.
Пока эти события происходили в Кап-Франсез, храбрый капитан Магон высадил дивизию Рошамбо у входа в залив и вошел туда со своими кораблями для подкрепления действий армии. Мужественное поведение, уже предвещавшее его подвиги при Трафальгаре, настолько способствовало наступательным действиям дивизии Рошамбо, что Форт-Дофин был взят очень быстро и чернокожие мятежники не успели устроить в нем никаких беспорядков. Вторая высадка освободила от неприятеля окрестности Кап-Франсез и принудила Кристофа скрыться в горах.
Генерал Леклерк занял город и велел потушить пожары. К счастью, сгорели только крыши домов, а количество умерщвленных европейцев оказалось не так велико, как опасались сначала. Многие из них постепенно возвращались в город вместе с верными слугами. Через несколько дней Кап-Франсез уже приобрел некоторые черты порядка и нормальной жизни. Генерал Леклерк отрядил часть флота на американский берег за съестными припасами и материалами для строительства.
Между тем эскадра адмирала Латуш-Тревиля, плывя к западу, обогнула оконечность острова и появилась перед заливом Порт-о-Пренса, готовясь произвести высадку.
Адмирал Латуш-Тревиль велел построить плоты, вооружить их пушками, высадил войска на Ламентенский мыс и поспешно отплыл к Порт-о-Пренсу. Сухопутные войска со своей стороны шли к городу. На пути их находился форт Бизотон. К нему подошли без единого выстрела.
— Не станем отвечать на огонь! — воскликнул генерал Буде. — Это единственное средство предотвратить ожесточение и, может быть, спасти наших несчастных земляков от свирепости чернокожих.
И действительно, гарнизон Бизотона, видя дружелюбие французских войск, сдался и встал в ряды дивизии Буде.
Гарнизон Порт-о-Пренса состоял из четырех тысяч чернокожих солдат. С возвышенностей, по которым шла армия, можно было их видеть — на главных площадях города или перед стенами. Генерал Буде послал два батальона обойти город, а сам с главными силами дивизии двинулся на редуты, прикрывавшие его.
— Мы ваши друзья! — кричали из-за стен города. — Не стреляйте!
Полагаясь на их слова, французские солдаты шли, держа ружья на плече. Но когда они подошли ближе, ружейные и картечные залпы, данные по ним почти в упор, положили до двухсот солдат убитыми и ранеными.
Французы бросились в штыковую атаку и перебили вероломных, не успевших бежать.
Адмирал Латуш-Тревиль беспрестанно твердил армейским генералам, что эскадра по точности выстрелов лучше всякой сухопутной позиции и что скоро он докажет это на деле. Приплыв к городу, он встал под самые батареи гарнизона и в несколько минут заставил выстрелы умолкнуть. Оглушенные звуками близкой канонады, атакованные на улицах войсками дивизии Буде, мятежники бежали в смятении, не успев поджечь город, оставив кассы, полные денег, и склады, полные товаров. К несчастью, они увели с собой большое количество белых, обходились с ними в пути совершенно бесчеловечно и обозначали свое отступление пожарами и грабежом.
Французы узнали, что генерал Лаплюм не так свиреп, как его соплеменники, не полагается на страну, наполненную мулатами, заклятыми врагами чернокожих, и желает покориться европейцам. Генерал Буде тотчас отправил к нему парламентеров. Лаплюм сдался и вручил французским войскам в целости богатый департамент, включавший Леоган, Петит-Гоав, Тибюрон, Ле-Ке и Жакмель.
Сдача генерала Лаплюма стала счастливым событием, потому что благодаря этому целую треть колонии удалось уберечь от уничтожения.
Между тем и испанская часть острова оказалась во власти французских войск. Генерал Керверсо с помощью жителей и влияния французского епископа Мовьеля занял половину испанского участка, где господствовал брат Туссена, Поль Лувертюр.
Капитан Магон, утвердившись в Форт-Дофине, со своей стороны успел с помощью ловко проведенных переговоров и при участии того же епископа Мовьеля склонить генерала Клерво (мулата) к сотрудничеству и отвоевать богатую равнину Сантьяго.
Таким образом, в течение первых десяти дней февраля французские войска заняли берег, гавани, главные города острова и большую часть возделанных земель. У Туссен-Лувертюра оставались только три или четыре полубригады и его сокровища и оружейные запасы, скрытые в горах.
К несчастью, оставалось у него также множество белых заложников, терпевших бесчеловечное обращение в ожидании, пока их выдадут назад или перебьют. Время года было благоприятным, — надлежало воспользоваться им для окончательного покорения острова.
Генерал Леклерк решился потратить на покорение февраль, март и апрель, потому что после жара и дожди сделали бы военные действия невозможными. Благодаря прибытию морских дивизий под начальством адмиралов Гантома и Линуа армия насчитывала уже до семнадцати или восемнадцати тысяч человек. Часть солдат, правда, заболели, но около пятнадцати тысяч были в состоянии сражаться.
Итак, главнокомандующий имел все средства для исполнения своего плана. Но сначала он хотел воздействовать на Туссена убеждением. Генерал Леклерк привез с собой двух его сыновей, воспитанных во Франции, чтобы смягчить его сердце детскими мольбами. Наставник, воспитавший их, собирался передать Туссену письмо Первого консула и постараться примирить его с Францией, обещая ему второе место в правительстве острова.
Туссен принял своих сыновей в городке Эннери, обычном своем убежище. Он долго сжимал их в объятиях и, казалось, на минуту был побежден своим чувством.
Сыновья Туссен-Лувертюра и почтенный человек, воспитавший их, описали ему могущество и благородство французской нации, выгоды, соединенные с покорностью, которая оставила бы за ним высокое положение в Сан-Доминго и обеспечила его детям блестящую будущность, и изобразили, напротив, опасность почти верной гибели в случае сопротивления.
Тронутый этими убеждениями, Туссен-Лувертюр потребовал несколько дней на размышление и все это время оставался очень взволнованным, то страшась опасностей неравной борьбы, то увлекаясь честолюбием и желая быть единственным повелителем прекрасного Гаити, то возмущаясь мыслью, что европейцы намерены снова надеть ярмо на чернокожих. Честолюбие и страсть к воле взяли верх над отеческой нежностью. Он призвал сыновей, снова обнял их и предоставил им право выбрать между Францией, воспитавшей их, и страной, давшей им жизнь, а затем прибавил только, что будет любить их по-прежнему, даже если они встанут в неприятельские ряды. Несчастные юноши, растроганные, подобно отцу, колебались. Однако один из них наконец кинулся в объятия отца и объявил, что умрет вольным негром, не разлучаясь с ним. Другой, продолжая оставаться в нерешительности, последовал за матерью в одно из поместий семьи.
Такой ответ Туссена не оставлял ни малейшего сомнения в необходимости возобновления военных действий. Генерал Леклерк отдал нужные приказания и начал наступление 17 февраля. Распоряжения его были весьма дальновидны против неприятеля, которого скорее надлежало окружать и гнать, нежели сражаться с ним по правилам военного искусства. Действительно, каждый французский корпус являл собой достаточную силу, чтобы не потерпеть поражения.
Выступив 17-го числа, дивизии Рошамбо, Арди и Де-фурно мужественно выполнили данное им приказание: взбирались по крутым склонам, проходили через ужасные чащи и удивляли местных своей отвагой, почти без единого выстрела идя на неприятеля, стрелявшего в них со всех сторон. Девятнадцатого февраля дивизия Дефурно заняла Плезанс, дивизия Арди с боем вступила в Мармелад, опрокинув Кристофа, а дивизия Рошамбо овладела Сен-Мишелем. Мужественно сопротивлялся французам только один военачальник — Морепа, защищавший от генерала Юмбера ущелье Трех Рек.
Двадцать третьего февраля дивизия Дефурно уже вступила в Гонаив, зажженный повстанцами, дивизия Арди овладела местечком Эннери, главной резиденцией Туссе-на, а храбрый Рошамбо занял Равин-о-Кулёвр. Чтобы овладеть этой крепкой позицией, надлежало пройти через сложнейшее ущелье, а затем выйти на равнину, где Туссен стоял с тремя тысячами черных гренадеров и всей своей артиллерией. Несмотря на убийственный огонь, неустрашимый Рошамбо смело ворвался в ущелье, взобрался на два уступа, сбивая штыками медленно отступавшего противника, и вышел на плато. Добравшись туда, опытные солдаты Рейнской армии окончили все одним ударом: восемьсот человек легли на месте, артиллерия Туссена была захвачена.
Между тем генерал Буде, выполняя предписание главнокомандующего, оставил в Порт-о-Пренсе генерала Лакруа и пошел с остальными силами на Сен-Марк. Там находился, ожидая французов и готовясь совершить отчаянные шаги Дессалин. Схватив факел, он зажег свой дом, побудил своим примером к тому же других и отступил, перерезав часть белых жителей, а другую часть увлек за собой в горы. Таким образом, генералу Буде достались одни развалины, залитые человеческой кровью. Пока он преследовал Дессалина, тот кинулся на Порт-о-Пренс, считая его плохо защищенным. Действительно, гарнизон города был очень незначителен, но храбрый генерал Лакруа собрал свое малочисленное войско и произнес пламенную речь. А адмирал Латуш-Тре-виль, узнав об опасности, высадился на берег со своими матросами и сказал генералу Лакруа: «На море вы были под моей командой, на суше я буду под вашей. Давайте вместе защищать жизнь и имущество наших земляков». Дессалина изгнали, он не успел утолить свою жажду мести и бежал в горы Хаоса. Генерал Буде, поспешно возвратившись в Порт-о-Пренс, нашел его спасенным от неприятеля, но сбежавших повстанцев не успели окружить и загнать в Гонаив, как планировалось ранее.
Однако же они везде были разбиты. После взятия Равин-о-Кулёвра восставшие совсем пали духом. Генерал Леклерк решил довершить их уныние, разбив мулата
Морепа. Осажденный со всех сторон, Морепа вынужден был сдаться. Это стало жестоким ударом для Туссен-Лу-вертюра.
Оставалось овладеть крепостью Крет-а-Пьерро и горами Хаос, чтобы потеснить Туссен-Лувертюра в его последнем убежище. Генерал Леклерк послал к крепости и в горы с одной стороны дивизии Арди и Рошамбо, с другой — дивизию Буде. Французы потеряли несколько сотен человек убитыми, слишком самонадеянно подступив к крепости Крет-а-Пьерро, которая оказалась обороняема гораздо лучше, нежели думали. Надлежало начать правильную осаду крепости, выкопать рвы, поставить батареи и т.п.
Крепость защищали две тысячи опытных солдат под предводительством офицеров более искусных, чем те, с кем французам приходилось встречаться раньше. При поддержке Дессалина Туссен старался мешать осаде ночными нападениями, но старания его оказались безуспешными: вскоре осаждающие уже могли идти на приступ. Гарнизон в отчаянии решил произвести ночную вылазку, пробиться сквозь линии осаждающих и бежать. С самого начала удалось обмануть бдительность французов и прорваться через линию, но вскоре войска заметили неприятеля, окружили его со всех сторон и частично истребили, а частично прогнали обратно в крепость. Там было обнаружено значительное количество оружия и снарядов, а также множество бесчеловечно умерщвленных европейцев.
Генерал Леклерк приказал обыскать окрестные горы, чтобы не оставить беглым шайкам Туссена никакого пристанища и усмирить их до наступления знойной поры. В Веррете армия стала свидетельницей страшной сцены. Мятежники долгое время таскали за собой толпы европейцев, побоями заставляя их не отставать. Потеряв надежду увести их от французской армии, шедшей по пятам, они зарезали восемьсот человек: мужчин, женщин, детей и стариков. Храбрые солдаты, так часто сражавшиеся во всех частях света и повидавшие столько кровопролитий, содрогнулись и преисполнились негодования. Они преследовали убийц отчаянно, не намереваясь щадить ни одного.
Наступил апрель. Мятежники истощили все свои средства, глубокое уныние овладело ими. Вожди, пораженные добрым отношением генерала Леклерка к тем, кто покорился и кому он оставил чины и поместья, помышляли о сдаче. Кристоф, через посредничество уже покорившихся военачальников, обратился к генералу, обещая сдаться, если с ним поступят так же, как с генералами Лаплюмом, Морепа и Клерво. Генерал Леклерк, столь же человеколюбивый, сколь и рассудительный, охотно согласился на условия Кристофа и принял его предложение. Сдача Кристофа вскоре повлекла за собой сдачу Дессалина и, наконец, самого Туссена.
Туссен сдался почти один, с несколькими бывшими невольниками, состоявшими при его особе. Продолжать войну внутри острова, не предпринимая ничего, что могло бы усилить доверие к нему местного населения, казалось Туссену бесполезным и угрожало истощить усердие последних его приверженцев. Кроме того, он пал духом и сохранял надежду только на действие климата. В самом деле, он давно привык наблюдать, как европейцы, особенно военные, погибали от вредного климата: желтая лихорадка норовила превратиться в страшного союзника непримиримого честолюбца. Он рассудил, что лучше спокойно дождаться благоприятной поры и тогда, если будет можно, с большей уверенностью снова взяться за оружие.
Итак, Туссен-Лувертюр предложил переговоры. Генерал Леклерк, не надеявшийся одолеть его, если бы даже стал преследовать без отдыха по многочисленным и отдаленным укреплениям острова, согласился принять капитуляцию, подобную капитуляциям его подчиненных.
За Туссеном закрепили его прежние чины и имущество, с условием, чтобы он жил в указанном месте (в Эннери) и не переезжал без позволения главнокомандующего. Генерал Леклерк подозревал, что покорность Туссена обманчива, и содержал его под пристальным надзором, готовясь арестовать при первом поступке, который обличит его злонамеренность.
С этого времени в колонии водворился порядок, возвратилось благоденствие, какого достигла она в правление своего диктатора.
Порядки, им установленные, снова привели в действие. Земледельцы почти все возвратились на плантации. Черная полиция преследовала бродяг и доставляла их в поместья, к которым они были приписаны. Войска Туссена, сильно поредевшие, покорные власти французов, не обнаруживали готовности к возмущению, лишь бы не потерять средств пропитания. Кристоф, Морепа, Дессалин, Клерво, сохранив свои чины и имущество, охотно уживались с французским правлением.
Генерал Леклерк, храбрый воин, кроткий и благоразумный человек, старался восстановить в колонии порядок и безопасность. Он продолжал принимать иностранные корабли со съестными припасами, отведя для них четыре главные гавани — Кап, Порт-о-Пренс, Ле-Ке и Санто-Доминго и запретив приставать в других местах, чтобы не допустить тайной поставки оружия. Ввоз он ограничил только европейскими товарами, исключительную доставку которых сохранил за французскими торговцами.
Однако существовала еще двоякая опасность: с одной стороны — климат, гибельный для европейских войск, с другой — неисправимая недоверчивость чернокожего населения, которое, несмотря ни на что, продолжало бояться восстановления рабства. К прибывшим в колонию семнадцати или восемнадцати тысячам войска новые морские дивизии, отправленные из Голландии и Франции, прибавили еще три или четыре тысячи человек. Но тысячи четыре или пять были уже не в состоянии сражаться; столько же лежали в госпиталях, и только не более двенадцати тысяч могли снова встать под ружье в случае, если бы местные жители опять восстали. Генерал Леклерк всячески старался предоставить своим солдатам отдых, хорошее снабжение и размещение и не пренебрегал ничем для полного и окончательного успеха вверенной ему экспедиции.
Настойчиво реализуя свою мысль, Первый консул перевел на берег Ла-Манша полубригады, служившие в колониях. Он беспрестанно пополнял их новобранцами и пользовался всеми торговыми и военными морскими экспедициями для отсылки новых отрядов. По его распоряжению были увеличены расходы на флот и специальный бюджет морского департамента доведен до 130 миллионов, суммы очень значительной в общем бюджете. Сверх того, Наполеон предписал строить и спускать на воду по двенадцать линейных кораблей в год. Он постоянно твердил, что флот надо создавать именно в мирное время, ибо тогда поле для маневров, то есть море, свободно и путь снабжения открыт.
От Индии и Африки бодрая мысль Первого консула переносилась к Османской империи, падение которой казалось близким и развалинами которой он не хотел обогащать Россию или Англию. Наполеон отрекался от обладания Египтом до тех пор, пока англичане соблюдали условия договора, но в случае нарушения мира по их вине он считал себя вправе возвратиться к прежним намерениям касательно страны, в которой все так же видел дорогу в Индию.
Впрочем, пока еще он не замышлял ничего, а старался только не допустить, чтобы англичане, пользуясь миром, утвердились на рейдах Нила. Формальное обязательство принуждало их оставить Египет до истечения трех месяцев со времени подписания лондонских предварительных статей, а минуло уже двенадцать или тринадцать месяцев и семь или восемь месяцев — с подписания Амьенского договора, но англичане, по-видимому, не намеревались покидать Александрию.
Первый консул призвал полковника Себастиани, офицера выдающегося ума, велел ему немедленно сесть на фрегат, побывать в Тунисе и в Триполи, чтобы настоять на признании флага Итальянской республики, потом отправиться в Египет, выяснить положение англичан и степень их влияния, разузнать, долго ли продлится их пребывание там, понаблюдать за тем, что происходит у турок с мамелюками, посетить арабских шейхов и приветствовать их от его имени, посетить Сирию, проведать тамошних христиан и посулить им снова французское покровительство; переговорить с Джеззаром-пашой и обещать ему прежнее благоволение Франции за покровительство христианам и поддержание французской торговли.
Потом полковник Себастиани должен был возвратиться через Константинополь, чтобы подтвердить инструкции кабинета французскому посланнику, генералу
Брюну. Эти инструкции предписывали генералу вести как можно более роскошный образ жизни, всячески льстить султану, давать ему надежду на французскую помощь против его врагов, кто бы они ни были, — одним словом, не упускать ничего, что только могло возвеличить Францию на Востоке.
При всех заботах о делах в отдаленных странах Первый консул продолжал неусыпно трудиться над внутренним благоденствием Франции. По его распоряжению возобновили составление Гражданского кодекса: отделение Государственного совета и отделение Трибуната ежедневно собирались у консула Камбасереса, чтобы разрешать затруднения, возникавшие при совершении такого великого дела.
Ремонт дорог продолжался по-прежнему. Первый консул распределил их по участкам, по двадцать на каждый, и велел выделять необходимые средства из чрезвычайной суммы, ассигнованной на их восстановление. Работы по строительству Урке кого и Сен-Кантенского каналов не прерывались ни на миг.
Строительство в Италии — дороги и укрепления — также продолжало привлекать внимание Первого консула. В случае, если бы война на море возобновилась и породила сухопутную войну, Наполеон желал, чтобы Италию окончательно связали с Францией многочисленные пути сообщения и сильные оборонительные укрепления. Обладание кантоном Вале облегчило обустройство большой Симплонской дороги, и это столь необходимое дело почти закончили. Работы на перевале Мон-Сени приостановили, чтобы все наличные средства обратить на дорогу Женевской горы, с целью завершить строительство по крайней мере к 1803 году.
Крепость Александрия сделалась предметом ежедневной переписки Наполеона с искусным инженером Шаслу. Там строили казармы для постоянного гарнизона в шесть тысяч человек, госпиталь на три тысячи раненых, военные склады для целой армии.
Всю итальянскую артиллерию начали переливать, чтобы перевести ее в калибры шести-, восьми- и 12-фунтовых орудий. Первый консул рекомендовал вице-президенту Мельци запастись огромным количеством оружия.
«У вас только пятьдесят тысяч ружей, это безделица, — писал он. — У меня во Франции пятьсот тысяч ружей, кроме тех, которые на руках у армии, но я не успокоюсь, пока у меня не будет их миллион».
Наполеон предложил идею военных поселений, которую заимствовал у древних римлян. Он велел выбрать в армии заслуженных офицеров и солдат, препроводить их в Пьемонт, раздать им там земли вокруг Александрии по цене, сообразной с положением каждого, от солдата до высшего офицера. Наделенные таким образом ветераны должны были жениться на жительницах Пьемонта, собираться два раза в год на маневры и при первой опасности укрываться в Александрийской крепости.
Таким образом, в Италию проникала французская кровь и распространялись французские чувства. Такое же новшество предлагал Наполеон ввести в рейнских департаментах около Майнца и в тех провинциях Франции, где еще господствовал враждебный дух, в именно в Вандее и Бретани. Он хотел основать там большие поселения и города.
Поверенные Жоржа, приплывая с островов Джерси и Гернси, приставали к северным берегам, пересекали полуостров Бретань и расходились оттуда по департаменту Морбиган или департаменту Нижней Луары, сея в народе недоверие к правительству и подготавливая его к возмущению.
Первый консул предвидел возможность новых волнений и потому предложил соорудить на главных дорогах через горы и леса деревянные башни с пушками наверху, поворачивающимися вокруг своей оси. В них могли удобно разместиться 50 человек гарнизона, определенное количество припасов и снарядов, и они должны были служить привалом для подвижных колонн. Убежденный, что страну нужно не только обуздывать, но и цивилизовать, он велел усовершенствовать судоходство по Бла-ве так, чтобы эта река стала судоходной до Понтиви, а в самом Понтиви построить большие здания для размещения войск, многочисленного штаба, судебных мест, военного управления и мануфактур, которые предполагал завести за счет государства. Он приказал также определить удобные места для основания новых городов, как в Бретани, так и в Вандее.
Укрепление форта Байяр начали с целью превратить местность между Ла-Рошелью, Рошфором, островами Ре и Олероном в рейд просторный, безопасный и недоступный для англичан.
Шербург также привлекал внимание Наполеона. Не надеясь окончить плотину в скором времени53, он приказал ускорить постройку ее в трех местах, чтобы как можно быстрее осушить их и разместить там три батареи, способные удержать неприятеля на почтительном расстоянии.
Кроме этих трудов для морского, торгового и военного величия Франции, Первый консул находил еще время для занятий школами, Институтом Франции, развитием наук и делами духовенства.
Сестра Наполеона Элиза и брат Люсьен, вместе с господами Сюаром, Морелле и Фонтаном, образовали так называемый литературный салон. Общество это питало большое уважение к преданиям старины, особенно литературной, но с этой основательной страстью соединялись другие, чисто ребяческие. Оно предпочитало деятельности Института свои литературные собрания и громко твердило о восстановлении Французской академии — с литераторами, которые пережили революцию и не любили ее, как, например, Сюар, Лагарп, Морелле и т.п.
Слухи, ходившие на этот счет, производили неприятное впечатление на публику. Камбасерес, внимательный ко всем обстоятельствам, которые могли повредить правительству, уведомил Первого консула о происходящем, а Первый консул, со своей стороны, строго высказал брату и сестре неудовольствие, которое возбуждали в нем их выдумки.
По этому поводу он снова обратил внимание на будущее Института Франции и объявил, что всякое литературное сообщество, причисляющее себя не к Институту, а, например, к Французской академии, будет расформировано, если вздумает придать себе вид публичности.
Второе отделение Института, соответствовавшее в то время прежней Французской академии, продолжало заниматься изящной словесностью. Но Первый консул закрыл отделение моральных и политических наук и включил его в состав отделения словесности, говоря, что предмет того и другого един, что философия, политика, мораль, наблюдения за человеческой природой составляют содержание всей литературы, а искусство изложения есть только форма ее. И нельзя разделять того, что имеет естественную связь: писатели, которые не являются мыслителями, и мыслители, не могущие писать, не станут в конечном итоге ни мыслителями, ни писателями.
Затем Первый консул поручил ученому Гаюи написать учебник физики, которого недоставало школам, а Лапласу, посвятившему ему свое славное сочинение о небесной механике, отвечал следующими словами: «Благодарю вас за посвящение; пусть будущие поколения, читая ваше творение, помнят уважение и дружбу, какие питал я к его автору».
Наступила осень 1802 года, стояла погода прекрасная: природа как будто хотела наделить этот счастливый год еще одной весной. Первому консулу вздумалось съездить посмотреть одну провинцию, о которой до него доходили самые противоречивые отзывы, а именно Нормандию. Тогда эта прекрасная страна обладала множеством богатых мануфактур, стоящих среди обильных и обработанных полей. Участвуя в пробуждении всей Франции, она представляла собой самую воодушевляющую картину. Однако некоторые лица, особенно консул Лебрен, старались уверить Первого консула в том, что население провинции принадлежит к партии роялистов. Мнение могло казаться справедливым, судя по тому, с какой силой нормандцы восставали против крайностей революции.
Первый консул пожелал съездить туда, поглядеть собственными глазами и попробовать обыкновенное воздействие своего присутствия на жителей. Госпожа Бонапарт поехала с ним.
Поездка Первого консула продолжалась две недели. Он проехал через Руан, Эльбеф, Гавр, Дьепп, Жизор, посещал фермы и мануфактуры, все осматривал сам, без охраны появлялся перед людьми, сбегавшимися поглядеть на него. По дороге беспрестанно встречало его сельское духовенство со святой водой, мэры с ключами от своих городов, произнося речи, какими некогда приветствовали королей и королев Франции. Наполеон был в восторге от такого приема, особенно же от расцветавшего благоденствия, которое видел повсюду. Город Эльбеф восхитил его своими размерами. Гавр необыкновенно поразил его воображение: он угадал великое торговое будущее этой гавани. «Везде я нахожу отличное расположение умов, — писал он Камбасересу. — Нормандия совсем не такая, как описывал ее Лебрен. Она искренне привязана к правительству. Тут видно единодушие чувств, которое придало столько прелести событиям 1789 года».
Замечание Первого консула было справедливо. Нормандия как нельзя лучше выражала чувства Франции. Ее население было похоже на то честное и прямодушное население 1789 года, которое сначала пламенно поклонялось революции, потом устрашилось ее крайностей, а теперь восхищалось, видя возвращение правосудия, равенства, славы, хотя и без той свободы, о которой, впрочем, оно уже и не думало.
Во второй половине ноября 1802 года Первый консул возвратился в Сен-Клу.
Вообразив себе завистника, ставшего свидетелем успехов опасного соперника, мы получим довольно верное представление о чувствах, какие питала Англия при виде увеличивающегося благоденствия Франции. А между тем, казалось бы, могущественная и славная английская нация могла собственным величием утешиться при виде чужого величия! Но ею овладела странная зависть. Пока успехи генерала Бонапарта служили доводом в критике действий Питта, Англия рукоплескала неприятельскому генералу. Но как только эти успехи сделались успехами самой Франции, как только Франция возвеличилась в период мира так же, как и на войне, явная злоба овладела английскими сердцами, и злоба эта не скрывалась, как обыкновенно не скрываются чувства у народа пылкого, гордого и вольного.
24 Консульство
Сословия, меньше других получившие выгод от мира, выступали все громче. Высшая торговая знать при виде морей, занятых судами соперников, при виде снижения финансовых выгод открыто сожалела о прекращении войны и больше самой аристократии была недовольна миром.
Аристократия, обыкновенно столь гордая и настроенная самым патриотичным образом, оказалась в этом случае нс прочь отойти от призывов торгового класса и выразить свои возвышенные и благородные виды. Она несколько охладела к Питту, с тех пор как он сделался любимцем торгового сословия, и усердно собиралась вокруг принца Уэльского, служившего образцом аристократических привычек и вольностей, а в особенности — вокруг Фокса, который прельщал ее благородством мнений и неподражаемым красноречием.
Но торговое сословие, всемогущее в Лондоне и в приморских городах, имея своими рупорами Уиндхема, Грен-виля и Дандаса, заглушало голос остальной нации и воодушевляло английские газеты.
К несчастью, правительство Аддингтона было лишено всякой твердости и поддавалось напору начинавшейся бури. Из слабости оно совершало решительно недобросовестные дела: все еще держало на жалованье Жоржа Ка-дудаля, отдавало в его распоряжение значительные суммы на содержание убийц, шайка которых беспрестанно перемещалась из Портсмута на Джерси, а с Джерси на британский берег. По-прежнему терпело оно присутствие в Лондоне памфлетиста Пельтье, несмотря на законный способ, каким можно было легко его выдворить (закон об иммиграции, аИеп-ЬИ1). Обращаясь с изгнанными принцами с весьма естественным уважением, английский кабинет не ограничивался одним уважением, а приглашал их, к примеру, на смотры войск, куда они являлись в костюмах с регалиями старинной монархии. Повторяем, правительство Аддингтона поступало так по слабости, потому что честность лорда Аддингтона, независимо от влияния партий, не допустила бы таких поступков.
Все эти интриги жестоко оскорбляли Первого консула. На многократные требования по соблюдению торговых соглашений он отвечал требованием запрещения
известных газет, изгнания Жоржа и Пельтье, удаления французских принцев из Англии. «Дайте мне, — говорил он, — то, на что я имею право, в чем нельзя мне отказать, не становясь сообщниками моих врагов, тогда и я найду средства удовлетворить ваши нарушенные интересы».
Но английское правительство не находило в требованиях Первого консула ни одного, которое могло бы признать справедливым. Касательно запрещения известных газет Аддингтон и Хоксбери со всем основанием отвечали: «В Англии пресса свободна. Возьмите с нас пример, пренебрегайте напечатанными ругательствами. Пожалуй, можно начать процесс с журналистами, но процесс будет идти на ваш страх и риск, враги ваши могут быть и оправданы». Насчет Жоржа, Пельтье и изгнанных принцев лорд Аддингтон не мог представить законного извинения, потому что аНеп-ЫИ присваивал ему право выслать их из государства. А потому премьер-министр только повторял не слишком убедительные слова о необходимости угождать общественному мнению Англии.
Наполеон не довольствовался подобным оправданием и заявлял: «Ваш совет пренебрегать дерзостями газетчиков был бы хорош тогда, когда речь шла бы о дерзостях французских журналистов в самой Франции. У себя на родине можно решиться терпеть невыгоды свободы слова, в уважение выгод, приносимых той же свободой. Но нельзя позволить журналистам оскорблять иностранные правительства и через это портить отношения одного государства с другим. Без газет мы не ссорились бы, а теперь мы едва ли не в войне. Значит, ваши законы о свободе печати несовершенны. Вы можете, пожалуй, позволять говорить что угодно о вашем правительстве, но не должны позволять говорить то же самое о чужом. Впрочем, это невыгода соседства, с которой я готов ужиться.
Но зачем вы терпите в Англии французов, которые так гнусно пользуются в Лондоне вашими свободами, пишут такие позорные статейки? Почему не вышлете из Англии Жоржа с его убийцами, уличенными виновниками в деле адской машины, и епископов Арраского и Сен-Поль-де-Леонского, которые открыто призывают к мятежу британский народ?!
Во что же ставите вы Амьенский договор, согласно которому запрещены любые злоумышления одного государства против другого? Вы дали пристанище изгнанным принцам, — дело, конечно, похвальное, но глава их династии живет в Варшаве*, отправьте же и их к нему. А вы еще позволяете им носить знаки отличия, которые уже отменены французскими законами и являются крайней непристойностью, когда их носят при французском посланнике, нередко находясь за одним столом с ним. Вы требуете от меня заключения торгового договора и дружелюбных отношений между нашими государствами, — так подайте пример доброжелательства, тогда я посмотрю, нет ли средств примирить наши торговые интересы».
К сожалению, человек, стоявший так высоко, смущался тем, что находилось так низко! Мы уже сожалели о его заблуждении на этот счет, и пожалеем еще раз, приближаясь к минуте, когда оно вызвало очень печальные последствия.
Не владея более собой, Первый консул стал платить за ругательства публикациями в «Мониторе»: статьи он часто писал сам, автора можно было узнать по необыкновенной выразительности слога.
Английское правительство жаловалось в свой черед. «Газеты, которые так оскорбляют вас, не являются официальными изданиями, — уверяло оно. — Мы не можем отвечать за журналистов. А “Монитор” — признанный орган французского правительства, да и по самому языку его легко угадать источник мнений».
Такими-то упреками наполнялись депеши двух правительств в течение нескольких месяцев. Но внезапно произошли события, которые дали их гневу пищу более опасную, но и более достойную.
Швейцария, избавленная от власти Рединга, подпала под власть ландмана Долдера, главы партии умеренных революционеров. Вывод французских войск стал уступкой этой партии, чтобы расположить к ней народ, и доказательством того, как усердно желал Первый консул освободиться от швейцарских дел. Однако нужно признаться, что попытка не удалась.
Граф де Лилль, будущий Людовик XVIII.
Почти все кантоны приняли новую конституцию и признали людей, собиравшихся привести ее в действие. Но в мелких кантонах, Швице, Ури, Унтервальдене, Ап-пенцеле, Гларисе, Граубиндене, пламя мятежа, раздуваемое Редингом и его приверженцами, вскоре привело к восстанию горцев. Надеясь взять верх силой, федералисты собирали народ в церквях и склоняли его отвергнуть конституцию. Они уверяли, что Милан осажден англо-русской армией, а Французская республика так же близка к падению, как была в 1799 году. Но, уговорив отвергнуть конституцию, они не смогли склонить горцев к междоусобной войне. Мелкие кантоны ограничились тем, что послали депутатов в Берн — объяснить французскому посланнику Вернинаку, что имеется в виду не ниспровержение нового правительства, а желание только отделиться от Гельветического союза, остаться в горах независимыми и возвратиться к своему правлению, то есть к чистой демократии. Они даже хотели договориться о новых отношениях с центральным правительством в Берне под покровительством Франции. Разумеется, посланник отказался от таких переговоров и объявил, что не признает другого правительства, кроме бернского.
В Граубиндене происходили события, которые лучше всего отражали настроения, волновавшие тогда Швейцарию. В долине Верхнего Рейна, которую возделывают граубинденские горцы, находилось поместье Базён, принадлежавшее императору Австрийскому. Это поместье давало императору звание члена Граубинденского союза и прямое влияние на состав местного правительства: он назначал главу из трех представляемых ему кандидатов. С тех пор как Франция присоединила Граубинден к Гельветическому союзу, император, оставаясь владельцем Ба-зёна, отдал поместье в распоряжение управляющего. Этот управляющий возглавил восставших граубинденцев и принял поручение представить их настоятельную просьбу о принятии под австрийское покровительство. Нельзя было яснее показать, на какую партию в Европе желали опереться.
К этому волнению умов прибавилось кое-что поважнее: народ вооружался, приводил в порядок оружие, оставленное русскими и австрийцами в последнюю войну, назначил и выдавал жалованье бывшим солдатам швейцарских полков, изгнанных из Франции. Бедные горцы, думая в простоте душевной, что опасность угрожает их вере и независимости, толпами стекались в ряды мятежной армии. Богатые швейцарцы щедрой рукой раздавали деньги в счет миллионов, хранящихся в Лондоне. Ланд-мана Рединга провозгласили главой союза. Новые сподвижники гельветической свободы воодушевляли народ памятью о битвах при Морате и Земпахе54.
Трудно понять подобное безрассудство с их стороны, когда французская армия повсюду окружала швейцарские границы. Но народ уверили, что у Первого консула руки связаны, что за них вступились иностранные державы и Франция не может двинуть в Швейцарию ни одного полка, не накликав на себя всеобщей войны.
Однако, несмотря на столь мощное воздействие, бедные горцы Ури, Швица и Унтервальдена, наиболее вовлеченные в эти печальные события, действовали не так усердно, как хотелось их вождям, и объявили, что не выйдут за пределы своих кантонов. Гельветическое правительство имело в распоряжении около четырех или пяти тысяч войска, из которого тысяча или тысяча двести человек служили для охраны Берна, несколько сотен разместились по гарнизонам, а три тысячи стояли в кантоне Люцерн, на границе Унтервальдена, для наблюдения за восстанием. Отряд мятежников находился в селении Гергисвиль.
Вскоре дело дошло до перестрелки, и с той, и с другой стороны пало несколько убитых и раненых. Пока эта стычка происходила на унтервальденской границе, генерал Андермат, командир войск правительства, вздумал разместить в Цюрихе несколько пехотных рот для охраны арсенала. Цюрихская аристократия воспротивилась распоряжению генерала и не пустила солдат Андермата в город. Напрасно генерал велел кинуть несколько бомб: жители отвечали ему, что скорее сгорят, но не сдадутся и не откроют ворота притеснителям свободы Швейцарии.
Швейцарское правительство не знало, на что решиться в таком затруднительном положении. Выступая против открытой силы федералистов, оно не имело на своей стороне ни пламенных патриотов, желавших безусловного единства, ни умеренных масс, которые были расположены к революции, но видели от нее одни ужасы войны и присутствие иностранных войск. В это время правительство убедилось, чего стоит народная любовь, купленная ценой вывода французских войск.
В затруднении своем оно заключило перемирие с мятежниками, а потом прибегло к помощи Первого консула, убедительно прося о французском посредничестве, которого хотели также и мятежники, желавшие, чтобы их отношения с центральным правительством были определены с согласия посланника Вернинака.
Когда просьба о посредничестве пришла в Париж, Наполеон пожалел, что опрометчиво согласился с мнениями партии Долдера, пошел на поводу у собственного желания закончить швейцарские дела и отозвал французские войска. Послать их туда теперь, на глазах недоброжелательной Англии, роптавшей на слишком явное господство Франции в государствах Европы, стало бы чрезвычайно серьезным шагом.
Впрочем, он еще не знал всего, что происходило в Швейцарии, не знал, до какой степени виновники возмущения мелких кантонов обнаружили свои истинные замыслы и оказались тем, чем действительно были, то есть поверенными европейской контрреволюции и союзниками австрийцев и англичан. Поэтому он отказался от посредничества, неминуемым следствием которого стало бы возвращение французских войск в Швейцарию и военный постой в независимом государстве.
Ответ его поверг в уныние гельветическое правительство. В Берне не знали, что делать, страшась как скорого прекращения перемирия, так и крестьянского восстания в Оберланде. Некоторые члены правительства предложили принести в жертву ландмана Долдера, главу умеренной партии, ненавидимого одинаково и патриотами, стремившимися к единству Швейцарии, и федералистами. На гаком условии те и другие обещали успокоиться.
Согласившись в этом, отправились в дом гражданина Долдера и настойчиво попросили его подать в отставку, на что он имел слабость согласиться. Сенат, сохранив больше характера, не принял просимой отставки, но Дол-дер настаивал на своем. Тогда прибегли к обыкновенному методу собраний, не знающих, на что решиться, а именно — назначили чрезвычайную комиссию для поиска мер спасения.
Между тем перемирие кончилось, мятежники двинулись на Берн, тесня генерала Андермата. Это были крестьяне, численностью до полутора или двух тысяч, с распятиями и карабинами, впереди них шли солдаты швейцарских полков, служивших некогда во Франции. Скоро все они появились у ворот Берна и сделали несколько выстрелов из дрянных пушек, которые привезли с собой. Городские власти, под предлогом спасения города, вступили в переговоры и подписали капитуляцию.
Приняли решение о том, что правительство, не подвергая Берн опасностям атаки, удалится с войсками Андермата в кантон Ватланд.
Это решение немедленно привели в исполнение: правительство уехало в Лозанну, туда же отправился французский посланник.
Партия федералистов утвердилась в Берне и, чтобы не делать дела вполовину, восстановила в должности сановника, занимавшего ее в 1798 году, когда началась первая революция, — Фредерика де Мулинена. Таким образом, контрреволюция оказалась полной и по существу, и по форме.
Однако когда дело дошло уже до этой точки, нечего было рассчитывать на терпение Первого консула. Оба правительства, бернское и лозаннское, отправили к нему послов, одно — с просьбой о посредничестве, другое — с просьбой не принимать на себя посредничества. Посол правительства федералистов был родственником того самого Мулинена. Ему поручили вновь повторить обещания преданности, которыми так славился Рединг и которые он исполнял так плохо, а также объясниться с находившимися в Париже посланниками всех держав и отдать Швейцарию под покровительство каждого из них.
Обращаться теперь к Первому консулу с просьбами о действии или бездействии стало равно бесполезно. При виде явной контрреволюции, имевшей целью отдать Альпы врагам Франции, он даже не принял посланника, а посредникам, которые взялись говорить за него, отвечал, что уже все решил. «Отныне, — сказал он, — заканчивается моя нейтральная роль. Я уважал независимость Швейцарии, не желал раздражать Европу, простер свою уступчивость даже до ошибки, согласившись вывести французские войска. Довольно же снисхождения к интересам врагов Франции. Пока я видел в Швейцарии одни раздоры, которые делали одну партию сильнее другой, я должен был предоставлять ей полную свободу действий, но теперь, когда дошло до явной контрреволюции, устраиваемой солдатами, служившими некогда Бурбонам, а потом перешедшими на жалованье англичан, я не могу обманывать себя. Если мятежники хотели ввести меня в заблуждение, им следовало поступать хитрее и не ставить впереди своих колонн полк Бухмана. Я не потерплю наступления на революцию нигде, ни в Швейцарии, ни в Италии, ни в Голландии, точно так же, как не допущу его в самой Франции.
Мне толкуют о воле швейцарского народа, но я не в состоянии разглядеть ее в воле двухсот аристократических фамилий. Уважение, которое я испытываю к храброму швейцарскому народу, не позволяет мне поверить, чтобы он желал такого ига. И во всяком случае, для меня есть кое-что подороже воли швейцарского народа, а именно — безопасность тех сорока миллионов людей, которыми я управляю. Я объявляю себя посредником Гельветического союза, я дам ему конституцию, основанную на равенстве прав и самом духе страны. Тридцать тысяч войск встанут на границе и обеспечат исполнение моих добрых намерений. Если же, вопреки ожиданиям, не удастся вернуть спокойствие благородному народу, тогда я присоединю к Франции все, что почвой и нравами походит на Франш-Конте55, остальное соединю с мелкими кантонами, возвращу им управление, которое они имели в четырнадцатом столетии, и предоставлю им полную свободу. Теперь будет так: или Швейцария — союзница Франции, или Швейцария не существует».
Первый консул предписал Талейрану выпроводить из Парижа бернского посла в течение двадцати четырех часов, объявив ему, что он может послужить своим доверителям в Берне, посоветовав им немедленно разойтись, если они не хотят видеть французскую армию в Швейцарии. Наполеон собственноручно написал прокламацию к гельветическому народу — короткую, но сильную, заключавшуюся в следующих словах:
«Жители Гельвеции! Уже два года вы представляете собой прискорбное зрелище. Враждебные друг другу партии поочередно присваивали власть и ознаменовывали свое господство духом пристрастия, обличавшим их слабость и неспособность.
Ваше правительство пожелало вывода небольшого числа французских войск, находившихся в Гельвеции. Французское правительство радо было оказать уважение вашей независимости, но вскоре за тем ваши враждебные партии заволновались с новым ожесточением: кровь швейцарцев полилась от рук швейцарцев.
Три года вы провели в непримиримых распрях. Если и дальше оставлять вас на собственный произвол, вы еще три года будете истреблять друг друга и по-прежнему не примиритесь. Ваша история доказывает, что внутренние войны у вас никогда не оканчивались иначе, как дружественным заступничеством Франции.
Я было решился нисколько не вмешиваться в ваши дела, а ваши различные правительства просили у меня советов и не исполняли их, а иногда употребляли во зло мое имя, смотря по их выгодам и страстям. Но я не могу и не должен оставаться нечувствительным к бедствиям, которым вас подвергают, а потому беру назад мое решение. Я стану посредником ваших распрей; но посредничество мое будет деятельным, как приличествует великому народу, от имени которого я действую».
За этим благородным вступлением последовали распоряжения. Через пять дней после обнародования прокламации правительство, удалившееся в Лозанну, должно было возвратиться в Берн, правительство мятежной партии — разойтись, все вооруженные отряды, кроме армии генерала Андермата, — рассеяться, солдаты бывших швейцарских полков — сложить оружие. Всех лиц, занимавших общественные должности в последние три года, к какой бы партии они ни принадлежали, приглашали съехаться в Париж на совещание с Первым консулом о способах прекращения волнений в их отечестве.
Наполеон приказал своему адъютанту, полковнику Раппу, немедленно ехать в Швейцарию, вручить его прокламацию всем законным и незаконным властям, отправиться сначала в Лозанну, потом в Берн, Цюрих, Люцерн, словом, всюду, где имеется какое-нибудь сопротивление. Кроме того, полковник Рапп должен был согласовать передвижения войск с генералом Неем, которому доверили начальство над ними.
Приказания о выступлении войск уже послали. Первый отряд, из семи или восьми тысяч человек, формировался в Женеве. Шесть тысяч человек собирались в Пон-тарлье, шесть тысяч — в Гюннингене и Базеле. Такая же дивизия составлялась в Итальянской республике, чтобы вступить в Швейцарию со стороны итальянской границы. Генералу Нею велели ожидать в Женеве уведомления от полковника Раппа и при первом его знаке вступить в кантон Ватланд с колонной, сформированной в Женеве, взять по дороге колонну из Понтарлье и двинуться на Берн с двенадцатью или пятнадцатью тысячами человек. Войска, вступавшие через Базель, имели предписание соединиться в мелких кантонах с отрядом, прибывшим с итальянской границы.
Сделав все распоряжения с необычайной быстротой, написав прокламацию, отдав всем корпусам приказ выступить и отправив в Швейцарию полковника Раппа, Первый консул со спокойной отвагой ожидал, какое впечатление произведет столь смелое решение. Но, каковы бы ни были последствия, хоть бы даже и война, решение его представляло собой мудрую меру, потому что вопрос состоял в сохранении Альп от европейской коалиции. Твердость, призванная на помощь благоразумием, — лучшее зрелище, какое может представить политика.
Поверенный бернского правительства, встретив такой суровый прием в Париже, не преминул обратиться к посланникам австрийского, русского, прусского и английского дворов. Граф Морков, хоть и выступал против поступков Франции в Европе, не решился, однако же, отвечать ему, а тотчас отправил курьера к своему двору с извещением о том, что бернское правительство формально просит заступничества Англии.
Курьер бернского посланника прибыл к лорду Хокс-бери в то время, когда кругом раздавались возгласы в поддержку храброго швейцарского народа, который будто бы защищал от бесчеловечного притеснителя свою религию, свою независимость. Англичане ощущали себя растроганными, собирали щедрые пожертвования. Но наигранность чувства не допустила его сделаться общим, оно ограничилось знатными сословиями, которые обыкновенно одни интересуются ежедневными политическими делами. Лорд Гренвиль, Уиндхем и Дандас с новой силой начали обвинять Аддингтона в так называемой слабости.
Парламент только что возобновил свою работу и готовился собраться после общих выборов. Английский кабинет не знал, какой стороны держаться, министры опасались первых заседаний и сочли за благо принять несколько дипломатических мер, которые могли бы служить им оправданием в защите от противников.
Первой мерой стала нота в Париж, которая говорила в пользу швейцарской независимости и протестовала против всякого посредничества со стороны Франции. Это не могло удержать Первого консула, а повлекло за собой только обмен неприятными объяснениями.
Но кабинет Аддингтона не ограничился одними объяснениями. Он отправил в Швейцарию поверенного Мура, с поручением увидеть и выслушать предводителей восстания, увериться, твердо ли они решили сопротивляться, и в таком случае предложить им финансовую помощь от Англии. Кроме того, ему велели купить в Германии оружие для доставки швейцарским мятежникам.
Надо признаться, такая мера была незаконна и не могла быть оправдана ничем.
Австрийскому двору — чтобы оживить его старинную вражду с Францией, усилить негодование из-за последних германских событий, а особенно встревожить по поводу границы Альп, — предложили сто миллионов флоринов, если он согласится словом и делом защищать Швейцарию. Это известие прислал в Париж сам граф Гаугвиц, который старался тщательно следить за всем, что касалось сохранения мира.
Не столь явную попытку договориться предприняли с императором Александром и вовсе не прибегали к подобной мере с прусским кабинетом.
Меры английского кабинета, довольно предосудительные во время мира, не могли иметь особой важности, потому что все дворы континента больше или меньше были связаны с политикой Первого консула: одни, подобно России, оттого что в настоящее время оказались причастны к его делам, другие, подобно Пруссии и Австрии, оттого что сами ожидали от него личных выгод.
В самом деле, Австрия в это время требовала и наконец собиралась получить вознаграждение для эрцгерцога Тосканского. Но английский кабинет совершил поступок гораздо важнее, имевший серьезные последствия.
Приказание английским войскам покинуть Египет было отдано, но распоряжение о выходе с Мальты не послано. До сих пор это замедление происходило по извинительным причинам, которые скорее зависели от французского, чем от английского правительства.
Читатель помнит, что Талейран оставил без внимания одну из статей Амьенского договора, гласившую, что договаривающиеся стороны попросят Пруссию, Россию, Австрию и Испанию подтвердить своим ручательством новый порядок вещей, объявленный на Мальте. В первые же дни по заключении договора английские министры, спеша получить это ручательство до вывода с Мальты войск, с величайшим усердием добивались его от всех дворов. Но французские посланники не получали инструкций от своего министра. Шампаньи имел благоразумие действовать в Вене так, будто получил инструкцию, и Австрия дала свое ручательство.
Напротив, русский император, вовсе не разделяя пристрастия своего родителя ко всему, касавшемуся ордена Св. Иоанна Иерусалимского, находил требуемое ручательство обременительным для себя и не желал давать его, потому что оно могло рано или поздно поставить его перед необходимостью выбирать между Францией и Англией. Французский посланник не имел от своего двора инструкций о поддержке английского министерства в его требованиях и не осмеливался действовать без предписания. Поэтому русский кабинет не торопился объясниться и вовсе ничего не отвечал. То же самое и по тем же причинам происходило и в Берлине.
Из-за такой небрежности, длившейся несколько месяцев, вопрос о ручательстве оставался без решения, и английские министры имели полное право откладывать вывод войск. Неаполитанский гарнизон должен был занять Мальту впредь до восстановления порядка. Англичане пустили его на остров, но не в укрепления.
Наконец французская канцелярия спохватилась, но было уже поздно. На этот раз русский император, приглашенный объясниться, решительно отказался от ручательства.
Возникло еще одно затруднение. Великий магистр, утвержденный папой, бальи Русполи, страшась участи своего предшественника, барона Гомпеша, и видя, что назначение Мальтийского ордена состоит уже не в поражении неверных, а в соблюдении равновесия между двумя великими державами, с несомненной перспективой сделаться добычей той или другой, не соглашался принять обременительный и пустой сан и противился настояниям Римского двора и убедительным приглашениям Первого консула.
Потому-то освобождение Мальты от английских войск откладывалось до ноября 1802 года. Промедление это служило для английского кабинета опасным искушением не торопиться и дальше.
В тот самый день, когда поверенный Мур поехал в Швейцарию, в Средиземное море отплыл фрегат с приказанием мальтийскому гарнизону оставаться на острове. Это была ошибка со стороны правительства, желавшего сохранить мир, потому что она подстегнула в англичанах корысть, против которой ничто не в силах устоять, когда она пробуждена. Сверх того, правительство Англии формально нарушало Амьенский договор перед лицом противника, который гордился точным исполнением его. Поведение англичан оказалось и неблагоразумным, и непоследовательным.
Шаги британского кабинета в пользу швейцарской независимости были плохо приняты французским кабинетом, и, несмотря на очевидность последствий такого приема, Первый консул не колебался, а тверже прежнего настаивал на своем решении. Он подтвердил приказания генералу Нею, предписав ему исполнить их как можно быстрее и решительнее. Ему хотелось показать, что мнимое национальное восстание Швейцарии было просто нелепым недоразумением, которое возбуждено интересом нескольких фамилий и так же скоро может быть усмирено, как началось.
Он был уверен, что, действуя таким образом, повинуется интересам всей нации, но, кроме того, его подстегивал своего рода вызов, сделанный ему перед лицом Европы, ибо мятежники говорили во всеуслышание, а представители их всюду разглашали, что у Первого консула связаны руки и он не осмелится ничего предпринять.
Приведем главное содержание ответа лорду Хоксбери.
«Вам поручается, — писал Талейран, — объявить, что, если английское правительство, в интересах своей ситуации в парламенте, прибегнет к какому-нибудь извещению, будто Первый консул не сделал чего-то, потому что ему не позволили, он сделает это немедленно. Касательно Швейцарии решение его неизменно: он не уступит Альпы полутора тысячам английских наемников и не допустит, чтобы Швейцария превратилась в еще один остров Джерси.
Первый консул не желает войны, потому что, по его мнению, французский народ может в расширении торговли найти столько же выгод, сколько в расширении своих владений. Но никакое уважение не в силах будет удержать его, если честь или польза республики потребуют вновь взяться за оружие.
Никогда сами не говорите о войне, — продолжал Талейран, — но и не позволяйте, чтобы вам говорили о ней. На малейшую угрозу, хотя бы и самую косвенную, отвечайте как можно надменней.
Да и какой войной могут угрожать нам? Морской? Но торговля наша едва возродилась, и выгода для англичан окажется ничтожной.
Наши Антильские острова заполнены привыкшими к климату войсками: на одном Сан-Доминго их 25 тысяч человек. Могут блокировать наши гавани, но тотчас по объявлении войны сама Англия очутится в блокаде: берега Ганновера, Голландии, Португалии, Италии будут заняты нашими войсками. Земли, слишком явным господством над которыми нас упрекают, — Лигурия, Ломбардия, Швейцария, Голландия — не останутся уже в нынешнем их неопределенном положении, служа для нас источником одних хлопот, а превратятся во французские провинции и дадут нам огромные вспомогательные средства.
Таким образом, война заставит нас провозгласить ту империю галлов, которой то и дело стращают Европу. А что, если Первый консул покинет Париж и поселится в Лилле или Сент-Омере, соберет все плоскодонные суда Фландрии и Голландии, придумает способ перевозки стотысячной армии и поставит Англию перед постоянной опасностью неприятельского нашествия, всегда возможного и почти несомненного? Или Англия тогда начнет континентальную войну? Но где она найдет союзников? Уж конечно, не в Пруссии и не в Баварии, которые обязаны Франции укреплением их прав, и не в Австрии, которая уже изнемогла, угождая английской политике.
Во всяком случае, если возобновится континентальная война, то Англия принудит нас завоевать Европу. Первому консулу всего тридцать три года, и до сих пор он затрагивал границы только второстепенных держав. Кто знает, сколько ему потребуется времени, чтобы снова изменить вид Европы и создать еще одну империю?»
В этих грозных словах, до такой степени пророческих, что они как будто написаны после известных событий, заключались все бедствия Европы и все бедствия Франции. Лев возмужал, почуял свою силу и готов был воспользоваться ею. Защищенная океаном, Англия отваживалась раздражать его, но защита не была неодолима, и если бы ее разрушили, Англия горько оплакала бы дерзости, к которым привела ее неизменная ревность. Кроме того, политика ее была бесчеловечна по отношению ко всей Европе, на которую пали бы последствия войны, начатой фактически без причины и вопреки справедливости.
Отто имел приказание не упоминать ни о Мальте, ни о Египте. Не хотели даже предполагать, что Англия
может нарушить торжественный договор, заключенный перед лицом всего мира. Посланнику велели выразить всю политику Франции следующими словами: Амьенский договор, и ничего кроме Амьенского договора.
Отто, человек умный, покорный воле Первого консула, но умевший в случае нужды приложить немного и своего ума в исполнение получаемых приказаний, значительно смягчил надменное объявление французского правительства. Но и этим смягченным ответом он привел в затруднение лорда Хоксбери, который желал сообщить парламенту что-нибудь более удовлетворительное. Он потребовал ноты.
Отто имел предписание отказать в ноте и отказал, объявив, однако, что собрание в Париже именитых швейцарских граждан не имело целью того, что произошло в Лионе во время итальянского совещания, а клонилось только к тому, чтобы дать Швейцарии конституцию, основанную на справедливости, и без перевеса одной партии над другой.
Во время этой встречи Хоксбери с Отто лорда ожидал английский кабинет, собравшийся для того, чтобы выслушать ответ Франции, и британский министр обнаружил свое смущение и неудовольствие во время объяснения посланника. На призыв Франции он возразил словами: состав Европы на момент заключения Амьенского мира, и только этот состав.
Такой поворот вызвал у Первого консула прямой и недвусмысленный ответ. Талейран по его приказанию отвечал: «Франция согласна на условие, предлагаемое лордом Хоксбери. Во время заключения Амьенского договора Франция содержала десятитысячное войско в Швейцарии, тридцать тысяч в Пьемонте, сорок тысяч в Италии, двенадцать тысяч в Голландии. Нужно ли приводить дела опять в такое положение? Тогда Англия предлагала условиться с ней о ситуации в Европе только для того, чтобы признать и утвердить своим ручательством вновь основанные государства. Она отказалась, пожелала остаться чуждой королевству Этрурия, Итальянской республике, Лигурийской республике. Так Англия потеряла возможность вмешиваться потом в их дела. Впрочем, она знала все, что было сделано и что предполагалось сделать, и, зная все, подписала, однако же, Амьенский договор!
На что же она жалуется? Она вытребовала одно условие: освобождение Тарента от войск в течение трех месяцев, и Тарент был освобожден в два.
Касательно Швейцарии известно было, что для нее составляют конституцию. Никто не мог предположить, что Франция потерпит там контрреволюцию. Так что же незаконного сделала Франция? Швейцарское правительство просило ее посредничества. Мелкие кантоны также просили его, желая, с согласия Первого консула, установить свои отношения с главным правительством. Члены всех партий находятся сейчас в Париже для совещаний с Первым консулом.
В германских делах для Англии также нет ничего нового. Они не что иное, как буквальное исполнение Люневильского договора, известного и обнародованного гораздо раньше Амьенского договора. Зачем же Англия соглашалась на сделки, принятые Германией, если не желала секуляризации этой страны? Зачем ганноверский, он же и английский, король согласился на новое германское устройство, приняв епископство Оснабрюк? Да и почему еще, кроме как не из уважения к Англии, Ганноверский дом был так щедро награжден при новом распределении владений?
Полгода назад английский кабинет не хотел вмешиваться в континентальные дела, теперь вздумал вмешиваться. Так пусть же делает, что ему угодно. Но неужели эти заботы лежат больше у него на сердце, чем у Пруссии, России, Австрии? А все эти державы одобрили то, что произошло в Германии. Может ли Англия иметь за собой больше права судить об интересах континента?
Правда, в общих переговорах имя английского короля не упоминалось. О нем не было речи, и это может оскорблять его народ, который желает и имеет право занимать почетное место в Европе. Но кто же тут виноват, как не сама Англия?»
Не знаю, может быть, меня ослепляют патриотические чувства, но я ищу только истину, и мне кажется, что на убедительные доказательства Первого консула нечего было возразить. И теперь, не сумев сослаться ни на какое нарушение Амьенского договора со стороны Франции, Англия замышляла нарушить его самым дерзким, самым неслыханным образом.
Пока между Францией и Англией происходили такие резкие объяснения, император Александр также получил просьбы швейцарских мятежников и жалобы англичан и прислал в Париж очень умеренную депешу, в которой намеками давал понять Первому консулу, что для сохранения мира надлежит развеять некоторые опасения, возбуждаемые в Европе могуществом Французской республики, и что он может рассеять эти опасения своей сдержанностью и уважением к независимости соседних государств. Это был очень благоразумный совет, не умалявший значения Первого консула и подходящий к той роли беспристрастного посредника, на которой император, казалось, хотел основать славу своего царствования.
Пруссия, со своей стороны, изъявила Первому консулу одобрение по поводу того, что он не допустил Швейцарию сделаться средоточием английских и австрийских интриг. Она соглашалась, что он прав, не давая неприятелям воспользоваться разными затруднениями, и что еще больше будет прав, если отнимет у них всякий предлог к жалобам, не устраивая в Париже лионских совещаний.
Наконец, Австрия делала вид, что не хочет ни во что вмешиваться. Она и не смела вмешиваться, потому что нуждалась в помощи Франции относительно германских дел.
Первый консул придерживался одного мнения со своими друзьями: он хотел действовать быстро и не повторять в Париже лионского решения, то есть не делаться президентом Гельветической республики. Впрочем, отчаянное сопротивление, которое ему сулили от патриотично настроенных швейцарцев, было не что иное, как одно хвастовство эмигрантов. Когда полковник Рапп приехал в Лозанну и явился на аванпосты мятежников, не имея с собой ни одного солдата, только с прокламацией Первого консула, то нашел людей, совершенно готовых смириться.
Генерал Бухман изъявил сожаление, что не имеет еще суток сроку, чтобы вышвырнуть гельветическое правительство в Женевское озеро, однако все же отступил к Берну: там, в партии федералистов, присутствовала некоторая склонность к сопротивлению. Они решительно хотели принудить Францию действовать силой, потому что надеялись таким образом поссорить ее с европейскими державами. Желание их осуществилось: французские войска под начальством генерала Нея, стоявшие на границе, вступили в Швейцарию. Тогда правительство, учрежденное мятежниками, немедленно сдалось, члены его сложили с себя полномочия, объявив, что повинуются насилию.
Французский генерал Сера с несколькими батальонами овладел Люцерном, Станцем, Швицем, Альторфом. Рединг и некоторые из возмутителей спокойствия были арестованы, а мятежники постепенно обезоружены.
Гельветическое правительство, бежавшее в Лозанну, возвратилось в Берн под защитой генерала Нея, который прибыл туда лично с одной полубригадой. Город Констанц, где проживал английский поверенный Мур, в несколько дней наполнился эмигрантами-федералистами, которые возвращались, истратив английские деньги и открыто сознаваясь в нелепости своей попытки. Мур уехал в Лондон с донесением о провале «швейцарской Вандеи».
Скорая покорность народа имела важное преимущество: она доказывала, что швейцарцы, храбрость которых даже перед превосходящей силой не подлежала сомнению, не считали делом чести и даже выгодным противиться вмешательству Франции. Таким образом, уничтожался всякий основательный повод к притязаниям со стороны Англии.
Надлежало довершить это дело примирения, дав Швейцарии конституцию, основанную на справедливости и особенностях страны. Чтобы не придавать действиям генерала Нея слишком военный характер, Первый консул назначил его не главнокомандующим, а посланником, строго наказав общаться со всеми партиями миролюбиво и в умеренном тоне. Впрочем, французов в Швейцарии было всего шесть тысяч человек, другие войска оставались на границе.
В Париж звали сторонников разных мнений: как пламенных революционеров, так и убежденных федералистов, лишь бы они были влиятельными лицами на родине и пользовались всеобщим уважением.
Революционеры, избранные кантонами, явились немедленно. Федералисты отказались послать представителей, они желали остаться в стороне от всего, что могло произойти в Париже, и таким образом сохранить за собой право протестовать.
Первый консул вынужден был сам назначить их представителей. Он избрал несколько человек, среди них трех известнейших — Мулинена, д’Аффри и Ваттвиля, людей значительных по рождению, дарованиям и характеру. Но эти господа не соглашались ехать. Талейран ясно дал им понять, что упорство их неуместно и их зовут не для принесения в жертву мнений, которыми они дорожат, а, напротив, желают соблюсти равновесие между ними и их противниками; что они добрые граждане, просвещенные люди и потому обязаны следовать конституции, которая имеет целью примирить все справедливые требования и надолго упрочить судьбу их отечества.
Тронутые таким приглашением, швейцарцы имели благоразумие освободиться от влияния партийных интересов и ответили на зов немедленным прибытием в Париж.
Первый консул принял их лично, объяснил им, что все благонамеренные люди должны разделять его желание, потому что он желает дать Швейцарии устройство, какое ей дала сама природа, то есть восстановление старинных законов, кроме неравенства граждан и кантонов.
Успокоив в особенности федералистов, против которых он только что употребил силу, Наполеон назначил четырех членов Сената — Бартелеми, Редерера, Фуше и Деме-нье — и поручил им собрать швейцарских депутатов, переговорить с ними вместе или порознь, навести их на полезные для дела мысли и предоставить им возможность самостоятельно решить те вопросы, в которых совещающиеся не согласятся.
Еще до открытия совещаний Первый консул дал аудиенцию депутатам, избранным товарищами для представления ему, и произнес речь, полную проницательности и оригинальности. Речь эта была немедленно записана для сообщения всей депутации.
«Вам надо, — сказал он, — оставаться тем, чем природа назначила вам быть, то есть союзом мелких государств, столько же различных по управлению, как и по обычаям и нравам, соединенных между собой простыми федеративными узами, не стесняющими и не требующими больших жертв. Надо также прекратить несправедливое господство кантона над кантоном и правление в городах аристократов, из-за которого одно сословие становится подвластно другому. Все это варварские пережитки прежних веков, и Франция, призванная для устройства вашей родины, не может терпеть их в ваших постановлениях. Истинное равенство, делающее честь Французской революции, должно торжествовать и у вас: пусть каждая земля и каждый гражданин будут равны с прочими в правах и обязанностях.
Согласившись на это, вы должны допустить простые различия, установленные между вами самой природой. Для вас не подходит единообразное правление, каково, например, французское, ибо никто не уверит меня, что горцы, потомки Вильгельма Телля, могут быть управляемы так же, как богатые жители Берна или Цюриха. Да к чему одно правительство? Для величия? Оно не идет вам, по крайней мере в том виде, как грезится честолюбию ваших проповедников единства.
Для величия, подобного французскому, нужно централизованное правительство с большими средствами, нужно постоянное войско. Согласны ли вы давать деньги на все это? Притом же, в сравнении с Францией, у которой пятьсот тысяч войска, или с Австрией, у которой его триста тысяч, что будут значить ваши пятнадцать или двадцать тысяч постоянного состава? Вы могли блистательно воевать в XIV веке с бургундскими герцогами, потому что в то время все государства были раздроблены, а силы их рассеяны. Теперь же Бургундия — часть Франции. Вам пришлось бы бороться с целой Францией или с целой Австрией.
Интересы Европы требуют различных решений. У вас есть свое собственное величие, которое не хуже другого. Вы должны оставаться нейтральным народом, нейтралитет которого уважал бы мир, потому что вынужден был бы уважать. Быть тем, что вы есть теперь, — вольными, непобедимыми, уважаемыми — и почетно, и лестно. А для этого всего лучше годится федеративное правление. В нем меньше единства, но больше прочной стойкости. Его нельзя одолеть в один день, как централизованное правительство, потому что оно — повсюду, в каждой составной части союза.
Точно так же милиция для вас лучше постоянной армии. Вы должны все сделаться солдатами, когда неприятель станет угрожать Альпам, и тогда постоянное войско — весь ваш народ, а в горах у вас смелые партизаны — сила, важная и по числу, и по духу. Солдатами постоянными, на жалованье, должны быть у вас только те, кто отправляется в соседние страны учиться военному делу и переносит эти уроки к вам.
Если бы я не был искренним другом швейцарцев, если бы я хотел держать их в зависимости, то добивался бы централизованного правления. Напротив, федеративное правление спасается самой невозможностью быстро отвечать, его защита в медленности.
Но, если хотите быть независимыми, помните, что вам лучше оставаться союзниками Франции. Ее дружба вам необходима. Вы пользовались ею несколько столетий и ей обязаны своей независимостью. Нужно, чтобы Швейцария ни под каким видом не становилась сценой интриг и скрытой вражды, чтобы она не служила для Франш-Конте и Эльзаса тем же, чем острова Джерси и Гернси служат для Бретани и Вандеи.
Говорю с вами только о вашей общей конституции, тут оканчивается мое вмешательство. Что до кат опальных конституций, вы должны рассказать мне о них, объяснить мне ваши потребности. Я выслушаю вас и постараюсь помочь».
Немедленно приступили к делу. Собрание депутатов стало совещаться о союзной конституции, а кантональные конституции составлялись депутатами каждого кантона и рассматривались на общем собрании. Когда страсти утихли и начинает преобладать рассудок, нетрудно создать конституцию, для этого нужно только изложить несколько здравых мыслей, доступных всем и каждому. Страсти швейцарцев отнюдь не утихли, но депутаты, съехавшиеся в Париж, были уже довольно спокойны. Перемена мест и присутствие верховной власти, благонамеренной и просвещенной, явно изменили настрой умов.
Собрание остановилось на следующих решениях.
Мечту сторонников единства отвергли и постановили, что каждый кантон будет иметь свою конституцию, свои гражданские законы и судебные учреждения, свою систему налогов. Кантоны соединились в союз только для соблюдения общих интересов и в особенности — для сношений с иностранными государствами. Представительство союза составляло сейм, в котором было по одному депутату от каждого кантона, и каждый депутат имел один или два голоса, смотря по численности населения, представителем которого он являлся. Берн, Цюрих, Ват-ланд, Санкт-Галлен, Ааргау и Граубинден, в которых население превышало сто тысяч человек, имели по два голоса. Количество всех голосов в сейме доходило до двадцати пяти. Сейм должен был заседать каждый год по месяцу, всякий раз меняя место заседания. Кантон, в котором собирался сейм, провозглашался на тот год правительствующим. Глава его, или бургомистр, назывался на протяжении года ландманом всей Швейцарии, принимал иностранных посланников, отправлял послов, созывал милицию, одним словом, представлял исполнительную власть союза.
Швейцария должна была содержать постоянное войско в пятнадцать тысяч человек, расходы на которое составляли до 490 500 ливров. Эта повинность распределялась по всем кантонам, сообразно с населением и богатством каждого из них. Всякий шестнадцатилетний швейцарец обязан был стать солдатом, членом милиции и мог при случае быть призван на защиту Гельвеции.
Союз имел один Монетный двор, общий для всей Швейцарии. Таможенные пошлины взимались только на общей границе союза и назначались с согласия сейма. Пошлины, взимаемые на границе кантона, шли в доход данному кантону. Феодальные пошлины были отменены, остались только необходимые для содержания дорог или судоходства.
Кантон, нарушивший повеление сейма, мог быть подвергнут суду, составленному из председателей уголовных судов прочих кантонов.
Так отныне выглядели очень ограниченные права центрального правительства. Всего кантонов было девятнадцать;
земельные вопросы — источник стольких споров между прежними влиятельными и подвластными кантонами — решили в пользу последних. Ватланд и Ааргау, некогда подчиненные Берну, Тургау, прежде подчиненные Шаф-гаузену, и Тессин, бывший подданный Ури и Унтерваль-дена, превратились в независимые кантоны. Мелкие кантоны, увеличенные ранее, освободились от обременительных для них земель. Кантон Санкт-Галлен состоял ныне из кусков Аппенцеля, Гларуса и Швица. Если к девятнадцати кантонам прибавить Женеву, бывшую тогда французским департаментом, Валлис, имевший особое устройство, и Невшатель, прусское княжество, то получим двадцать два кантона — окончательный вариант.
В частном управлении, установленном для каждого кантона, сообразовались с их старинной местной конституцией, освобождая ее только от феодального или аристократического налета. Общинные собрания граждан не моложе двадцатилетнего возраста, созывавшиеся раз в год для обсуждения дел и избрания ландмана, возобновили в беспокойных кантонах — Аппенцеле, Гларусе, Швице, Ури и Унтервальдене. Иначе поступить было нельзя, не подавая им нового повода к восстанию.
Правление горожан возобновили в Берне, Цюрихе, Базеле и подобных им кантонах, но с условием, чтобы доступ в члены этого правления оставался открытым для всех. Каждый владелец имущества с тысячей ливров дохода в Берне и с пятьюстами — в Цюрихе становился членом правящего городского сословия и мог занимать все общественные должности. Правление состояло из большого совета, издававшего законы, малого совета, наблюдавшего за их исполнением, и бургомистра, облеченного исполнительной властью, но под надзором малого совета.
В этом новом порядке, справедливом и мудром, каждая партия что-нибудь выигрывала и что-нибудь теряла: выигрывала в справедливости, а теряла в бесплодных мечтаниях и притеснении. Унитарии, поборники единства Швейцарии, прощались со своей мечтой безусловного единства и полной демократии, зато приобретали освобождение подвластных земель и доступ в буржуазию крупных кантонов. Федералисты лишались подвластных кантонов и прав аристократии, но приветствовали упразднение центрального правительства и узаконение прав собственности в богатых городах.
Однако дело оставалось бы незавершенным, если бы не определили тогда же круг лиц, которые смогут привести новую конституцию в действие. Когда нужно успокоить страну, долго сотрясаемую мятежами, люди бывают столь же важны, как и законодательство.
Первый консул любил немедленно распределять всех по местам. Во Франции он окружил себя, по крайней мере в то время, исключительно участниками революции. Но в Швейцарии он мог действовать свободнее: там он не имел нужды опираться на какую-либо партию, потому что действовал извне, с вершины французского могущества. Притом же там не было изгнанной аристократии. А потому Наполеон имел возможность призвать к власти приверженцев и старого и нового порядка.
Комиссии отправились по кантонам с конституциями и поручением избрать на месте тех, кому предстоит занять новые правительственные посты. Первый консул позаботился составить каждую комиссию из унитарное и федералистов так, чтобы соблюсти между ними равновесие.
Когда наконец дело дошло до избрания ландмана всего швейцарского союза, он смело предложил самого знатного, но и самого умеренного по своим взглядам члена партии федералистов, а именно д’Аффри. Это был человек благоразумный и твердый, воин, находившийся некогда на французской службе, который имел все необходимые достоинства в глазах Первого консула. Д’Аффри принадлежал к кантону Фрейбург, в то время самому спокойному из союзных кантонов.
Французское посредничество уже и без того противоречило желаниям Европы, нерасчетливо было бы усиливать это противоречие водворением в Швейцарии демократии с ее независимыми вождями. Задача состояла в том, чтобы успокоить страну благоразумными преобразованиями, отнять ее у врагов Франции, сохранив при этом ее независимость и нейтралитет. Задача была решена смело, умно и в несколько дней.
Акт посредничества доставил Швейцарии самый продолжительный период спокойствия и хорошего правления, чего она не получала уже лет пятьдесят. Первый консул созвал депутатов, находившихся в Париже, вручил им акт в присутствии четырех сенаторов, произнес краткую, но сильную речь, посоветовав действовать единодушно, умеренно и беспристрастно, и отпустил их на родину.
Швейцария была изумлена: новый порядок встретил покорность и усердие. Особенно это чувство проявилось в мелких кантонах, которые, будучи побеждены, не чувствовали на себе тягостной руки победителей.
В Европе превалировало удивление перед быстротой этих событий и их строгой справедливостью. Это был новый подвиг нравственного могущества, подобный подвигам Первого консула в Германии и Италии, но более искусный, более достойный благодарности, потому что Европа видела здесь и сопротивление, и уважение к себе: сопротивление в интересах Франции, а уважение к независимости и нейтралитету швейцарского народа.
Россия дружелюбно поздравила Первого консула с быстрым и успешным окончанием такого трудного дела. Прусский кабинет устами Гаугвица высказал свое мнение в самых одобрительных и дружеских словах. Англия была изумлена и озадачена, но лишена права жаловаться, которым она пользовалась сверх меры.
Парламент, которого так боялись лорды Аддингтон и Хоксбери, в горячих спорах потратил все время, которое Первый консул употребил на составление швейцарской конституции. Совещания парламента были бурными, блестящими и достойными удивления в минуты, когда Фокс поднимал голос правды и человеколюбия против непомерной зависти своих соотечественников. Эти совещания хотя и обнаружили слабость правительства, но вместе с тем до того выказали запальчивость военной партии, что эта партия на время ослабела, а правительство, напротив, несколько укрепилось. С Аддингтоном удержалась и разрушавшаяся вероятность мира.
Предметом совещаний послужила речь короля, произнесенная 23 ноября.
«В сношениях моих с иностранными державами, — говорил он, — я до сих пор руководствовался искренним желанием упрочить мир. Однако я не могу ни на один миг упустить из виду старинную мудрую систему политики, которая тесно связывает наши интересы с интересами других наций. Мне нельзя оставаться равнодушным к переменам, происходящим у наших соседей в отношении расстановки сил. Действия мои будут неизменно продиктованы верной оценкой настоящего положения Европы и неусыпным попечением о благе моего народа. Без сомнения, вы согласитесь со мной в том, что наш долг — принимать все меры, которые могут внушить моим подданным надежду на сохранение всех выгод мира».
С этой речью, показывавшей новое отношение английского кабинета к Франции, соединялось требование вспомогательных сумм, предназначенных для того, чтобы в мирное время довести численность армии до пятидесяти тысяч матросов, тогда как по предварительным планам Аддингтона она должна была доходить только до тридцати тысяч. Министры прибавляли, что при первой надобности меньше чем за месяц из гаваней Англии могут отплыть пятьдесят линейных кораблей.
Прения последовали бурные и длительные, и правительство могло убедиться, как мало оно выиграло своими уступками партии Гренвиля и Уиндхема. Питт предпочел отсутствовать на дебатах, а провокационную роль, которой он пренебрег, взяли на себя его приверженцы.
— Как! — восклицал Гренвиль следом за Каннингом. — Неужели правительство заметило наконец, что у нас есть интересы на континенте, что попечение о них есть важная часть английской политики и что, несмотря на это, эти интересы беспрестанно приносятся в жертву с момента рокового мира, заключенного с Францией?
Где же были ваши глаза, где же были ваши уши, когда шли предварительные переговоры о мире, когда заключался окончательный договор, когда он, наконец, начинал выполняться?
Едва подписали вы лондонские статьи, как наш всегдашний враг овладел Итальянской республикой под предлогом уступки ее испанскому инфанту и взамен этой мнимой уступки получил лучшую территорию американского материка, Луизиану. Вот что он делал открыто, тотчас по заключении предварительных условий, пока вы занимались переговорами в Амьене. А вы ничего не видели!
Едва подписали вы окончательный договор, едва остыл воск, которым вы приложили к договору герб Англии, как уже неутомимый враг наш присоединил Пьемонт к Франции и лишил престола достойного короля Сардинского, верного союзника Англии, который оставался неизменным другом ее в продолжение десятилетней войны, который был заперт в своей столице войсками генерала Бонапарта и, не имея другого средства спасения, кроме капитуляции, не согласился подписать ее, потому что в ней заключалось обязательство объявить войну Великобритании. Когда Португалия, когда даже Неаполь затворяли для нас свои гавани, король Сардинский отворял свои и пал за то, что не согласился отказать нам!
Этого мало: окончательный договор был заключен в марте, а в августе консульское правительство просто и прямо объявило Европе, что германская конституция перестала существовать. Все германские государства оказались перемешаны, разделены, как участки, которые Франция вольна была раздавать кому ей угодно. Единственная держава, на силу и постоянство которой мы могли полагаться для обуздания честолюбия нашего врага, Австрия, была до такой степени обессилена, унижена, подавлена, что и теперь неизвестно, оправится ли она когда-нибудь!
Со штатгальтером, которому вы обещали истребовать вознаграждение, сообразное с его потерями, Франция поступила унизительным образом, оскорбительным для вас, вызывавшихся стать защитниками Оранского дома. Вместо штатгальтерства этот дом получил бедное епископство, почти так же, как и Ганноверский дом, у которого бессовестно отняли личные владения.
Часто твердили, — воскликнул лорд Гренвиль, — что Англия страдала за Ганновер, теперь этого не скажут, потому что Ганновер пострадал за Англию. Король Ганноверский лишился наследия своих предков за то, что был королем Английским.
Не соблюдены даже формы вежливости, употребляемые между державами одного порядка: вашему королю не потрудились сообщить, что Германия, его прежнее отечество, доселе его союзница, обширнейшая страна континента, должна ввергнуться в хаос. Ваш король ничего не знал об этом, кроме того, что мог узнать из донесения министра Талейрана своему Сенату!
Вероятно, Германия не принадлежит к числу стран, положение которых важно для Англии! Иначе министры, которые говорят нам устами его величества, что не останутся равнодушными ни к какой важной перемене в Европе, вышли бы в этом случае из своего оцепенения.
Наконец, на днях еще Парма выбыла из списка независимых государств. Парма превратилась во владение, которым Первый консул Французской республики может располагать по своему произволу. Все это происходило на ваших глазах и почти беспрерывно. В продолжение четырнадцати месяцев этого несчастного мира не было ни одного, не ознаменованного падением какого-нибудь государства, союзного или дружественного Англии. А вы ничего не видели, ничего не заметили и теперь вдруг просыпаетесь — для чего? Чтобы помочь? Чтобы помочь храбрым швейцарцам, конечно, заслуживающим участия Англии, но отнюдь не более, чем заслуживали Пьемонт, Ломбардия, Германия. Что же вы увидели более необыкновенного или опасного, чем то, что происходило в течение четырнадцати месяцев?
Напротив, вступившись за Швейцарию, вы выставили Англию на посмешище, навлекли на себя презрение нашего врага. В Констанце находился английский поверенный, известный всем и каждому, а вы и не подумали сказать нам, зачем он там был и какую роль играл! Вы посылали Первому консулу Французской республики представления в пользу Швейцарии, а нам не потрудились сказать, что он отвечал вам! Мы знаем только, что после ваших представлений швейцарцы сложили оружие перед французскими войсками, а депутаты всех кантонов собрались в Париже и принимают законы от Первого консула.
Впрочем, так и бывает, когда люди столь же безрассудно говорят, как и молчат; когда выступают, не имея ни флота, ни армии, ни союзников. Надо или молчать, или подавать свой голос, будучи уверенным, что ему внемлют. Нельзя оставлять на волю случая достоинство великой нации.
Вы требуете от нас вложений, но что вы будете делать с ними? Для сохранения мира эти деньги запоздали, для ведения войны их недостаточно. Впрочем, мы дадим их вам, только с условием, чтобы вы предоставили заботу распоряжаться ими тому, кого вы сменили и кто один может спасти Англию от кризиса, в который вы так безрассудно ввергли ее.
Итак, английские министры не увидели благодарности от партии, желавшей войны. Их укоряли даже за ходатайство их в пользу Швейцарии. Надо признать, что только это одно и имело смысл: поведение министров действительно было неблагоразумно.
Между тем среди всех этих разглагольствований лорд Гренвиль высказал и нечто важное и довольно странное со стороны бывшего министра иностранных дел. Упрекая лордов Адцингтона и Хоксбери за то, что они расснастили флот, распустили армию, освободили от войск Египет и Кап, он хвалил их за удержание английских войск на острове Мальта. «Вы сделали это по небрежности, по ветрености, — говорил он. — Прекрасная ветреность, единственный поступок, за который мы можем похвалить вас! Надеемся, что вы не выпустите из рук этот последний залог, случайно оставшийся у нас, удержите его, чтобы вознаградить нас за все нарушения договоров со стороны нашего ненасытного врага».
Нельзя было в более явной форме поддержать нарушение условий договора.
Среди такого ожесточения красноречивый и благородный Фокс произнес слова, исполненные здравого смысла, умеренности и чести, в истинном значении этого понятия.
«Я мало общаюсь с членами кабинета, — сказал он, обращаясь к оппозиции Гренвиля и Каннинга, — и не привык защищать министров его величества. Но меня удивляет все, что я слышу, удивляет особенно, когда подумаю, от кого я это слышу. Наверно, больше каждого из почтенных друзей господина Питта огорчает меня возрастающее величие Франции, которая с каждым днем распространяется в Европе и Америке. Да, оно огорчает меня, хоть я и не разделяю предубеждений почтенных членов против самой Французской республики. Но, как бы то ни было, посмотрим, когда явилось это чрезвычайное разрастание, которое удивляет вас и страшит? В правление ли Аддингтона и Хоксбери или в правление Питта и Гренвиля? Разве не во времена Питта и Гренвиля Франция приобрела Рейн, заняла Голландию, Швейцарию, Италию до самого Неаполя? Оттого ли она простерла так широко свои объятия, что ей не противились, что малодушно терпели ее присвоения? Мне кажется, нет, а потому, что господа Питт и Грен-виль составили самую грозную коалицию для усмирения честолюбивой Франции!
Они осаждали Валансьен и Дюнкерк, уже предназначив первую из этих крепостей Австрии, а вторую — Великобритании. Ныне обвиняют Францию, что она вмешивается в чужие дела, но тогда старались покорить саму Францию и дать ей правительство, которому она уже отказывалась повиноваться, хотели подчинить ее дому Бурбонов, иго которого она уже свергла. Одним из тех высоких усилий, которые должны вечно сохраниться в истории как завет и образец, Франция отразила удары своих противников. У нее не отняли Валансьен и Дюнкерк, не предписали ей законы, напротив, она сама их стала предписывать другим!
И что же! Мы, привязанные всем сердцем к пользе Великобритании, мы почувствовали невольную симпатию к этому благородному порыву патриотизма и не скрываем наших чувств. Разве предки наши не рукоплескали отпору, с каким Голландия отражала самовластие испанцев? Разве старинная Англия не рукоплескала всякому благородному воодушевлению во всех народах?
Вы говорите об Италии, но разве она не была во власти французов, когда вы заключали договор? Разве вы не знали этого? Не вы ли сами тогда жаловались на это? А помешало ли данное обстоятельство заключению мира?
И вы, сподвижники Питта, чувствовавшие тогда, как необходим был мир после тягостей десятилетней войны, как благотворен он был для исцеления бед, вами же порожденных, согласились, чтобы нынешние министры
подписали его за вас! Что же вы не противились в то время? А если уж не противились тогда, почему же теперь не позволяете правительству исполнять договоренности?
Пьемонтский король очень интересует вас — хорошо, но он в еще большей степени был союзником Австрии, однако Австрия покинула его. Она даже не захотела упомянуть о нем в переговорах из опасения, чтобы вознаграждение этому государю не уменьшило ту долю венецианских владений, на которую она сама претендовала. Итак, Англия считает себя обязанной больше, чем Австрия, заботиться о независимости Италии!
Вы указываете на ниспровергнутую Германию. Но что же сделали с Германией? Секуляризовали церковные владения, чтобы вознаградить ими наследных государей, в силу формальной статьи Люневильского договора, подписанного за девять месяцев до лондонских соглашений, за год до Амьенского договора. И в какое же время подписанного? Когда во главе английского правительства стояли господа Питт и Гренвиль. Когда Аддингтон и Хоксбери начали управлять государством, так называемый “раздел” Германии был условлен, обещан, решен и известен всей Европе.
По-вашему, это значит ниспровержение Германии? Ганноверский курфюрст, говорите вы, был очень обижен, потому что, к его несчастью, он являлся и английским королем. Я не слышал, чтобы он очень жаловался на свою долю, потому что, не теряя ничего, он приобрел богатое епископство. Притом же я сильно подозреваю людей, которые так горячо вступаются за курфюрста Ганноверского и показывают столько заботы о нем: мне кажется, они таким образом хотят завладеть доверием короля Английского.
Конечно, Франция сильна, сильнее, чем того может пожелать добрый англичанин. Но наблюдайте за исполнением договора и, если его нарушат, напомните его клятвенное подтверждение: это ваше право и ваш долг.
Однако из-за того, что Франция нынче показалась нам слишком сильной, сильнее, нежели мы сначала думали, нарушать торжественное обязательство, например, удерживать Мальту, — значит недостойно попирать клятвы, оскорблять британскую честь! Если условия
25 Консульство
Амьенского договора действительно не исполнены, то мы вправе удерживать Мальту впредь до исполнения их, но ни минуты дольше.
Надеюсь, наши министры не заставят сказать о себе то же, что говорили о французских министрах после договоров Ахенского, Парижского и Версальского: что они подписывали эти договоры с тайной мыслью нарушить их при первом удобном случае.
Как бы то ни было, беспрестанные выходки против величия Франции, опасения, которые стараются возбудить, только питают смуту и сеют вражду между двумя великими народами. Я уверен, что, если бы в Париже состоялось собрание, подобное нашему, на нем говорили бы об английском флоте и английском владычестве на морях точно так же, как мы теперь говорим о французских армиях и их господстве на континенте.
Понимаю, что между двумя могущественными нациями может существовать благородное соперничество, но помышлять о войне, стремиться к войне только из-за того, что одна нация процветает и обретает силу, безумно и бесчеловечно. Если бы вам сказали, что Первый консул строит канал и хочет перенести море из Дьеппа в Париж, пожалуй, нашлись бы люди, поверившие известию и предложившие начать войну.
Указывают на французские мануфактуры, на их успехи; я видел эти мануфактуры, любовался ими. Но хочу вам сказать, что не боюсь я этих мануфактур так же, как не боюсь французского флота. Я уверен, что английские мануфактуры одержат верх в борьбе с французскими. Пусть же они померяются силами, но пусть это произойдет в Манчестере, в Сен-Кантене. А вести войну, чтобы упрочить успех одних перед другими, — просто варварство.
Французов упрекают в том, что они запрещают ввоз наших товаров в их гавани. Но разве можно отнять у них это право? Очень возможно, что части нашей торговли нанесен ущерб, но это случалось во все времена, после мира 1763 года, после мира 1782 года. Всегда бывали такие отрасли промышленности, которые во время войны развивались дальше своих обыкновенных пределов, а по заключении мира снова принимали меньшие
размеры, зато другие отрасли начинали развиваться стремительно: Неужели из-за честолюбия наших торговцев мы должны проливать потоки английской крови?
Что касается меня, мой выбор сделан. Если в пользу безумных страстей надо жертвовать тысячами людей, я предпочитаю безумства древности: пусть лучше кровь тратится на бесконечные походы Александра, чем на грубую корысть нескольких торгашей, алчущих золота».
Благородные слова Фокса, в которых самый искренний патриотизм не исключал человеколюбия, потому что в великодушном сердце эти два чувства сочетаются друг с другом, произвели сильное впечатление на английский парламент. Они были высказаны очень кстати и не бесплодно, хоть и оскорбили национальное чувство. Притом народ все еще не хотел войны. Партия Гренвиля и Уиндхема сама повредила себе запальчивостью.
Тем не менее дополнительные суммы все же назначили единодушно. Такой успех располагал правительство к улучшению отношений с Францией, потому что министры желали мира, зная, что только вместе с миром они получили свои портфели и с окончанием мира они их лишатся. Действительно, при первом пушечном выстреле Питт непременно принял бы бразды правления по желанию всей нации.
Так как швейцарское дело, оконченное благоразумно и быстро, устранило главный предмет негодования, лорд Хоксбери потребовал, чтобы в Лондон прислали французского посланника генерала Андреосси, обещая в ответ отправить в Париж лорда Витворта. Первый консул охотно согласился: несмотря на несколько гневных порывов, возбужденных в нем английским недоброжелательством, он был еще совершенно расположен к миру. Когда его задевали, раздражали, он, конечно, говорил себе, что война его истинное призвание, причина его возвышения, может быть, даже участь его. Вспоминал, что хоть и умеет превосходно управлять, но еще прежде того умеет сражаться, что это его ремесло, его талант и что если Моро с французскими войсками доходил до ворот Вены, то он пойдет гораздо дальше. Да, он был уверен, что величие ожидает его рано или поздно, но ему казалось, что тем не менее мир длился пока слишком недолго. До возобновления войны Наполеону непременно еще нужны были года четыре или пять постоянных усилий в условиях устойчивого мира.
Итак, Первый консул искренне желал продлить мир и соглашался на все, что только могло обеспечить его продолжительность. Вследствие этого он отправил генерала Андреосси в Лондон и любезно принял в Париже лорда Витворта.
Посланник, назначенный представлять во Франции Георга III, был истинный английский дворянин, придерживающийся пышности во время приемов, но в обычной жизни простой, умный, прямодушный, в то же время упрямый и гордый, подобно всем своим землякам, и вовсе не способный к искусной и тонкой уклончивости, которая казалась необходимой в столкновении со своеобразным характером Первого консула.
Лорда Витворта приняли отлично, супруга его, герцогиня Дорсет, очень знатная английская дама, сделалась предметом самой изысканной внимательности. Первый консул давал в честь почтенной пары прекрасные балы в Сен-Клу и в Тюильри, Талейран использовал всю свою светскость, все изящество, которым отличался, консулы Камбасерес и Лебрен также расточали всю возможную любезность.
К расположению Англии к Франции примешивалось много 'оскорбленной гордости, хоть и корысть имела тут значительную долю. Знаки уважения, оказанного Первым консулом английскому посланнику, произвели самое приятное впечатление на общественность в Лондоне и настроили народ на лучшие чувства, которые ощутил и генерал Андреосси. Ему оказали лестный прием, совершенно такой же, какой лорду Витворту в Париже.
В течение декабря и января как будто воцарилась тишина. Зима 1803 года была почти так же блистательна, как и зима 1802-го. Она даже казалась спокойнее, потому что внутри государства установился твердый порядок. Все знатные сановники, консулы, министры держали свои гостиные открытыми как для парижского, так и для иностранного общества. Торговое сословие было довольно общим ходом дел. Чувство умиротворения разливалось повсюду, даже простиралось на кружки возвратившихся эмигрантов.
Ежедневно то одно, то другое лицо знатного происхождения отделялось от праздной, неутомимой и злословящей группы старинного французского дворянства и являлось в гостиные Камбасереса и Лебрена искать место по гражданскому или финансовому ведомству. Другие ездили просить места при новом дворе даже к госпоже Бонапарт. О получивших места злословили, но завидовали им и были готовы подражать.
Так продолжалось часть зимы и могло бы длиться еще долго, если бы не одно обстоятельство, неловкость которого начинал чувствовать британский кабинет. Речь идет о задержке в оставлении Мальты. Совершив важную ошибку — отменив приказ об удалении войск, английское правительство почувствовало очень опасное искушение удержать позицию, которая господствовала над Средиземным морем. Требовалось или могущественное правительство, или какая-нибудь уступка со стороны Франции, чтобы Англия решилась расстаться с таким дорогим залогом. Могущественного премьер-министра в Англии не было, а сговорчивость Первого консула не простиралась до такой степени.
Еще одно обстоятельство усиливало опасность положения. До сих пор имелся предлог, который позволял отсрочить исполнение Амьенского договора касательно Мальты, а именно — несогласие России на ручательство за порядок вещей, установленный на острове. Но, обсудив опасность подобного отказа и желая искренне содействовать сохранению мира, русский кабинет поспешил изменить свое первое решение. Это был порыв, делавший честь сердцу императора. В качестве предлога, способного изменить первоначальное решение, он назначил своему ручательству несколько несущественных условий, как, например, признание всеми державами владетельных прав ордена Св. Иоанна Иерусалимского на Мальту, допущение местных уроженцев к правительственным должностям, устранение мальтийского языка из списка обязательных в ордене.
Пруссия, столь же усердно желавшая мира, также переменила первое решение и дала свое ручательство почти в том же виде, что и Россия.
Первый консул немедленно согласился на новые условия, прибавленные к десятой статье Амьенского договора, и принял их формально.
Английскому кабинету уже не оставалось никаких отговорок. Ему надлежало принять ручательство, как его давали, или показать свою явную недобросовестность. Англичане, однако, намеревались воспользоваться последней мерой русского правительства как благоприятным поводом, чтобы оставить Мальту, но решили потребовать несколько предосторожностей касательно Египта и Востока. И тут вдруг произошел нелепый случай, который послужил предлогом для очередной задержки.
Мы видели уже, что полковник Себастиани был отправлен в Тунис, а из Туниса в Египет, чтобы удостовериться, собираются ли англичане покинуть Александрию, посмотреть, что происходит у турок с мамелюками, восстановить покровительство в отношении христиан и подтвердить первые инструкции генералу Брюну, французскому посланнику в Константинополе.
Полковник исправно выполнил поручение. Англичан нашел он в Александрии, по-видимому, вовсе не расположенных удаляться оттуда, турок — в состоянии ожесточенной войны с мамелюками, обнаружил общее сожаление о французах, ибо теперь местные жители могли сравнить их управление с управлением турок. Восток по-прежнему оглашался именем генерала Бонапарта.
Себастиани донес обо всем этом, прибавив еще, что при теперешнем положении Египта, находящегося между турками и мамелюками, его можно завоевать какими-нибудь шестью тысячами французов. Донесение, при всей своей умеренности, не могло быть обнародовано, потому что было составлено исключительно для правительства и заключало в себе много таких пунктов, которые только правительству и можно объяснить. Например, полковник жаловался на английского генерала Стюарта, занимавшего в это время Александрию: он своими неосторожными высказываниями едва не спровоцировал убийство полковника Себастиани в Каире. Вообще рапорт доказывал, что англичане еще и не думали оставлять Египет.
Это побудило Первого консула напечатать рапорт Себастиани в «Мониторе». Ему казалось, что Англия позволяет себе слишком много вольностей в исполнении Амьенского договора, и хотя он еще не хотел настаивать на вопросе о Мальте и Александрии, но рад был публично уличить англичан в неискренности, обнародовав документ, который доказывал их медлительность при выполнении обязательств и недоброжелательство их офицеров по отношению к французским. Рапорт был напечатан в «Мониторе» 30 января. Во Франции на него обратили мало внимания, но в Англии он произвел впечатление столь же сильное, сколь и непредвиденное.
Египетская экспедиция вызвала в англичанах чрезвычайное раздражение. Им беспрестанно мерещилась французская армия, готовая отплыть из Тулона в Александрию. Рассказ офицера о жалком состоянии турок в Египте, о легкости, с какой их можно изгнать оттуда, о благоприятных воспоминаниях, оставленных по себе французами, а особенно жалобы на дурные поступки английского офицера встревожили и оскорбили англичан и вывели их из спокойного состояния, в которое они начали было погружаться. Однако это впечатление осталось бы мимолетным, если бы партии не постарались усилить его. Уиндхем, Грен-виль, Дандас принялись ораторствовать пуще прежнего и заглушили голоса благородных людей, Фокса и его приверженцев. Эти благонамеренные люди напрасно заявляли, что рапорт не заключает в себе ничего необычайного, что Первый консул не обнародовал бы своих планов, если бы имел виды на Египет. Их не слушали и продолжали запальчиво разглагольствовать. Говорили, что рапорт оскорбляет британскую армию и за ее оскорбленную честь надо потребовать открытого удовлетворения.
Первый консул, негодуя на превратное толкование всех его намерений, наконец вышел из себя. Его поражало, что люди, остававшиеся перед ним в долгу, потому что просрочили исполнение двух главных пунктов мирного договора, решались еще роптать. Он приказал Талейра-ну в Париже, а генералу Андреосси в Лондоне закончить это дело и решительно потребовать объяснения причин задержки вывода войск. Но это оказалось очень некстати: английские министры и до обнародования рапорта полковника Себастиани едва осмеливались оставить Мальту, и еще меньше могли на это решиться после публикации рапорта. От объяснений они отказались, ссылаясь на причины, которые с первого взгляда обнаруживали недобрые намерения.
Лорд Витворт заявил, что Англии следует получать вознаграждение за всякую выгоду, приобретенную Францией, и что на этом правиле основывается Амьенский договор. По этой причине Англия могла бы отказаться от возвращения Мальты, но, желая сохранить мир, готова очистить остров от войск и не думает требовать за это вознаграждения. И тут появился рапорт полковника Себастиани, и английский кабинет теперь решил не уступать Мальту иначе как на условии двоякого удовлетворения: во-первых, за оскорбление английской армии, а во-вторых, за виды Первого консула на Египет, изложенные в обнародованном рапорте.
Узнав об этом, Талейран чрезвычайно удивился. Он понимал опасения, которые внушало англичанам все, касавшееся Египта, но не мог вообразить, чтобы намерение сдать Мальту, если оно было искренно, могло измениться из-за такой ничтожной причины, как рапорт полковника Себастиани.
Он сообщил об этом Первому консулу, который удивился в свою очередь, но чувствовал все же больше негодования, чем удивления. Однако они с Талейраном рассудили, что надлежит как-то выйти из такого тягостного, невыносимого положения, которое хуже всякой войны.
Первый консул понимал, что если англичане намереваются удержать Мальту и все их жалобы — одни пустые предлоги, то следует объясниться с ними начистоту; если же, напротив, опасения их искренни, то надо их успокоить, открыв им свои намерения в таких непритворных выражениях, чтобы они не могли более сомневаться.
Поэтому он решил встретиться сам с лордом Витвортом, поговорить с ним с полной откровенностью и убедить его в своей непреклонности касательно двух предметов, а именно оставления Мальты и сохранения мира, которого он желал от всей души.
Наполеон отваживался на новый опыт: высказать все, решительно все, даже то, чего никогда не говорят неприятелю.
Восемнадцатого февраля вечером он пригласил лорда Витворта в Тюильри и принял его как нельзя благосклоннее. Посреди кабинета стоял большой письменный стол, Наполеон усадил англичанина на одном конце стола, а сам сел на другом. Затем объявил, что желал с ним увидеться и поговорить прямо, чтобы убедить его в своих истинных намерениях, чего, конечно, ни один из его министров не мог сделать лучше его самого.
Потом он перечислил свои претензии к Англии с самого начала: как он предлагал мир прямо в день своего вступления в консульство, как ему отказали, как он старался начать переговоры при первой возможности, сколько уступок сделал, чтобы добиться заключения Амьенского мира. Затем Первый консул выразил неудовольствие тем, что все его усилия жить в добром согласии с Англией находят так мало взаимности.
«Каждый ветер, который подует с английского берега, — с горечью говорил Первый консул, — приносит мне вражду и оскорбления. Теперь мы дошли до такого положения, из которого непременно надо выйти. Хотите вы выполнить условия Амьенского договора или нет? Я, со своей стороны, выполнил их со строжайшей точностью. Договор обязывал меня оставить Неаполь, Тарент и папские владения в течение трех месяцев, — и французские войска ушли из этих земель меньше чем за два месяца. Между тем прошло десять месяцев со времени ратификации договора, а английские войска до сих пор остаются на Мальте и в Александрии.
Напрасно вы стараетесь обманывать нас на этот счет. Чего вы хотите — мира или войны? Если войны, только скажите: мы начнем ее с ожесточением, до полного поражения одной из наций. Если хотите мира, покиньте Александрию и Мальту.
Мальтийская скала, на которой построено столько укреплений, конечно, имеет большую важность в морском отношении, но еще больше имеет она важности в моих глазах тем, что с ней тесно связана честь Франции. Что скажет мир, если мы дозволим нарушить торжественный договор, заключенный с нами? Он усомнится в нашей твердости. Что касается меня, я решился: скорее соглашусь видеть вас обладателями Монмартра, нежели Мальты!»
Безмолвный, неподвижный, лорд Витворт кратко ответил на заявления Первого консула: сослался на невозможность потушить в несколько месяцев ненависть, которую продолжительная война посеяла между двумя народами, на английские законы, не позволяющие обуздать свободу печати, объяснил пенсии, назначенные шуанам, как вознаграждение прошлых услуг, а не как плату за будущие их действия (странное признание в устах посланника), а прием, оказанный изгнанным принцам, представил в виде гостеприимства, которым всегда отличалась благородная английская нация.
Первый консул заметил, что ответ не удовлетворил его ни в каком отношении, и возвратился к главному предмету, к просроченному освобождению Египта и Мальты. Касательно оставления Александрии лорд Витворт заявил, что оно происходит ровно в то самое время, как они говорят. Сложности с Мальтой он оправдывал необходимостью получить ручательство главных дворов и упорным сопротивлением великого магистра Русполи. Посланник прибавил, что Англия уже собиралась покинуть остров, когда перемены, случившиеся в Европе, породили новые затруднения.
Тут Первый консул прервал английского посланника.
«О каких переменах говорите вы? — воскликнул он. — Верно, не о президентстве Итальянской республики, которое предложено мне до заключения Амьенского договора? И не об учреждении королевства Этрурского, о котором вы также знали раньше? Значит, вы говорите не об этом. О чем же? О Пьемонте? О Швейцарии? Право, не стоит внимания, так мало изменили порядок вещей оба эти факта.
Власть моя над Европой после Амьенского мира не сделалась ни меньше, ни больше прежнего. Я пригласил бы вас стать участниками в германских делах, если бы вы показали больше расположения ко мне. Вы отлично знаете, что всеми своими действиями я хотел упрочить всеобщий мир.
Укажите мне государство, которому я бы угрожал, которым хотел бы завладеть? Нет ни одного, и вы это сами знаете, нет — по крайней мере до тех пор, пока мир не нарушен.
Если вы опасаетесь моих видов на Египет, я сейчас успокою вас, милорд. Да, я много думал о Египте и опять буду думать, если вы заставите меня возобновить войну. Но я никогда не нарушу мира, которым мы так недолго наслаждаемся, чтобы вновь завоевывать Египет.
Османская империя готовится пасть. Я, со своей стороны, намерен поддерживать ее, пока это будет возможно, но, если она падет, Франция должна иметь свою долю в ее разделе. Однако не беспокойтесь, я не собираюсь сам ускорять события.
Не думаете ли вы, что я обманываю себя по поводу влияния, какое теперь имею на мнения во Франции и в Европе? Ничуть, власть моя не так велика, чтобы я мог себе позволить безнаказанно решиться на своевольное овладение чужой землей.
Мой успех станет возможным только тогда, когда вся вина окажется на вашей стороне, а на моей будет полная справедливость. Если вы еще сомневаетесь в моем желании сохранить мир, послушайте и судите, до какой степени я откровенен. Я молод, а уже достиг силы и славы, которым трудно стать больше, чем они есть теперь. Неужели вы думаете, что я решусь рисковать этой силой и славой в отчаянной борьбе?
Начнись у меня война с Австрией, конечно, я сумею найти дорогу в Вену. Начнись война с вами, я отниму у вас всех союзников на континенте, запру вам доступ к материку от Балтийского моря до Тарентского залива. Вы будете блокировать нас, но я также буду вас блокировать, вы превратите материк в тюрьму для нас, а я сделаю для вас тюрьму из океана.
Однако для развязки дела надо будет употребить большие средства: вооружить 150 тысяч войска, громадную флотилию, отважиться переплыть пролив и, может быть, оставить на дне моря мое счастье, мою славу и саму жизнь. Высадка в Англии — полнейшее безумство, милорд!»
Сказав это, Первый консул, к великому удивлению своего слушателя, начал сам перечислять трудности и опасности подобного предприятия, а затем продолжал с необыкновенной твердостью: «И несмотря на все, милорд, как ни велико подобное безрассудство, я решил пойти на него, если меня к тому принудят. Я рискну моим войском и самим собой. Судите же сами: теперь я силен, счастлив, спокоен; должен ли я рисковать силой, счастьем, спокойствием в таком предприятии? И откровенен ли я, когда говорю, что желаю сохранить мир?»
Успокоившись, Первый консул прибавил: «И для вас, и для меня будет лучше, если вы выполните условия нашего договора. Действуйте со мной прямодушно, и я, со своей стороны, обещаю вам полное чистосердечие и старание примирять наши интересы, сколько будет возможно.
И какую власть имели бы мы над миром, если бы нам удалось связать узами дружбы два наших народа! У вас есть флот, какого мне не завести у себя и в десять лет при беспрерывных усилиях и с вложением всех моих средств. Зато у меня есть полумиллионное войско, готовое идти под моим началом всюду, куда мне вздумается вести его. Вы повелители морей, я повелитель на суше. Постараемся же лучше объединиться, чем воевать друг с другом, и наша воля будет управлять судьбами мира. Союзу Франции с Англией все доступно, для пользы человечества и нашего обоюдного могущества».
Речь эта, столь необычайная по своей откровенности, изумила и смутила английского посланника, который, к несчастью, хоть и был человеком очень честным, но оказался неспособен оценить величие и искренность слов Первого консула.
Первый консул не забыл сказать лорду Витворту, что через два дня, 20 февраля, намерен открыть заседание Законодательного корпуса.
На следующий день после открытия заседания отчет самого Наполеона о делах Республики представили Законодательному корпусу три докладчика от правительства. Чтение документа произвело на собрание то же впечатление, какое потом произвело везде: надо сказать, что место в отчете, где говорилось об Англии, предмете всеобщего любопытства, отзывалось неумеренной гордостью и таким определенным настроем, что сулило близкую развязку.
«Правительство ручается нации за мир в Европе и смеет также надеяться на продолжение морского мира, который составляет потребность и желание всех народов. Чтобы сохранить его, правительство употребит все, что совместимо с национальной честью, неразрывно связанной со строгим выполнением договоров.
Но в Англии состязаются две партии. Одна заключила мир и, кажется, решилась его поддерживать; другая поклялась в непримиримой вражде к Франции. Оттого такое колебание во мнениях и советах, оттого такое угрожающее положение государства.
Пока длится эта борьба, благоразумие предписывает нашему правительству соблюдать известные меры. Пятьсот тысяч человек должны быть и будут готовы охранять безопасность и честь республики. Перед сложным выбором ставят презренные страсти две нации, общий интерес и одинаковое желание которых склоняются к миру!
Каков бы ни был итог происков в Лондоне, но происки эти не вовлекут другие народы в новые союзы, и правительство может с гордостью сказать, что Англия ныне не в состоянии бороться с Францией одна.
Будем, однако, надеяться на лучшее, будем ожидать, что британский кабинет внемлет только советам мудрости и голосу человеколюбия».
Первому консулу непременно хотелось упомянуть о партиях, разделявших Англию, чтобы иметь случай свободно отозваться о своих врагах, не давая возможности применить его слова к самому английскому правительству. Это был очень смелый и очень опасный способ вмешиваться в дела соседней страны. А особенно жестокую и бессмысленную обиду английской гордости наносило уверение в том, что Англия одна, своими собственными силами, не в состоянии справиться с Францией. Таким образом, Первый консул, правый по сути, выставлял себя неправым по форме.
Когда о его отчете узнали в Лондоне, он произвел на умы еще более сильное воздействие, чем рапорт полковника Себастиани и даже дела, за которые упрекали Первого консула в Италии, Швейцарии и Германии.
Прибавим еще, что вместе с отчетом пришла нота, в которой Первый консул требовал от английского правительства решительного объяснения касательно Мальты.
Английский кабинет наконец вынуждали решиться на что-нибудь и объявить свои намерения насчет спорного острова, послужившего поводом к таким великим событиям. Кабинет оказался в страшном затруднении: англичанам не хотелось ни признаваться в намерении нарушить договор, ни обещать оставление Мальты. В нерешительности вздумали прибегнуть к уведомлению парламента — средству, употребляемому иногда в представительных монархиях, чтобы занять умы и обмануть их нетерпение, но нередко очень опасному, когда использующие его не знают конечной цели своих действий.
Нельзя было придумать уведомления более неискусного. Оно основывалось на несправедливых фактах и, сверх того, заключало в себе оскорбительный намек на недобросовестность французского правительства.
Лорд Витворт начал лучше узнавать правительство, при котором состоял посланником, и тотчас догадался, какое впечатление произведет на Наполеона уведомление, зачитанное английскому парламенту. Поэтому он с крайним сожалением вручил копию его Талейрану, прося министра поспешить к Первому консулу и успокоить его, уверив, что это не объявление войны, а просто предохранительная мера. Талейран тотчас поехал в Тюиль-ри, но не успел предотвратить вспышку гнева властелина, занимавшего этот дворец.
Первый консул был сильно раздражен резкой выходкой английского кабинета, это странное уведомление казалось ему открытым вызовом. Талейран уговорил Наполеона обуздать свой гнев и, если надлежало решиться на войну, предоставить роль зачинщиков англичанам. Первый консул и сам намеревался так поступить, но ему трудно было справиться с собой.
Уведомление стало известно в Париже 11 февраля. На беду, это случилось за день до воскресенья, когда в Тюильри обыкновенно давали прием в честь дипломатического корпуса. Вполне естественное любопытство привлекло во дворец всех иностранных посланников, которым хотелось посмотреть, как в этих обстоятельствах будут вести себя Первый консул и в особенности английский посланник.
В ожидании назначенного часа Первый консул находился в покоях госпожи Бонапарт и играл с ребенком, сыном Луи Бонапарта и Гортензии Богарне. Дворцовый префект Ремюза доложил, что все съехались, и упомянул о приезде лорда Витворта.
Это имя произвело немедленное впечатление на Первого консула. Он оставил дитя, с которым играл, проворно взял под руку госпожу Бонапарт и вышел с ней в приемный зал. Минуя иностранных министров, толпившихся перед ним, он прямо подошел к представителю Великобритании.
— Милорд, — сказал он ему с чрезвычайным волнением, — получили вы известия из Англии? — И почти без паузы продолжил: — Так вы хотите войны?!
— Нет, генерал, — сдержанно отвечал посланник, — не хотим, мы вполне осознаем выгоды мира.
— Так вы хотите войны? — продолжал Первый консул так громко, чтобы его могли услышать все присутствующие. — Мы воевали десять лет; так вы хотите воевать еще десять?!
Кто осмелился сказать, что Франция вооружается? Это значит обманывать мир. В наших гаванях нет ни одного корабля, как утверждают англичане: все корабли, способные к службе, отправлены в Сан-Доминго. Единственная эскадра находится в голландских водах, и уже четыре месяца всем известно, что она предназначена для Луизианы.
Говорят, будто между Францией и Англией существуют разногласия, — я не слышал о них. Я знаю только, что остров Мальта не был оставлен в положенный срок, но не думаю, чтобы ваши министры решились изменить английскому слову, отказавшись выполнить условия договора. Не думаю также, чтобы вы своими заявлениями хотели испугать французский народ: его можно уничтожить, милорд, но никогда нельзя испугать!
Посланник, удивленный и несколько смущенный, при всем своем хладнокровии, отвечал, что англичане не хотели ни того ни другого, а, напротив, старались соблюсти доброе согласие с Францией.
— Если так, — подхватил Первый консул, — надо уважать договоры! Горе тому, кто не уважает договоры!
Затем он подошел к посланнику Азара и графу Морко-ву и громко сказал им, что англичане не хотят оставлять
Мальту, отказываются исполнять свои обязательства и договор надо покрыть черным крепом.
Он прошел далее, заметил шведского посланника и вспомнил о неуместных депешах его правительства Германскому сейму, обнародованных в то же самое время.
— Видно, ваш король забыл, — сказал он, — что для Швеции прошли времена Густава Адольфа и она теперь стоит в ряду второстепенных держав?
Этим он завершил обход посетителей, возбужденный, со сверкающим взором, грозный, как разгневанное могущество, но чуждый спокойного достоинства, столь приличествующего могуществу.
Чувствуя, однако, что превысил должную меру, Первый консул вернулся к английскому посланнику, спросил у него, уже мягче, о здоровье жены, герцогини Дорсет, и изъявил желание, чтобы она провела хорошо время во Франции.
Вся эта сцена, тем не менее, должна была жестоко оскорбить самолюбие английского народа и повлечь расплату невежливостью за невежливость. Лорд Витворт обиделся, пожаловался Талейрану и объявил, что впредь не поедет в Тюильри, если его официально не заверят, что он не увидит подобного обращения. Талейран отвечал на жалобы посланника, и тут его хладнокровие, дипломатичность и тонкость всемерно поддержали политику кабинета, расстроенную вспыльчивым характером Первого консула.
В страстной душе Наполеона совершился внезапный переворот. От планов мира, которыми он еще недавно ласкал свое неугомонное воображение, он вдруг перешел к предначертаниям войны, к картинам величия победы и обновления Европы. Круто свернул он с одной дороги на другую. Прежде ему хотелось быть благодетелем Франции и целого мира, теперь он захотел изумить их. Им овладел гнев личный и вместе с тем патриотический. С этих пор желание победить Англию — усмирить, унизить, уничтожить ее — сделалось страстью всей его жизни. Уверенный, что человек может все, обладая большим умом, твердостью и волей, он вдруг решил и в самом деле переплыть пролив и высадить в Англии одну из армий, победивших Европу.
Три года назад Наполеон сказал сам себе, что перевал Сен-Бернар, хотя и слывет непреодолимым препятствием для обыкновенных людей, не станет преградой для него; теперь он то же сказал о проходе между Кале и Дувром и начал готовиться к переправе через него, с твердой уверенностью в успехе.
С этой-то поры изменились его распоряжения. Ум Наполеона, хоть уже и испытавший воздействие безнаказанной власти, тем не менее снова явил чудо человеческого гения, когда пришлось предусматривать и преодолевать затруднения огромного предприятия.
Он тотчас отправил полковника Лакюэ во Фландрию и Голландию осмотреть тамошние гавани, выяснить их положение, размеры, населенность, наличие кораблестроительных материалов. Полковнику велели составить приблизительную таблицу, включающую все суда, занятые каботажной торговлей и рыбной ловлей от Гавра до Текселя и способные идти на парусах за военной эскадрой. Другие офицеры поехали в Шербур, Сен-Мало, Гранвиль и Брест с поручением осмотреть барки, используемые в крупной рыбной ловле, узнать их количество, ценность, общую вместимость. Поступил также приказ чинить канонерские лодки, составлявшие прежнюю булонскую флотилию 1801 года.
Морским инженерам Первый консул велел представить образцы плоскодонных судов, способных поднимать крупные орудия, и предписал начертить план широкого канала между Булонью и Дюнкерком. Затем он велел приступить к размещению войск по берегам и островам от Бордо до Антверпена и немедленно осмотреть все леса по берегам Ла-Манша, чтобы проверить, пригодны ли они для постройки большой военной флотилии.
По мнению Наполеона, военные действия надлежало открыть тремя мерами: занятием Ганновера, Португалии и Тарентского залива, чтобы немедленно запереть берега континента от Дании до Адриатического моря. С этой целью начал он формировать в Байонне артиллерию, собрал в Фаэнце дивизию в десять тысяч человек с двадцатью четырьмя пушками, для вступления в Неаполитанское королевство, возвратил войска, которые сели на корабли в Гельветслуисе для отплытия в Луизиану.
Полагая опасным отпустить их в море перед объявлением войны, Наполеон перевел часть их в крепость Флис-синген и послал туда офицера с поручением принять на себя всю власть, какую имеет военный комендант во время войны, и немедленно вооружить крепость.
Остальная часть войск была отправлена в Бреду и Ним-веген для составления корпуса в двадцать четыре тысячи человек. Этот корпус под началом умного и твердого командира, генерала Мортье, должен был занять Ганновер при первом неприятельском действии со стороны Англии.
Между тем это вторжение оставалось делом совсем нелегким в политическом отношении. Король Английский был членом Германского союза и имел право на защиту союзных государств. Прусский король, управляющий делами Нижнесаксонского округа, к которому принадлежал Ганновер, оказался естественным защитником этого владения. Следовательно, надлежало обратиться к нему и получить его согласие, что, впрочем, стало бы для короля очень обременительным, потому что означало бы вмешательство Северной Германии в предстоящую распрю и, может быть, блокаду Везера, Эльбы и Одера англичанами.
Правда, берлинский двор обнаруживал большую симпатию к Франции и получал за то щедрые вознаграждения. Симпатия эта могла побудить его устраниться от всяких проектов коалиции, даже постараться предотвратить их и уведомить о них Первого консула. Но при тогдашнем положении дел отношение это не превратилось еще в союз настолько, чтобы им можно было руководствоваться в случае какой-нибудь важной жертвы со стороны Пруссии.
Первый консул тотчас послал адъютанта Дюрока, хорошо знавшего берлинский двор, известить прусского короля об опасности разрыва между Францией и Англией и намерении французского правительства вести войну до победного конца. Ему велели упомянуть, что Первый консул не желает войны ради самой войны и что если монархи, чуждые конфликта (прусский король и русский император), найдут средство спасти положение и заставить Англию выполнить пункты договора, то Наполеон немедленно остановится на своем пути войны.
Первый консул счел также необходимым послать извещение русскому императору. В письме он припоминал все события, случившиеся после Амьенского мира, и изъявлял желание, хоть и не просил прямо, прибегнуть к его посредничеству: до такой степени он был уверен в правоте своего дела и справедливости императора Александра.
За всеми этими столь быстрыми мерами последовала еще одна, относительно Луизианы. Что надлежало делать с этим богатым владением? В Луизиане не было ни одного солдата, для занятия этой обширной провинции в военное время четырех тысяч человек оказывалось недостаточно. Жители, хоть и французского происхождения, переменили в течение столетия столько повелителей, что не дорожили уже ничем, кроме своей независимости.
Североамериканцы с неудовольствием смотрели на то, как французы завладели рейдами Миссисипи и их главным торговым путем в Мексиканский залив. Они даже обратились к Франции с просьбой предоставить их торговле и судоходству выгодные условия транзита в гавань Нового Орлеана.
Поэтому, если французы хотели ныне сохранить Луизиану за собой, им следовало ожидать враждебных действий со стороны англичан и недоброжелательства со стороны американцев, которые не желали иметь в качестве соседей никого, кроме испанцев.
Все колониальные мечты Первого консула рассеялись после уведомления Георга III, и он тотчас же принял твердое решение. «Я не оставлю за собой, — сказал он одному из своих министров, — ни одного владения, которое не находится прочно в нашей власти и может поссорить меня с американцами. Напротив, я пожертвую этой землей, чтобы привязать их к себе, чтобы поссорить с англичанами. Я создам англичанам врагов, которые со временем отомстят за нас. Я решился и отдам Луизиану Соединенным Штатам. А поскольку они в ответ не могут дать нам никакого владения, то я возьму с них деньги на оружие, которое применю против Великобритании».
Первый консул не хотел делать займа: при помощи большой суммы, добытой таким путем, при помощи умеренного увеличения налогов и постепенной распродажи некоторого количества государственного имущества он надеялся покрыть все издержки войны.
Он вызвал к себе министра финансов Барбе-Марбуа, служившего некогда в Америке, и морского министра Декре, потому что желал узнать их мнения. Марбуа высказался в пользу продажи колонии, Декре — против. Наполеон выслушал их очень внимательно, по-видимому, без малейшего пристрастия к доводам того и другого, для того только, чтобы увериться, не упустил ли из виду какую-нибудь важную сторону вопроса.
Еще больше утвердившись в своем решении, он попросил Барбе-Марбуа пригласить американского посланника Ливингстона и начать с ним переговоры насчет Луизианы.
В это время, как нарочно, прибыл в Европу Джеймс Монро (тогда губернатор штата Виргиния), чтобы решить с англичанами вопрос о морском праве, а с французами — о судоходстве по Миссисипи.
В Париже он был встречен неожиданным предложением французского кабинета. Ему предложили не только льготный транзит через Луизиану, но и присоединение этой территории к Соединенным Штатам. Монро ни на минуту не затруднился отсутствием полномочий и вступил в переговоры при условии ратификации их со стороны его правительства. Барбе-Марбуа потребовал от американской стороны восемьдесят миллионов, в том числе двадцать — в качестве компенсации американской торговле за незаконные призы, захваченные у нее в последнюю войну, а шестьдесят — в пользу французской казны. Касательно последней суммы условились, что вашингтонский кабинет назначит ежегодные выплаты с процентами, условившись о них с голландскими торговыми домами. Договор был заключен на этих основаниях и послан в Вашингтон для ратификации.
Таким образом, американцы получили от Франции обширную территорию, которая дополнила их владения в Северной Америке и сделала их отныне и в будущем повелителями Мексиканского залива. То есть самим происхождением и возрастающим величием своим они обязаны продолжительной борьбе Франции с Англией. Первое действие этой борьбы принесло им независимость, второе — дополнительные владения.
Приняв все эти меры, Первый консул стал терпеливее следить за развязкой переговоров, дав себе слово сохранять спокойствие и выносить всё до последней крайности, чтобы Франция и Европа не могли ошибиться насчет истинных виновников войны.
Талейран больше всех других умел склонить Наполеона к такому образу мыслей. Министр очень хорошо понимал, что война с Англией станет фактическим возобновлением борьбы Революции с Европой. Чтобы предотвратить всеобщий пожар, он решился прибегнуть к той медлительности, которую иногда использовал с Первым консулом. Порой его неторопливость мешала, но на этот раз принесла большую пользу. Если бы Талейран имел дело не с таким слабым кабинетом, каков был в то время английский, то, может быть, успел бы предотвратить разрыв или по крайней мере отсрочить его.
Посоветовавшись с Первым консулом, он отправил английскому кабинету спокойное и откровенное извещение о том, что после появления уведомления Георга III парламенту со стороны Франции начаты военные приготовления.
Правительство Аддингтона, чувствуя полное бессилие в подобных обстоятельствах, внесло несколько предложений Питту, чтобы уговорить его вступить в состав кабинета. Питт гордо отверг их: зная свою силу и предвидя события, которые сделают его необходимым, он больше хотел сам управлять этими событиями, чем помогать слабым министрам, только на время удержавшим власть.
Правительство делало Питту предложения без ведома Георга III, который желал сохранить свой кабинет, потому что испытывал к Питту неодолимое отвращение. Король находил в нем, несмотря на сходство мнений, упорного министра, который был едва ли не господином его. Фокс же, при благородном и привлекательном характере, обнаруживал иной образ мыслей. Оттого Георг III не желал иметь премьер-министром ни одного из них, ему хотелось оставить при себе Аддингтона, сына любимого врача, и лорда Хоксбери, сына лорда Ливерпуля, его приятеля. Хотелось также сохранить, если это будет возможно, мир. В случае же невозможности он готов был вести войну, которая вошла для него почти в привычку, но вести ее при тогдашних своих министрах.
Аддингтон и Хоксбери придерживались совершенно того же мнения, но им хотелось укрепить позиции правительства, придав ему более воинственный характер. Они не могли взять в товарищи лордов Уиндхема и Грен-виля, запальчивость которых далеко опережала мнения Англии. С удовольствием прибегли бы они к помощи Фокса, но тут воля короля представляла непреодолимое препятствие, и они вынуждены были оставаться одни, бессильные, одинокие, превратившись в парламенте в игрушку партий.
Чтобы посодействовать министрам, Талейран подал им мысль: заключив конвенцию, в которой, например, за оставление Мальты французы согласились бы оставить Швейцарию и Голландию и сохранить неприкосновенность Османской империи, можно было бы успокоить общественное мнение англичан и рассеять их опасения.
Но предложение Талейрана не согласовывалось с желаниями английских министров, потому что от них требовали Мальты как непременного условия. Надлежало или удовлетворить корысть, возбужденную их же ошибкой, или поддаться парламенту.
Наконец, 13 апреля 1803 года кабинет объявил свои требования. Так как Первый консул внушил им опасения насчет Египта, то Мальта им нужна как средство надзора. Предоставив гражданское управление островом ордену, укрепления следует отдать Англии или навсегда, или в десятилетнее владение, с условием по прошествии десяти лет возвратить их, но не ордену, а самим мальтийцам.
В обоих случаях Франции предлагалось содействовать переговорам с королем Неаполитанским, чтобы он уступил Англии остров Лампедузу, соседний с Мальтой, на котором англичане устроили бы свою укрепленную гавань.
Лорд Витворт попробовал склонить на эти требования Талейрана и прибегнул даже к помощи брата Первого консула, Жозефа, не меньше Талейрана опасавшегося отчаянной борьбы, в которой могло, пожалуй, погибнуть все величие Бонапартов. Жозеф обещал попробовать уговорить брата, не очень, однако, надеясь на успех своего предприятия. На одно только предложение, казалось, можно было склонить Первого консула, а именно — чтобы он оставил на некоторое время, пусть ненадолго, Мальту во власти англичан, тщательно поддерживая существование ордена, который вскоре получил бы эти укрепления. Францию в таком случае можно было бы вознаградить немедленным признанием новых итальянских государств.
Жозеф и Талейран употребили все усилия, чтобы убедить Первого консула. Они представляли ему поддержание ордена Св. Иоанна Иерусалимского как несомненное доказательство в глазах публики того, что господство англичан на острове останется временным. Но Первый консул не хотел ничего слушать, все эти сделки казались ему недостойными. Он отвечал, что лучше просто и прямо отдать Мальту англичанам, что уступка такого рода будет заключать в себе нечто искреннее, прямое и покажется скорее добровольной справедливостью, нежели слабостью, что идея уступить Мальту (ибо укрепления составляют весь остров, а на несколько лет значит — навсегда), но тайком несовместима с его достоинством.
— Нет, — говорил Наполеон, — или Мальту, или ничего! Но Мальта значит господство на Средиземном море. Всякий подумает, что, соглашаясь уступить англичанам господство на Средиземном море, я боюсь помериться с ними силами. Я потеряю и важнейшее море и уважение Европы, которая верит в мою силу и считает ее выше всех опасностей.
— Но, как бы то ни было, — возразил на это Талей-ран, — англичане пока владеют Мальтой. Разорвав мир с ними, вы не отнимете у них остров.
— Не отниму, но и не уступлю без боя! Буду отстаивать свое право с оружием в руках и надеюсь довести англичан до такого состояния, что они будут вынуждены отдать Мальту, да еще и с прибавкой. Прекрасно! Лучше воевать теперь, нежели после. Энергия нации не ослабела от продолжительного мира, я молод, англичане виноваты больше, чем когда-либо будут, лучше всего покончить с ними теперь. Мальту или ничего! Я решился: им не владеть Мальтой!
Впрочем, Первый консул согласился начать переговоры об уступке англичанам Лампедузы или другого небольшого острова к северу от Африки, но с тем же условием, чтобы они немедленно покинули Мальту. «Пожалуйста, — говорил он, — пусть они имеют пункт на Средиземном море. Но я не соглашусь, чтобы они имели на этом море два Гибралтара, один — при входе, другой — посредине».
Ответ его сильно озадачил лорда Витворта, и из человека любезного, каким он казался прежде, когда имел надежду на успех, посланник вдруг сделался упорным, гордым, почти невежливым. Но Талейран дал себе слово переносить все, чтобы предотвратить или по крайней мере отсрочить разрыв.
Лорд Витворт заметил Талейрану, что Англия не принадлежит к числу тех мелких государств, которым он может предписывать свою волю и навязывать свои понятия о чести и политике. Талейран спокойно и с достоинством отвечал, что и Англия, под предлогом своих опасений, не имеет права требовать уступки одного из важнейших пунктов Земного шара и что ни одна держава в мире не может навязывать другим последствий своей подозрительности, основательной или нет.
Лорд Витворт передал этот ответ английскому кабинету, который, видя необходимость выбирать между оставлением Мальты, которое считал признаком своего падения, и войной, преступно решился избрать войну. Лорду Витворту предписали потребовать уступки Мальты, по крайней мере на десять лет, уступки Лампедузы, немедленного вывода войск из Швейцарии и Голландии, выплаты вознаграждения королю Сардинскому, в ответ предложив признать Итальянскую республику. Вместе с тем посланнику велели потребовать немедленно паспорта, если условия Англии не будут приняты.
Депеша была отправлена 23 апреля, а 25-го прибыла в Париж. Крайним сроком приведения плана в исполнение назначили 2 мая.
Лорд Витворт сделал несколько попыток достичь с Талейраном согласия, потому что сам испугался разрыва. Талейран, со своей стороны, старался объяснить ему, что нет ни малейшей надежды получить Мальту, ни на десять лет, ни менее, но в то же время старался самой формой своих ответов избежать прямого заключения. Английский посланник, полностью разделяя его намерения, решил не опережать срока 2 мая.
Наконец 2 мая лорд Витворт, не смея ослушаться предписаний своего двора, потребовал паспорта на выезд. Талейран, чтобы выиграть еще немного времени, отвечал ему, что доложит Первому консулу о требовании, и снова попросил не действовать резко, обнадеживая, что, может быть, еще найдется какой-нибудь нечаянный способ договориться.
Талейран увиделся с Первым консулом, долго говорил с ним, и из их совещания родилось новое, довольно замысловатое предложение. Оно состояло в том, чтобы отдать Мальту под власть русского императора, пока окончатся несогласия, возникшие между Францией и Англией.
Такая мера отнимала у англичан всякий предлог к недоверию, потому что добросовестность русского императора не подлежала ни малейшему сомнению, что и помогло сделать его третейским судьей.
Император в это же время как раз прислал ответ на уведомление Первого консула, изъявляя совершенную готовность предложить свое посредничество, если таким образом можно отвратить войну, и извещая, что король Пруссии разделяет его желание и намерен сделать такое же предложение.
Отказаться от этого предложения значило открыто объявить, что Англия опасается ни за Мальту, ни за Египет, а желает только новых завоеваний для нации и новых оправданий для парламента.
Радуясь, что нашел верное средство, Талейран поспешил к лорду Витворту, чтобы уговорить отложить отъезд и сообщить новое предложение своему кабинету. Но предписания, полученные посланником, были настолько определенны, что он не посмел ослушаться их. Впрочем, он опасался сделать необратимый шаг, взяв паспорта немедленно, а потому отправил в Лондон курьера, чтобы сообщить последние предложения французского кабинета и извиниться за отсрочку, которую позволил себе в исполнении предписаний двора.
Талейран также отправил нарочного к генералу Анд-реосси, который после описанных объяснений еще не виделся с английскими министрами. Генералу приказали решительно объясниться с правительством, и он исполнил предписание: заговорил с ним открыто и честно. Если Англия не хотела именно завладеть Мальтой, сказал он, то нет никакой причины не согласиться отдать этот драгоценный залог в могущественные, бескорыстные и вполне надежные руки. Лорд Аддингтон, по-видимому, колебался, потому что и сам желал миролюбивого решения вопроса. Глава английского кабинета довольно наивно заявил, что желал бы знать все подробности для решения столь важного вопроса, и остался в нерешимости между боязнью показать слабость и нежеланием развязать пагубную войну. Лорд Хоксбери, более честолюбивый и твердый, остался непоколебим.
Кабинет, обсудив предложение, отказался от него. Министрам хотелось удовлетворить национальное честолюбие, а сдать Мальту беспристрастному посреднику — значило не достигнуть цели. Притом же сдать ее — значило также потерять ее навсегда, ибо все знали, что никакой посредник на свете не признает за Англией ни малейшего права в подобном вопросе.
Чтобы скрасить свой отказ, англичане прибегли к совершенно лживому доводу. Кабинет, говорили они, уверен, что Россия не примет посредничества, которое на нее хотят возложить. Опровержение не выдерживало критики, потому что Россия ровно перед тем предлагала свое посредничество, а затем поспешила объявить, что соглашается на него, несмотря на опасности, сопряженные с охранением залога, который желали ей вручить.
Однако же английские министры хотели прибегнуть к последней уловке, чтобы получить Мальту, и придумали средство, которого нельзя было принять. Судя о Наполеоне по самим себе, они подумали, что он не уступает Мальту единственно из опасения перед общественным мнением, и предложили добавить к Амьенскому договору
несколько статей и в том числе одну тайную, с обязательством оставить английские войска на Мальте на десять лет.
Ответ министров прибыл в Париж 9-го числа. Десятого мая лорд Витворт сообщил его письменно Талейрану.
Когда Первому консулу предложили тайную статью, он гордо отверг ее и, в свою очередь, придумал последнее средство, состоявшее в том, чтобы оставить англичан на Мальте на неопределенное время, но с условием, что французы столько же времени будут занимать Тарент-ский залив.
Средство, придуманное Первым консулом, имело важные выгоды: англичане получали род заклада, французы занимали одинаковую с ними позицию на Средиземном море, а вскоре все державы пожелали бы войти в посредничество и удалить англичан с Мальты, чтобы только французы ушли из королевства Неаполитанского.
На другой день, 11 мая, Талейран увиделся с лордом Витвортом в полдень, сказал ему, что тайную статью нельзя принять, потому что Первый консул не желает обманывать Францию насчет обширности уступок, сделанных Англии, и что, впрочем, можно сделать предложение, результатом которого стала бы уступка Мальты, только с условием равной уступки французам.
Лорд Витворт отвечал, что согласится только на предложение, присланное его кабинетом, что в первый раз он принял на себя ответственность, отсрочив отъезд, но не может отложить его вторично без формального согласия Франции на требование его правительства. Талейран ничего не возразил на это объяснение, и министры расстались, оба весьма опечаленные, что не успели заключить никакой договоренности.
Лорд Витворт попросил свои паспорта на другой же день, прибавив, однако, что поедет очень медленно и еще успеет написать в Лондон и получить ответ прежде, чем сядет на корабль в Кате. Условились, что посланники встретятся на границе: лорд Витворт подождет в Кале, пока генерал Андреосси приедет в Дувр.
Любопытство парижской публики было сильно возбуждено. Толпа народа теснилась у подъезда английского посланника, желая увериться, собрался ли он в дорогу. На следующее утро, прождав еще день и дав французскому кабинету полный срок подумать, лорд Витворт поехал в Кале с большими остановками. Слух о его отъезде произвел в Париже сильное впечатление. Все догадывались, что эти события знаменуют собой новый период войны.
Талейран отправил курьера к генералу Андреосси, сообщив ему новое предложение, которое должно было быть передано через голландского посланника Шиммель-пенинка в виде собственной его мысли, а не от имени Франции.
Когда эту идею представили английскому кабинету и он ее не принял, генерал Андреосси, в свою очередь, также выехал из Англии.
Беспокойство, обнаружившееся в Париже, повторилось и в Лондоне. В продолжение нескольких дней парламентский зал не пустел ни на минуту: все расспрашивали министров о ходе переговоров. В такой важный момент воинственный жар охладел, и публика увидела, как опасны для нее последствия отчаянной борьбы. Лондонцы уже не желали возобновления войны. Довольными казались только партия Гренвиля и богатые торговцы.
Генерала Андреосси сопровождали знаки всеобщего уважения и видимого сожаления. Генерал прибыл в Дувр в то же время, что и лорд Витворт в Кале, то есть 17 мая.
Английский посланник немедленно переправился через пролив и поспешил посетить французского, осыпав его изъявлениями уважения, даже лично проводил его на корабль, на котором генерал отплывал во Францию. Посланники простились в присутствии толпы зрителей, тронутой, встревоженной и опечаленной.
В эту торжественную минуту, казалось, прощались две нации, чтобы свидеться только после страшной войны, после потрясения целого мира. Далеко не такими были бы судьбы мира, если бы две державы, морская и сухопутная, соединились и дополнили одна другую!
Таков был печальный конец кратковременного Амьенского мира.
Не скроем наших чувств: обвинять Францию нам было бы неприятно, но мы без колебаний сделали бы это, если бы она оказалась виновата, и еще сумеем это сделать, когда, к несчастью, вина будет на ней. Истина — первый долг историка. Но после долгих размышлений об этом важном предмете мы все же не можем упрекнуть Францию за возобновление борьбы двух наций. Первый консул в этом деле поступал безжалостно, но добросовестно. Правда, внешне вина лежала на нем, но и то не вся: Англия не могла предполагать, что Франция позволит устроить беспорядки в Швейцарии и Голландии, то есть у самых своих дверей.
Именно английская торговая аристократия, действуя гораздо активнее дворянской аристократии, соединяясь с честолюбцами партии тори, поддерживаемая французскими эмигрантами, подстрекаемая своими сообщниками, раздражила и озлобила человека, уверенного в собственной силе, и стала настоящей виновницей войны.
Думаем, что мы правы, представляя ее в таком виде потомству, которое, впрочем, взвесит все наши ошибки вернее, чем мы сами, потому что будет держать весы холодной и бесстрастной рукой.
БУЛОНСКИЙ ЛАГЕРЬ
Возможно, известная страсть Первого консула к войне привела бы к нареканиям в опрометчивости разрыва, если бы сама Англия не оправдала его открытым нарушением Амьенского договора. Все ясно видели, что англичане не удержались от искушения присвоить Мальту как компенсацию, хоть и не совсем законную, за величие Франции. Всякий ныне знал, что война с Англией может не сегодня, так завтра превратиться в войну с Европой и что продолжительность ее столь же неопределенна, как и охват, ибо начать ее в стенах Лондона намного легче, чем окончить у ворот Вены. Сверх того, война явно наносила смертельный удар торговле, потому что моря, естественно, должны были закрыться сразу после ее начала. Но вред, наносимый войной, значительно уменьшался для Франции двумя обстоятельствами: при таком вожде, как Наполеон, война уже не служила поводом к новым внутренним беспорядкам, и вдобавок народ надеялся увидеть какое-нибудь новое чудо его гения, которое разом прекратит долговременное соперничество двух наций.
Первый консул желал оказать максимальное уважение общественному мнению и поступил так, как только можно было поступить при самом последовательном представительном правлении. Он созвал Сенат, Законодательный корпус и Трибунат и предложил им на рассмотрение все документы, касающиеся переговоров. Три государственных собрания отвечали Наполеону полным одобрением его действий. «Франция, — сказал Фонтан, — вновь готова взять в руки оружие, усмирившее Европу... Горе строптивому правительству, которое вызовет нас снова на поле брани и, пожертвовав краткими минутами покоя, захочет ввергнуть человечество в бедствия, едва минувшие! Теперь Англия уже не осмелится сослаться на
защиту охранительных начал общества, подобное оправдание принадлежит теперь нам, ныне мы явимся поборниками прав народов и человечества, отразив беззаконное насилие нации, которая ведет переговоры с целью обмана, просит о мире с умыслом возобновить войну, заключает договора затем только, чтобы их нарушить... Нет сомнения, при первом же знаке единодушный порыв соберет всю Францию вокруг героя, которым она восхищается. Все чувствуют, что им нужен его гений, все сознают, что он один в силах поддержать величие наших новых судеб...
Гражданин Первый консул, народ французский не может иметь иных помыслов, кроме великих, иных чувств, кроме геройских, подобных вашим. Он победил для мира, подобно вам, он желает мира, но никогда не устрашится и войны, тоже подобно вам. Англия полагается на защиту океана, неужели ей неизвестно, что на свет иногда появляются гениальные люди, свершающие дела, которые до них казались невозможными? Что же, если один из таких людей явился и если Англия безрассудно вызывает его на подвиг? Великий народ на все способен с великим человеком, с которым нераздельны его слава, интересы и само счастье».
Правда, в этом блестящем витийстве не слышалось энтузиазма 1789 года, но отзывалось беспредельное доверие, питаемое всеми в отношении героя, который держал в своих руках судьбы Франции и от которого ожидали вожделенного унижения Англии.
Обстоятельство, впрочем, совершенно нечаянное, чрезвычайно усилило негодование публики. Почти в самый момент отъезда посланников, прежде всякого объявления войны, корабли английского флота захватили французских торговцев. В бухте на Одере два фрегата захватили суда, искавшие убежища в Бресте. За этими действиями вскоре последовало много других, похожие вести приходили из всех гаваней. Подобное насилие плохо согласовалось с международным правом: в последнем договоре, заключенном Францией с Соединенными Штатами, имелась соответствующая статья, но в Амьенском договоре действительно ничего подобного не было, договор не предписывал в случае разрыва никакого срока для начала враждебных военных действий. Но срок определялся тут моральными принципами международного права, имеющими, разумеется, большее значение, чем все письменные договоренности.
Сложность ситуации возвратила Наполеону всю резкость его характера: он решил немедленно отплатить мерой за меру и составил определение, объявлявшее военнопленными всех англичан, которые путешествовали по Франции со времени разрыва. Если, говорил он, на простых торговцев, не имеющих никакого отношения к политике своего правительства, хотят обрушить тягостные последствия этой политики, то и он вправе платить той же монетой, обеспечив себе способы обмена и обратив в пленных всех британских подданных, захваченных в это время на французской земле. Хотя подобная мера была реакцией на поступки самой Великобритании, однако могла очень встревожить общественное мнение и внушить опасения в повторении жестокостей предыдущей войны. Камбасерес неотступно уговаривал Первого консула и наконец настоял на изменении принятых распоряжений. Благодаря его усилиям эти распоряжения пали только на тех британских подданных, которые состояли на военной службе или исполняли какое-нибудь поручение своего правительства. Впрочем, они не подвергались заключению, а жили пленниками под честное слово в разных крепостях.
Скоро всю Францию охватили гражданские волнения. С тех пор как английский флот получил видимый перевес над французским, все умы захватила мысль решить морское соперничество двух наций организацией захвата. Еще Людовик XVI и Директория вели приготовления к высадке на английские берега. Почти все департаменты и главные города, каждый по своим средствам, предложили правительству плоскодонные суда, корветы, фрегаты, даже линейные корабли. Впервые возникла такая патриотическая мысль в департаменте Луаре: он собрал 300 тысяч франков на постройку и вооружение тридцатипушечного фрегата. Его примеру последовали все коммуны, департаменты, даже корпорации. Парижские мэры открыли в своих округах подписки, и подписные листы вскоре заполнились множеством имен. Небольшие городки присылали простые плоскодонные суда, города более крупные обязывались поставлять фрегаты и линейные корабли. Пожертвования главных городов происходили независимо от департаментских: например, хотя Бордо пожертвовал 80-пушечный корабль, департамент Жиронды тем не менее собрал по подписке 1 600 000 франков на судостроительные расходы. Иные департаменты вносили свои пожертвования местными товарами, необходимыми флоту: Кот-д’Ор принес в дар государству сто пушек большого калибра, а департамент Ло и Гаронны решил прибавить по пять сантимов к своим прямым налогам с тем, чтобы употребить эту сумму на закупку местной парусины. Итальянская республика предложила Первому консулу 4 миллиона миланских ливров на постройку двух фрегатов — «Президент» и «Итальянская республика» — и двенадцати канонерских лодок с именами двенадцати итальянских департаментов.
В совокупности с ценой Луизианы, простиравшейся до 60 миллионов, с разными вспоможениями от союзников, с увеличением дохода от налогов подобные пожертвования избавляли правительство от необходимости прибегать к убыточному и тогда почти невозможному источнику — к государственным займам.
Французские порты, по недостатку верфей, леса и рабочих, не успели бы окончить за несколько месяцев постройку полутора или двух тысяч судов, а постройка их по всей Франции устраняла затруднения. Берега Жиронды, Луары, Сены, Соммы, Уаза, Шельды, Мааса, Рейна покрылись импровизированными верфями. Местные работники, трудясь под присмотром флотских подмастерьев, возводили эти странные постройки, которые сначала удивляли народ, иногда подавая повод к насмешкам, но тем не менее вскоре не на шутку встревожили Англию.
Первой заботой, предстоявшей по случаю новой войны с Англией, стало собрать французский флот, рассеянный по Антильским островам и занятый приведением колоний под власть метрополии. Этим и озаботился прежде всего Первый консул. Он поспешил отозвать французские эскадры, приказав им оставить на Мартинике,
26 Консульство
Сан-Доминго и в Гваделупе сколько удастся людей, снарядов и груза. В Америке решили оставить одни фрегаты и легкие суда. Но не следовало обольщаться ложными надеждами: война с Англией не могла лишить Францию мелких Антильских островов, Гваделупы и Мартиники, зато должна была похитить драгоценнейший из всех островов, для сохранения которого они пожертвовали целой армией, а именно Сан-Доминго.
Мы видели, как в результате искусных операций и довольно значительной потери людей генерал Леклерк овладел колонией, а Туссен-Лувертюр удалился в свой приют в Эннери, ожидая жаркого августа и в связи с этим прекращения владычества европейцев на Гаити. Он не ошибался в своих предсказаниях, рассчитывая на победу американского климата над европейскими войсками, но самому ему не суждено было порадоваться за эту победу: его ждала гибель в ненастном климате Европы. Печальный результат столкновения рас, ожесточенно споривших из-за обладания экваториальными странами!..
Едва армия начала утверждаться на острове, как бич, обычный для этих стран, но на этот раз убийственнее, чем когда-нибудь, поразил благородных французских воинов, перевезенных на Антильские острова. Климат ли, по неведомой воле Провидения, оказался в этот год губительнее обыкновенного, или действовал он сильнее на изнуренных солдат, только смерть свирепствовала на острове с ужасающей жестокостью. Двадцать генералов погибли почти единовременно, офицеры и солдаты умирали тысячами. Особенно быстро болезнь поражала новоприбывших в самую минуту высадки на берег: за два месяца погибли по меньшей мере 15 тысяч человек. Армия уменьшилась до девяти или десяти тысяч солдат, правда освоившихся с климатом, но по большей части выздоравливающих и еще не совсем способных немедленно взяться за оружие.
При первых же опустошениях, производимых желтой лихорадкой, Туссен-Лувертюр приободрился, завел тайные сношения с приверженцами, велел им быть наготове, просил подробно уведомлять его о распространении заразы, особенно о здоровье генерала Леклерка. Происки его были не так искусно скрыты, чтобы весть о них
иногда не доходила до главнокомандующего, а тем более до чернокожих генералов. Эти последние немедленно уведомляли французское начальство (повинуясь Туссену, они, однако, завидовали ему, и это чувство содействовало их быстрому усмирению). Золоченые негры (пот йоге), как называл их Первый консул, были довольны спокойствием и изобилием, которыми они могли наслаждаться в полной мере. Они не чувствовали никакого желания возобновлять войну и боялись, что Туссен, восстановив свое могущество, заставит их поплатиться за измену его знаменам.
Вследствие этого они убеждали главнокомандующего Леклерка арестовать бывшего диктатора. Его тайное влияние обнаружилось самым внезапным и опасным образом: к примеру, чернокожие, составлявшие некогда его гвардию и размещенные по колониальным войскам, перешедшим в службу метрополии, покидали ряды армии, будто бы возвращаясь к земледелию, а на самом деле собираясь в горах около Эннери. Леклерк, теснимый двойной опасностью — с одной стороны, лихорадкой, истреблявшей армию, а с другой — возмущением, копившимся всюду, получал сверх того инструкции Первого консула, предписывавшие ему при малейшем признаке ослушания самым жестким образом расправляться с мятежниками, а потому решился дать приказ об аресте Туссена. Но следовало прибегнуть к обману, чтобы схватить могущественного вождя. У него попросили совета: по поводу способа возвратить чернокожих, бежавших с плантаций, и касательно выбора стоянок, наиболее способных поправить здоровье армии. Самым верным средством заманить Туссена на свидание было польстить его тщеславию. «Видите ли, — воскликнул он, — теперь белые не могут обойтись без старика Туссена!» И в самом деле, он явился на место, окруженный отрядом сторонников, был окружен, обезоружен и отведен на корабль. Изумленный, пристыженный, однако покорный, он произнес одну только фразу: «Низвергнув меня, уничтожили только ствол дерева, но корни свободы негров остались, они дадут отростки, потому что глубоки и многочисленны». Его отправили во Францию и заключили в замке Жу.
К несчастью, дух мятежа распространился среди местного населения вместе с подозрением насчет злого умысла белых и надеждой победить их. Известие о происшествиях на Гваделупе, где рабство было восстановлено, разошлось по Сан-Доминго и произвело чрезвычайно сильное впечатление. Несколько слов, произнесенных с трибуны Законодательного корпуса во Франции, касательно восстановления рабства на Антильских островах, усилили убеждение, будто Франция намерена возвратить население под иго неволи.
Несколько чернокожих офицеров, более образованных, более достойных своей новой судьбы, — Лаплюм, Клерво, Кристоф объяснялись с таким жаром, что не оставалось ни малейшего сомнения в их чувствах. «Мы хотим быть французами и покорными подданными, — говорили они, — хотим верно служить метрополии, вовсе не желаем вести разбойничью жизнь. Но если метрополия намерена вновь сделать из наших братьев и детей невольников, пусть она лучше истребит нас всех до единого!» Леклерк, честность которого они уважали, успокаивал их на какое-то время, объясняя, что намерения, приписываемые европейцам, — клевета и ничего больше, но не мог совершенно искоренить недоверчивость. Дессалин, настоящий изверг, какого только могут породить неволя и мятеж, старался всячески восстановить население против европейцев, раздражать одних другими, чтобы самому торжествовать во всеобщей резне и заменить собой Тус-сен-Л увертюра, об аресте которого он первый и хлопотал.
Леклерк, все больше опасаясь восстания, предписал обезоружить негров. Такая мера казалась разумной и необходимой. Благонамеренные вожди Лаплюм и Клерво одобряли ее, но предводители с вероломными намерениями, подобные Дессалину, также усердно домогались такого распоряжения со стороны главнокомандующего. К исполнению приступили тотчас, но для достижения успеха потребовалось открытое насилие. Многие бежали в горы, другие охотнее подвергались мучениям, нежели отдавали то, что считали самой свободой, то есть свое оружие. Чернокожие офицеры в особенности отличились непреклонностью в этих розысках и начали расстреливать своих соплеменников. Крайне жесткими методами отобрали около 30 тысяч мушкетов, по большей части английской работы, закупленных еще дальновидным Туссеном.
Строгости повлекли за собой возмущение на севере острова и на западе, в окрестностях Порт-о-Пренса. Племянник Туссена Шарль Белэр, имевший некоторое превосходство над собратьями в уме и образовании и по этим причинам предназначенный дядей в преемники, бежал в горы и поднял там знамя возмущения. Десса-лин, проживавший в Сен-Марке, настоятельно просил приказа преследовать его. Желая избавиться от опасного соперника, он повел с ним ожесточенную войну, успел захватить вместе с женой и предал обоих военному суду, который велел расстрелять несчастных. При этом Десса-лин оправдывал свой поступок немилосердным приказанием белых. Прискорбные жестокости, доказывающие, что страсти человеческого сердца везде одни и те же, а климат, время, черты лица не устанавливают ощутимой разницы между людьми!
Таким образом, все располагало население к мятежу: и мрачная недоверчивость, овладевшая умами, и суровые предосторожности европейцев, и свирепые страсти, раздиравшие людей, страсти, которые французскому начальству надо было терпеть снисходительно и даже оборачивать в свою пользу.
Генерала Буде вызвали из Порт-о-Пренса и назначили на Подветренные острова для замещения Ришпанса, умершего от горячки. На его же место определили генерала Рошамбо, храброго воина, искусного и отважного, но перенявшего в колониях, где протекла его служба, все предрассудки населяющих их креолов. Он ненавидел мулатов так же сильно, как сами колонисты. Он считал их распутными, наглыми, жестокими и говорил, что уж лучше негры, потому что они проще, воздержаннее и имеют способности к войне. Так вот, генерал Рошамбо, командовавший в Порт-о-Пренсе и на юге острова, где жило множество мулатов, с начала возмущений выказывал к ним столько же недоверчивости, как и к неграм, и значительное число их заключил в тюрьму. Самую тяжкую обиду нанес он им, удалив из колонии генерала
Риго, бывшего предводителя мулатов, который долгое время являлся врагом и соперником Туссена, был им побежден и изгнан и воспользовался победой европейцев для возвращения на Сан-Доминго, по праву надеясь на хороший прием. Но европейцы и тут совершили ошибку, не позаботившись о союзе с цветным населением: генерал Рошамбо отверг услуги Риго и предписал ему удалиться в Соединенные Штаты. Оскорбленные и потерявшие всякую надежду мулаты с тех пор присоединились к чернокожим: замысел очень опасный, особенно на юге, где они господствовали числом.
Все эти причины сделали всеобщим восстание, бывшее сначала только местным. На севере Клерво, Морпа и Кристоф бежали в горы, не без сожалений, но увлекаемые всевластным чувством: любовью к своей угрожаемой независимости. На западе Дессалин сбросил наконец маску и пристал к мятежникам. На юге мулаты, соединившись с черными, начали грабить прекрасную область, которая дотоле оставалась неприкосновенной и цветущей. Верность сохранял один Лаплюм, решительно преданный метрополии и предпочитавший ее правлению варварские обычаи своих соплеменников.
Сократившаяся французская армия, будучи едва в состоянии владеть оружием, контролировала на севере уже только Кап и несколько окрестных точек: на западе — Порт-о-Пренс и Сен-Марк, на юге — Ле-Ке, Жереми и Тибюрон. Беспокойство бедного Леклерка достигло крайней степени. При нем находилась жена, которую он отправил на остров Тартл, чтобы спасти от заразы. На его глазах умерли искусный и мудрый Бенезеш и несколько отличнейших генералов Рейнской и Итальянской армий. Он получил известие о смерти Ришпанса, ежедневно становился свидетелем кончины своих храбрейших солдат, не имея возможности помочь им, и чувствовал приближение поры, когда будет уже не в силах защищать частичку берега, еще остававшуюся в его власти. Терзаемый такими мучительными размышлениями, он больше всякого другого подвергался риску язвы, губившей армию. Действительно, болезнь настигла и его в свою очередь, и в ноябре 1802 года, после кратковременного страдания, несчастный умер.
Командование принял генерал Рошамбо. Новому губернатору колонии нельзя было отказать ни в храбрости, ни в военных дарованиях, но ему недоставало благоразумия и хладнокровия начальника, чуждого тропических страстей. Генерал принялся всюду усмирять возмущение, но было уже поздно: он мог еще удержаться, разве только сосредоточив все силы в Кап-Франсез и покинув западную и южную части острова. Он возвратился в Кап в то самое время, когда Кристоф, Клерво и северные вожди пытались атаковать столицу острова. Для защиты ее у генерала Рошамбо оставалось несколько сот солдат и национальная гвардия, состоявшая из плантаторов, людей храбрых, подобно всем уроженцам страны. Кристоф и Клерво уже овладели одним укреплением, генерал Рошамбо отнял его у них с беспримерным мужеством и действовал так искусно, что мятежники отступили, думая, будто на остров прибыло подкрепление из Европы.
Но во время этой героической обороны на рейде произошла страшная сцена. Не зная, как уберечь чернокожих на берегу, и в то же время не желая увеличить с их помощью силы неприятеля, около тысячи двухсот человек отправили на корабли. Экипажи кораблей, истребленные болезнью, оказались малочисленнее своих пленников. При звуках атаки на город, опасаясь оказаться жертвами пленников, матросы вышвырнули часть их в море.
Закончим этот печальный рассказ, в котором истории не найти ничего полезного. Во время возобновления войны Франции с Великобританией французы, запертые в Капе, Порт-о-Пренсе и Ле-Ке, с трудом защищались от мятежников, весть о войне лишь увеличила их отчаяние. Им предстоял выбор между местным населением, рассвирепевшим больше прежнего, и англичанами, выжидавшими, когда необходимость вынудит французов сдаться и появится возможность отнять у них последнее их достояние.
Из тридцати или тридцати двух тысяч человек, присланных из Европы, оставалось семь или восемь тысяч. Такова была жертва, принесенная Первым консулом французской торговой системе, — жертва, в которой его горько упрекали. Но, чтобы здраво судить о делах того или другого главы правительства, надо принимать в расчет обстоятельства, под влиянием которых он действовал. Когда воцарился всеобщий мир, когда желание торговой выгоды восстановилось в полной мере, когда в Париже и во всех гаванях негоцианты и разорившиеся колонисты громко взывали о восстановлении торгового благоденствия и требовали, чтобы Франции было возвращено владение, составлявшее некогда славу и роскошь монархии, можно ли было устоять против возобновления торговли? Никогда народы не отрекаются от важных своих владений, не пытаясь сохранить их, даже если не видят никакой вероятности успеха.
Первый консул отозвал в Европу весь французский флот, кроме фрегатов и легких судов. Корабли возвратились в свои гавани, только одна эскадра из пяти судов вынуждена была остановиться в Ла-Корунье (в Испании), а шестой корабль нашел приют в гавани Кадикса. Надлежало объединить все эти рассеянные части, чтобы начать борьбу с Великобританией.
Даже для самого искусного и для самого твердого правительства борьба с Англией — нелегкое дело. Конечно, Наполеону не составляло труда обезопасить себя от ударов Англии; но так же легко было и Англии поставить себе вне ударов Первого консула. По открытии неприятельских действий Англия могла заставить свой флаг развеваться в обоих полушариях, овладеть несколькими голландскими или испанскими колониями, а может быть, хоть и с большим трудом, несколькими колониями французскими. Но более она не могла сделать ничего. Высадка английских войск на материке имела бы следствием разве только поражение, подобное тому, какое случилось при Гельдерне в 1799 году. Франция, со своей стороны, силой или влиянием могла отнять у англичан доступ к европейскому берегу от Копенгагена до Венеции, ограничить этот доступ одними берегами Балтийского моря для сбыта колониальных товаров, единственной владетельницей которых становилась во время войны Англия. Но при такой борьбе двух великих держав, которые повелевали двумя стихиями, можно было опасаться, что они ограничатся одними взаимными угрозами, не нанося друг другу ударов, и мир, подавленный их могуществом, наконец восстанет против той или другой, желая избавиться от последствий их страшной борьбы. В подобном положении дел успех принадлежал бы той сопернице, которая сумела бы вне своей стихии достичь неприя-тельницы, а в случае невозможности такого усилия — той, которая сумела бы превратить свое дело в дело всего мира и привлечь мир на свою сторону. Найти союзников сложно было для той и для другой, потому что Англия, присваивая себе монополию торговли, притесняла нейтральные нации, а Франция, желая запереть континент для английской торговли, насильственно поступала со всеми европейскими державами.
Таким образом, чтобы победить Англию, надлежало решить одну из двух проблем: или двинуться на Лондон, или господствовать на материке, принуждая его то силой, то дипломатией отказываться от британских товаров, то есть устроить или высадку, или континентальную блокаду. Такие формы предстояли нынешней войне между Францией и Англией. С 1792-го по 1801 год эта война являлась борьбой демократического начала с аристократическим; сохраняя тот же характер, при Наполеоне она превращалась в борьбу стихии со стихией, сопряженную с гораздо большими затруднениями для французов, чем для англичан, потому что весь континент — по ненависти к революции, по зависти к могуществу Франции — был настроен против французов гораздо больше, нежели нейтральные державы против англичан.
Зорким взглядом Первый консул измерил сложности предстоявшей войны и не колеблясь принял решение. Он составил план: переплыть пролив Кале с армией и в самом Лондоне покончить с соперничеством двух наций. В продолжение трех лет он употреблял все свои дарования на это, оставаясь спокоен, уверен, даже весел, так он был исполнен надежды перед предприятием, которое сулило или сделать его неограниченным владыкой мира, или поглотить в волнах океана его самого, его армию и его славу.
Исчисляя свои морские силы, собранные в Европе, Наполеон мог спустить на воду в течение года не больше пятидесяти линейных кораблей. Благодаря лесам, покрывавшим его обширное государство и сплавляемым на верфи Голландии и Италии, он мог построить еще столько же. Но для вооружения всего этого флота требовалось сто тысяч матросов, а у французов набиралось их едва шестьдесят тысяч. Англия имела семьдесят пять линейных кораблей, готовых выступить в море, и легко могла увеличить свой флот до ста двадцати кораблей с приличным числом фрегатов и мелких судов. Для экипажа она располагала ста двадцатью тысячами матросов и даже более, если бы вздумала не щадить нейтральные державы и устроить вербовку на их торговых судах. Сверх того у нее были опытные адмиралы, уверенные в своих действиях, уже знакомые с победой, действующие на море так, как генералы Ланн, Ней или Массена действовали на суше.
Несоразмерность того и другого флотов, плод времени и обстоятельств, образовывалась, таким образом, очень значительная, однако Первый консул не унывал. Он принялся за строительство по всей стране, предполагал поместить на корабли известное число сухопутных солдат, первым догадался, что корабль, снаряженный шестьюстами матросами и двумястами сухопутными солдатами, удачно выбранными, проплавав под парусами два-три года, окажется в силах помериться с каким угодно кораблем. Но при всем том для создания флота ему нужно было десять лет, а он не мог сложа руки ждать десять лет, пока его флот, плавая по морям небольшими отрядами, сделается достойным соперника. Употребить десять лет на образование флота, не исполнив в течение этого времени ничего важного, значило бы десять лет сознаваться в своем бессилии — сознание, тяжкое для всякого правительства и еще более тяжкое для него.
Итак, стараясь преобразовать морские силы Франции, Наполеон планировал отважно переплыть пролив и в то же время воспользоваться страхом, какой внушала его шпага, чтобы принудить Европу запереть Англии доступ к континенту.
Многие адмиралы, особенно министр Декре, советовали ему постепенно создавать морские силы Франции, составляя небольшие флотские дивизии, посылая их плавать по морям до тех пор, пока они будут в состоянии маневрировать большими эскадрами, и ограничиться этой мерой, считая несбыточными все планы, придуманные для переправы через Ла-Манш. Первый консул не соглашался на такие отдаленные виды, и он начал строительство в Флиссингене, которым располагал в Голландии, в Антверпене, превратившемся во французскую гавань, в Шербуре, Бресте, Лорьяне, Тулоне, наконец, в Генуе, где французы господствовали на тех же правах, как и в Голландии.
Все эти приготовления должны были довести французский флот до пятидесяти кораблей. Впрочем, Первый консул не льстил себя надеждой получить с такими силами превосходство или хотя бы равенство относительно Англии на море, но думал употребить их для того, чтобы располагать морем, плавать в колонии и обратно, открыть для себя на короткое время пролив Кале. Туда устремились все усилия его гения.
Каковы бы ни были придуманные средства переправы, прежде всего требовалась армия, и Наполеон составил план образования армии, которая не оставляла желать ничего большего относительно числа и устройства. Он хотел разделить ее на несколько лагерей от Текселя до Пиренеев и расположить таким образом, чтобы она могла быстро сосредоточиваться на нескольких искусно избранных прибрежных пунктах. Независимо от 25-тысячного корпуса, собранного между Бредой и Нимвегеном, он приказал составить шесть лагерей (в окрестностях Утрехта, в Генте, Сент-Омере, Компьене, Бресте и Байонне — последний предназначался для острастки Испании). Начав с образования артиллерийских парков на этих шести пунктах, он потом двинул в каждый из лагерей пехотные полубригады, чтобы число их достигло по крайней мере 25 тысяч человек. Кавалерию двинули медленнее и в количестве меньше обыкновенного, потому что в случае посадки войск на суда нельзя было перевезти много лошадей. Качество и количество пехоты, превосходство артиллерии и число пушек вознаградили бы в подобной армии численный недостаток кавалерии. На берегах собрали и распределили на четыре сильные дивизии весь драгунский корпус. Эти солдаты, умевшие действовать пешими и конными, должны были сесть на суда только со своими седлами и нести мушкетерскую службу в ожидании лошадей, отнятых у неприятеля.
Полубригады, составлявшие тогда по три батальона, сейчас планировались по два батальона, каждый по восемьсот человек; третий батальон шел на укомплектование двух первых. Прямо в боевые батальоны назначили известное число новобранцев, тщательно выбранных, отличавшихся бодростью, пылом и послушностью юности, чтобы перемешать их в приличной пропорции со старыми республиканскими солдатами.
Конскрипцию (всеобщую воинскую повинность) решительно ввели в военное законодательство Франции еще во времена Директории, однако же закон, определявший ее, имел некоторые пропуски, пополненные новым постановлением 26 апреля 1803 года. Набор определялся ежегодно в 60 тысяч человек, призываемых в двадцатилетием возрасте. Он разделялся на две части, каждая по 30 тысяч человек. Одна должна была всегда набираться в мирное время, другая составляла резерв и созывалась в случае войны для комплектования батальонов. Наступил июнь 1803 года, потребовали произвести набор за два предыдущих года, не касаясь резерва этих двух лет. Таким образом набиралось 60 тысяч новобранцев. Созывая их загодя, правительство имело время обучить их и приучить к военной службе в лагерях, устроенных по берегам. Наконец, в случае надобности, оставалась возможность прибегнуть к резерву этих двух лет, и получить еще 60 тысяч человек, которых предполагалось использовать только в случае континентальной войны.
Это было не особенно обременительной жертвой для всего населения ста девяти департаментов. Кроме того, еще оставалось закончить наборы VIII, IX и X годов, часть, которую не созывали благодаря миру, воцарившемуся при Консульстве.
Вся армия включала теперь до 480 тысяч человек, размещенных по Ганноверу, Голландии, Швейцарии, Италии и Франции. Из этого числа около 100 тысяч, охранявших Италию, Голландию, Ганновер и колонии, не требовали расходов французской казны, траты на их содержание покрывались субсидиями и припасами, предоставляемыми на местах. Триста восемьдесят тысяч содержались за счет Франции и находились в полном ее распоряжении, 300 тысяч из них — обученные, способные немедленно начать кампанию.
Подобную армию надлежало судить не по числу. Эти люди, почти все испытанные, закаленные в трудах и войне, под предводительством отличных офицеров, стоили шести или семи сотен тысяч, а может быть, и миллиона солдат, каких обыкновенно получает государство после долговременного мира, потому что между солдатом испытанным и неопытным имеется бесконечная разница. В этом отношении Первому консулу не оставалось ничего пожелать: он руководил лучшей армией на свете.
Важнейший задачей стал сбор транспортных средств для перевозки армии из Кале в Дувр. Первый консул еще не остановился на определенном решении этого вопроса. После длинного ряда обсуждений договорились лишь о форме судов. Плоскодонные суда, могущие становиться на якорь, плавать под парусами и на веслах, показались всем морским инженерам удобнейшим средством перевозки, не говоря уж о той выгоде, что они могли быть построены везде, даже по верховьям французских рек. Но еще следовало собрать их, разместить по приличным гаваням, вооружить, снабдить экипажем, наконец, определить лучшую систему маневров, чтобы двигать их на неприятеля. Все это требовало ряда продолжительных и трудных опытов. Первый консул собирался сам поселиться в Булони, на берегах Ла-Манша, жить там почасту и подолгу, так, чтобы познакомиться с местами, с переменами моря и погоды и лично проследить все подробности своего громадного предприятия.
В ожидании этого момента он занимался в Париже двумя важными предметами — финансами и сношениями с державами континента. Надлежало, во-первых, обеспечить финансовое снабжение предприятия, а во-вторых, оградить себя от всякой помехи со стороны континентальных союзников Англии.
Между невыгодами возобновления войны немаловажную роль играли финансовые затруднения. Французская революция истребила громадную часть государственной собственности и привела государство к фактическому банкротству. Чтобы спасти от передачи в частные руки оставшуюся собственность на 400 миллионов, ее в 1800 году раздали разным государственным ведомствам: министерству просвещения, попечительству инвалидов, ордену Почетного легиона, Сенату, фонду погашения долгов. Эта собственность облегчала государственные расходы и составляла огромную ценность благодаря возрастающей стоимости. Правда, часть собственности отходила бывшим эмигрантам, но часть эта была незначительна, потому что неотчужденное имущество являлось почти целиком имуществом церкви. Сюда же надлежит прибавить остававшуюся собственность в Пьемонте и в новых рейнских департаментах на сумму 50-60 миллионов.
Таковы были финансовые средства республики в форме государственной собственности. К кредиту Первый консул решил не прибегать. Он не желал ни средств от продажи государственного имущества, которое не могло еще продаваться выгодно, ни средств в виде займов, тогда очень затруднительных и убыточных, ни крупных подрядов, неизбежно влекущих за собой неисчислимые злоупотребления. При строгом порядке и экономии, при постепенном увеличении дохода с податей и некоторых добавочных сборов, он надеялся избежать необходимости зависеть от спекулянтов, пользующихся затруднениями правительства, лишенного и доходов, и кредита.
Последний бюджет определен был в 500 миллионов. Расходы не превысили этой суммы благодаря господствовавшему миру. Только налоги своим количеством превзошли ожидания правительства. Такое неожиданное умножение государственного дохода произошло благодаря возрастающему числу частных сделок: образовалось 172 миллиона вместо 150 — благодаря таможням, которые при возрождении торговли собрали 31 миллион вместо прежних 22, наконец, благодаря работе почт и некоторых других не столь значительных отраслей дохода.
Несмотря на возобновление войны, правительство надеялось — и события оправдали его надежду — на такое же увеличение дохода с податей. Во время правления Первого консула нечего было опасаться беспорядков или перемен к худшему. Доверие к правительству не слабело, частые сделки, внутренняя торговля, ежедневно улучшающиеся коммерческие сношения с Европой продолжали постепенно исправлять ситуацию. Нехорошо приходилось одной только морской торговле, но таможенный доход удостоверял, что этот вред не повлечет важной для казны потери.
Итак, можно было основательно рассчитывать на 500 миллионов дохода. Бюджет XI года (1802—1803) утвердили в марте, когда только опасались, но еще не ожидали войны. Назначили 589 миллионов, значит, бюджет увеличился на 89 миллионов. Часть этого увеличения относилась к флоту, содержание которого определили в 126 миллионов вместо 105, и к войне, на издержки которой вместо 210 миллионов отвели 243. Остальное распределялось между ведомствами общественных проектов, духовенства, содержанием консулов и постоянными расходами департаментов, внесенными на этот раз в общий бюджет.
Война с Европой на суше обыкновенно обходилась недорого, потому что победоносные войска, перешедшие Рейн и Эч, в самом начале военных действий уже снабжались за счет неприятеля, но в настоящем случае было совсем другое дело. Шесть лагерей, расположенные на берегах от Голландии до Пиренеев, зависели от французских денег, пока не переплывут пролив. Сто лишних миллионов в год едва покрыли бы расходы войны с Великобританией. И вот к каким средствам думал прибегнуть Первый консул.
Имелось несколько иностранных денежных поступлений, уже включенных в бюджет XI года для покрытия отчасти суммы 89 миллионов, которыми этот бюджет превосходил бюджет X года. Эти доходы шли из Италии. Итальянская республика, еще не имея своей армии и не имея возможности обойтись без армии французской, платила 19 миллионов франков в год на содержание французских войск. Лигурия, находясь в точно таких же обстоятельствах, вносила миллион двести тысяч франков в год, Парма — два миллиона. Таким образом составлялась сумма в 22 миллиона с половиной, включенная в бюджет XI года. Оставалось найти еще целых 100 миллионов.
Добровольные взносы, сумма от продажи Луизианы, вспоможения прочих союзных государств — вот источники, на которые рассчитывал Первый консул. Добровольные приношения городов и департаментов простирались до 40 миллионов, цена Луизианы в пользу французской казны — 54 миллиона наличными за вычетом издержек переговоров — составляла второй источник дохода. Наконец, оставшуюся сумму предстояло взять с Голландии и Испании. Правда, Голландия, освобожденная французским оружием от штатгальтерства, защищаемая французской дипломатией от Англии и возвратившая самую большую свою колонию, теперь была бы не прочь избавиться от союза, вовлекавшего ее в новую войну. Но Первый консул принял решение, справедливости которого нельзя не признать, а именно: сделать все морские державы соучастницами борьбы с Великобританией. «Голландия и Испания пропали, если нас победят, — твердил он. — Все их колонии в Индии и Америке Англия либо отнимет, либо разорит, либо восстановит против них. Конечно, этим двум державам было бы спокойнее не вмешиваться в войну, наблюдать за нашими неудачами, если нас победят, и пользоваться нашими победами, если мы останемся победителями. Но этому не бывать: пусть они сражаются вместе с нами, пусть употребляют те же усилия. Дай Бог, чтобы соединив наши общие силы, смогли мы победить повелительницу морей. Разъединившись же, ограничившись каждый собственными своими интересами, мы будем бессильны и останемся побежденными».
Итак, Первый консул находил, что Голландия и Испания должны помогать ему. По справедливости можно сказать, что, принуждая эти державы содействовать его планам, он только заставлял их печься об их собственной пользе. Как бы то ни было, но, чтобы они вняли голосу рассудка, он располагал относительно Голландии силой, потому что французские войска занимали Утрехт и Флиссинген, а относительно Испании имел в запасе союзный договор, заключенный в Сан-Ильдефонсо.
Впрочем, в Амстердаме все умные и патриотическим образом настроенные люди вслед за Шиммельпенником
разделяли мнения Первого консула. Соглашение не представляло никаких трудностей, приняли решение, что Голландия будет помогать Франции следующим образом: она обязывалась снабжать продовольствием и жалованьем корпус из 18 тысяч французских и 16 тысяч голландских войск. К этой сухопутной силе она прибавляла морскую силу, состоявшую из линейной эскадры, включавшей пять больших кораблей, и флотилии из 350 плоскодонных судов. За это Франция обеспечивала Голландии независимость, неприкосновенность европейских и колониальных владений, и, в случае успеха войны с Англией, возвращение колоний, утерянных голландцами в предыдущих войнах.
Оставалось истребовать помощь от Испании. Эта держава еще меньше Голландии представлялась расположенной жертвовать своими силами общему делу. Равно бессильная в дружбе и в неприязни, Испания не годилась ни на что ни в мирное, ни в военное время. Нельзя сказать, чтобы сама благородная нация, исполненная патриотизма, или великолепная страна не имели высокой ценности, совсем напротив. Но недостойное правительство по своей совершенной неспособности изменяло интересам Испании, равно как интересам всех мореходных наций.
Взвесив дело обстоятельно, Первый консул вознамерился извлечь единственную пользу из союзного договора Сан-Ильдефонсо — истребовать субсидию. Договор, заключенный в 1796 году, обязывал Испанию поставить в распоряжение Франции 24 тысячи человек войска, 15 линейных кораблей, шесть фрегатов, четыре корвета. Первый консул решил не требовать такой помощи. Он справедливо рассуждал, что вовлечение Испании в войну не стало бы услугой ни для Франции, ни для нее самой, что в войне она не сыграла бы важной роли, лишилась бы тотчас же своих мексиканских пиастров, пересылка которых была бы перехвачена англичанами, не смогла бы вооружить ни армии, ни флота. А следовательно, не принесла бы никакой пользы и только подала бы Англии давно желанный предлог поднять против нее всю Южную Америку. Правда, участие Испании в военных действиях превратило бы для англичан все берега Пиренейского полуострова в неприятельские, но зато ни одна из испанских гаваней не имела бы, подобно голландским, большого значения для высадки. Таким образом, выгода располагать этими гаванями оказывалась невелика, притом же в торговом отношении британский флаг уже отдалился от них из-за пошлин и французские товары по-прежнему находили там предпочтение в мирное и военное время. Все указанные причины, взятые вместе, побудили Первого консула по секрету сообщить посланнику Карла IV Азаре, что, если испанский двор не желает войны, Франция согласна оставить его нейтральным на условиях вспоможения по 6 миллионов в месяц (72 миллиона в год) и заключения торгового договора, который открыл бы французским изделиям сбыт обширнее прежнего.
Такое весьма умеренное предложение не нашло в Мадриде приема, какого заслуживало. Князь Мира тесно общался с англичанами и явно изменял союзу. Поэтому-то, подозревая измену, Первый консул расположил в самой Байонне один из шести лагерей, предназначенных действовать против англичан. Он решился скорее объявить войну Испании, чем позволить ей отстать от общего дела. Для того он приказал своему посланнику, генералу Бернонвилю, потребовать решительного объяснения.
К пособиям от союзников следует прибавить пособие, предстоявшее от держав враждебных или, по крайней мере, недоброжелательных, которые Франция готовилась занять своими войсками. Ганновер брался содержать 30 тысяч человек. Дивизия, сформированная в Фаэнце и отправленная к Тарентскому заливу, содержалась бы за счет неаполитанского двора. Благодаря уведомлениям своего посланника Первый консул знал достоверно, что королева Неаполитанская, руководимая министром Актоном, находится в полном согласии с Англией и что ему вскоре предстоит изгонять Бурбонов из Италии. Наполеон не преминул откровенно объяснить королеве свои намерения. «Я не потерплю англичан в Италии так же, как не терплю их в Испании и Португалии, — говорил он. — При первом знаке содействия Англии вы поплатитесь войной. Я могу сделать вам много добра и много зла. Выбор зависит от вас. Я не думаю присваивать ваши владения, с меня довольно, чтобы они подчинялись моим намерениям против Англии. Но если вы используете их для оказания помощи Англии, я отниму их непременно».
Слова Первого консула были искренни: тогда он еще не сделался главой династии и не помышлял покорять царства для своих братьев. В конечном итоге он потребовал, чтобы дивизия в 15 тысяч человек, расположенная в Таренте, снабжалась неаполитанским двором вперед из расчета впоследствии. Он обозначал это обязательство как контрибуцию, взятую с неприятеля, точно такую же, какая ложилась на Ганноверское королевство.
Мир встревожился и даже устрашился, увидев приготовления такой исполинской борьбы между двумя сильнейшими державами. Нейтральным странам грозили притеснения со стороны британского флота, а весь континент подчинялся распоряжениям Первого консула, то запирая свои гавани, то терпя тягостные и убыточные военные постои. По существу, все державы обвинили Англию в наступившем разрыве. Ее упорство в удержании Мальты показалось всем, даже недоброжелателям Франции, явным нарушением договоров, которого не оправдывало ни одно из европейских событий, случившихся со времени Амьенского мира.
Хотя Первый консул употребил все старания для усмирения безначалия, континентальные державы невольно видели в нем торжество Французской революции, возвеличенной больше, нежели допускали их виды. Две из них, Пруссия и Австрия, были в столь малой мере мореходными державами, что не слишком интересовались вопросом о свободе морей, а третья, то есть Россия, видела в нем еще настолько отдаленный для себя вопрос, что не хотела особо интересоваться им. Перевес Франции на континенте касался их гораздо сильнее, чем перевес Англии в море. Морское право, которое хотела водворить Англия, казалось им посягательством на справедливость и свободную торговлю, но владычество, которым уже пользовалась Франция и готовилась пользоваться еще в большей степени, было непосредственной и настоятельной опасностью, глубоко их тревожившей. Они очень негодовали на Англию за возбуждение новой войны и громко изъявляли свое неудовольствие, но относительно Франции возвратились к прежнему недоброжелательству, которое мудрость и слава Первого консула как будто прервали на время.
Несколько отзывов важнейших действующих лиц того времени засвидетельствуют лучше всяких описаний расположение держав к Франции. Филипп фон Кобен-цель, посланник австрийского двора в Париже, двоюродный брат венского министра иностранных дел Людвига фон Кобенцеля, разговаривая с адмиралом Декре, который живостью своего ума возбуждал живость ума других, проговорился и заявил следующее: «Да, Англия кругом виновата, ее домогательства несносны, ваша правда. Но, откровенно сказать, теперь все так боятся вас, что некогда бояться англичан». Германский император Франц, который под видом простоты скрывал большую прозорливость, разговаривая с французским посланником Шам-паньи о новой войне и обнаруживая свое неудовольствие с явной искренностью, утверждал, что он со своей стороны решился сохранить мир, но чувствует невольные опасения, причину которых едва смеет назвать. Когда Шампаньи расположил его к доверчивости, император со множеством оговорок и почтительных отзывов о Первом консуле все же сказал: «Если генерал Бонапарт, который совершил столько чудес, не совершит чуда ныне, если он не переплывет пролив, мы станем жертвами его неуспеха: он вернется к нам и поразит Англию в Германии». Осторожный император раскаялся, что сказал слишком много, и хотел поправиться, но было уже поздно: Шампаньи немедленно передал эти слова в Париж с первым курьером. Это предположение доказывало необыкновенную дальновидность императора, которая, однако, очень мало послужила ему на пользу, сам же он впоследствии подал Наполеону повод, как он говорил, «поразить Англию в Германии».
Из всех держав Австрия меньше всего могла опасаться последствий войны, если бы сумела устоять против внушений лондонского двора. Ей не предстояло защищать никакого морского интереса, потому что она не имела ни торговли, ни гаваней, ни колоний. Занесенная песками гавань Венеции, которую недавно уступили Австрии, не могла составить для нее серьезного интереса. Австрия также не владела, как Пруссия, Испания или Неаполь, пространными берегами, которыми бы Франция желала овладеть. Таким образом, ей легко было остаться вне распри. Напротив, от новой войны она выигрывала, получив полную свободу действий в германских делах. Франция, занятая состязанием с Англией, не могла по-прежнему воздействовать всем своим весом на Германию, а значит, Австрия могла самостоятельно распоряжаться вопросами, оставшимися без решения. Выгода от решения собственных задач значительно утешала ее в связи с возобновлением войны, и, не мешай ей ее крайняя осторожность, Аястрия стала бы почти радоваться.
Всего неприятнее в то время оказывалось новое положение дел для Пруссии и России, хотя по совершенно различным причинам и не в одинаковой степени. Наиболее огорчена была Пруссия. Имея в виду характер ее короля, ненавидевшего войну и расходы, можем представить себе, до какой степени скорбел он о новых европейских проблемах. Сверх того, занятие французами Ганновера означало чрезвычайно важные невыгоды для его королевства. Чтобы предупредить этот захват, он попробовал устроить сделку, которая согласовалась бы с видами и Франции, и Англии. Он предложил Англии занять курфюршество прусскими войсками, обещая оставаться просто его дружественным охранителем, с условием, что Англия оставит свободным плавание по Эльбе и Везеру. С другой стороны, он предложил Первому консулу сберечь Ганновер в пользу Франции, отправляя местные доходы во французскую казну. Эта обоюдная услужливость, предложенная двум державам, имела целью, во-первых, избавить судоходство по Эльбе и Везеру от притеснений Англии, а во-вторых, спасти Северную Германию от присутствия французов.
Эти два интереса были очень важны для Пруссии. Все немецкие товары вывозились по Эльбе через Гамбург и по Везеру через Бремен. Силезские полотна — главная статья вывоза — покупались торговцами Гамбурга и Бремена, обменивались во Франции на вина, а в Америке на колониальные товары. В случае блокады англичанами Эльбы и Везера вся эта торговля мгновенно исчезала.
Не меньше того оказывалась и выгода не видеть французов в Северной Германии. Во-первых, присутствие их беспокоило Пруссию самим своим фактом, далее, оно навлекало на нее горькие укоризны германских владетелей, являвшихся ее сторонниками в Империи. Они жаловались, что, дружа с Францией из честолюбивых видов, Пруссия оставляет германскую землю без защиты и своей малодушной уступчивостью даже навлекает на нее иноземное нашествие.
Итак, Пруссия вела переговоры, прежде чем изъявить свои решительные мысли насчет занятия Ганновера, о котором Первый консул извещал как о несомненном и близком.
Возобновившийся между Англией и Францией конфликт неприятно подействовал на российский двор по причине забот, занимавших его в то время. Молодой император сделал новый шаг в исполнении своих планов и предоставил своим любимцам несколько больше дел империи. Он уволил со службы князя Куракина и призвал в первые советники замечательное лицо, графа Воронцова, брата бывшего посланника в Лондоне. Он назначил графа канцлером, министром иностранных дел и разделил управление государства на восемь министерств, поместив во главе каждого из них людей известных и назначив при них в качестве товарищей своих приближенных — князя Чарторижского, графов Строганова и Новосильцова. Князь Чарторижский был определен товарищем графа Воронцова по министерству иностранных дел.
Так как граф Воронцов по причине расстроенного здоровья часто находился в отпуске, в своем поместье, то князь Чарторижский практически один управлял внешними сношениями империи. Графа Строганова сделали товарищем министра юстиции, Новосильцова передали министру внутренних дел. Князь Кочубей, старший из фаворитов императора, получил должность министра внутренних дел.
Восемь министров должны были на заседаниях специального совета обсуждать государственные дела и представлять Сенату отчеты. Учреждение этого совета министров оказалось первой важной переменой, второй было само их сотрудничество с Сенатом. Император Александр думал этими переменами привести свой народ к устройству, подобному просвещенным странам. Полностью занятый преобразованиями, он с неудовольствием наблюдал необходимость вступить на обширное и опасное поприще европейской политики и открыто изъявлял свое неудовольствие по поводу претензий двух воюющих держав. Он был недоволен Англией, неумеренные притязания и явная недобросовестность в мальтийском деле которой снова нарушали спокойствие Европы. Не был доволен и Францией, только по другим причинам. Франция не очень внимательно относилась к неоднократным требованиям вознаграждения в пользу Сардинского короля, а кроме того, внешне предоставив России влияние на германские дела, слишком явно присваивала себе реальное воздействие. Император заметил это. Желая прославиться, несмотря на свои молодые лета, он начинал с неудовольствием глядеть на славу великого человека, повелевавшего Западом Европы.
Таким образом, отношение русского двора состояло в недовольстве вообще всеми. Посоветовавшись со своими министрами и приближенными, император решил предложить посредничество России, к которому довольно открыто прибегала Франция. Таким посредничеством надеялись предупредить общую войну и в то же время показать всем истинное положение вещей, не скрывая от Англии, что ее притязания на Мальту незаконны, и показав Первому консулу необходимость рассчитаться наконец с королем Пьемонтским и щадить во время войны мелкие державы, составлявшие партию России.
Согласно принятому решению граф Воронцов сообщил генералу Гедувилю, а граф Морков — Талейрану серьезное неудовольствие русского кабинета по поводу нового нарушения всеобщего мира честолюбивым соперничеством Франции и Англии. Россия соглашалась, что притязания Англии на Мальту неосновательны, но давала понять, что беспрерывные посягательства Франции если не оправдывали, то по крайней мере порождали такие притязания, прибавляя, что Франции не мешало бы поумерить свое самовластие в Европе, иначе ни одной державе нельзя будет сохранить мир с ней. Кабинет императора Александра предлагал посредничество и рассчитывал, что в таком случае Франция пощадит союзников России.
Умея владеть собой, когда того требовала польза его обширных замыслов, Первый консул не решился затруднять континентальные дела и начинать на Рейне войну, которая отвлекла бы его от войны, подготавливаемой на берегах Ла-Манша. Он не подал виду, что заметил недовольство, посланное ему из Санкт-Петербурга, и решил разом устранить все упреки императора, поставив его самовластным судьей великой распри, волновавшей мир. Талейран и Гедувиль по его приказанию предложили русскому кабинету принять на себя третейский суд, в силу которого Наполеон обязывался поступить согласно решению императора Александра, каково бы оно ни было, совершенно полагаясь на его справедливость. Предложение оказалось столь же благоразумно, сколь искусно. В случае отказа Англии принять решение такого третейского суда стало бы понятно, что она не надеется или на свою правоту, или на императора Александра; она увеличила бы тем свою вину и дала Первому консулу право вести с ней войну насмерть. Однако касательно королевств Неаполитанского и Ганноверского, приняв решительный тон, согласный его видам, Первый консул объявил, что употребит все меры, каких будет требовать война, которую не он начал, а ему объявили.
Определив свои отношения с континентальными державами, Первый консул немедленно приступил к предполагаемому и уже объявленному занятию стран своими войсками. Генерал Сен-Сир стоял в Фаэнце, в Романье, с 15-тысячным корпусом и значительной артиллерией. Он получил и тотчас исполнил приказание пройти через Папскую область на оконечность Италии, оплачивая все издержки своего прохода, чтобы не оскорбить папу. По договору, заключенному с неаполитанским двором, французские войска должны были получать продовольствие от неаполитанцев. Генерал Сен-Сир, оцененный по достоинству Первым консулом как один из первых генералов, находился в затруднительном положении посреди неприятельского королевства. Но он способен был побороть все трудности. Притом же инструкции, данные ему, оказались чрезвычайно общими. При первом признаке восстания в Калабрии ему следовало покинуть ее и идти в сторону столицы королевства. Он уже раз завоевал Неаполь и лучше всякого другого знал, как взяться за дело.
Кроме того, Первый консул предписал занять Анкону, дав папе всевозможные компенсации для смягчения этой суровой меры. Французский гарнизон обязывался исправно платить за свое продовольствие, отнюдь не беспокоить гражданского управления папы и даже поддерживать его против возмутителей спокойствия, если бы таковые проявились.
В то же время войскам отправили предписание вступить в Ганновер. Прусские переговоры остались бесплодны: Англия объявила, что будет блокировать Эльбу и Ве-зер, если неприятель коснется владений Ганноверского дома, с помощью прусских войск или французских. Нет сомнения, это была одна из самых несправедливых претензий. Англия имела полное право запретить французским судам плавание по Эльбе и Везеру, но останавливать торговлю Бремена и Гамбурга за то, что французы овладели землями, окружавшими эти города, требовать, чтобы Германия начала войну с Францией из-за интересов Ганноверского дома, мстить Германии за невольное бездействие, уничтожая ее торговлю, казалось вопиющей несправедливостью. Пруссия могла ограничиться горькими жалобами на несправедливость подобной меры, однако вынуждена оказалась терпеть британский флаг в устьях двух германских рек, как терпела присутствие французов в Ганновере. Первый консул изъявил Пруссии свое сожаление, обещал не преступать пределы Ганновера, но оправдывал вторжение своих войск условиями войны и чрезвычайно важной для него выгодой запереть для англичан два главнейших торговых пути Европы.
Генералу Мортье отдали приказ двинуться в поход. Он перешел с 25 тысячами человек на северную оконечность Голландии, на границу Мюнстерского епископства, принадлежавшего после секуляризации Арембергскому дому. В согласии этого владетельного дома были уверены. Отсюда войскам следовало двинуться на земли епископства Оснабрюкского, недавно присоединенного к Ганноверу, а оттуда — в самый Ганновер. Таким образом, они не касались прусских земель — мера, необходимая для угождения прусскому двору.
Первый консул предписал генералу Мортье как можно больше щадить страны, через которые надлежало проходить, особенно оказывать всякое уважение прусской армии, располагавшейся вдоль всей ганноверской границы. Генерал, человек столь же благоразумный и добросовестный, сколь и храбрый, был как нельзя удачнее выбран для такого скользкого поручения. Он прошел через бесплодные пески и болотистые кустарники Фрисландии и Нижней Вестфалии, вступил в Ганновер и в июне месяце очутился на берегах речки Гунте. Ганноверская армия стояла в Дифольце и после нескольких кавалерийских стычек отступила за Везер. Несмотря на то, что она была составлена из отличных солдат, руководство понимало, что сопротивление невозможно и упорством своим армия только накличет бедствия на страну. Вследствие того армия приготовилась капитулировать, на что генерал Мортье согласился с удовольствием. В Золингене условились, что ганноверская армия с оружием и обозами отступит за Эльбу и даст честное слово не служить во время текущей войны иначе как по обмену равного числа французских пленных. Управление королевством и сбор его доходов окажутся в распоряжении Франции при надлежащей неприкосновенности лиц, частного имущества и вероисповеданий.
Сулингенская конвенция была отправлена Первому консулу и английскому королю для их обоюдной ратификации. Первый консул дал свою ратификацию тотчас, не желая приводить в отчаяние ганноверскую армию более суровыми условиями. Но когда эту конвенцию представили престарелому Георгу III, он очень разгневался и даже, говорят, кинул бумаги в лицо подавшего их министра. Престарелый король считал Ганновер и колыбелью своей фамилии, и ее последним пристанищем. Захват его наследственных владений поверг короля в отчаяние, он отказался подписать Сулингенскую конвенцию и таким образом поставил ганноверских солдат перед жестокой необходимостью выбирать одну из двух крайностей: или сложить оружие, или пасть всем до одного. Английский кабинет в оправдание такого странного решения говорил, что утвердить подобную конвенцию значило согласиться на занятие Ганновера неприятелем, что это занятие нарушило неприкосновенность германской земли и что он жалуется Сейму на насилие, причиненное его подданным. Престранный способ доказательства, неосновательный ни в каком отношении.
Когда весть об этом пришла в Ганновер, храбрая армия под началом маршала Вальмодена погрузилась в уныние. Ганноверцы расположились за Эльбой, среди люнебург-ских владений, заняли крепкую позицию и решили защищать свою честь. Французская армия, три года не делавшая ни одного ружейного выстрела, очень рада была дать блистательное сражение. Однако благоразумие одержало верх над мужеством: генерал Мортье, совмещавший с храбростью человеколюбие, употребил все меры к облегчению участи ганноверцев. Он не потребовал сдачи их в качестве военнопленных, а удовольствовался лишь их роспуском, условившись, что они сложат оружие в своем лагере и разойдутся по домам, обязавшись не вооружаться и не объединяться с этой целью больше никогда. Вооружение, находившееся в королевстве в очень значительном количестве, выдали французам, доходы страны также поступили в их руки, равно как и личное имущество ганноверского курфюрста, в том числе отличные жеребцы ганноверской породы, отосланные во Францию. Кавалерия ганноверская спешилась и отдала три с половиной тысячи прекрасных лошадей, поступивших на восстановление французской кавалерии.
Генерал Мортье только формальным образом присвоил себе управление страной, оставив его по большей части в руках местного начальства. Ганновер без особой сложности для себя мог снабжать армию в 30 тысяч человек — такие силы Франция определила содержать там, пообещав королю Прусскому не увеличивать их числа. Во избежание длинных окольных путей через Голландию и Южную Вестфалию французы попросили у прусского короля согласия на учреждение этапной дороги через прусские владения с условием исправной платы вперед поставщикам за содержание войск. Прусский король согласился, и с тех пор открылось прямое сообщение, используемое для пересылки значительного числа кавалеристов, которые шли в Ганновер пешком, а возвращались каждый с тремя лошадьми. Обладание этой частью Германии принесло большую пользу французской кавалерии, так как вскоре она была снабжена превосходными лошадьми так же, как до того — отличными солдатами.
Между тем как происходили эти необходимые начинания, Первый консул продолжал свои приготовления на берегах Ла-Манша. Он предписал закупку флотских материалов в Голландии и России, чтобы запастись ими вдоволь, пока не очень надежное расположение последней державы не побудило ее запретить отпуск материалов. В бассейнах Жиронды, Луары, Сены, Соммы, Шельды строились плоскодонные суда всех размеров, тысячи рабочих срубали прибрежные леса, все литейные заводы республики были заняты производством мортир, гаубиц, орудий самого крупного калибра. По набережным Берси, Инвалидов, Военной школы Париж наблюдал до сотни строившихся судов. Публика начала догадываться, что такая активная деятельность не могла служить только демонстрацией для острастки Англии.
Первый консул решил ехать на берега Ла-Манша, как скоро судовые постройки, начатые повсеместно, несколько подвинутся вперед и как скоро он управится с нужнейшими делами. Заседания Законодательного корпуса происходили спокойно и состояли единственно в полном одобрении его дипломатических усилий правительства, в доставлении ему всевозможной нравственной поддержки, в утверждении бюджета, наконец, в обсуждении главных статей Гражданского кодекса. С этих пор Законодательный корпус превратился просто в большой совет, чуждый политики и занимавшийся исключительно практическими делами.
К концу июля Первый консул обнаружил себя относительно освободившимся от дел. Он вознамерился объехать все берега до Флиссингена и Антверпена, посетить Бельгию, в которой еще не бывал, и рейнские департаменты, одним словом, совершить военно-политическое путешествие. Госпожа Бонапарт должна была сопровождать его и разделять с ним почести, его ожидавшие. В первый раз он потребовал у главы казначейства королевские бриллианты в качестве украшений для своей жены: в новых департаментах и даже на берегах Рейна он хотел явиться почти самодержцем. В дороге с ним должны были встречаться его министры и иностранные посланники: кто в Дюнкерке, кто в Лилле, в Генте, в Антверпене или Брюсселе.
Собираясь показаться народам, пламенно преданным католицизму, Наполеон предпочел появиться среди них в сопровождении папского легата: кардинал Капрара, несмотря на свою дряхлость и недуги, решился, с папского позволения, умножить собой консульскую свиту в Нидерландах. Немедленно отдали все необходимые распоряжения для оказания пышного приема этому князю Церкви.
Первый консул выехал из столицы 23 июня. Он посетил сначала Компьен, Амьен, Сен-Валери, где его встречали с восторгом и принимали с истинно королевскими почестями. Город Амьен по старинному обычаю поднес ему четырех лебедей ослепительной белизны, которые были отосланы в Тюильрийский сад. Само присутствие Наполеона повсюду возбуждало знаки преданности его особе, ненависть к англичанам, пламенное желание победить старинных врагов Франции. Он с необыкновенной благосклонностью выслушивал местное начальство, обывателей, но внимание его явно поглощалось самым важным предметом, занимавшим его в то время. Верфи, магазины, продовольствие — вот что привлекало его пламенную заботливость. Он посещал войска, собиравшиеся в Пикардии, осматривал их экипировку, подбадривал старых солдат и внушал им уверенность в успехе своего великого замысла.
Едва окончив смотры, еще утомленный, он диктовал множество приказов, которые уцелели и по сей день, — служа вечным примером правительствам, предпринимающим великие усилия. Где казна замедлила высылку сумм подрядчикам; где морской министр задержал доставку флотских материалов; где лесное управление из-за каких-нибудь формальностей приостановило вырубку леса; где, наконец, артиллерии не доставили орудий или необходимых снарядов. Первый консул исправлял эти небрежности либо устранял препятствия своей волей.
Наконец прибыл он в Булонь, главный центр, куда сходились все усилия, в предполагаемую точку отплытия великой экспедиции.
Быстро стало ясно, что нет возможности построить на одном или на двух прибрежных пунктах огромное множество требовавшихся судов. Как ни мал был размер плоскодонных лодок, все-таки нельзя было найти в одном месте столько материалов, рабочих и верфей, сколько требовалось для постройки. Пришлось занять работой все порты и все бассейны рек. Гаваням Ла-Манша, где судам надлежало собраться, нужно было постараться вместить целых две тысячи судов.
Но, построив их в значительном отдалении друг от друга, следовало еще собрать суда в одном месте, от Булони до Дюнкерка, проведя сквозь линию английских крейсеров, старавшихся уничтожить их прежде, чем они соединятся. Далее надлежало поместить их в три или четыре гавани, находящиеся по возможности под одинаковым ветром, на очень малом расстоянии одна от другой, чтобы суда могли тронуться и идти вместе. Наконец, надо было расположить их удобно и стройно, в безопасности от выстрелов, так, чтобы солдаты могли часто сходить с них и возвращаться, привыкая быстро принимать и выгружать людей, лошадей и пушки.
Все эти затруднения могли разрешиться только на месте самим Наполеоном, при помощи его собственных наблюдений и советов самых искусных офицеров. Наполеон призвал в Булонь морского инженера Сканзена, одного из лучших офицеров этого корпуса, инженера Форфэ, бывшего некоторое время морским министром (посредственного распорядителя, но превосходного знатока флотских построек, изобретательного и преданного предприятию), и, наконец, министра Декре и адмирала Брюи, о которых мы уже упоминали.
Первый консул согласился бы иметь поменьше хороших генералов в своих сухопутных армиях и побольше во флоте. Но хороших генералов создают только война и победы. Правда, в течение последних двенадцати лет у Франции случались морские войны, но, к несчастью, флот ее, расстроенный эмиграцией, оказавшись хуже английского, почти всегда вынужден был укрываться в гаванях, и французские адмиралы потеряли если не храбрость, то уверенность в себе. Одни были весьма пожилыми, другие — совсем неопытными. В то время все внимание Наполеона привлекали четыре адмирала — Декре, Латуш-Тревиль, Гантом и Брюи.
Адмирал Декре был человеком редкого ума, но сварливым, видевшим одну только дурную сторону вещей; хороший министр, но не очень деятельный распорядитель, впрочем полезный Наполеону, нуждался в советниках не столь уверенных, как он сам. По этим причинам адмирал Декре больше прочих годился в начальники морского департамента и меньше — в предводители эскадры.
Гантом — храбрый офицер, умный, сведущий — мог вести флотскую дивизию прямиком в огонь, но вне дела оставался робок, нерешителен, пропускал удобный случай, не пользуясь им, и годился только на самые нетрудные предприятия. Латуш-Тревиль и Брюи являлись лучшими моряками того времени: если бы они прожили дольше, наверняка могли бы поспорить с Англией о владычестве морей.
Латуш-Тревиль имел пламенный, отважный характер, соединял ум и опытность с мужеством, умел вдохнуть в моряков чувства, которых сам был исполнен, и в этом отношении превосходил всех своих сверстников, потому что владел достоинством, которого недоставало французскому флоту, — самоуверенностью.
Брюи, не слишком выдающегося здоровья и физических данных, истощенный удовольствиями, но одаренный обширным умом, редким гением, глубоко опытный, единственный человек, способный управлять сорока линейными кораблями, столь же изобретательный, сколь и превосходный исполнитель, стал бы отличным морским министром, если бы имел меньше привычки командовать.
Первый консул решился вверить адмиралу Брюи начальство над флотилией, где предстояло почти все создать заново; Гантому — брестский флот, на котором лежала только транспортировка войск; Латуш-Тревилю — тулонский флот, долженствовавший исполнить трудный, отважный, но решительный маневр, о котором скажем ниже.
Брюи, занимаясь созданием флотилии, находился в состоянии беспрерывных споров с адмиралом Декре. Тот и другой по обширности дарований не могли не быть соперниками и, значит, врагами, притом же характеры их были слишком противоположны. Признать затруднения неодолимыми, осудить попытки преодоления стало привычкой Декре. Осмотреть, изучить трудности, постараться победить их — любимым делом Брюи. Надо прибавить еще, что они не доверяли друг другу: Декре боялся, чтобы Первому консулу не донесли о его небрежностях, Брюи опасался доноса о своей разгульной жизни. При слабом повелителе эти два соперника расстроили бы флот своей распрей, но при таком владыке, каков был Первый консул, они приносили пользу самой враждой своей. Брюи предлагал планы, Декре критиковал их; Первый консул решал вопросы с отстраненной объективностью суждения.
Прибытие Наполеона в Булонь являлось необходимостью, потому что многие его приказания оставались без выполнения. Недоставало рабочих, леса, железа, пеньки и даже тяжелой артиллерии для удержания на расстоянии англичан, беспрестанно метавших ядра.
Первый консул, прибывший в сопровождении офицеров, сообщил новую интенсивность предприятию. В Париже он уже употребил меру, которую решил повторить в Булони и везде, где проезжал. Он велел призвать в армию пять или шесть тысяч человек, принадлежавших к ремеслам, которые обрабатывали дерево и железо, то есть столяров, плотников, пильщиков, каретников, кузнецов, слесарей. Они трудились под руководством мастеров, избранных из числа флотских рабочих. Тем из них, кто
демонстрировал сметливость и усердие, положили щедрую плату, и в скором времени верфи наполнились множеством строительных рабочих, первоначальное ремесло которых сложно было и угадать.
Вокруг Булони в изобилии росли леса, которые указом отдали в распоряжение морского ведомства. Деревья, употребляемые в дело тотчас по срубке, были сыры, но годились на сваи, а свай нужно было в гаванях Ла-Манша целые тысячи. Из этих деревьев могли также брать обшивку и доски. Такие материалы, как мачты, канаты, медь, смола, привезенные из России и Швеции в Голландию для дальнейшей доставки по внутренним водам из Голландии и Фландрии в Булонь, оказались в это время задержаны на бельгийских каналах разными препятствиями. Для ускорения доставки туда немедленно отправились офицеры с предписаниями и денежными суммами. Литейные заводы Дуэ, Льежа, Страсбурга несмотря на спешку не успевали исполнять заказы. Монж, почти неотлучно сопровождавший Первого консула в поездках, стал торопить заводы и велел заказать в Льеже отливку крупных мортир и орудий большого калибра. Генералу Мармону вверили попечение об артиллерии. Почти ежедневно на почтовых скакали адъютанты укреплять его усердие и требовать пушек и лафетов. В самом деле, кроме артиллерии на суда требовалось от пятисот до шестисот батарейных орудий, чтобы удерживать неприятеля вдали от верфей.
По отдаче этих первых распоряжений надлежало заняться важным вопросом о сборных гаванях и средствах соразмерить их вместительность с объемом флотилии. Надо было одни расширить, другие — устроить вновь, а все — защитить. Посоветовавшись с Сканзеном, Фор-фэ, Декре и Брюи, Первый консул сделал следующие распоряжения.
Булонская гавань давно была признана лучшим пунктом отбытия для экспедиции против Англии. Действительно, отплыв из Дюнкерка или Кале, чтобы войти в пролив, надо обогнуть мыс Грине, преодолеть порывы ламаншских ветров и стать под булонский ветер: тогда можно прибиться к берегу между Дувром и Фолькстоном.
27 Консульство (Напротив, следуя из Англии во Францию, суда направляются больше в Кале, чем в Булонь.)
Впрочем, Булонский порт мог быть значительно увеличен и при помощи интенсивных работ превращен в обширную гавань. Таким образом, почти на одной высоте с Булонью устраивался бассейн той же формы, какую имел материк, то есть полукружие, где могли помещаться несколько сотен судов. Но дело не ограничивалось тем, чтобы иметь достаточное пространство; требовались чрезвычайно длинные набережные, чтобы многочисленные суда могли если не все вдруг, то по крайней мере в большом количестве подходить к берегам и принимать груз.
Несмотря на объем работ, Первый консул не замедлил тотчас приказать начать выкапывать булонский бассейн и русло реки Лианы. Решили немедленно подвинуть к морю лагеря, сначала расположенные на некотором расстоянии от берега, чтобы солдаты собственными руками перетаскали огромную массу земли, которую надлежало устранить.
Приказали устроить промывной шлюз, чтобы выкопать фарватер и придать ему нужную глубину. Двадцать тысяч деревьев, срубленных в булонских лесах, пошли на сваи для обоих берегов Лианы и для полукруглого бассейна. Часть деревьев, распиленных на доски, послужила для устройства широких набережных вдоль Лианы. Таким образом, многочисленные суда флотилии могли подходить и выстраиваться у этих набережных, принимать или выгружать людей, лошадей и материалы.
Город Булонь находился справа от Лианы, бассейн — слева, почти напротив города. Лиана текла между ними. Для свободного сообщения одного берега с другим поставили мосты выше того места, где начинался рейд.
Но этих обширных работ далеко не доставало для полноты дела. Большое морское заведение требует верфей, магазинов, казарм, хлебопекарней, госпиталей — словом, всего, что нужно для уборки огромного количества материалов, размещения здоровых и больных моряков, их питания и снабжения. В городе Булони заняли все дома, которые можно было превратить в канцелярии, магазины и госпитали. В окрестностях — все загородные дома и фермы, пригодные для того же. Войскам предстояло проживать
в открытом поле, в шалашах, построенных из остатков окрестных лесов. Тридцать шесть тысяч человек разделили на два лагеря, левый и правый. Сент-Омерский сбор, под командой генерала Сульта, явился для занятия этих позиций. Прочие корпуса должны были постепенно подвигаться к берегу по мере приготовления для них помещений. Войска имели в своем распоряжении большой запас леса для постройки шалашей и разведения костров, в эти импровизированные магазины отовсюду свозили огромные запасы провизии. Посредством внутреннего судоходства доставлялись мука, рис, овес, солонина, вино, бренди. Из Голландии привозили огромные количества сыра. Эти съестные припасы шли на ежедневное снабжение лагерей и двух флотилий, военной и транспортной. Можно себе представить, какие количества надлежало собрать!
Для размещения всей экспедиции оказалось недостаточно одной гавани. Булонь вмещала в себя только от 1200 до 1300 судов, а их надлежало разместить около 2300. Если бы даже порт вместил все необходимое число, то слишком долго было бы выводить их в море одним фарватером. В случаях морской непогоды очень невыгодно иметь одно только место прибежища. В четырех лье ниже к югу текла речка Канш, устье которой составляло извилистую, занесенную песками бухту, по несчастью открытую для всех ветров, с рейдом, совсем не столь надежным, как булонский. Там располагалась рыбачья гавань Этапль. На той же реке Канш, на расстоянии одного лье от берега, находилось укрепленное местечко Монтрёй. Там трудно было выкопать бассейн, но удалось бы наколотить ряд свай для причала судов и на сваях настлать деревянные набережные. Гавань эта могла служить довольно безопасным пристанищем для трех или четырех сотен судов. Выходить из нее можно было с помощью почти тех же ветров, как из Булони. Расстояние до Булони, равнявшееся четырем или пяти лье, несколько затрудняло слаженность операций, но это была второстепенная трудность. А пристанище для четырехсот судов представлялось настолько важным, что им не стоило пренебрегать.
Первый консул установил тут лагерь для войск, соединенных между Компьеном и Амьеном, поручив начальство над ними генералу Нею, возвратившемуся из поездки в Швейцарию. Лагерь назывался Монтрёйским. Центр армии располагался в Булони, Этапльский лагерь находился слева от центра.
Несколько севернее Булони, не доезжая мыса Грине, имелись еще две бухты, образуемые двумя речками, русла которых также были занесены илом и песком, но вода во время прилива достигала в них шести или семи футов. Одна бухта отстояла на лье, другая — на два лье от Булони, кроме того, обе они лежали под одним ветром. Здесь можно было поместить несколько сот судов и таким образом дополнить средства для всей флотилии. Первый консул приказал инженерам осмотреть местность, в случае удачи он намеревался двинуть туда войска и расположить их лагерем в шалашах, как в Этапле и Булони. Эти две гавани могли вместить до пятисот судов.
Оставалась батавская флотилия, которая собиралась принять корпус генерала Даву и по договору, заключенному с Голландией, оставаться независимой от эскадры, собранной в Текселе. К несчастью, вооружалась она не так деятельно, как французская, и еще не решили, отправить ее из Шельды к берегам Англии под охраной нескольких фрегатов или привести в Дюнкерк и Кале для отправления из гаваней, находившихся по правую сторону мыса Грине. Разрешение этого вопроса возложили на адмирала Брюи. Корпус генерала Даву, составлявший правое крыло армии, приблизился бы таким образом к ее центру. Даже надеялись, что с помощью расширения бассейнов и сужения лагеря можно провести его около мыса Грине и расположить в Амблетезе и Вимре. Тогда французская и батавская флотилии, в совокупности около 2300 судов, поднимая корпуса генералов Даву, Сульта, Нея и резерв, всего 120 тысяч человек, могли выступить одновременно, при одном и том же ветре, из четырех гаваней, находившихся внутри пролива. Два больших военных флота, планировавших выступить из Бреста и Текселя, должны были везти остальные 40 тысяч человек, назначение и действия которых составляли исключительную тайну Первого консула.
В дополнение ко всему прочему надлежало охранять берега от нападения англичан. Все понимали, что по примеру, поданному ими в 1801 году, англичане будут стараться истребить флотилию или сжигая ее в водоеме, или атакуя на рейдах. Итак, надлежало отнять у них возможность доступа как для защиты самых гаваней, так и для обеспечения себе свободного выхода и входа. Сделать это было нелегко, прежде всего по причине формы берега, который был прям, не представлял ни выемки, ни выпуклости и, следовательно, не давал никакого средства стрелять по дальним целям. Этот недостаток, однако, использовали самым замысловатым образом. Перед булонским берегом лежали на море две скалистые косы: одна по правую руку, коса Креш, другая по левую, Эр. Между ними находилось пространство в 2500 туазов, совершенно безопасное и очень удобное для стоянки на якоре. От двух до трех сотен судов могли там свободно поместиться в несколько линий. Исчезая под волнами во время прилива, эти скалы открывались при отливе.
Первый консул велел выложить на них два каменных укрепления полукруглой формы с прочными казематами, которые представляли бы два яруса для выстрелов и могли своим огнем защищать рейд, простиравшийся от одного укрепления до другого. Немедленно преступили к постройке. Морские и армейские инженеры с помощью каменщиков тотчас принялись за дело. Первому консулу хотелось закончить постройку к началу зимы, но он до того старался усилить предосторожности, что решил оборонить и середину линии — третьей опорной точкой. Эта опорная точка находилась против самого входа в гавань. Грунт состоял тут из песка, потому Первый консул придумал построить новое массивное укрепление — деревянное. Множество рабочих немедленно начали вколачивать сотни свай, которые послужили бы основанием для батареи в восемнадцать орудий 24-фунтового калибра. Очень часто сваи вбивались прямо под выстрелами англичан.
Независимо от этих трех пунктов среди самого моря, параллельно с булонским берегом, Первый консул велел уставить пушками и мортирами все сколько-нибудь выдающиеся места утесов и не пропустил ни одной точки, удобной для размещения артиллерии.
В таком виде окончательно утвердились обширные планы Первого консула. Постройка флотилии быстро подвигалась к концу — от берегов Бретани до берегов Голландии. Все труды надеялись окончить к зиме.
После Булони Первый консул посетил Кале, Дюнкерк, Остенде и Антверпен. Ему хотелось посмотреть эту последнюю гавань и удостовериться собственными глазами в справедливости весьма различных донесений, какие ему делали. Осмотрев город со свойственной одному ему быстротой и верностью взгляда, Наполеон уже нимало не сомневался в возможности превратить Антверпен в огромный морской арсенал. По его мнению, город имел особенные удобства: стоял на Шельде, прямо напротив Темзы, находился в постоянном контакте с Голландией посредством прекраснейшего внутреннего судоходства и, следовательно, располагал самым обильным запасом флотских материалов. По Рейну и Маасу в него без труда доставлялся лес с Альп, Вогезов, Шварцвальда, Арденн. Наконец, фламандские рабочие, привлекаемые близостью, предложили бы тысячи рук для постройки кораблей. Вследствие этих доводов Первый консул решился основать в Антверпене флот, корабли которого беспрестанно плавали бы между Шельдой и Темзой. Этим он мог чрезвычайно досаждать своим уже непримиримым неприятелям, англичанам.
Наполеон тотчас приказал отмерить пространство, необходимое для устройства обширных бассейнов, которые существуют до сих пор и составляют предмет гордости Антверпена. В этом новом порту Первый консул предполагал построить двадцать пять кораблей. Впоследствии он планировал постройки покрупнее, надеялся сравнять Антверпенскую гавань с гаванями Бреста и Тулона.
Из Антверпена Наполеон отправился в Гент, а затем в Брюссель. Бельгийский народ, вечно недовольный своим правительством, не очень радовался французскому управлению. Пламенность религиозных верований осложняла здесь более, чем где-либо, работу ведомства вероисповеданий. Первый консул сначала был встречен с некоторой холодностью или, точнее сказать, не с таким горячим восторгом, как в исконных французских провинциях. Но вскоре холодность исчезла, когда народ увидел генерала среди духовенства, почтительно присутствующим на религиозных торжествах вместе с женой, которая, несмотря на ветреность, была исполнена женской и еще старинной набожности. Архиепископом Ме-хельнским был де Роклор, прекрасный старец. Первый консул обошелся с ним как нельзя более уважительно, возвратил его родным значительные части секвестрированного имущества, часто появлялся перед народом в сопровождении этого бельгийского первосвященника и своим поведением сумел успокоить религиозные опасения местных жителей.
В Брюсселе его ожидал кардинал Капрара. Так как пребывание Первого консула в Брюсселе продлилось долее ожидаемого, то министры и консул Камбасерес приехали туда на совещание. Несколько членов дипломатического корпуса также явились для аудиенций. Таким образом, окруженный министрами, генералами, многочисленным и блестящим войском Бонапарт держал в столице Нидерландов двор, имевший вид вполне монархический. Можно было подумать, что германский император приехал посетить вотчину Карла V.
Время пролетело быстрее, нежели думал Первый консул. Многочисленные дела отзывали его в Париж. Он отказался пока от посещения рейнских провинций и отложил эту часть своего путешествия до второй поездки. Но, еще не выехав из Брюсселя, он встретился с персоной, возбудившей справедливое внимание публики.
Посетителем оказался господин Ломбард, личный секретарь короля Прусского. Молодой Фридрих-Вильгельм, не доверяя ни себе, ни другим, обыкновенно приостанавливал труды министров и подвергал их вторичной проверке, которую разделял со своим секретарем, Ломбардом, человеком умным и сведущим. Благодаря такой близости Ломбард приобрел в Пруссии очень большое влияние. Граф Гаугвиц, умея пользоваться всяким влиянием, искусно овладел расположением Ломбарда, так что король, переходя от советов министра к советам секретаря, слышал одни и те же внушения, то есть внушения
Гаугвица. Таким образом, приехав в Брюссель, господин Ломбард заменял Первому консулу и короля, и первого министра, а значит, представлял все прусское правительство, кроме двора, преданного исключительно королеве и не разделявшего мнений монарха.
Приезд Ломбарда в Брюссель являлся следствием тревоги кабинетов, поднявшейся после возобновления войны. Прусский двор находился в чрезвычайном затруднении, особенно после недавних изъявлений русского кабинета. Русский кабинет, как мы видели, желал вознаградить себя, разыгрывая значительную роль. С самого же начала он старался взяться за посредничество и поручал своих союзников благосклонности Франции. Успех первых попыток не мог удовлетворить его. Англия весьма равнодушно приняла его замечания, наотрез отказалась вверить Мальту его охранению и прервать неприятельские действия на то время, пока продлятся посреднические переговоры. Впрочем, она изъявила согласие на посредничество России, если новые переговоры станут касаться вообще всех европейских дел и, следовательно, обнимут все, что было постановлено в Люневильском и Амьенском договорах.
Принимать посредничество на подобных условиях значило отвергать его. Пока Англия давала такой ответ, Франция, со своей стороны, с полным уважением соглашалась на посредничество русского императора, однако не колеблясь заняла войсками страны, за которые вступалась Россия, то есть Ганновер и Неаполь. Петербургский двор был сильно задет таким невниманием к нему и обратился к Пруссии, приглашая составить среднюю партию, которая бы предписывала законы французам и англичанам, особенно французам, которые представлялись опаснее, хотя и вежливее англичан. Император Александр свиделся с прусским королем в Мемеле и заключил с ним договор о вечной дружбе, найдя в юном монархе много сходства с самим собой — сходство лет, ума, добродетелей. Часто переписываясь с ним, император уверял его, что они созданы друг для друга, что они единственные честные люди, оставшиеся в Европе, что в Вене господствует одно лукавство, в Париже — одно честолюбие, а в Лондоне — корыстолюбие и что им надлежит оставаться в тесном союзе, чтобы управлять Европой. С особенной прозорливостью старался император убедить короля, что Первый консул льстит ему притворно и король из-за мелочных интересов приносит ему опасные политические жертвы; что французы не ограничат этим свои присвоения, пойдут далее Ганновера, в самую Данию, чтобы овладеть Зундом; что англичане тогда будут блокировать Балтийское море, так же как блокировали Эльбу и Везер, и преградят последний путь торговле. Опасение России, впрочем, не могло быть искренно, потому что Первый консул не намеревался простирать свои владения до Дании и, по всей вероятности, не имел того даже в мыслях.
Внушения России казались не совсем справедливы, но тревожили прусского короля, уже сильно смущенного занятием Ганновера. Это занятие навлекло на Пруссию жестокие торговые притеснения. Граф Гаугвиц лишился половины своих доходов, что, однако, нимало не нарушило хладнокровия, составлявшего одно из достоинств его политического гения. Король, обремененный жалобами силезцев, вынужден был выдать этой провинции миллион талеров — очень тяжелое пожертвование для государя бережливого, старавшегося восстановить казну Фридриха Великого.
Встревоженный поведением русских и жалобами прусских торговцев, король Фридрих-Вильгельм, кроме того, боялся войти в связи, враждебные Франции, что перевернуло бы вверх дном всю его политику, зиждившуюся до тех пор на союзе с ней. Для прекращения такого тягостного, тревожного состояния и прислан был в Брюссель господин Ломбард. Ему поручили внимательно разглядеть генерала, постараться проникнуть в его намерения, убедиться, хочет ли он, как говорят в Петербурге, расширить свои завоевания до Дании и опасно ли в самом деле полагаться на этого необыкновенного человека. В то же время Ломбард должен был постараться выговорить некоторые уступки относительно Ганновера. Фридрих-Вильгельм желал, чтобы корпус войск, занимавших Ганновер, сократили до нескольких тысяч человек. Далее король добивался очистки от военного постоя одной небольшой гавани в устье Эльбы, Куксгавена. Эта маленькая гавань, находясь у самого входа в Эльбу, формально принадлежала Гамбургу, а на деле служила англичанам для поддержания их торговли. Если бы она, под видом гамбургского владения, оставалась свободной от неприятельского постоя, английская торговля шла бы в ней точно так же, как в мирное время. Тогда цель, которую Франция предполагала, не была бы достигнута: истина до такой степени бесспорная, что, когда в 1800 году Пруссия овладела Ганновером, то заняла и Куксгавен.
В вознаграждение этих двух уступок прусский король предлагал систему северного нейтралитета, который кроме Пруссии и Северной Германии простирался бы на новые германские государства, даже, быть может, на Россию, как, по крайней мере, надеялся Фридрих-Вильгельм. По его мнению, это обеспечило бы Франции миролюбие континентальных держав и дало ей полную свободу действий, чтобы сосредоточить все силы против англичан. Так звучали различные поручения, вверенные благоразумию господина Ломбарда.
Королевский секретарь отправился из Берлина в Брюссель с рекомендацией от Гаугвица Талейрану. Ему очень льстила перспектива увидеться и разговаривать с Первым консулом. Наполеон, уведомленный, с чем приехал Ломбард, принял его самым блестящим образом и употребил вернейшее средство к влиянию на его ум, а именно польстил ему беспредельным доверием, раскрытием всех своих планов, даже самых секретных. Впрочем, тогда он мог обнаруживать всего себя, не накликав опасности, и исполнил это с увлекательной прямотой и разговорчивостью. Он говорил Ломбарду, что не желает завоевывать больше ни пяди земли в Европе, что домогается только того, что державы и так уже признали за Францией явными или секретными договорами, соглашается признать независимость Швейцарии и Голландии и принял твердое решение не вмешиваться больше в германские дела. Он имеет в виду одну только цель — унять морское самовластие англичан, без сомнения тягостное для других так же, как и для него, потому что Пруссия, Россия, Швеция и Дания в течение двадцати лет дважды заключали союз для прекращения этого деспотизма.
Пруссии следует помочь ему в этой цели, потому что она является естественной союзницей Франции, получила в последние годы множество услуг от нее и может надеяться получить еще больше в будущем.
Но, чтобы ему остаться победоносным и признательным, требовалась поддержка, усердная и реальная. Двусмысленное доброхотство и более или менее обширный нейтралитет служили слабой помощью. Надлежало совершенно запереть германские берега, понеся, таким образом, некоторые временные тяготы, и объединиться с Францией открытым договором. Того, что с 1795 года называлось прусским нейтралитетом, оказалось недостаточно для обеспечения континентального мира. Для действительной прочности этого мира требовался официальный, публичный, оборонительный и наступательный союз Пруссии с Францией. Тогда уже ни одна из континентальных держав не отважилась бы на коварные умыслы. Англия осталась бы одна, вынужденная бороться с булонской армией. Если же к вероятностям этой борьбы присоединилось бы еще закрытие всех европейских рынков, то англичане вынуждены были бы или искать мира, или оказаться сокрушенными страшной экспедицией, готовящейся на берегах Ла-Манша. Но для этого, твердил Первый консул, нужен полный союз, искреннее и полное содействие. В таком случае он отвечает за успех, обещает осыпать выгодами свою союзницу и принести ей дар, которого она не просила, но пламенно желала в глубине души, — обладание Ганновером.
Прямодушием, пылкостью своих выражений, блеском ума Первый консул не заворожил, как потом говорила в Берлине противная партия, а убедил, увлек Ломбарда, наконец, уверил его, что не замышляет ничего против Германии и что наградой прямого и искреннего содействия Пруссии будет щедрое увеличение ее владений.
Касательно уступок, которые хотел выхлопотать посланник, Первый консул указал все невыгоды их. Оставить английскую торговлю неприкосновенной во время войны значило предоставить англичанам все преимущества. Первый консул даже объявил, что готов за счет французской казны вознаградить торговые убытки Силезии. Во всяком случае, если Пруссия решится заключить оборонительный и наступательный союз, он готов на некоторые уступки по желанию короля Фридриха-Вильгельма.
Убежденный, ослепленный, в восторге от приветливости великого человека, малейшим знаком уважения которого гордились даже государи, Ломбард поехал в Берлин с намерением передать королю и графу Гаугвицу все чувства, переполнявшие его собственную душу.
Первый консул, пощеголяв в Брюсселе блистательным двором и не имея больше никаких важных дел во Фландрии, отправился обратно в Париж, где ему предстояло сделать много дел в сфере администрации и дипломатии.
Продолжая в столице отдавать распоряжения по поводу великой экспедиции, Наполеон торопился окончательно определить свои отношения с главными континентальными державами. В опасениях Пруссии он ясно видел русское влияние, замечал то же влияние и в другом месте, а именно в нерасположении, какое оказывали ему в Мадриде.
В самом деле, испанский кабинет уклонялся от объяснений насчет выполнения Сан-Ильдефонского договора, говоря, что если русское посредничество еще позволяет надеяться на миролюбивое окончание дела, то следует подождать результатов этого посредничества, прежде чем решиться на что-нибудь окончательное. Русская дипломатия склонялась больше к Англии, нежели к Франции, и, казалось, не обращала внимания на почтительность одной и упорство другой страны. Новые предложения, присланные из Санкт-Петербурга, как нельзя яснее обнаруживали такое расположение. Россия объявила, что, по ее мнению, Англия должна отдать Мальту ордену Св. Иоанна Иерусалимского, но в вознаграждение не худо бы уступить ей остров Лампедузу, а кроме того — Франция-де обязана предоставить вознаграждение королю Сардинскому, признать и уважать независимость соседних с ней государств, очистить навсегда от войск не только Тарент и Ганновер, но также Этрурское королевство, Итальянскую республику, Швейцарию и Голландию.
Условия эти, допустимые в некоторых пунктах, оставались решительно недопустимы во всех прочих. Вознаградить Пьемонтского короля было для Первого консула нетрудно, и он соглашался употребить на этот предмет Парму или что-нибудь равноценное ей. Очистить от войск Тарент и Ганновер по восстановлении мира разумелось само собой, как естественное следствие мира. Но вывести войска из Итальянской республики, которая не имела собственной армии, из Швейцарии и Голландии, которым угрожала контрреволюция немедленно по удалении французских войск, значило отдать неприятелям Франции те государства, право располагать которыми она приобрела десятилетними войнами и победами. На такие условия Первый консул не мог согласиться.
Обсудив предложения России, он объявил, что всегда готов принять личный третейский суд самого государя, но отнюдь не переговоры, проводимые его кабинетом. Объявление Первого консула оканчивалось словами, носившими яркую печать его характера: «Первый консул употребил все меры к сохранению мира, его усилия оказались тщетными, и он убедился, что война стала приговором судьбы. Он поведет войну и не сдастся горделивой нации, перед которой уже двадцать лет склоняются все державы».
Как скоро нить переговоров оказалась прервана, Первый консул решил вынудить объясниться и отвечать Испанию. Каким образом думала она исполнить договор Сан-Ильдефонсо? Примет она участие в войне или останется нейтральной, доставив Франции денежное вспоможение вместо помощи войском и кораблями? До решения этого вопроса Первый консул не мог посвятить все свое внимание приготовляемой экспедиции.
Испании чрезвычайно не хотелось объясняться, и это нежелание поставило ее в самое неприятное положение относительно Франции. Обременительным оказалось следовать за соседней державой во всех превратностях ее политики, но, связав себя узами оборонительного и наступательного союза с Францией, Испания приняла на себя обязательство, последствия которого был бесспорны. Помимо этого обязательства, держава явно потеряла прежний свой благородный дух, иначе не решилась бы устраняться от действий в то время, когда в последний раз возник вопрос о морском первенстве. Если Англия одерживала верх, для Испании не существовало уже ни торговли, ни колоний, ни галеонов, ничего, что в течение трех веков составляло ее богатство и величие. Побуждая к действию, Первый консул вынуждал ее выполнить не только формальное обязательство, но и важнейшие обязанности испанского кабинета перед своим народом. Принимая в расчет бессилие Испании, он оставлял ей нейтралитет, давал возможность по-прежнему получать мексиканские пиастры и требовал только употребить часть их на войну, предпринятую для общей пользы, одним словом, выплатить долг деньгами, при невозможности оплатить его кровью.
Отношения Франции с Испанией, омраченные португальскими делами, а потом несколько исправленные, снова испортились так, что превратились в совершенно неприязненные. В Мадриде ежедневно роптали на уступку Луизианы взамен Этрурии, которую называли воображаемым королевством, потому что французские войска охраняли ее, не способную охранять себя самостоятельно. Особенно роптали на уступку Луизианы Соединенным Штатам. Говорили, что если Франции хотелось продать эту драгоценную колонию, то следовало бы обратиться к испанскому королю, а не к американцам, которые таким образом становились опасными соседями Мексики, и, если бы Франция отдала колонию Карлу IV, он уж сумел бы защитить ее от рук американцев и англичан. В самом деле смешно, что люди, готовившиеся потерять Мексику, Перу и всю Южную Америку, надеялись сохранить Луизиану, которая не являлась испанской страной ни по нравам, ни по духу, ни по языку.
Истинной причиной такой сварливости стал отказ Первого консула присоединить Пармское герцогство к Этрурскому королевству, отказ на этот раз невольный, потому что Наполеон должен был оставить в своем распоряжении какие-нибудь владения в пользу короля Пьемонтского, с тех пор как от него так настоятельно требовали вознаграждения этому государю. Притом же по уступке Луизианы Флорида не могла служить равноценным предметом обмена.
Мадридский кабинет не ограничился в отношении Франции одним нерасположением, а позволил себе самые явные предосудительные действия. Французская торговля начала терпеть жестокие притеснения: суда захватывали под предлогом контрабанды, а экипажи отправляли в крепости в Африке. Все жалобы французов оставались без внимания, французский посланник не мог уже добиться никакого ответа. В довершение на рейдах Альджезиры и Кадикса, под самыми выстрелами испанских пушек, англичанам дозволили захватывать французские суда, что и помимо всякого союза являлось нарушением границ, которого нельзя допускать. Под вымышленным предлогом карантина французский флот, укрывшийся в Ла-Корунье, держали вне рейда, где бы он мог находиться в безопасности. Экипажи погибали на борту из-за недостатка самых необходимых припасов, особенно живительного воздуха суши. Блокируемая английским флотом, эскадра не могла выйти в море — без отдыха, без починки, без обновления припасов и снарядов. Ничего этого ей не давали, даже за деньги. Наконец, оставив испанский флот в самом жалком расстройстве, занимались странными заботами о сухопутной армии и составляли отряды ополчения, как будто собираясь объявить Франции народную войну.
Первый консул не мог скрыть своего презрения к бесчестному временщику, тогда как английский поверенный, напротив, осыпал его ласками. А Франция больше всего требовала от него мужества и добросовестного управления испанскими делами: этого было достаточно, чтобы он возненавидел своих столь взыскательных союзников.
Приготовления в шестом лагере у Байонны ускорили до того, что он превратился в настоящую армию. Другой сбор войск предполагалось произвести со стороны Восточных Пиренеев. Главнокомандующим этими войсками был назначен Ожеро. Французскому посланнику приказали требовать от испанского двора удовлетворения всех обид, освобождения арестованных французов с вознаграждением их за потери, наказания комендантов Альджезиры и Кадикса, допустивших арест французских судов, возвращения захваченных судов, пропуска эскадры, приставшей в Ла-Корунье, немедленного ее ремонта и снабжения припасами, роспуска всех ополченцев. Наконец, в зависимости от желаний самой Испании, — или назначения денежной суммы или вооружения пятнадцати кораблей и 24 тысяч человек, согласно Сан-Ильдефонскому договору.
Генерал Бернонвиль должен был объявить князю Мира эти решительные условия, передать ему, что если мадридский двор будет еще упорствовать в своем безрассудном и предосудительном поведении, то справедливое негодование французского правительства обрушится на него, на князя Мира; что по переходе границы Франция расскажет всю правду испанскому королю и народу о позорном иге, которое угнетает их и от которого Франция хочет их освободить. В случае бесплодности такого представления Бернонвилю следовало потребовать аудиенции у короля и королевы, повторить им то же, что князю, а не получив удовлетворения, удалиться от двора и ожидать депеш из Парижа.
Сгорая от нетерпения в своем желании положить предел несносным оскорблениям, генерал Бернонвиль тотчас отправился к князю Мира, высказал ему все эти суровые истины, а чтобы тот не усомнился в серьезности угроз, показал ему несколько мест в депешах Первого консула. Князь Мира побледнел, уронил несколько слезинок, перешел от унижения к наглостям и обратно и наконец объявил, что кавалеру Азара предписано условиться в Париже с Талейраном и дело никак не касается его, князя Мира; что он только генералиссимус испанских армий и не имеет никакой другой должности в государстве; а потому с представлениями всякого рода следовало обратиться не к нему, а к министру иностранных дел. Он даже отказался принять ноту, которую Бернонвиль хотел вручить ему в заключение этого объяснения.
Выведенный из терпения генерал сказал ему: «У вас в передней, князь, дожидаются пятьдесят человек, я сделаю их свидетелями вашего отказа принять ноту, важную для пользы вашего государя. Пусть они подтвердят, что, если я не мог исполнить моей обязанности, виновны в том одни вы, а не я». Устрашенный князь наконец принял ноту, и генерал Бернонвиль удалился.
Стараясь выполнить свои инструкции во всей их обширности, генерал попросил свидания с королем и королевой.
Они казались изумленными, расстроенными, как будто не понимали, что происходит, и повторяли, что посланнику Азара посланы инструкции для устройства дел с Первым консулом. Французский посланник покинул двор, прервал все сношения с испанскими министрами и поспешил донести своему правительству о своих действиях и о ничтожности полученных результатов.
Действительно, Азара получил самое странное, самое неприличное и самое неприятное для него поручение. Даровитый и благоразумный испанец был искренним поборником союза Испании с Францией и личным приверженцем Первого консула еще со времени итальянских войн, когда играл роль примирителя между французской армией и папой римским. К несчастью, он не скрывал своего отвращения и печали, глядя на состояние испанского двора, и недовольный двор переносил вину своего унижения на посланника. В депешах, присланных ему из Мадрида, его упрекали, что он стал явным приспешником Первого консула, ни о чем не извещает свой двор, не умеет предохранить его от наглых требований. Говорили даже, что если бы Первый консул не дорожил его присутствием в Париже, то давно бы выбрали другого представителя. Таким образом, не осмеливаясь уволить, намекали об отставке. В заключение всего ему поручили предложить Франции денежное вспоможение по два с половиной миллиона в месяц, прибавляя, что только это и может Испания сделать, а больше платить она решительно не в состоянии. Азара передал предложение Первому консулу и вслед за тем послал с курьером в Мадрид просьбу о своем увольнении.
Первый консул призвал к себе секретаря посольства Германа, имевшего личные сношения с князем Мира, и поручил ему передать в Мадрид необходимые сведения. Герману следовало объяснить князю, что надлежит или покориться, или ожидать немедленного низвержения. Первый консул написал королю письмо, где излагал несчастному государю бедствия и посрамления его короны, однако так, чтобы пробудить в нем без оскорбления чувство собственного достоинства; потом предлагал ему на выбор или немедленно удалить от себя временщика, или ожидать немедленного вступления французской армии в пределы своего государства. Если князь Мира, повидавшись с Германом, не дал бы Франции полного удовлетворения тотчас, без отговорок, без новой переписки с Парижем, то Бернонвиль должен был потребовать торжественной аудиенции у Карла IV и подать ему в собственные руки громовое письмо Первого консула. Если в течение суток князя Мира не уволили бы, Бернонвилю следовало выехать из Мадрида, послав Ожеро приказание перейти границу.
Герман поспешно прискакал в Мадрид. Он явился к князю Мира, сообщил ему волю Первого консула и на этот раз нашел его уже не униженным и наглым, а только униженным. Испанский министр, убежденный, что защищает интересы отечества, служит достойным представителем своего государя, а не покрывает его позором, не устрашился бы ни опалы, ни смерти, но не разрешил бы иностранцам так распоряжаться собой. Но зазорность положения не внушила князю Мира ни малейшей твердости. Он покорился и уверил честным словом, что кавалеру Азара посланы инструкции с правом соглашаться на все требования Первого консула. Ответ его сообщили Бернонвилю. Генерал, имевший приказание требовать безотлагательного решения, а не довольствоваться отговоркой об инструкциях в Париже, объявил князю, что не имеет оснований доверять этим словам и требует подписания условий в самом Мадриде, иначе вручит королю роковое письмо. Князь Мира повторил свою жалкую отговорку о том, что в эту минуту все уже завершается в Париже согласно желанию Первого консула.
Генерал Бернонвиль счел своим долгом доставить королю письмо Первого консула. Руководящие королем князь и королева могли не допустить такой аудиенции, но тогда курьер отвез бы Ожеро приказание вступить в Испанию. Они нашли средство все уладить: посоветовали Карлу IV принять письмо, но убедили не вскрывать печати, потому что оно заключает выражения, могущие оскорбить его. Короля уверили, что, приняв письмо, он избавится от нашествия французской армии, а не читая его, соблюдет собственное достоинство. Дело устроили так: Бернонвиля приняли в Эскуриале в присутствии короля и королевы, без князя Мира, и он вручил испанскому монарху убийственное письмо. Карл IV с чистосердечием, свидетельствовавшим о полном неведении, сказал посланнику: «Я принимаю письмо Первого консула, потому что так надо, но скоро возвращу вам его, не вскрыв. Через несколько дней вы увидите, что ваша мера бесполезна, потому что кавалеру Азара поручено все завершить в Париже». После этого официального ответа король принял тон кротости, не совсем приличный престолу, заговорил в простоватых выражениях о пылкости своего друга генерала Бонапарта и о своем намерении извинить ему все, чтобы не разрывать союза дворов.
Посланник вышел в смущении, жестоко озадаченный такой сценой и решив подождать нового курьера из Парижа, прежде чем отправлять генералу Ожеро приглашение двинуть войска.
На этот раз князь Мира сказал правду: Азара точно получил необходимые полномочия для заключения условий, предписанных Первым консулом. Согласились, что Испания останется нейтральной державой; что взамен помощи, условленной в Сан-Ильдефонском договоре, она будет платить Франции денежное пособие по 6 миллионов в месяц, удерживая треть этой суммы на покрытие счетов, существовавших между тем и другим правительством; что Испания разом выплатит положенную сумму за четыре месяца, уже протекшие от начала войны, то есть 16 миллионов. Поверенный д’Эрва, занимавшийся в Париже финансовыми делами мадридского двора, должен был отправиться в Голландию и взять заем у банкирского дома Гопе под залог мексиканских пиастров. В договоре подразумевалось, что если Англия объявит Испании войну, то денежное вспоможение прекратится. В вознаграждение такой помощи решили в случае успешного осуществления планов Первого консула против Великобритании настоять на возвращении своей союзнице острова Тринидад, а в случае полного торжества — на возвращение знаменитой Гибралтарской твердыни.
По заключении договора Азара повторил свою просьбу об увольнении, хотя не имел никакого состояния и оставался вовсе без средств. Спустя несколько месяцев он умер в Париже.
Князь Мира имел еще неблагородство писать своему поверенному д’Эрва, поручая ему «устроить его личные дела с Первым консулом». По его словам, все происшедшее следовало считать просто недоразумением, размолвкой, вполне обыкновенной между людьми, которые любят друг друга и после того становятся дружнее прежнего. Вот каков был этот человек, вот каковы были сила и благородство его характера.
Стояла осенняя пора, приближалась зима. Один из трех случаев, признанных удобнейшими для перехода через пролив, должен был настать с зимними туманами и долгими ночами. Первый консул неутомимо трудился над своим великим предприятием. Окончание ссоры с Испанией оказалось очень кстати не только потому, что доставило денежные средства, но и потому, что отдало в распоряжение консула часть войск, имевшую совсем другое назначение. Сборы, которые предполагали проводить у Пиренеев, отменили, и корпуса, составлявшие их, двинулись к морю. Несколько корпусов поставили в Сенте, недалеко от рошфорской эскадры. Другим отдали приказ идти в Бретань, чтобы сесть на суда большой брестской эскадры.
Мало-помалу план созревал в уме Первого консула, и ему показалось, что с целью больше испугать английское правительство надлежит атаковать его внезапно с нескольких пунктов и часть 150-тысячной армии, предназначенной для высадки, следует повернуть на Ирландию. С такой целью и производились приготовления в Бресте. Министр Декре переговорил с ирландскими беглецами, которые уже старались отторгнуть от Англии часть своего отечества. Они обещали общее восстание ирландцев в случае высадки 18-тысячного войска с полным запасом снарядов и значительным количеством оружия. В награду за свои усилия они желали, чтобы Франция не заключала мира, не выговорив независимости Ирландии.
Первый консул соглашался на условия с тем, чтобы по крайней мере 20-тысячный корпус ирландцев присоединился к французской армии и сражался вместе с ней во время экспедиции. Ирландцы оказались доверчивы и щедры на обещания, но были в числе их и такие, кто не льстил большими надеждами, даже не сулил никакого деятельного содействия со стороны народа. Впрочем, по их уверениям, народ по крайней мере будет благосклонен к французам, а этого уже казалось довольно, чтобы придать опору французской армии, причинить затруднения Англии и вынудить к бездействию, может быть, сорок или пятьдесят тысяч ее солдат. Ирландская экспедиция имела еще ту выгоду, что держала неприятеля в неизвестности касательно настоящего пункта нападения. Недоумение, возникавшее на этот счет, само по себе могло считаться очень полезным результатом.
Наконец флот, находившийся в Ферроле, был пропущен, поставлен на ремонт и снабжен припасами, в которых жестоко нуждались экипажи. Тулонский флот готовился. В Голландии начали снаряжать эскадру больших кораблей и собирать шлюпки для составления батавской флотилии. Но именно в Булони все происходило с чудесным рвением и необычайной быстротой.
Убежденный, что надо наблюдать все собственными глазами, что самые надежные поверенные часто докладывают ошибочно, по невнимательности или по неведению, Первый консул обустроил себе жилище в Булони, где намерен был проживать часто. Он велел снять небольшой замок в местечке Пон-де-Брик и обустроить его так, чтобы он мог там располагаться со своей военной свитой. Вечером отправлялся он из Сен-Клу и, быстро проехав шестьдесят лье, расстояние от Парижа до Булони, на другой день к полудню приезжал на сцену своих огромных трудов, где не смыкал глаз до тех пор, пока не осматривал всего. Он требовал, чтобы адмирал Брюи, изнуренный усталостью и иногда расстроенный ссорами с министром Декре, жил не в Булони, а на самом берегу, на возвышенности, откуда виднелись гавань, рейд и лагеря. Там поставили глинобитную хижину, где этот незаменимый человек мог беспрестанно наблюдать все обширные приготовления, которыми заведовал. Чтобы удовлетворить неугомонную бдительность главы правительства, он решил поселиться в этом жилище, опасном для его расстроенного здоровья. Первый консул приказал и для себя построить такой же шалаш, неподалеку от адмиральского, и проводил в нем иногда день и ночь. От генералов Даву, Нея, Сульта он требовал, чтобы они безвыездно находились в своих лагерях, лично присутствовали на работах и маневрах и представляли ему ежедневные отчеты во всех подробностях. Генерал Сульт, отличавшийся драгоценным достоинством — бдительностью, приносил большую и постоянную пользу. Получив от своих подчиненных несколько ежедневных рапортов, на которые отвечал в ту же минуту, Первый консул ехал увериться лично в справедливости сделанных ему донесений, доверяя во всем только собственным глазам.
Англичане всячески старались помешать ходу работ, производившихся для обороны булонского рейда. Крейсеры их, обыкновенно судов двадцать, в том числе три или четыре корабля в семьдесят четыре пушки, пять или шесть фрегатов, десять или двенадцать бригов и корвет и несколько канонерских шлюпок, производили беспрерывную пальбу по французским рабочим. Ядра их, перелетая на берег, падали в гавани и в лагерях. Пальба их причиняла не много вреда, но много беспокойства и, при собрании большого количества судов, могла наделать между ими пагубные опустошения, а пожалуй, и пожар.
Однажды ночью, отважно подплыв на шлюпках, англичане напали на само место строительства деревянного укрепления, обрубили блоки, служившие для вбивания свай, и прервали работы на несколько дней. Это посягательство привело Первого консула в сильное негодование, и он отдал новые распоряжения, чтобы предотвратить возможность другого подобного покушения. Вооруженные шлюпки, сменяясь, как часовые, должны были стоять возле работ. Ободренные работники, подстрекаемые соревнованием, подобно солдатам, идущим на неприятеля, являлись на работы в присутствии английских кораблей, под огнем их артиллерии. Приниматься за дело можно было только во время отлива, когда верхи свай настолько обнажались от волн, что позволяли вбивать их. Рабочие брались за дело, даже не дождавшись отлива, оставались и по прошествии его и, стоя по пояс в воде, работали с песнями, под ядрами англичан.
Однако Первый консул, со своей неистощимой находчивостью, придумал новые меры к удалению неприятеля. Он велел поставить несколько опытов на берегу и попробовать пальбу из больших пушек, под углом 45 градусов, почти как стреляют из мортир. Опыт удался, ядра 24-фунтового калибра пролетали на 2300 туазов: англичане вынуждены были отдалиться на такое же расстояние. Этим он не ограничился: думая все о том же предмете, он первый изобрел средство, которое и ныне наносит страшные опустошения и оказывает важное влияние на морскую войну, а именно — пальбу по кораблям полыми ядрами. Он приказал стрелять в корабли из больших гаубиц, и ядра, взрываясь на дереве или в парусах, должны были производить или опасные бреши в корпусе корабля, или значительные повреждения в снастях. «В деревянные шпангоуты надо бить полыми ядрами», — писал он.
Ничто легко не делается, особенно когда надо бороться с закоренелыми привычками, и Наполеону приходилось несколько раз повторять одни и те же приказания. Вместо цельных ядер, которые, как молнии, пронизывают все встречное, но ограничиваются разрушением только в пределах своего диаметра, англичане увидели ядра, которые, правда, имели меньше ударной силы, но взрывались, как мины — то в боках корабля, то над головами его защитников. Они изумились и решили держаться поодаль от опасных выстрелов.
Наконец, для довершения безопасности, Первый консул изобрел еще одно столь же замысловатое средство. Он придумал установить подводные батареи из больших орудий и мортир, которые вода затопляла во время прилива и обнажала при отливе. Немало труда стоило утвердить платформы, на которые ставились пушки. Однако их все-таки успели установить и во время отлива, то есть в рабочую пору, когда англичане явились мешать работам, их встретили артиллерийские залпы, грянувшие вдруг с пределов отлива: огонь как будто подвигался или отдалялся вместе с самым морем. Батареи эти использовались только в продолжение строительства, дальше они сделались ненужными.
Деревянное укрепление закончили еще прежде, благодаря самой конструкции постройки. Поставлены были твердые платформы на сваях, на несколько футов выше самой высокой воды. Укрепление вооружили десятью орудиями крупного калибра и несколькими сильными мортирами. Как скоро оно открыло пальбу, англичане перестали появляться у входа в гавань.
Все прибрежные утесы вооружили 24-фунтовыми и 36-фунтовыми орудиями и мортирами. Около 500 пушек пошло на батареи. Берег сделался неприступным и англичане и французы прозвали его Железным берегом.
Между тем строительство каменных укреплений заканчивали без иной помехи, кроме моря. Особенно после наступления зимы волны иногда так свирепели от ламан-шских ветров, что потрясали и заливали самые прочные и высокие постройки. Они дважды уносили целые ряды кладки и сталкивали в море с начатых стен самые крупные камни. Однако французы продолжали строить эти два важных укрепления, необходимых для безопасности рейда.
Во время работ войска, подвинутые к берегам, строили свои шалаши, располагая лагеря в виде настоящих военных городков, разделенных на кварталы, пересекаемые длинными улицами. Окончив это дело, они разместились около булонского бассейна. Работу распределили так: каждому полку приказали вынуть известную часть огромного слоя песка и ила, наполнявшего отмель. Одни копали само русло Лианы или полукруглый бассейн, другие сколачивали сваи под набережные. Гавани Вимре и Амблетезы, строительство которых тоже оказалось возможным, были уже начаты. Другие отряды войск трудились над прокладкой дорог, чтобы соединить гавани между собой и с окрестными лесами.
Войска, выполнявшие эти тяжелые работы, сменяли друг друга, и те, кто переставал копать землю, переходили к маневрам для усовершенствования своего военного мастерства. Одетые в грубые рабочие комбинезоны, предохраняясь обувью на толстой деревянной подошве от мокрой почвы, будучи прилично размещены и накормлены, живя на открытом воздухе, солдаты отличались отличным здоровьем, несмотря на суровый климат и самую ненастную пору года. Довольные, занятые, исполненные уверенности в необходимости своего предприятия, они с каждым днем приобретали ту двоякую физическую и моральную силу, с которой им суждено было покорить мир.
Настало время собрать флотилию. Постройку лодок почти везде завершили, их спустили к устьям рек, оснастили и вооружили в гаванях. Плотники, освобожденные от работы внутри государства, были распределены по отрядам и препровождены в Булонь и окрестные гавани. Предполагалось использовать их искусство на содержание и необходимый ремонт флотилии, когда она соберется.
Отделения флотилии, следующие в Булонь, планировали выступить со всех пунктов берега, от Байонны до Тек-селя, и собраться в проливе Кале. Им надлежало идти вдоль берега и садиться на мель в случае слишком горячего преследования со стороны английских крейсеров. Один или два непредвиденных случая внушили Первому консулу мысль о вспомогательной мере, сколь замысловатой, столь и верной. Он увидел, что жители ближних селений помогли нескольким шлюпкам, которые спасались от неприятеля, пришвартоваться к берегу. Заметив это обстоятельство, он велел расставить вдоль берега многочисленные кавалерийские отряды, разделенные по округам, имевшие при себе конные артиллерийские батареи, приученные маневрировать с чрезвычайной быстротой и скакать галопом по сплошным пескам, которые море осушает во время отлива. Эти эскадроны должны были беспрестанно объезжать берег, подаваться вперед или назад вместе с морем и оборонять своими выстрелами шедшие суда. Обыкновенно конная артиллерия бывает малого калибра, Первый консул велел употреблять даже 16-фунтовые орудия, перевозимые столь же быстро, как 4- и 8-фунтовые. Он требовал и добился, чтобы каждый кавалерист, приспособившись ко всем родам службы, умел спешиваться, стрелять из орудий или с карабином являться на помощь матросам, выкинутым на берег. «Надо напомнить гусарам, — писал он военному министру, — что французский солдат должен быть и кавалеристом, и мушкетером, и канониром». Начальство над всей кавалерией доверили двум генералам, Лемарруа и Себастиани.
Эти меры принесли отличные результаты. Суда собирались партиями в тридцать, пятьдесят, даже шестьдесят парусов. Приняли решение, что они начнут выходить в конце сентября из Сен-Мало, Гранвиля, Шербура, Гавра, Сен-Валери. По ту сторону Бреста оставалось немного судов, но англичане сторожили эту часть французского берега так тщательно, что рисковать не решались. От пункта отбытия до пункта назначения суда вел не один командир. Рассудили, что флотский офицер, подробно знавший британские берега, мог не так хорошо знать берега Нормандии или Пикардии. Оттого их распределяли по знанию местности, и, подобно каботажным лоцманам, они не выходили за предписанную им черту. На границе своего участка каждый принимал партию судов и сопровождал ее до соседнего участка. Таким образом управление переходило из рук в руки до самой Булони.
В последних числах сентября 1803 года первое отделение, состоявшее из шлюпок, канонерских лодок и полубаркасов, отправилось из Дюнкерка, вокруг мыса Грине, в Булонь. Капитан Сент-Оэн, командовавший этим отделением, отличный офицер, только чересчур отважный, шел тем не менее с большой осторожностью. Находясь на высоте Кале, он встревожился обстоятельством в действительности маловажным: английские крейсеры скрылись на его глазах, как будто погнавшись за другими судами. Он побоялся оказаться атакованным многочисленной эскадрой и, вместо того чтобы постараться дойти до Булони, зашел в гавань Кале. Адмирал Брюи, узнав об этой ошибке, сам прискакал на место, чтобы, если удастся, поправить дело. Англичане точно вскоре явились в очень большом числе: стало очевидно, что они намеревались направить все силы на Кале, чтобы не дать флотилии из нее выйти. Адмирал поехал в Дюнкерк поторопить формирование второй дивизии и двинуть ее на помощь первой.
Англичане находились у Кале со значительными силами, включающими несколько судов с бомбардами. Двадцать седьмого сентября они пустили множество бомб на город и гавань. Огонь убил двух человек, но не повредил ни одного суда. Конные батареи, во весь опор прискакав на берег, отвечали англичанам сильным огнем и вынудили их удалиться.
Наутро адмирал Брюи приказал дивизии Сент-Оэна выйти в море, встретить неприятельские крейсеры, отвратить вторичную бомбардировку и, смотря по возможности, обогнуть мыс Грине, чтобы достигнуть Булони. Вторая дюнкеркская дивизия получила приказ выступить в то же время под командованием капитана Певрие и поддержать первую. Контр-адмирал Магон, командовавший в Булони, со своей стороны планировал выступить из порта со всеми наличными силами и держаться под парусами для оказания помощи этим двум дивизиям, если им удастся обогнуть мыс Грине.
Утром 28 сентября капитан Сент-Оэн отважно выступил из Кале и подался в море на расстояние пушечного выстрела. Англичане тронулись с наветренной стороны. Искусно пользуясь этим движением, отдалявшим его от неприятеля, капитан Сент-Оэн на всех парусах пустился к мысу Грине. Но англичане вскоре настигли его и открыли по флотилии сильный пушечный огонь. Казалось, десятка два неприятельских судов должны были потопить французские легкие суда, но ничего подобного не случилось. Капитан Сент-Оэн продолжал путь под английскими ядрами, не терпя от них большого вреда. В то же время прискакали на берег конные батареи и начали успешно отвечать на выстрелы английских кораблей. Наконец в полдень капитан Сент-Оэн прибыл на булонский рейд и был встречен отрядом под началом Магона.
Вторая дюнкеркская дивизия в свою очередь уже показалась в виду мыса Грине. Но, задержанная затишьем и отливом, она вынуждена была остановиться по ту сторону мыса, у открытого берега, и находиться в таком положении до тех пор, пока перемена течения донесет ее до Булони. У мыса Грине дивизию ожидали пятнадцать английских судов, фрегатов, корветов и бригов. Это место оказалось глубже, английские крейсеры имели возможность приблизиться к берегу, а французским судам не удалось сесть на мель, потому надлежало опасаться за их участь. Но и эти суда прошли подобно предыдущим: французские солдаты гребли с редкой неустрашимостью, а англичане терпели от береговых батарей больше вреда, чем сами могли наносить шлюпкам.
Булонская флотилия и дивизия Сент-Оэна, возвратившиеся наконец в гавань, снова выступили для встречи дивизии Певрие и сошлись с ней у Тур-де-Круа, перед Вимрё. Соединившись, все три дивизии выстроились в линию, повернув к англичанам свои пушки, пошли прямо на неприятеля и открыли жестокий огонь. Пальба продолжалась два часа. Французские легкие суда иногда попадали в большие английские корабли, но те редко могли ответить тем же и наконец отплыли в открытое море.
Это сражение, за которым потом следовало много других, более важных и губительных, оказало решительное действие на дух флота и армии. Все убедились, что большие корабли не так-то легко могут топить мелкие суда, а последние чаще способны вредить своим гигантским противникам, нежели терпеть от них вред. Стало ясно, какой поддержкой может служить содействие сухопутных войск, которые отлично гребли и управляли флотской артиллерией, особенно же выказали бесстрашие в отношении моря и большое усердие в помощи матросам.
В октябре, ноябре и декабре в Булонь пришли около тысячи судов, отправленных из всех гаваней. Из всего этого числа англичане захватили не более трех или четырех, и море разбило не больше десяти или двенадцати.
Краткие и частые переезды подали повод ко множеству полезных наблюдений. Обнаружилось превосходство канонерских шлюпок перед лодками. Недостатки лодок происходили от их устройства, а устройство зависело от необходимости ставить на них полевую артиллерию, и потому поделать ничего было нельзя. Полубаркасы представляли верх совершенства относительно изворотливости и быстроты. Впрочем, все суда ходили нормально даже без парусов. Кое-какие перемены в нагрузке могли исправить их несовершенство.
Опыт, приобретенный в переездах, привел к перемене в размещении артиллерии по всей флотилии. Раньше большие пушки, находившиеся на носу и корме судов, вставляли в пазы, в которых они могли двигаться взад или вперед только по прямой линии. Потому, для того чтобы произвести выстрел, суда вынуждены были поворачиваться к неприятелю носом или кормой, а на ходу и вовсе не могли отвечать на огонь англичан. На рейде течение заставляло их принимать положение, параллельное берегу, следовательно, приходилось обращаться к неприятелю безоружными боками. Испытав стойкость судов и упрочив ее лучшей системой нагрузки, переменили способ постановки орудий, а кроме того, изготовили лафеты, похожие на полевые, позволявшие стрелять во все стороны. Таким образом, суда на рейде и на ходу могли производить выстрелы, несмотря на свое положение, а шлюпки могли делать по четыре выстрела во всякую сторону. При некотором навыке сухопутные и морские солдаты могли производить такую стрельбу метко и безопасно для себя.
Больше всего старались установить полное согласие между матросами и солдатами, занимая одни и те же суда одними и теми же войсками. Вместительность канонерских шлюпок и лодок была рассчитана так, чтобы они поднимали, кроме нескольких артиллеристов, и роту пехоты. На этом основали общую организацию флотилии. Батальоны состояли из девяти рот, полубригады — из двух действующих батальонов и третьего резервного. Согласно такому составу девять шлюпок или лодок составляли отделение, принимая девять рот или батальон. Два отделения образовывали дивизию и поднимали на борт полубригаду. Таким образом, лодка или шлюпка соответствовала роте, отделение — батальону, а дивизия — полу-бригаде. Флотские офицеры высокого ранга командовали шлюпками.
Для установления более тесных связей войск с флотилией каждую дивизию прикрепили к известной полубри-гаде, а каждую шлюпку — к известной роте. Войска постоянно удерживали за собой одни и те же суда, свыкаясь с ними, подобно тому как кавалерист свыкается со своей лошадью.
На судне постоянно находились двадцать пять человек из роты. Они проводили на борту около месяца, в течение которого жили вместе с экипажем, находилось ли судно в море, на маневрах или стояло в гавани. Они исполняли на нем все то же, что и матросы, помогали маневрам, учились грести и палить из пушек. После месяца такой жизни они сменялись другими двадцатью пятью солдатами той же роты, которые также в течение месяца занимались теми же флотскими упражнениями. Таким образом каждый становился попеременно сухопутным и морским солдатом, артиллеристом, мушкетером, матросом, даже инженерным рабочим. Матросы также участвовали во взаимном обучении, упражнялись в пехотной службе. Таким образом получалось лишних 15 тысяч мушкетеров, которые, по высадке в Англии, могли защищать флотилию вдоль берегов, где бы она пристала.
Упорядочив этот предмет, занялись другим, столь же важным, а именно нагрузкой судов. Во время одной из своих поездок Первый консул приказывал несколько раз нагружать и разгружать в своем присутствии некоторые суда и тут же определил способ их нагрузки. Для балласта назначили ядра и военные снаряды в количестве, потребном для продолжительной кампании. В трюмах поместили сухари, вино, бренди, солонину, голландский сыр для питания в течение двадцати дней всей массы войск, составлявших экспедицию. Таким образом, военная флотилия должна была везти, кроме армии с ее четырьмястами орудиями при парных упряжках, снаряды на целую кампанию и съестные припасы на двадцать дней. Транспортная флотилия, как мы говорили, везла остальных артиллерийских лошадей, половину кавалерийских лошадей, на два или на три месяца съестных припасов и весь багаж. На каждую дивизию военной флотилии приходилась дивизия транспортных судов. На всяком судне артиллерийский унтер-офицер смотрел за снарядами, а пехотный унтер-офицер — за припасами. Так как весь тяжелый багаж постоянно находился на борту, всегда можно было в несколько часов выступить в море.
В силу беспрестанных упражнений войска скоро стали исполнять все маневры с быстротой и ловкостью. Каждый день во всякую погоду, кроме бури, выступали сто или полтораста судов и маневрировали или стояли на рейде ввиду неприятеля, а потом производили примерную высадку вдоль берегов. Не оставалось ни одной детали высадки на неприятельский берег, которую бы не предвидели; к испытаниям прибавляли все трудности, какие только могли возникнуть, даже трудность маневрирования в темноте.
Разнообразие сухопутных и морских упражнений, маневры и тяжелая работа занимали солдат, страстных до приключений, исполненных мечтательности и славолюбивых, подобно их знаменитому вождю. Надежда свершить чудо сообщала моральную силу. Таким образом мало-помалу готовилась эта беспримерная армия, которой суждено было завоевать всю Европу в два года.
Первый консул проводил часть своего времени среди войск и сам преисполнялся уверенности, видя их такими бодрыми, ловкими, обнадеженными. Они же, в свою очередь, черпали в его присутствии беспрерывное вдохновение. Он появлялся верхом то на возвышенностях, то на плоском берегу, разъезжая галопом по пескам из одной гавани в другую; иногда садился в легкий полубаркас и отправлялся наблюдать стычки канонерских шлюпок с английскими крейсерами. Нередко Наполеон нарочно пренебрегал опасностями моря, а однажды, отплыв осматривать якорную стоянку несмотря на очень дурную погоду, упал в воду близ берега, когда возвращался в свой челнок. К счастью, тут можно было достать дно. Матросы кинулись в море, составили плотную группу против напора волн и понесли его на плечах.
С чрезвычайным нетерпением ждал он исполнения своего великого предприятия. Сперва предполагалось начать его на исходе осени, потом отложили до начала или до половины зимы. Но работы день ото дня расширялись: разные улучшения приходили на ум то ему, то адмиралу Брюи, и требовалось время на их внедрение. Обучение солдат и матросов только выигрывало от этих неизбежных отсрочек: собственно, даже после восьми месяцев опыта можно было отважиться на экспедицию, но еще с полгода требовалось, чтобы завершить экипировку и вооружение и обучить в полной мере сухопутные и морские силы.
Важные причины потребовали новой отсрочки: дело остановилось из-за батавской флотилии, которая должна была везти правый фланг армии под командой генерала Даву. Первый консул изъявил желание видеть при себе какого-нибудь отличного офицера голландского флота, и ему прислали контр-адмирала Вергуэля. Прельстившись хладнокровием и умом этого моряка, Наполеон потребовал, чтобы именно ему поручили все заботы по составлению батавской флотилии. Его желание было исполнено, и составление пошло с желанной быстротой. Батавская флотилия, стоявшая на Шельде, готовилась отправиться в Остенде, поскольку плавание между такими отдаленными друг от друга пунктами, как Шельда и Булонь, признали опасным. Из Остенде надеялись препроводить флотилию в Амблетез и Вимрё.
Остальные две части армии были не готовы: брестская эскадра, собиравшаяся высадить корпус Ожеро в Ирландии, и голландская эскадра, включавшая 20-тысячный корпус, который стоял лагерем между Утрехтом и Амстердамом. Эти-то два корпуса, присоединившись к 120 тысячам булонского лагеря, составляли всю армию в 160 тысяч человек, не считая матросов.
Наконец, предстояло обеспечить еще одно условие успеха, которое Первый консул считал настоящим ручательством за верность предприятия. Суда, уже испытанные в деле, могли очень легко преодолеть десять лье пролива, потому что, направляясь в Булонь, большая часть их проплыли по сто и по двести лье и своим сплошным мелким огнем они часто с успехом отвечали на крупный огонь кораблей. Они имели шанс пройти невредимо, тайком, либо в летнее затишье, либо в зимние туманы. В самом неблагоприятном случае, если бы им довелось встретить двадцать пять или тридцать корветов, бригов и фрегатов английского флота, они все должны были плыть своим путем, даже пожертвовав сотней шлюпок или лодок. Но оставался один случай, при котором всякая дурная вероятность исчезала, а именно — если большая французская эскадра, нечаянно появившись в проливе, прогнала бы из него английские крейсеры, заняла Ла-Манш в течение двух-трех дней и прикрыла собой переправу французской флотилии. В таком случае не оставалось уже ни малейшего сомнения; все возражения против предприятия уничтожались разом, кроме разве нечаянной бури, случайности, несбыточной при хорошем выборе времени и никогда не принимаемой в серьезный расчет. Но для этого третья крупная эскадра, тулонская, должна была находиться в полной готовности, а об этом еще речь не шла. Первый консул оставил ее для исполнения какого-то великого замысла, остававшегося тайной для всех, даже для морского министра. План этот постепенно созревал в уме Первого консула, и он не говорил о нем никому ни слова, оставляя англичан в убеждении, что флотилия ограничивается собственными силами.
Столь отважный в замыслах, Первый консул в их воплощении проявил высочайшее благоразумие. Несмотря на то что он располагал 120-тысячной армией, Наполеон не решался тронуться с места без поддержки тексельского и прочих флотов, необходимых для очистки пролива от неприятеля глубоко обдуманным маневром. Первый консул старался соединить все эти средства к февралю 1804 года и надеялся преуспеть в своих усилиях, как вдруг важные события внутри республики завладели его вниманием и на время отвлекли от великого предприятия, на которое устремлены были взоры целого мира.
ЗАГОВОР ЖОРЖА
При виде приготовлений, происходивших напротив ее берегов, Англия начала не на шутку тревожиться, хоть поначалу обращала на них мало внимания.
Вообще, для островного государства, которое участвует в великой борьбе народов только посредством флота, почти всегда победоносного, или армий, посылаемых только в виде вспомогательных, война не очень опасное состояние: она не нарушает общественного спокойствия, даже не вредит обыкновенному течению дел. Разительным доказательством тому служит прочность кредита в Лондоне во времена самых кровопролитных войн. Прибавим еще, что армия набирается из наемников, а флот состоит из моряков, которым все равно, жить на казенных или на торговых кораблях, а призы служат для них, напротив, серьезной приманкой. Для подобного государства война — это задача, разрешаемая одними налогами, род спекуляции, в которой миллионы употребляются на приобретение просторнейших торговых рынков. Только для аристократических классов, которые командуют флотами и армиями, проливают при этом свою кровь, наконец, столько же заботятся о славе отечества, сколько о приобретении новых рынков, война имеет свою обычную важность и свои опасности, не достигающие, однако, никогда крайней степени.
Такую-то войну предвидели для своего отечества лорды Уиндхем и Гренвиль и слабое правительство, действовавшее по их указаниям. Они слышали, еще во времена Директории, о строительстве плоскодонных судов, но перестали верить слухам, поскольку они не подтвердились. Сэр Сидней Смит, будучи опытнее своих соотечественников, ибо видел высадку в Египте французов, турок и англичан, говорил на парламентском слушании,
что действительно можно собрать в Ла-Манше десятков шесть или восемь канонерских шлюпок, даже, пожалуй, сотню, но ни под каким видом нельзя собрать больше, а 25 или 30 тысяч войска составляют крайний предел сил, какие можно высадить в Англии. По его мнению, наибольшая предвидимая опасность заключалась в высадке в Ирландии французской армии вдвое или втрое многочисленнее той, какая уже высаживалась некогда на этом острове, армии, которая, больше или меньше взволновав и опустошив страну, кончила бы, подобно предыдущей, тем, что оказалась бы разбитой и вынужденной сложить оружие. Сверх того, в Европе все еще оставалась по отношению к Франции скрытная неприязнь, которая скоро открылась бы вновь и перетянула силы Первого консула на сторону континента. Следовательно, вся опасность ограничивается разве что такой же войной, какая случилась во время революции: сам факт этой войны непременно предоставит Англии выгоду новых морских приобретений. По стечению множества несчастий и ошибок подобные расчеты оправдались на деле, но мы увидим, что в продолжении нескольких лет чрезвычайно серьезные опасности угрожали самому существованию Великобритании.
Уверенность англичан рассеялась при виде приготовлений, производившихся на булонском берегу. Они услышали о 1000 или 1200 плоскодонных судов; не зная, что число судов превышает 2000, изумились, однако скоро успокоились, не веря в возможность собрать суда и поместить их в гаванях Ла-Манша. Но сбор плоскодонных судов в Кале, последовавший несмотря на сопротивление многочисленных английских крейсеров, исправность судов в плавании и стрельбе, строительство обширных лагун для их размещения, установка грозных батарей для защиты судов, сосредоточение 150-тысячной армии, готовой сесть на суда, разрушали одно за другим их горделивую уверенность. Стало ясно, что подобные приготовления не могли делаться притворно, что Англия неосторожно вооружила против себя отважнейшего и искуснейшего из людей. Были, конечно, старики, уверенные в неприкосновенности своего острова, но правительство и предводители партий понимали, что при всех сомнениях нельзя отдавать на волю случая безопасность британской земли. Двадцать или тридцать тысяч французов, как бы ни были храбры, под чьим бы началом ни находились, не могли устрашить их, но 150 тысяч под предводительством Бонапарта вселяли трепет во всех. И это не являлось доказательством трусости: храбрейший народ в мире имел полное право встревожиться при виде армии, которая совершила столько великих подвигов и готовилась совершить еще больше.
Апатия континентальных держав усиливала опасность положения. Австрия не хотела за 100 или 200 миллионов навлекать на себя удары, приготовленные для Англии. Пруссия, если не в силу сочувствия, то в силу выгоды, оказывалась на стороне Франции. Россия порицала обе воюющие стороны, становилась судьей их поступков, но не заступалась формально ни за ту, ни за другую. Если французы не переступят пределов Ганновера к северу, то, по крайней мере пока, не оставалось надежды склонить русский двор к войне.
Приготовления должны были соразмеряться с опасностью. Флот не требовал больших работ, чтобы сохранить свое превосходство над французским. С самого же начала, готовясь к разрыву, вооружили шестьдесят линейных кораблей и набрали восемьдесят тысяч матросов. Потом, по объявлении войны, число кораблей увеличили до семидесяти пяти, а число матросов — до ста тысяч. Сто фрегатов и огромное множество бригов и корветов дополняли вооружение. Нельсон, с отборной эскадрой, планировал занять Средиземное море, блокировать Тулон и препятствовать новому покушению на Египет. Лорд Корнуоллис, с другой эскадрой, получил приказ блокировать Брест лично, а Рошфор и Ферроль — через подчиненных. Лорд Кейт, главнокомандующий всех морских сил на Ла-Манше и в Северном море, охранял английские и наблюдал французские берега. Вторым начальником являлся Сидней Смит: с 74-пушечными кораблями, фрегатами, бригами, корветами и несколькими канонерскими шлюпками крейсировал от устья Темзы до Портсмута и от Шельды до Соммы, с одной стороны прикрывая английский берег, с другой — блокируя французские гавани. Цепь легких судов, сносившихся между собой сигналами по всему протяжению моря, давала знать о всяком движении, примеченном во французских портах.
С помощью таких мер англичане надеялись привести в бездействие французские эскадры Бреста, Рошфора, Ферроля, Тулона и учредить над проливом достаточно надежный надзор. Но этого оказалось бы мало при опасности совершенно иного рода, когда нашествие угрожает самой британской земле. Моряки, видя приготовления Первого консула, на вопрос об их мнении почти все отозвались, что при тумане, штиле и длинной ночи французы могли бы, пожалуй, и высадиться на английский берег. Конечно, новый фараон мог погибнуть в волнах, не достигнув берега, однако если бы он высадился даже с сотней тысяч человек, то кто бы устоял против него? Надменная нация, которая так мало заботилась о бедствиях континента и не побоялась возобновить войну, привыкнув вести ее чужой кровью и тратя только золото, теперь ограничивалась собственными силами и вынуждена была вооружиться, а не вверять защиту своей земли наемникам. Гордая своим флотом, Англия жалела, что не выставляет сухопутных войск против грозных солдат Наполеона.
Предметом всех совещаний нижней палаты парламента стало в это время формирование армии. А поскольку дух партий проявляется пламеннее всего среди величайших опасностей, то в военном вопросе и в способах ведения войны состязались главнейшие лица парламента.
Слабое правительство сохранило власть несмотря на свои ошибки, некоторое время оно еще порывалось руководить ходом действий во время этой войны, которую допустило так легкомысленно, так непростительно. Большинство парламента знало неспособность правительства к делу, которое оно взяло на себя, но, не желая настаивать на немедленной смене кабинета, поддерживало его против нападений противников, даже против Питта, которого, однако, желало видеть во главе управления. Этот могущественный политик возвратился в парламент, руководимый своим тайным нетерпением, величиной опасности и личной ненавистью к Франции. Однако, будучи умереннее своих сподвижников, он увидел из распределения парламентских голосов, что надлежит стать еще умереннее. Питт участвовал во всех совещаниях почти в качестве премьер-министра, но не столько противоречил мерам правительства, сколько подкреплял и дополнял их.
Главной из мер являлось формирование армии. Англия владела армией, рассеянной по Индии, Америке, по всем постам Средиземного моря. Она состояла из ирландцев, шотландцев, ганноверцев, гессенцев, швейцарцев, даже мальтийцев: была набрана с помощью искусства вербовщиков, почти повсеместного в Европе до установления системы сборов. Эта армия включала до 130 тысяч человек. (Известно, что из 130 тысяч только при очень хорошем управлении остается тысяч 80, способных к действительной службе.) К этой силе, которая почти на треть была занята охраной Ирландии, присоединялись 70 тысяч человек ополчения, но это народное войско представлялось невозможным вывести из его родных провинций, и оно никогда не сталкивалось с противником под огнем. Им командовали отставные офицеры, английские дворяне, исполненные патриотизма, но малосведущие в военном деле и вовсе не способные противостоять войскам, победившим европейскую коалицию.
Как помочь такой нехватке сил? Кабинет, окруженный военными советниками, решил составить так называемую резервную армию в 50 тысяч человек из англичан, которых следовало набирать по жеребьевке: эти солдаты могли служить только в границах Соединенного Королевства. Мера, предложенная правительством, была не слишком перспективной, но ничего лучшего пока получиться и не могло. Лорд Уиндхем, став на точку зрения военной партии, доказывал неудовлетворительность этого предложения и требовал создания большой линейной армии, которую наберут на тех же основаниях, как французскую, то есть через призыв. Эта армия находилась бы в полном распоряжении правительства и могла бы перемещаться согласно его воле по всей стране. «Алмаз надо резать алмазом», — говорил Уиндхем.
Англия, уже имевшая флот, желала иметь и сухопутную армию (вполне понятное честолюбие, ибо редко бывает, чтобы нация при одном из двух первенств не пожелала иметь и другое). Но Питт отвечал на эти предложения в холодном и догматическом духе. Он соглашался, что все предложения Уиндхема очень хороши, но где взять возможность создать армию в несколько дней? Каким образом подготовить ее к войне? Как подобрать кадры, где взять опытных офицеров? Подобное дело нельзя провернуть в минуту. Только идея кабинета исполнима в настоящее время. Немало труда потребуется уже и на то, чтобы собрать эти 50 тысяч человек, обучить их, снабдить офицерами. Питт заклинал своего друга отступиться от высказанных мыслей по крайней мере на время и согласиться на планы правительства.
Уиндхем не слушался советов Питта и настаивал на своем. Он даже потребовал поголовного призыва, какой провели во Франции в 1792 году, и укорял Аддингтона, что тот позабыл это великое средство спасения народов. Враг Франции и Наполеона, он, таким образом, восхвалял то, что больше всего ненавидел, почти преувеличивал славу Франции и опасность, которой Первый консул угрожал Англии.
Парламент постановил начать сбор резервной армии, несмотря на возражения партии Уиндхема, которая называла эту армию умножением армии ополченцев. Законодатели ожидали, что люди, избранные жребием и вынужденные служить, охотнее будут вступать в действующую армию, чем в какую-либо другую. Таким образом, в армию, может быть, прибыли бы 20 или 30 тысяч новых солдат.
Между тем опасность возрастала с каждым часом: содействие континентальных держав становилось все менее вероятным. Прибегли к самой горячей мере — к мысли о поголовном призыве. Правительство потребовало и получило разрешение звать к оружию всех англичан от 17 до 55 лет. Из волонтеров решили составлять батальоны, обучать их по несколько часов в неделю. Назначили им жалованье, чтобы вознаградить за потерю времени, но это распоряжение относилось только к волонтерам из рабочего люда.
Вынужденный на этот раз признать, что советы его приняты, Уиндхем теперь жаловался, что их приняли слишком поздно и не в полной мере, критиковал разные подробности принятой меры. Однако же парламент утвердил ее, и вскоре по английским городам и графствам народ, призванный к оружию, начал ежедневно обучаться военному делу. Все сословия носили один мундир — волонтерский. Лорд Аддингтон явился в парламент в этом мундире, столь мало согласовывавшемся с его характером, и выставил себя подобной выходкой в смешном свете. Престарелый король и сын его, принц Уэльский, делали в Лондоне смотры, на которых французские изгнанные принцы имели неосторожность присутствовать.
В Лондоне волонтеров оказалось до 20 тысяч человек (число, конечно, не очень значительное для огромного населения). Впрочем, общее число волонтеров во всей Англии могло составить немалую силу, если бы она была организована как следует. Но в одну минуту не создают солдат, а тем более офицеров. Если французы сомневались в пригодности плоскодонных судов, то гораздо больше сомневались англичане в пригодности своих войск ополчения — если не в храбрости их, то в военной опытности.
К этим мерам присовокупили проект полевых укреплений вокруг Лондона, на дорогах, ведущих к столице и на пунктах берегов, которым угрожала первая опасность. Часть действующих войск расположилась от острова Уайта до устья Темзы. Приняли систему сигналов тревоги: огни вдоль берегов, которые зажглись бы сразу при появлении французов. Повозки особого вида были приспособлены для отправки войск в опасные пункты.
Одним словом, с той и с другой стороны пролива прилагали чрезвычайные усилия и изобретательность, измышляя новые средства обороны и нападения, стараясь победить стихии и заставить их содействовать себе. Обе нации, увлекаемые к этим берегам непобедимой силой, представляли собой в это время великое зрелище: одна из них, смущаясь при мысли о своей военной неопытности, ободрялась при взгляде на океан, служивший ей защитным поясом; другая, уверенная в своем мужестве, воинской опытности и гении своего вождя, мерила взорами море, удерживавшее ее пыл, ежедневно училась презирать его и надеялась вскоре переплыть его вслед за победителем при Маренго и у пирамид.
Ни одна из них не ожидала иных средств, кроме тех, которые могла наблюдать. Англичане, полагая, что Тулон и Брест содержатся в строгой блокаде, не предполагали, что в Ла-Манше может появиться французская эскадра. Французы, учась каждый день плавать на своих канонерских шлюпках, не думали, чтобы существовал какой-нибудь иной способ переплыть пролив. Никто не угадывал главного плана Первого консула. Однако же одни опасались, а другие ожидали какого-нибудь нечаянного изобретения его гения: это служило источником смятения по одну и уверенности по другую сторону Ла-Манша.
Надо признаться, что средства, приготовленные англичанами для отпора, оказались бы ничтожны, если бы только французам удалось переплыть пролив. Надежнейшей защитой их оставалась все-таки вода. Во всяком случае, каков бы ни был окончательный результат, английское правительство уже несло жестокое наказание за свои поступки: общее волнение всех сословий, отлучение ремесленников от их мастерских, а негоциантов — от их торговли. Продлись это волнение подольше, оно превратилось бы в огромное бедствие, может быть, в грозную опасность для общественного порядка.
В беспокойстве своем, лишь бы отвратить грозивший удар, английское правительство прибегало ко всем средствам, даже к тем, которые нравственность строго осуждала. Мы видели, что упорство в поддержании преступных намерений значительно способствовало новому разрыву двух держав. Конечно, диверсии — одно из обычных вспомогательных средств войны, а возмущение провинций считается одной из наиболее эффективных диверсий, к которой очень охотно прибегают. Если англичане покушались возмутить Вандею, Первый консул платил им за это намерением возмутить Ирландию. Средство вражды было взаимно и очень популярно. Но в то время вандейское возмущение представлялось решительно несбыточным. Услуги шуанов и их предводителя Жоржа Кадудаля могли иметь одно только назначение — какую-нибудь гнусную попытку вроде адской машины и тому подобного. Простирать средства возмущения до попытки низвергнуть правительство значило прибегать к мерам очень сомнительным, но устраивать то же, покушаясь на правительственные лица — значит переступать все пределы международного права, признанные между нациями.
Впрочем, пусть сами факты покажут степень вовлеченности английских министров в преступные планы, которые снова затеяла французская эмиграция, проживавшая в Лондоне. Читатель помнит страшного предводителя морбиганских шуанов Жоржа Кадудаля, который устоял против обаяния Первого консула и удалился сперва в Бретань, а потом в Англию. Он жил в Лондоне в полном довольстве, раздавая французским беглецам суммы, полученные от английского правительства, и проводя время в обществе изгнанных принцев, особенно двух наиболее деятельных из них, графа д’Артуа и герцога Берри. То, что принцам хотелось возвратиться во Францию, — дело понятное, что они хотели достичь этого междоусобной войной — вещь весьма обыкновенная, но, к несчастью для их репутаций, они уже не могли рассчитывать на междоусобную войну, а только на заговоры и убийства.
Мир озлоблял всех изгнанников, и принцев и простых людей; война снова давала им надежды не только потому, что обеспечивала поддержку части Европы, но и потому что уменьшала, как они думали, доверие нации к Первому консулу. Они сносились с Вандеей через Жоржа, а с Парижем — через возвратившихся эмигрантов. О чем они мечтали в Англии, о том же их приверженцы помышляли во Франции, и малейшие обстоятельства, согласные с их мечтами, немедленно превращали в их глазах эти мечты в действительность. В своей гнусной переписке они уверяли друг друга, что война нанесет роковой удар Первому консулу, что власть его, беззаконная в глазах французов, оставшихся верными династии Бурбонов, и тираническая в глазах французов, оставшихся верными революции, могла поддерживаться только двумя правами — восстановлением мира и порядка, и одно из этих прав совершенно нарушалось после разрыва с Англией, а другое подвергалось большой опасности, ибо сохранение порядка во время военных действий весьма сомнительно. Таким образом, по их мнению, правление Первого консула клонилось к упадку подобно всем предыдущим правлениям. Склонный к спокойствию народ, вероятно, досадует на него за возобновление вражды с Европой и станет меньше прежнего верить в его удачу, когда трудности уже не будут расступаться перед ним, как прежде. Кроме того, Первый консул имел много врагов, которых планировали использовать с большой пользой: во-первых, революционеров, во-вторых, завистников его славы, которых насчитывалось немало в армии. Вся переписка из Франции в Лондон и обратно вела к одному и тому же плану: объединить роялистов, якобинцев, недовольных военных в единую партию и свергнуть узурпатора Бонапарта.
Такие замыслы строили в Лондоне французские принцы и ими-то прельщали английский кабинет, прося у него денег. Англичане не жалели денег, зная, по крайней мере в общих чертах, что эмигранты намереваются делать.
Составили обширный заговор и воплощали его в жизнь с нетерпеливостью, свойственной изгнанникам. Известили о нем Людовика XVIII, проживавшего тогда в Варшаве. Всегда несогласный со своим братом, графом д’Артуа, безрассудная и бесплодная деятельность которого ему не нравилась, Людовик отверг предложение. Странная противоположность между двумя принцами! Граф д’Артуа был наделен добротой без благоразумия, Людовик XVIII — одарен благоразумием без доброты. Граф д’Артуа вмешивался в замыслы, недостойные его сердца, а Людовик XVIII отвергал их, как недостойные своего ума. Людовик с тех пор решил чуждаться всех новых происков, поводом к которым служила начавшаяся опять война. Граф д’Артуа, проживая на далеком расстоянии от старшего брата, увлекаемый врожденной пылкостью, жаром эмигрантов и, что еще хуже, жаром самих англичан, принимал участие во всех замыслах, какие обстоятельства порождали в умах, расстроенных беспрерывным волнением.
Связь французских эмигрантов с английским кабинетом осуществлялась через помощника государственного секретаря Гаммона. К нему обращались со всеми требованиями в Англии, а за границей обращались к трем дипломатическим поверенным: Тейлору, посланнику в Гессене, Спенсеру Смиту, посланнику в Штутгарте, и Дрей-ку, посланнику в Баварии. Трое поверенных, находясь близ французских границ, старались интриговать во Франции, со своей стороны содействуя интригам, составленным в Лондоне. Они переписывались с Гаммоном и имели в своем распоряжении значительные денежные суммы. Сложно поверить, чтобы это были всего лишь тайные полицейские меры, какие правительства иногда позволяют себе просто для осведомленности, жертвуя на них небольшие издержки. То были настоящие политические замыслы, проходившие через руки знатнейших посланников, сходившиеся в самом важном из министерств, в министерстве иностранных дел, и стоившие миллионов.
Из французских принцев наиболее замешаны оказались граф д’Артуа и младший сын его, герцог Берри. Герцог Ангулемский проживал в то время в Варшаве, при Людовике XVIII. Принцы Конде56 жили в Лондоне, но не имели тесных связей с принцами старшей ветви и всегда оставались чужды их планам. С ними обходились как с солдатами, постоянно готовыми взяться за оружие и пригодными единственно для этой роли. Внук, герцог Энгиенский, жил в Бадене, увлеченный удовольствиями охоты и нежной склонностью к княгине де Роган. Поскольку все трое состояли на британской службе, то имели приказ держаться наготове и повиновались, как повинуются солдаты правительству, выплачивающему им жалованье: роль, конечно, жалкая для фамилии Конде, но не столь жалкая, как роль заговорщиков.
План нового заговора состоял в следующем. Возмутить Вандею уже не представлялось возможным; напротив, поразить прямо в самом Париже правительство Первого консула казалось средством, быстро и верно ведущим к цели. По низвержении консульского правления оставался один только выбор, говорили виновники замысла, — призвание Бурбонов на престол. А поскольку все консульское правление заключалось в особе самого Наполеона, значит, следовало лишь уничтожить эту особу. Но уничтожить верным способом. Удар кинжала, адская машина — все это сулило сомнительный успех, зависело от твердости руки убийцы, от случайностей взрыва. Оставалось одно средство, не испытанное до тех пор и, следовательно, еще подававшее надежду: набрать сотню решительных людей под началом неустрашимого Жоржа, атаковать по дороге в Сен-Клу или в Мальмезон карету Первого консула, напасть на его конвой, состоявший максимум из десяти или двенадцати кавалеристов, разогнать их и убить консула как бы в схватке. В таком случае оставалась уверенность, что он точно погибнет. Жорж был храбр, имел притязание на звание военного человека и не хотел прослыть убийцей: он требовал, чтобы при нем находились двое принцев (или по крайней мере один), которые таким образом завоевали бы трон предков вооруженной рукой. Можно ли поверить?
Эти умы, развращенные изгнанием, решили, что, нападая на Первого консула среди его конвоя, дадут настоящее сражение и не станут убийцами! Из всех этих жалких людей один только оставался в настоящей своей роли, а именно Жорж. Он отличался мастерством в таких неожиданных нападениях и на этот раз не опасался оказаться причисленным к разряду орудий, которые бросают после употребления, имея своими сообщниками принцев: так он сохранял все достоинство, совместимое с принятой им ролью, и его горделивое поведение перед лицом правосудия скоро доказало, что унижение точно было не на его стороне в этом презренном деле.
Но после сражения надлежало еще собрать плоды победы, все приготовить заранее, чтобы Франция сама кинулась в объятия Бурбонов. Партии почти истребили одна другую, и среди них не оставалось ни одной истинно сильной. Горячих революционеров все ненавидели. Умеренные республиканцы, толпившиеся около Наполеона, не имели никакой силы. Оставалась только армия. Ее-то и нужно было привлечь на свою сторону. Но она казалась преданной революции, за которую проливала кровь; она питала почти отвращение к эмигрантам, которых столько раз видела в австрийских или английских мундирах. Тут-то зависть, неискоренимая и чудовищная страсть человеческого сердца, доставила роялистам-заго-ворщикам полезное и драгоценное пособие.
Только и толков было, что о ссоре генерала Моро с генералом Бонапартом. Мы описывали все те мелочи тщеславия, которые у женщин начинаются пошлыми размолвками, а у мужчин оканчиваются трагическими сценами. Если сложно предупредить ссору между высокими чинами, то еще сложнее остановить ее течение, когда она уже началась. Моро становился все большим и большим врагом консульского правления. Когда заключили Конкордат, он возражал против господства духовенства, по учреждении ордена Почетного легиона толковал о восстановлении аристократии, а после введения пожизненного консульства заговорил о возобновлении королевской власти. Наконец, он совершенно перестал появляться у главы правительства, перестал ездить и к прочим консулам.
Возобновление войны доставляло ему прекрасный случай явиться в Тюильри и предложить свои услуги — не генералу Бонапарту, а Франции. Мало-помалу увлеченный на путь зла, Моро видел в объявлении войны не столько несчастье отечества, сколько удар по ненавистному сопернику и хотел стать свидетелем того, как выпутается из затруднения враг, которого сам он себе создал. Он продолжал жить в Гросбуа, окруженный довольством, наградой его заслуг, как знатный гражданин, жертва неблагодарности государя.
Первый консул, накликав себе завистников своей славой, накликал их также своим семейством. Мюрат, которого он долго не соглашался воспринимать как официального зятя, имевший прекрасное сердце, природный ум, рыцарскую храбрость, но иногда очень злоупотреблявший всеми этими качествами и тщеславием, которое старательно скрывал от Первого консула, но не от всего прочего мира, — Мюрат раздражал людей, которые не могли, по малости своей, завидовать Наполеону и завидовали его зятю. Таким образом создавались крупные и мелкие завистники. Те и другие толпились вокруг Моро: зимой в Париже, летом в Гросбуа генерал держал при себе целый двор недовольных, где высказывались чрезвычайно нескромно. Первый консул знал это и мстил не только постоянным увеличением своего могущества, но и явно демонстрируемым презрением. Долгое время проявляя необычайную сдержанность, он наконец не выдержал и начал платить посредственности сарказмом за сарказм с той разницей, что его саркастические замечания оказывались намного язвительнее. Они ходили в публике дольше тех, что создавались в кружке Моро.
Партии придумывают вражду, чтобы использовать ее в своих целях; нечего и говорить, что враждой, реально существующей, они воспользуются быстро и не задумываясь. Около Моро немедленно составилась группа недовольных из разных партий. По их отзывам, он был чрезвычайно способным генералом, скромным и добродетельным гражданином, а Наполеон — безрассудным, только везучим, полководцем, бездарным узурпатором, наглым корсиканцем, дерзнувшим ниспровергнуть республику и взойти на ступени уже восстановленного трона. Так пусть он гибнет в безумном и великом предприятии против Англии, пусть ведет войну один. Называя бродягой победителя Египта и Италии, сочли нелепейшей затеей патриотическую экспедицию, которой он так дорожил.
Эта злосчастная вражда облегчила лондонским заговорщикам составление второй половины их плана. Надо было привлечь Моро, а через Моро — армию; тогда, по умерщвлении Первого консула на Мальмезонской дороге, Моро, как глава армии, примирил бы эту грозную часть нации с Бурбонами, имевшими отвагу возвратить себе престол с оружием в руках. Но как было сблизиться с Моро, которого окружало в Париже чисто республиканское общество, тогда как лондонские заговорщики находились среди цвета шуанов? Требовалось найти посредника. Из глуши американских пустынь прибыл один такой посредник, человек знаменитый, утративший популярность по собственной вине, но одаренный великими достоинствами, примыкавший и к роялистам, и к республиканцам, — Пишегрю, победитель Голландии, сосланный Директорией в Синнамари (во Французской Гвиане). Он бежал из места своего заточения и приехал в Лондон с тайным желанием не оставаться там, а возвратиться во
Францию, используя интриги политики, которая призывала без разбора преступников и жертв всех партий. Но война, прекратившаяся на время, вскоре началась опять, а с ней ожили мечты и безумства эмигрантов, которым Пишегрю продал свою свободу, продавши честь. Его почти насильно сделали участником заговора и возложили на него обязанность служить посредником в сношениях с Моро, чтобы привлечь последнего на сторону Бурбонов и слить в одну партию республиканцев и роялистов.
Составленный план настолько согласовался с внешними обстоятельствами времени, что мог казаться удачным, но не настолько согласовался с действительностью, чтобы удаться в полной мере. Однако, составив план, приступили к его исполнению.
Надлежало отправиться во Францию. Жорж хотел иметь там при себе одного или двух принцев, но не требовал, чтобы они ехали вместе с ним. Он соглашался, что следовало все подготовить прежде, чем приглашать их, чтобы не подвергать риску продолжительного пребывания в Париже, на виду бдительной полиции. Он решил ехать вперед и появиться в Париже с шайкой шуанов, с которыми мог напасть на конвой Первого консула. Между тем Пишегрю должен был снестись с Моро, сначала через посредника, потом прямо в Париже. Когда бы наконец с той и другой стороны все оказалось готово, тогда только явились бы и принцы, накануне или в самый день исполнения замысла.
Итак, Жорж оставил Лондон и отправился во Францию с шайкой шуанов, на верность и твердость которых мог полагаться. Все они были вооружены как разбойники. Жоржа спрятал в поясе миллион франков векселями. Разумеется, не французские принцы, сами терпевшие крайнюю нужду, выдали суммы, находившиеся в руках заговорщиков. Деньги шли из общего источника, то есть из английской казны.
Офицер английского королевского флота, капитан Райт, бесстрашный моряк, плавая на легком судне, принимал на борт эмигрантов в Диле или в Гастингсе и высаживал их, по желанию, на тот пункт берега, который они указывали.
Когда Первый консул, убедившись в частых высадках шуанов, велел тщательнее прежнего стеречь берега Бретани, заговорщики переменили дорогу и стали высаживаться в Нормандии. Между Дьеппом и Трепором, в крутых скалах Бивилля, имелся тайный проход в расселине, посещаемый одними контрабандистами. Канат, прикрепленный к вершине утеса, спускался в расселину, доставая до поверхности моря. Заслышав условный крик, тайные стражи прохода выбрасывали канат, контрабандист хватался за него и взбирался на крутизну футов двести или триста, таща на плечах тяжелую поклажу.
Поверенные Жоржа отыскали этот путь и вздумали воспользоваться им. С целью укрепления связи с Парижем они устроили цепочку уединенных пристанищ в отдельно стоящих фермах, в замках нормандских дворян, верных и скромных роялистов, редко выезжавших из своих жилищ. Таким образом оказалось возможно доехать с берегов Ла-Манша до Парижа, минуя большую дорогу и не останавливаясь ни в одной гостинице. А чтобы не раскрыть тайну дороги, слишком часто пользуясь ею, дорогу оставили для важнейших лиц партии. Щедрая плата некоторым из роялистов, дававших приют беглецам, верность других роялистов, особенно же удаление от людных мест делали всякую нескромность затруднительной, а секрет — надежным, по крайней мере на некоторое время.
Таким-то путем пробрался Жорж во Францию. Отправившись на судне капитана Райта, он вышел на берег у бивильских утесов 21 августа 1803 года, в то самое время, когда Первый консул осматривал берега. В Шайо, одном из парижских предместий, Жоржу приготовили маленькую квартиру, откуда по ночам он мог добираться до Парижа, встречаться со своими сообщниками и устраивать предприятие, для которого прибыл во Францию.
Отважный и сметливый, Жорж обладал страстями своей партии, не обольщаясь ее мечтами, и лучше других видел, что осуществить возможно, а за что и браться не имеет смысла. Он из мужества пускался на то, на что его сотоварищи отваживались по ослеплению. Прибыв в Париж, он скоро уверился, что Первый консул не лишился доверия нации, как писали в Лондоне, что роялисты и республиканцы не так уж расположены к приключениям, как уверяли, что тут, как везде, действительность далеко не соответствует обещаниям. Но не в его характере было унывать, а особенно приводить в уныние товарищей, сообщая им свои замечания. Он принялся за дело. Как бы то ни было, для внезапного удара не требовалось поддержки общественного мнения, а по смерти Первого консула Франция за отсутствием лучшего средства оказалась бы просто вынуждена возвратиться под власть Бурбонов.
Жорж послал в Вандею агентов проверить, не захочет ли страна восстать снова по случаю призыва и не скажут ли тамошние призывники, что если уж служить, то лучше против революционного правительства, нежели за него. Но агенты Жоржа обнаружили Вандею погруженной в величайшую апатию. Из всех имен одно только его имя сохранило влияние, потому что его считали неподкупным роялистом, который предпочел изгнание милостям Первого консула. Вандейцы питали сочувствие к представителю дела, соответствовавшего тайным привязанностям всего народа, но никто уже не решался снова начать скитаться по чащам и большим дорогам. К тому же священники, самые искусные вдохновители простого народа, приняли сторону Первого консула.
Однако требовалось набрать таких удальцов, которые были бы и храбры и скромны. Два месяца находился Жорж в Париже, а едва набрал человек тридцать. Им не открывали цели их будущих действий, не давали знакомиться друг с другом. Они знали только, что их готовят для какого-то предприятия в пользу Бурбонов, и были этим довольны. Между тем им щедро платили, чем они также остались весьма довольны.
Хоть его взгляды и отличались от взглядов республиканцев, Жорж, однако, тайно, со всеми предосторожностями, решил посмотреть, не лучше ли обстоят дела с той стороны, чем со стороны роялистов. Одному верному бретонцу он поручил выведать мысли секретаря Моро, Френьера, который также был бретонцем и состоял в связях со всеми партиями, даже с Фуше. Это значило играть очень рискованно, потому что Фуше в то время глядел во все глаза, ища случая оказать услугу Первому консулу. Насчет Моро Френьер не сообщил ничего утешительного. Жорж не огорчился этим и, решившись все же действовать, торопил своих лондонских распорядителей, потому что, живя в Париже уже несколько месяцев, зря подвергался величайшим опасностям.
Пока Жорж устраивал таким образом дела, агенты Пишегрю действовали со своей стороны и тоже пробовали подступиться к Моро. Несколько интендантов, людей, часто оказывающихся близко знакомыми с генералами, передали Моро несколько слов от Пишегрю. Его спросили, помнит ли он старинного сослуживца и сохраняет ли еще какую-нибудь обиду на него. Моро нечего было досадовать на Пишегрю, на которого он же донес Директории, выдав бумаги из фургона Клинглина57.
Притом, увлекшись сегодняшней враждой, он оказался неспособен помнить старое зло, оттого и обнаружил только доброжелательность и даже сострадание к несчастьям старинного приятеля. Тогда у него спросили, не примет ли он в Пишегрю участия, не употребит ли свое влияние для возвращения Пишегрю во Францию. В самом деле, прощение было даровано всем вандейцам, всем солдатам Конде, почему оно не могло последовать и для победителя Голландии? Моро отвечал, что от души желает возвращения старого сослуживца, считает это возвращение должной наградой за его услуги, готов с удовольствием ходатайствовать о нем, если бы дозволяли ему теперешние его отношения с правительством. Но поскольку он находится в ссоре со всеми правительственными лицами, то и ногой не ступает в Тюильри. Затем, естественно, последовало описание причин его недовольства и отвращения, испытываемого к Первому консулу, а потом прозвучало пожелание, чтобы Франция скорее освободилась от подобного правителя.
Предугадывая мысли Моро, привлекли к делу одного из его бывших подчиненных, генерала Лажоле, опаснейшего приближенного, какой мог оказаться у слабого человека, не умеющего управлять собой. Генерал Лажоле был мал ростом и хром, в значительной степени владел даром интриги, стимулом движения вперед для него являлась немилость фортуны, приводящая уже почти к нужде. Чтобы склонить его к заговору, к нему подослали под видом торговца кружевами дезертира республиканской армии с письмами Пишегрю и порядочной суммой денег. Подосланный без труда уговорил генерала действовать.
Вступив в заговор, Лажоле сделался неотлучным собеседником Моро, выманил у него признания и, не отважившись на открытые предложения, тем не менее вообразил, что стоит вымолвить только слово, чтобы склонить Моро на деятельное участие в заговоре. Лажоле внушил самые смелые надежды посланникам Пишегрю и согласился поехать в Лондон, представить словесный отчет знатным лицам, орудием которых сделался.
Генерал со своим провожатым вынуждены были ехать через Гамбург, чтобы вернее добраться до Лондона, и потратили много времени. По прибытии в Англию они нашли распоряжение британского начальства о немедленном пропуске и тотчас явились в Лондон, где были допущены к Пишегрю и другим распорядителям интриги. Приезд Лажоле исполнил безумной радостью все эти нетерпеливые сердца. Граф д’Артуа имел неосторожность присутствовать на сборищах, унижая свой сан, свое достоинство, само происхождение. Правда, узнавали его только главные лица, но поскольку пылкость чувств и выражений обращала на него внимание, то скоро он стал известен всем. Слушая, как Лажоле с нелепыми преувеличениями рассказывал о своих объяснениях с Моро и уверял, что Пишегрю стоило только появиться, чтобы склонить на свою сторону республиканского генерала, граф д’Артуа не мог обуздать восторга и воскликнул: «Если наши генералы сойдутся между собой, я скоро вернусь во Францию!» Слова эти обратили на него взгляды заговорщиков, и они узнали того, кто их произнес. Это говорил старший принц крови, сын королей, назначенный сам стать королем и доведенный пагубным влиянием изгнания до поступков, столь недостойных его сана и сердца.
Условились, не откладывая дальше, отправиться во Францию и завершить предприятие. Пора было спешить, потому что несчастный Жорж, оставшись один в авангарде, среди агентов консульской полиции, подвергался самой серьезной опасности. В конце декабря в Париж прислали второй отряд эмигрантов, чтобы шуан не считал себя покинутым. Решили, что в этот раз сам Пишегрю с известными дворянами — Ривьером и одним из герцогов Полиньяков — отправится во Францию и проберется к Жоржу. Когда они приготовят все и Ривьер, самый хладнокровный из них, известит, что пора настала и предприятие достаточно созрело, чтобы сами принцы могли отважиться на него, тогда граф д’Артуа, или герцог Берри, или оба вместе приедут во Францию и примут участие в так называемом «сражении» с Первым консулом.
Пишегрю с главнейшими лицами эмиграции пустился в эту экспедицию, в которой ему предстояло навсегда потерять свою уже помраченную славу и саму жизнь, стоившую, казалось бы, лучшего употребления. В первых числах 1804 года он отправился дорогой контрабандистов, нашел Жоржа и, пробираясь от станции до станции по лесам Нормандии, прибыл в Шайо 20 января.
Жорж не успел набрать всю шайку, но готов был и с теми немногими удальцами, которые уже присоединились к нему, кинуться на карету Первого консула. Однако сначала предстояло окончательно договориться с Моро. Посредники опять встретились с ним и объявили, что Пишегрю приехал тайком и желает с ним повидаться. Моро согласился, но не захотел принять Пишегрю у себя дома, а назначил свидание ночью на бульваре Мадлен. Пишегрю явился на условленное место. Ему хотелось бы быть на свидании одному, потому что он умел оставаться хладнокровным и осторожным и не любил общества грубых и беспокойных людей, которые надоедали ему своим нетерпением. А между тем ему пришлось явиться на встречу со множеством посторонних лиц, в том числе и с Жоржем, который желал видеть все своими глазами.
Моро и Пишегрю встретились в темную и холодную январскую ночь, в первый раз с тех пор как сражались вместе на Рейне, когда жизнь того и другого была безукоризненна, а слава не запятнана. Едва оправились они от волнения, как к ним подошел Жорж. Моро смутился, вдруг сделался холоден, явно недоволен и, по-видимому, очень досадовал на Пишегрю за подобную встречу. Следовало расстаться, хоть и не сказали друг другу ничего важного, ничего полезного. Пришлось увидеться иначе и в другом месте.
Эта первая встреча произвела на Жоржа самое невыгодное впечатление. Дело худо, сказал он тотчас же. Сам Пишегрю боялся, что поступил несколько неосторожно. Однако интриганы, служившие посредниками, вновь увиделись с Моро и, уже не скрывая от него ничего, объяснили, что речь идет о заговоре с целью ниспровержения Первого консула. Моро не возражал против свержения правительства таким средствами, которые, не называясь прямо, могли угадываться, но обнаружил неодолимое отвращение к тому, чтобы делать что-либо ради Бурбонов, а особенно вмешиваться в подобное предприятие.
На этот раз он принял Пишегрю у себя дома и наконец получил возможность продолжительного и серьезного объяснения со старым товарищем. По словам Моро, он располагал значительной партией в Сенате и в армии. Если бы успели освободить Францию от консулов, власть наверняка вручили бы ему, а он употребил бы ее на спасение жизни людей, которые освободили республику от притеснителя. Но он точно не собирался передавать освобожденную республику Бурбонам. Что до Пишегрю, бывшего завоевателя Голландии, одного из славнейших французских генералов, ему не только спасли бы жизнь, но возвратили бы все почести и отличия и поручили первые должности в государстве.
Упорствуя в своих представлениях, Моро выразил Пишегрю удивление, что видит его в одних рядах с такими людьми. Пишегрю и без советов Моро находил несносным сообщество шуанов, среди которых жил, но сам Моро служил доказательством, что, пустившись в заговор, сложно не сделаться вскоре жертвой самого тягостного общества.
Пишегрю был так умен и дальновиден, что не мог разделить иллюзий Моро и старался объяснить ему, что по смерти Первого консула оставалось для Франции одно средство — призвать Бурбонов. Но Моро, человек недалекий, когда находился не на поле сражения, упорно думал, что едва не станет Бонапарта, как он, генерал Моро, сделается Первым консулом. Хотя о смерти Первого консула не упоминалось ни слова, но она подразумевалась. Впрочем, не оправдывая этих печальных замыслов, тем не менее надо сказать, что люди того времени так часто наблюдали умирающих на эшафоте и на поле сражения и давали или получали столько жестоких приказаний, что смерть человека не имела для них того значения и ужаса, какой придают ей, слава Богу, в ваших глазах нынешние времена.
Пишегрю вышел с этого свидания в отчаянии и, говоря с поверенным, заметил: «И этот человек, честолюбец, хочет в свою очередь управлять Францией. Бедный, ему не править ею и одни сутки». Жорж, узнав о происшедшем, воскликнул с обыкновенной своей энергичностью: «Если уж выбирать кого-то из узурпаторов, то, по-моему, лучше того, который правит теперь, нежели Моро, у которого нет ни головы, ни сердца».
Так судили они, разглядев его поближе, о человеке, которого говоруны представляли образцом всех гражданских и воинских доблестей.
Разочарование по поводу Моро повергло в отчаяние эмигрантов. Два республиканских генерала так и не поладили, и все заговорщики ясно увидели, что оказались безрассудно вовлечены в замысел, который мог окончиться катастрофой. Ривьер потерял всякую надежду. Он и его друзья говорили то, что обыкновенно говорят люди, когда не находят свои чувства разделенными: «Франция пребывает в апатии, желает покоя, забыла свои прежние чувства!» В действительности это было не так, просто Франция не возражала против консульского правления, а партии ничуть не собирались соединяться для его ниспровержения. Франция, конечно, сожалела о скором нарушении мира, может быть, даже подозревала в генерале Бонапарте его приметную страсть к войне, но не переставала считать его своим избавителем.
Злосчастные заговорщики собирались удалиться одни в Бретань, другие в Англию. Сверх того, знатнейшие из них чувствовали глубокое омерзение по отношению к обществу, в котором вынуждены были оставаться. Однажды даже Пишегрю, чтобы образумить забывавшихся шуанов, на слова одного из них: «Ведь вы с нами, генерал!» — отвечал с горечью и презрением: «Нет, я только у вас». Это значило, что жизнь его оказалась в их руках, но воля и рассудок оставались далеко.
Все они находились в мучительной неизвестности. Жорж все-таки был готов напасть на Первого консула, не рассуждая о будущем, другие же спрашивали себя, на что им бесполезное убийство. В таком положении оставались они, когда у полиции наконец возникли подозрения, слишком поздние и не приносящие чести ее бдительности. Проницательность Первого консула спасла его и погубила безумцев, замышлявших недоброе. Поздно спохватываться — это обыкновенное наказание людей, пускающихся в подобные предприятия: нередко они оказываются раскрыты, арестованы, наказаны, когда совесть, рассудок, страх уже начинают открывать им глаза.
Манипуляции заговорщиков, продолжавшиеся с августа до января, особенно вблизи человека, подобного бывшему министру Фуше, не могли остаться незамеченными. Мы рассказывали выше, что Фуше лишился портфеля шефа полиции, с тех пор полиция как бы затаилась в министерстве юстиции. Великий судья Ренье, совершенно незнакомый с управлением подобного рода, предоставил его государственному советнику Реалю, человеку умному, но пылкому, легковерному и далеко не равнявшемуся Фуше в дальновидности и догадливости. Полиция небрежно вела надзор и уверяла Первого консула, что нет ни малейших слухов о заговорах. Первый консул отнюдь не разделял ее спокойной уверенности, да и Фуше не допускал его до того. Сделавшись сенатором и скучая, он, сохранив связи с бывшими своими агентами, знал все, что происходило, и являлся к Первому консулу сообщать свои наблюдения. Наполеон, слушая Фуше и Реаля, прилежно прочитывая донесения жандармов, обыкновенно самые полезные, потому что оставались точными и добросовестными, был убежден, что чинились умыслы против него лично. Возобновление войны само по себе неизбежно подало бы эмигрантам и республиканцам повод к какому-нибудь новому покушению. Разные признаки, как, например, шуаны, арестованные в различных местах, или уведомления вандейских начальников, доказывали ему, что подозрение могло оказаться справедливо.
Присланное из самой Вандеи известие о том, что дезертировавшие новобранцы собираются в шайки, побудило его послать в западные департаменты полковника Савари, преданность которого была беспредельна, а расторопность и мужество испытаны в равной степени. Наполеон отправил его с несколькими отборными жандармами следить за брожением умов и распорядиться подвижными колоннами, посланными туда же. Савари поехал, рассмотрел все и ясно приметил следы какого-то тайного движения, источником которого являлся Жорж. Однако ничего не удалось открыть касательно страшной тайны, которую Жорж и его сообщники хранили при себе. Разогнав банды, Савари возвратился в Париж, не успев узнать ничего важного.
Другая интрига, нить которой попала в руки Первого консула и за которой он находил удовольствие следить сам, обещала несколько пояснений, но еще не давала их. Три английских посланника, в Гессене, Вюртемберге и Баварии, также имевшие поручение организовать интриги во Франции, выполняли поручение усердно, но не искусно. Поверенный при баварском дворе Дрейк был деятельнее всех. Он даже поселился вне Мюнхена, чтобы стало удобнее принимать агентов, приезжавших из Франции, а чтобы вернее обезопасить свою переписку, подкупил баварского директора почты. Один француз, большой интриган и бывший республиканец, с которым Дрейк затеял свои происки и которому проговорился о цели английских интриг, донес обо всем полиции. Дрейк желал прежде всего разведать секреты Первого консула насчет высадки, потом склонить на свою сторону какого-нибудь важного генерала, овладеть, по возможности, той или другой крепостью, например Страсбургом или Безансоном, и поднять там бунт. Первый консул был очень рад поймать английского дипломата с поличным и велел щедро наградить поверенного, обманувшего Дрейка, с уговором, чтобы он продолжал вести интригу. Первый консул сам составлял образцы писем, какие следовало писать Дрейку, и сообщал в них множество верных подробностей о своих личных привычках, о своей манере составлять планы, диктовать приказания, прибавляя, что весь секрет его распоряжений хранится в большом черном портфеле, находящемся обыкновенно у Ме-неваля или доверенного привратника дворца. Меневаля нельзя было подкупить, но привратника — можно: он соглашался выдать портфель за миллион франков. Далее Первый консул намекал, что, без сомнения, во Франции имеются и другие интриги, кроме той, которой управляет Дрейк, и что не худо бы разведать их покороче, чтобы не мешать друг другу, а, напротив, поддерживать. Наконец, он прибавлял в качестве очень важного секрета, что настоящий план высадки имеет целью Ирландию, а все происходившее в Булони является просто хитростью, которую старались прикрыть обширностью приготовлений.
Неискусный дипломат, оказавшийся настолько недальновидным, Дрейк получал все эти известия с чрезвычайной радостью, просил новых, говорил, что сообщит своему правительству о черном портфеле, за который просят так дорого, а по поводу других интриг замечал, что ничего о них не знает (как было и в самом деле), но что в случае столкновения надо бы объединиться и стремиться всем к одной цели.
Тем не менее Дрейк так и не узнал о большом заговоре Жоржа, секрет которого соблюдался строго, и не мог, при всей своей смешной легковерности, сообщить ничего полезного. Первый консул оставался в убеждении, что люди, придумавшие замысел адской машины, непременно замышляют что-нибудь и в настоящих обстоятельствах. Пораженный множеством арестов, последовавших в Париже, Вандее и Нормандии, он говорил Мюрату, тогдашнему губернатору Парижа, и Реалю, управлявшему полицией: «Эмигранты, несомненно, работают. Сделано много арестов: надо выбрать несколько арестованных, отдать под военный суд и осудить. Они признаются, прежде чем дадут себя расстрелять».
Описанное нами происходило между 25-ым и 30 января 1804 года, во время свиданий Пишегрю с Моро, когда заговорщики уже начали приходить в уныние.
Первый консул велел показать ему список поверенных Жоржа, прибывших прежде или после его, и среди них обнаружили, к примеру, бывшего лекаря вандейских войск, приехавшего в августе с самим Жоржем. Рассмотрев обстоятельства, относившиеся к каждому порознь, Первый консул отметил пятерых из них и сказал: «Или я жестоко ошибаюсь, или тут есть знающие о деле люди, которые непременно дадут показания».
Давно уже не приводили в действие законы, изданные прежде и дозволявшие установление военных судов. В период мира Первый консул нарочно оставлял их без употребления, но по открытии войны счел нужным прибегнуть к ним, особенно со шпионами, являвшимися высматривать его вооружение против Англии.
Он велел арестовать, судить и расстрелять несколько шпионов. Пятерых лиц, им отмеченных, отдали под суд. Двоих из них оправдали, другие двое, уличенные в преступлениях, за которые закон карал смертью, были осуждены и расстреляны, не признавшись ни в чем, но заверив, что хотели служить законному королю, который скоро должен восторжествовать на развалинах Республики. Сверх того, они высказали страшные угрозы главе правительства.
Пятый подсудимый (его Наполеон отметил особо), собираясь идти на казнь, объявил, что может открыть важные тайны. К нему тотчас прислали одного из самых ловких полицейских чиновников, и осужденный во всем признался, открыл, что приехал в августе с Жоржем, имея прямое намерение убить Первого консула, напав на его конвой. Он указал несколько мест, где квартировали шуаны из команды Жоржа.
Его показания осветили дело. Присутствие Жоржа в Париже оказалось знаменательным до чрезвычайной степени: такое лицо не проживало бы с шайкой убийц в столице без важной цели. Узнали о месте высадки на бивильском берегу, о существовании этапной дороги через леса и потаенных местах, где скрывались заговорщики, узнали имя, наведшее на следы самых важных обстоятельств. Как-то раз шуаны, высаживаясь на одном и том же бивильском берегу, затеяли перестрелку с жандармами, и после нее на клочке бумаги, служившем пыжом, обнаружили имя Трош. Трош был часовым мастером в городе Э, своего молодого сына он использовал в качестве курьера. Последнего арестовали и привезли в Париж. На допросах он показал все, что знал, объявил, что встречал заговорщиков на бивильских утесах и провожал их до первых станций, рассказал о высадке Жоржа в августе и о высадках в декабре и январе, когда прибыли Пишегрю, Ривьер и Полиньяк. Но он не знал имен и званий лиц, которым служил проводником, а знал только, что в первых числах февраля должна последовать четвертая высадка, ему как раз поручили встретить новоприбывших.
Немедленно принялись за поиски, осмотрели от Парижа до самого берега все указанные места, учредили строгий надзор за домами винных торговцев, на которые показал агент Жоржа, и за несколько дней произвели несколько важных арестов. Во-первых, поймали молодого человека по имени Пико, слугу Жоржа, смелого шуана, вооруженного пистолетами и кинжалами; он сдался только в последний момент, объявив, что желает умереть на службе законному королю. С ним же схватили некоего Буве де Лозье, главного помощника Жоржа, который дал себя взять без шума и демонстрировал полное равнодушие.
Эти люди оказались вооружены, как злодеи, готовы совершить величайшие преступления, и, кроме оружия, имели при себе значительные суммы золотом и серебром. На первых порах они казались очень возбуждены, потом утихли и закончили признанием. Так случилось и с Пико. Арестованный 8 февраля, он сначала не хотел ничего говорить, потом показал, что приехал из Англии с Жоржем и живет с ним полгода в Париже. Но дальнейших подробностей от него так и не узнали, а Буве де Лозье не признавался больше ни в чем.
Ночью с 13-го на 14 февраля узник вдруг позвал своего сторожа. Оказалось, что он пробовал удавиться, но не преуспел, им овладел род помешательства, и он захотел дать показания. Реаль с удивлением и смущением услышал самый странный рассказ. По словам заговорщика, они с принцами находились в Лондоне, как вдруг Моро прислал к Пишегрю одного из своих офицеров, вызвавшись произвести переворот в пользу Бурбонов и обещая увлечь своим примером армию. После такой новости все они отправились вместе с Жоржем и самим Пишегрю в Париж. Здесь Жорж и Пишегрю явились к Моро условиться, но генерал говорил уже другое: он требовал, чтобы Первого консула низвергли в его пользу, желая сам сделаться правителем. И именно вследствие притязаний и пагубного промедления Моро они все и попали в руки полиции. Затем несчастный человек прибавлял только, что восстал из смертной тени, чтобы отомстить за себя и за друзей человеку, который погубил их всех.
Таким образом из истории неудавшегося самоубийства возник страшный, преувеличенный отчаянием донос на Моро, представлявший целый заговор. Реаль, озадаченный открытием, поспешил в Тюильри. Первый консул по обычаю проснулся рано, собираясь предаться трудам. Около него еще хлопотал камердинер Констан, при первых словах Реаля Наполеон закрыл ему рот рукой, дал знак замолчать, а потом заперся с ним наедине и стал слушать его рассказ. Но показаниям против Моро он поверить до конца не решился, для этого нужно было убедиться, что Пишегрю точно находится в Париже. Впрочем, Первый консул не обнаруживал никакого признака гнева или мщения; он казался больше удивлен и задумчив, нежели раздражен.
Решили снова допросить Пико, слугу Жоржа, выведать, знал ли он о присутствии Пишегрю в Париже. Допросили его в тот же день и с помощью длительных уговоров наконец довели до полного признания. О Пишегрю Пико показал, что видел его в Париже даже несколько дней назад и что он и до сих пор еще в Париже. Касательно Моро он рассказал, что слышал, как офицеры Жоржа горько раскаивались, что вступили в сношения с этим генералом, который готов все испортить своими честолюбивыми притязаниями.
Как скоро эти факты стали известны, Первый консул тотчас созвал в Тюильри тайный совет, пригласив обоих консулов, главных министров и Фуше, который хоть и не был министром, но принимал участие в следствии. Вопрос требовал серьезного рассмотрения. Очевидность заговора не подлежала никакому сомнению. Участие всех партий, республиканских и роялистских, также установили по факту присутствия Пишегрю, который служил посредником между теми и другими. Что касается виновности Моро, сложным представлялось определить ее степень, но ни Буве де Лозье в своем отчаянии, ни Пико в своем простодушии не могли выдумать этого странного обстоятельства — вреда, нанесенного роялистской партии личными видами Моро. Явным становилось, что если не арестовать генерала, то на протяжении следствия доносы на него будут повторяться беспрестанно, приобретут огласку и тогда дело примет совершенно другой вид: как будто правительство или хочет коварно оклеветать его, или боится, не смея преследовать преступника, потому что под преступником скрывается-де второе лицо республики.
Это рассуждение окончательно убедило Первого консула. «Пожалуй, скажут, что я боюсь Моро, — заявил Наполеон. — Этому не бывать. Я оставался самым милостивым из людей, могу оказаться и самым грозным, когда понадобится, и поражу Моро, как всякого другого, потому что он вступает в заговоры, гнусные по цели и позорные по связям».
Первый консул не колебался ни' минуты, приказывая арестовать Моро. Имелась, впрочем, и другая причина, еще более важная. Жорж и Пишегрю не были арестованы. Схватили трех или четырех их сообщников, но шайка исполнителей вся еще гуляла на свободе, и можно было опасаться, что боязнь раскрытия побудит заговорщиков ускорить покушение. Для этого надлежало спешить и захватить всех зачинщиков, а арест их непременно привел бы к дальнейшим открытиям. Потому решили немедленно арестовать Моро, а с ним Лажоле и прочих посредников, имена которых уже знали.
Первый консул был раздражен, но не именно против Моро. Он скорее стал похож на человека, старающегося уберечь себя, нежели на желающего мстить за себя. Он хотел уличить Моро, собрать все необходимые сведения, а потом помиловать генерала, ибо понимал, что подобная развязка будет удобна всем.
Теперь надлежало определить порядок судопроизводства. Консул Камбасерес, великий знаток законов, счел, что в таком деле обыкновенного суда может оказаться недостаточно, и, поскольку Моро был человеком военным, предложил устроить военный суд, состоящий из опытнейших офицеров армии.
Первый консул на это не согласился. «Могут сказать, — прибавил он, — что я хочу избавиться от Моро и потому предоставил его суду своих сторонников». Он придумал другой способ: решил отдать Моро под уголовный суд департамента Сены, но так как конституция дозволяла отменять суд присяжных в известных случаях и в некоторых департаментах, то и решили отменить его в данном случае. Это оказалось ошибкой: публике отмена суда присяжных показалась такой же строгой мерой, какой был бы военный суд.
Сверх того, решили, что великий судья Ренье составит донесение о раскрытом заговоре и причинах ареста Моро и сообщит его Сенату, Законодательному корпусу и Трибунату.
Совет длился всю ночь. Утром 15 февраля в дом, где жил Моро, послали отряд отборных жандармов. Генерала там не застали и отправились в Гросбуа. Он повстречался им на Шарантонском мосту, на пути в Париж. Его арестовали без шума, вежливо, отвезли в Тампль. Одновременно с ним были арестованы Лажоле и интенданты, служившие посредниками.
Донесение Ренье в тот же день представили в законодательных собраниях, оно произвело прискорбное впечатление на сторонников правительства и вызвало что-то вроде злобной радости у его неприятелей. Языки развязались, как обыкновенно случается в подобных обстоятельствах, и остроумцы вместо «заговор Моро» уже говорили «заговор против Моро». Брат генерала, член Трибуната, провозгласил с кафедры, что его брат оклеветан и для доказательства его невиновности требуется только одно: чтобы суд над ним устроили обыкновенный, а не военный. Он требовал для своего брата только возможности оправдаться. Слова его выслушали холодно, но с прискорбием. Большинство законодателей сохраняли верность правительству, но были весьма опечалены. Казалось, что после разрыва мира фортуна несколько изменяет Первому консулу. Не верили, что он выдумал этот заговор, но огорчались, что жизнь его опять подвергается опасности и что надлежит защищать ее ценой таких серьезных жертв.
Шум, произведенный арестами, был очень велик, и иначе не могло случиться. Публика негодовала по поводу всякого покушения, угрожавшего драгоценной жизни Первого консула, однако в реальности заговора многие сомневались. Конечно, гнусная адская машина сделала вероятным всякое, но тогда преступление предшествовало следствию и притом явилось под видом самого жестокого покушения на жизнь не одного человека. В этот раз, напротив, объявляли об умысле убийства и по подозрению в нем начинали сразу с ареста одного из знаменитейших людей республики, который слыл предметом зависти Первого консула.
Сначала Первый консул сохранял спокойствие при виде новой опасности, угрожавшей его жизни, но, когда увидел, к какой черной клевете подала повод эта опасность, пришел в жестокое раздражение. Мало было служить предметом самых страшных заговоров, надлежало еще и слыть изобретателем заговоров, завистником, когда его самого преследовала самая низкая зависть, сочинителем гнусных умыслов на жизнь другого, когда его собственная жизнь подвергалась величайшим опасностям! Наполеоном овладел гнев, беспрестанно возраставший с течением следствия. Он с каким-то ожесточением принялся отыскивать виновников заговора: не то чтобы он хлопотал о своей безопасности, но ему хотелось посрамить бессовестность своих поносителей, которые изображали его сочинителем происков, недавно и даже теперь еще угрожавших его жизни.
На этот раз гнев его преимущественно оказался обращен не на республиканцев, а на роялистов. С тех пор как он стал во главе правительства, Наполеон все делал в пользу роялистов: избавил их от гонений, возвратил им звание французов и граждан Французской республики, вернул, по возможности, все их имущество, поступая при этом вопреки советам и воле своих вернейших приверженцев. Чтобы возвратить духовенство, он пренебрег самыми закоснелыми убеждениями страны и века, чтобы
возвратить эмигрантов, презрел неудовольствие самого подозрительного класса людей, а именно владельцев национального имущества. Наконец, он вверил некоторым из роялистов важнейшие должности, даже начал приближать их к себе. В награду за такие усилия и благодеяния роялисты сначала хотели взорвать его посредством бочонка пороху, а теперь собирались зарезать на большой дороге. И они же в своих гостиных винили его в изобретении заговоров, которые сами составляли.
Пока с величайшим тщанием искали Жоржа и Пише-грю, произвели новые аресты, а от Пико и Буве де Лозье получили подробнейшие показания, важнее прежних. Эти люди, не желая слыть убийцами, рассказали, что прибыли в Париж в самом знатном обществе, что с ними находились важнейшие вельможи двора Бурбонов, а именно князь Полиньяк и Ривьер, наконец, объяснили, что начальство над ними собирался принять некий принц. По их словам, они ожидали его с минуты на минуту, между заговорщиками носился слух, что это будет герцог Берри.
Заговор получил всю печальную ясность в глазах Первого консула. Он увидел графа д’Артуа и герцога Берри, окруженных эмигрантами, в союзе с республиканцами, содержащих на жалованье шайку убийц, обещающих даже самим принять над ними начальство, чтобы умертвить его в предательском нападении, которое они называли честным боем, с равным оружием. Терзаемый бешенством, он питал уже одно только желание — захватить этого принца. «Бурбоны думают, — говорил он, — что меня можно зарезать, как скотину. Но моя кровь ничем не хуже их крови. Они поплатятся тем же страхом, какой хотят навести на меня. Прощаю Моро его слабость, увлечение безумной зависти, но велю без жалости расстрелять первого принца, который попадется ко мне в руки. Я покажу им, с кем они имеют дело!» Такие речи твердил Наполеон беспрестанно во время страшного процесса. Он стал угрюм, тревожен, грозен и — странный признак в нем — работал меньше обыкновенного.
Не тратя ни минуты, он призвал к себе полковника Савари, на преданность которого вполне полагался. Са-вари был не злой человек, что бы ни говорили о нем
29 Консульство обыкновенные критики всякого правительства. Он обладал примечательным умом, но провел жизнь в армии, не составил себе твердых правил ни по какому поводу и не знал иной нравственности, кроме верности начальнику, который осыпал его благодеяниями. Первый консул велел ему переодеться, взять с собой команду отборных жандармов и отправиться сторожить бивильский берег. Отборным жандармам можно было вверять самые затруднительные поручения, не опасаясь ни малейшей нескромности. Случалось, что по какой-нибудь нечаянной служебной надобности двое таких жандармов везли в почтовой карете несколько миллионов золотом в глушь Калабрии или Бретани и ни разу не приходило им в голову изменить своему долгу. Значит, это были не убийцы, как о них толковали, а солдаты, повиновавшиеся начальнику со строжайшей исправностью.
Полковник Савари взял с собой пятьдесят человек, искусно переодел их, вооружил и повез на бивильский берег. Ни один из допрошенных не сомневался в присутствии принца в ожидаемом отряде эмигрантов. Показания различались только в одном: не знали, прибудет герцог Берри или граф д’Артуа. Полковник Савари собирался день и ночь проводить на утесах берега, дождаться высадки, захватить всех прибывших и доставить их в Париж. Решение Первого консула заключалось в следующем: отдать под военный суд и немедленно расстрелять принца, попавшегося в его руки. Печальная и страшная решимость, горькие последствия которой мы скоро увидим.
Испытывая такие чувства к роялистам, Наполеон обнаруживал совсем другие эмоции относительно Моро. Враг находился ныне у ног его, запятнанный, опозоренный, а ему хотелось поступить в отношении его с беспредельным великодушием. В самый день ареста Наполеон сказал Ренье: «Надо, чтобы все, что касается республиканцев, осталось между мной и Моро. Ступайте в тюрьму и допросите его, потом привезите в Тюильри, пусть он объяснится обо всем со мной, я готов забыть проступки, порожденные завистью, которая была не столько его личной, сколько завистью окружающих».
По несчастью, Первому консулу было легче простить, нежели Моро принять прощение. Сознаться во всем значило пасть к ногам Первого консула: унизительная мера, которой нельзя ожидать от человека, чья спокойная душа мало возвышалась, но мало и унижалась. Если бы министром полиции еще оставался Фуше, именно ему следовало бы поручить объясниться с Моро. Его приветливое и вкрадчивое обращение могло бы всего лучше проникнуть в душу, запертую гордостью и несчастьем, польстить этой гордости. Вместо такого искусного посредника прислали к Моро честного человека, который явился к славному подсудимому во всем министерском великолепии и разрушил добрые намерения Первого консула. Великий судья Ренье прибыл в тюрьму в судейской мантии, в сопровождении секретаря Государственного совета Локрэ. Ренье допрашивал генерала долго, с холодной вежливостью.
К тому времени показания Лажоле достаточно прояснили виновность Моро. Прежде всего надлежало по-дружески уведомить его о ходе следствия, чтобы избавить от бесполезной лжи, показать ему, что все известно, и заставить во всем признаться. Вместо того великий судья позволял Моро отвечать на все вопросы, что он ничего не знает, ни с кем не виделся и не понимает, с чего ему предлагают подобные вопросы. Ренье не уведомил несчастного, что он запутывается в лабиринте бесполезного и опасного запирательства. В итоге это свидание не принесло того результата, которого ожидал Первый консул: прощения, столь же благородного, сколько и необходимого.
Ренье возвратился в Тюильри донести об итогах допроса. «Нечего делать, — сказал Первый консул, — если он не хочет говорить со мной, пусть говорит с судом». Тут же принялись с необыкновенной активностью разыскивать виновных: ведь прежде всего нужно было сохранить честь правительства, которое неизбежно осудили бы, если бы не нашлось доказательств реальности заговора, а значит, следовало отыскать Жоржа и Пишегрю. Не успев отыскать их, Наполеон мог прослыть низким завистником, намеревавшимся опозорить и погубить второго генерала Республики.
Ежедневно брали под стражу все новых соучастников заговора, которые не оставляли ни малейшего сомнения по поводу подробностей замысла, особенно намерения напасть на карету Первого консула между Сен-Клу и Парижем и присутствия принца во главе заговорщиков. Все факты стали уже известны, но все еще не был пойман ни один из предводителей, чье присутствие убедило бы самых недоверчивых людей; не был схвачен и нетерпеливо ожидаемый принц.
Полковник Савари в свою очередь рапортовал, что все осмотрел и проверил на месте, убедился в совершенной справедливости показаний касательно способа высадки, таинственной дороги от Бивилля до Парижа и маленького судна, которое всякий вечер лавировало вдоль берега.
В Париже каждый день нападали на следы Пишегрю либо Жоржа. Несколько раз едва не схватили их, но всякий раз опаздывали. Первый консул, уже не разбиравший средств, решил предложить Законодательному корпусу постановление, по которому всякий гражданин, укрывавший Жоржа, Пишегрю и шестьдесят их сообщников, наказывался не заключением или каторгой, а смертью. Всякий, кто видел их или знал об их убежище и не донес правительству, наказывался шестилетней каторгой. Грозный закон, требовавший бесчеловечного поступка под страхом смерти, принят был в тот же день, как предложен, без всякого возражения.
Сразу после этого приняли столь же строгие меры предосторожности. Следовало опасаться, что заговорщики, преследуемые таким образом, постараются бежать из Парижа. На несколько дней город заперли, впускали в него всех, выпускать не разрешали никого. В обеспечение этой меры у всех ворот столицы расставили пешие караулы, конные караулы разъезжали около городских стен, имея приказ останавливать всякого, кто пробирался через стену, и стрелять в каждого, кто собирался бежать.
Некоторое время казалось, что вернулись самые тяжкие времена революции. В Париже распространился ужас. Враги Первого консула жестоко пользовались общим беспокойством и толковали о нем все то, что некогда говорилось о бывшем Комитете общественного спасения. Наполеон слышал все эти толки, и озлобление его, возраставшее беспрестанно, делало его способным на самые крутые меры. Он стал угрюм, суров и не щадил никого.
Тяжкое уныние господствовало в Париже. Страшный закон не возбудил ни в ком низкой решимости предать заговорщиков, но никто и не соглашался дать им пристанище. Эти несчастные, разобщенные из-за трудностей, скитались по ночам из дома в дом, платили иногда по шести и восьми тысяч франков за убежище, предоставленное буквально на несколько часов. Жорж еще твердо переносил свое положение, привыкнув к превратностям междоусобной войны, но дворяне, которые ожидали, что Франция, или по крайней мере их партия, примет их с распростертыми объятиями, а нашли только равнодушие, смущение или порицание, пришли в отчаяние от своей попытки. Теперь они яснее сознавали гнусность умысла и презренность связей, на которые сами осудили себя, проникнув во Францию с шайкой шуанов.
Пишегрю, который наряду со своими жалкими пороками обладал известными достоинствами (хладнокровием, благоразумием, отменной проницательностью), видел ясно, что не только не оправился от своего первого падения, но вообще пал на самое дно. Первая вина его, состоявшая в предосудительных сношениях с принцем Конде, довела его до звания изменника, а потом беглеца. Теперь он оказался среди соучастников разбойничьего убийства. На этот раз у победителя Голландии уже не оставалось и следа бывшей славы! Услышав об аресте Моро, он угадал ожидавшую его участь и воскликнул, что погиб. Сообщество шуанов его не устраивало категорически, он утешался в беседах с Ривьером, которого находил благоразумнее и рассудительнее прочих приверженцев графа д’Артуа, присланных в Париж. Раз вечером, впав в отчаяние, он схватил пистолет и хотел застрелиться, но ему помешал все тот же Ривьер.
Подобное положение не могло продлиться долго. Один офицер, находившийся при Пишегрю, изменил ему и предал его в руки полиции. Генерал спал, окруженный оружием, с которым не расставался, и книгами, составлявшими его привычное чтение; лампу погасили. Отряд жандармов вошел в его убежище. Проснувшись от шума, Пишегрю было кинулся к оружию, но не успел схватить его, однако защищался несколько минут с чрезвычайной силой. Вскоре побежденный, он сдался и был отвезен в Тампль.
Арман, а потом и Жюль Полиньяки, а также Ривьер в свою очередь опасались полиции, и вскоре их действительно арестовали при перемене убежища. Эти аресты произвели на публику глубокое впечатление. Все люди, чуждые партийных пристрастий, уверились в действительном существовании заговора. Присутствие Пишегрю и личных друзей графа д’Артуа не вызывало уже никакого сомнения. Реальность опасности, какой подвергался Первый консул, обнаружилась вполне, и публика живее, чем когда-либо, сочувствовала ему.
Однако недоброжелатели, несколько смущенные, все же не умолкали. По их мнению, Полиньяки и Ривьер — это всего лишь безумцы, не умевшие сидеть смирно, беспрестанно волновавшиеся вместе с графом д’Артуа и прибывшие во Францию только посмотреть, не благоприятствуют ли их партии обстоятельства. Но не существовало ни серьезного заговора, ни реальной опасности, которые могли бы оправдать столь жесткие действия Первого консула.
Чтобы закрыть рот этим говорунам, надлежало поймать Жоржа. Тогда бы уже решительно не осталось возможности сказать, что Полиньяки, Ривьер, Пишегрю и Жорж живут в Париже простыми наблюдателями. Благодаря грозным мерам, принятым со стороны правительства, вскоре явилось и это последнее доказательство.
Жорж, преследуемый множеством сыщиков, вынужденный ежедневно менять пристанище, не имея возможности выбраться из Парижа, наконец попался. Следы его давно нашли, но, к чести того времени, надо признаться, никто не соглашался предать его, хотя все желали его ареста. Девятого марта, в сумерки, несколько полицейских чиновников окружили один дом, навлекший на себя подозрение. Жорж, находившийся в нем, попробовал выйти. В семь часов вечера он сел у Пантеона в кабриолет, извозчиком которого был его доверенный человек, отважный молодой шуан. Полицейские офицеры бежали во весь дух за кабриолетом до поворота на улицу Бюсси. Жорж торопил товарища, как вдруг один из полицейских схватил лошадь под уздцы. Жорж свалил его замертво пистолетным выстрелом, выскочил из кабриолета и хотел бежать. Но окруженный народом, схваченный, несмотря на все свои усилия, был отдан в руки стражи, поспешно прибежавшей на шум. Тотчас же узнали в беглеце того страшного Жоржа, которого так долго искали и наконец поймали к общей радости парижан. (В самом деле, над жителями тяготело принуждение, от которого они теперь освобождались.) Вместе с Жоржем арестовали и его слугу, едва успевшего отбежать на несколько шагов.
Заговорщиков отвели в полицейскую префектуру. Глава заговорщиков казался совершенно спокойным: молодой, крепкий мужчина, с широкими плечами, с полным лицом, больше открытым и веселым, нежели угрюмым и злым. При нем находились пистолеты, кинжалы и тысяч до шестидесяти франков золотом и банковыми билетами. Немедленно допрошенный, он, не колеблясь, объявил свое имя и причину своего присутствия в Париже. По его словам, он приехал убить Первого консула, не прокравшись в его дворец с четырьмя убийцами, а напав на него открыто, в чистом поле. Он должен был действовать вместе с одним французским принцем, который скоро собирался приехать во Францию. Впрочем, обо всем, что касалось других, а не его самого, смелый заговорщик упорно молчал, повторяя, что уже довольно жертв и он не хочет увеличивать их число.
После ареста Жоржа и его показаний заговор был подтвержден несомненно, а Первый консул оправдан. Теперь уже не один только Жорж говорил о приезде принца, друзья графа д’Артуа, Ривьер и Полиньяки давали те же показания. Так как принц тем не менее не приехал, они были уверены в его безопасности, потому что его защищал целый Ла-Манш. Безумцы не подозревали, что имелись и другие принцы, не так надежно защищенные, которые могли поплатиться своей кровью за умыслы, возникшие и составленные в Лондоне.
Ах, если бы для посрамления своих врагов Первый консул удовольствовался тем, что имел под рукой! Но, как мы уже сказали, снисходительный в то время к революционерам, он был исполнен негодования против роялистов, возмущался их неблагодарностью и решил дать им почувствовать тяжесть своего могущества. В сердце его, кроме мщения, витало другое чувство: гордость особого рода. Он громко говорил всем и каждому, что Бурбон значит для него не больше Моро или Пишегрю, даже меньше; что принцы, считая себя неприкосновенными, губили, как хотели, множество безумцев разного звания, а сами укрывались за морем; что они напрасно надеются на свое убежище; что пролить кровь Бурбона для него значит так же мало, как пролить кровь последнего игуана, и он скоро покажет миру, до какой степени все партии равны в его глазах.
Никто не смел противоречить ему: Лебрен молчал, Камбасерес также молчал, показывая, однако, то безмолвное несогласие, какое стало обыкновенной формой его сопротивления некоторым начинаниям Первого консула. Фуше, желавший выслужиться, хоть и был вообще склонен к снисходительности, восхвалял необходимость примерной строгости. Талейран, без сомнения, человек не жестокосердый, но никогда не умевший противоречить власти, если только не становился ее врагом, также вторил Фуше. Одним словом, кроме Камбасереса, все потакали гневу Первого консула, хотя в то время он и без того готов был на крайние меры.
Мысль обратить наказание на одних роялистов, продемонстрировав революционерам только милосердие, так сильно укоренилась в уме Наполеона, что он попробовал сделать и для Пишегрю то же, что хотел для Моро. Глубокое сожаление овладело им при мысли об ужасном положении славного генерала, попавшего в общество шуанов, готового потерять по суду не только жизнь, но и последние остатки чести. «Завидный же это конец, — говорили он Реалю, — для победителя Голландии! Но пусть же люди революции так не губят друг друга. Давно уже я думаю о Кайене: это отличное место для основания колонии. Пишегрю жил там изгнанником, он знает страну, из всех наших генералов ему лучше всех удастся основать там большую колонию. Побывайте у него в тюрьме, скажите, что я готов простить ему, что не на нем, не на Моро и не на подобных им я хочу доказать строгость правосудия. Спросите, сколько ему надо людей и миллионов для того, чтобы основать колонию в Кайене, я дам ему их, и пусть он едет восстанавливать свою славу, оказывая услуги Франции».
Реаль передал Пишегрю эти благородные слова. Когда тот услышал их, то сначала не хотел верить, ему казалось, что хотят его обольстить, чтобы он изменил товарищам по несчастью. Но вскоре, выслушав настояния Реаля, который не требовал от него никаких показаний, потому что правительство уже знало все, Пишегрю растрогался: закрытая душа его растворилась, он заплакал и долго говорил о Кайене. Он даже сознался, что по какому-то странному предвидению во время ссылки часто думал о том, что можно было бы там сделать, и даже готовил проекты.
Наполеон тем временем продолжал с живейшим нетерпением ожидать известий от полковника Савари. Известий все не было. Бриг капитана Райта появлялся каждый вечер, но ни разу не подходил к берегу. Наконец Савари вынужденно доложил, что поручение выполнить не удалось.
Досадуя, что не поймал ни одного из принцев, злоумышлявших против него, Первый консул обратил внимание на все места, где только они проживали. Однажды утром, на заседании с Талейраном и Фуше, ему рассказали, что Людовик XVIII с герцогом Ангулемским живут в Варшаве, а граф д’Артуа и герцог Берри — в Лондоне, как и принцы Конде, кроме одного, самого юного, самого предприимчивого, герцога Энгиенского, который живет в Эттенгейме, очень близко от Страсбурга. Как мы знаем, с этой же стороны английские поверенные Тейлор, Смит и Дрейк старались плести интриги. Уму Первого консула вдруг представилась мысль, что юный принц мог воспользоваться страсбургским мостом точно так же, как граф д’Артуа хотел воспользоваться бивиль-ским берегом, и он решил послать туда расторопного жандармского унтер-офицера для сбора сведений. Нашелся один, который в молодости служил у принцев Конде. Ему велели переодеться, отправиться в Эттенгейм и осведомиться о принце, образе его жизни и сношениях.
Как известно, принц жил там уже некоторое времени подле княгини Роган, к которой был очень привязан, деля свое время между этой склонностью и страстью к охоте, находившей удовлетворение в Шварцвальдских горах. Английский кабинет предписал принцу находиться на берегах Рейна, вероятно, в ожидании переворота. Принц полагал, что вскоре будет вынужден воевать против своего отечества — мысль, к которой он за несколько последних лет уже привык. Но ничто не указывает, что он знал о заговоре Жоржа. Напротив, по всему ясно, что он не знал о нем, часто находясь в отсутствии, ездя на охоту и на спектакли в Страсбург. Достоверно только, что этот слух распространился до такой степени, что отец писал принцу из Лондона, советуя ему в довольно строгих выражениях быть осторожнее. С принцем находились несколько эмигрантов, в том числе некий маркиз Тюмери.
Унтер-офицер, посланный для сбора сведений, в самом доме принца узнал множество подробностей, из которых предубежденные умы могли легко вывести опасные заключения. Рассказывали, что юный герцог часто уезжает из дома, даже на несколько дней, иногда бывает и в Страсбурге. При нем находится лицо, роль которого почему-то сочли гораздо больше, чем она была. Имя его произносилось немцами до такой степени искаженно, что его можно было принять за Дюмурье. Лицо это был маркиз Тюмери, о котором мы сейчас упоминали и которого унтер-офицер, обманутый немецким выговором, от чистого сердца счел за славного генерала Дюмурье58 и изложил все подробности в донесении, написанном под влиянием злосчастной ошибки и немедленно отосланном в Париж.
Роковое донесение пришло утром 10 марта. Накануне вечером, ночью и даже в тот же день утром несколько раз повторялось еще одно роковое свидетельство. Эти показания давал Леридан, слуга Жоржа, арестованный вместе с ним. Сперва он упорствовал, потом стал говорить с полным, казалось, чистосердечием и наконец объявил, что действительно существует заговор и главой заговора является принц. Он, со своей стороны, так полагает потому, что видел иногда у Жоржа какого-то молодого человека, прекрасно воспитанного, богато одетого, бывшего предметом общего уважения.
Эти сведения доложили Первому консулу и в то же время ему вручили рапорт унтер-офицера. В голове Наполеона образовалось самое пагубное сочетание мыслей.
План заговорщиков получал очевидную полноту: граф д’Артуа приедет через Нормандию с Пишегрю, а герцог Энгиенский — через Эльзас с Дюмурье. Чтобы возвратиться во Францию, Бурбоны являлись в сопровождении двух славных республиканских генералов. Ум Первого консула, обыкновенно столь светлый, столь твердый, не устоял против стольких обманчивых признаков. Читая рапорт унтер-офицера, Первый консул пришел в чрезвычайное волнение. Он очень дурно принял Реаля, явившегося в тот момент, выругал его за то, что так поздно узнает такие важные подробности, и сам от чистого сердца поверил, что напал на вторую и самую опасную часть заговора.
Немедленно созвали чрезвычайный совет из трех консулов, министров и Фуше, полковникам Орденеру и Колен-куру также велели явиться в Тюильри. В ожидании этих господ Наполеон разбирал карты рейнских земель, чтобы составить план похищения принца, и, не находя нужных, в волнении ронял на пол все остальные.
Начался совет. Очевидец рассказывает о нем в своих записках. Первой предложили идею схватить принца и генерала Дюмурье, не заботясь о неприкосновенности германской земли, только послав для проформы извинения герцогу Баденскому. Первый консул спросил мнения советников, но было очевидно, что решение уже заранее принято. Впрочем, он терпеливо выслушал возражения. Лебрен опасался впечатления, какое подобный случай произведет на Европу. Камбасерес имел твердость открыто противиться предложенному мнению. Он старался показать всю опасность такой меры для внутренней и внешней политики, доказывал, что она неминуемо придаст насильственный характер правлению Первого консула. Особенно ссылался он на то обстоятельство, что очень важно арестовать, судить и расстрелять принца королевского дома, взятого вно время совершения преступления на французской земле, но схватить его в чужих владениях, кроме нарушения границ, значило схватить его, когда наличествуют все признаки невиновности. Камбасерес заклинал Первого консула его личной славой и честью его политики не решаться на меру, которая поставила бы его правление в один ряд с теми революционными правительствами, от которых он так старался отделить себя.
Ему отвечали, что, взяв принца в Эттенгейме, с ним вместе возьмут его бумаги и сообщников и таким образом приобретут доказательства его преступных намерений, а тогда можно смело употребить строгость, опираясь на очередные улики. Между тем терпеливо наблюдать, как эмигранты, под защитой чужой границы, плетут заговоры у самых ворот Франции, значило давать самую опасную слабину. Бурбоны и их приверженцы не уймутся никогда, и в таком случае придется наказывать десять раз вместо одного, тогда как, прибегнув однажды к строгой мере, правительство возвратится потом к свойственному ему милосердию. К тому же арестовать принца, не ставя в известность герцога Баденского, значило оказать услугу самому герцогу, который не мог бы отказать в его выдаче такой державе, как Франция, а выдачей заслужил бы негодование Европы. В заключение говорили, что надлежит только овладеть особой принца и его бумагами, а после видно будет, что с ним делать.
Первый консул почти не слышал, что говорили за и против его мнения, впрочем, он не обнаружил и досады на Камбасереса за его сопротивление. «Знаю, — только сказал он, — причину, которая внушает вам ваши слова: это ваше расположение ко мне. Благодарю вас за него, но не дам себя убить без защиты. Я заставлю трепетать этот народ и выучу их сидеть смирно».
Наполеон тотчас отдал необходимые распоряжения. В присутствии генерала Бертье предписал он полковникам Орденеру и Коленкуру, как им следует поступать. Орденер должен был отправиться на берега Рейна, взять с собой триста драгун, несколько понтеньеров и жандармских команд, снабдить войска продовольствием на четверо суток, запастись деньгами, чтобы не обременять жителей, поспешно двинуться на Эттенгейм, окружить город и захватить принца со всеми находившимися при нем эмигрантами. В то же время другой отряд с несколькими пушками должен был пройти к Оффенбургу и оставаться там, пока план будет приведен в исполнение. Вслед за тем Коленкуру следовало поехать к герцогу Баденскому, подать ему ноту, заключавшую объяснение предпринимаемой меры. Объяснение состояло в том, что герцог, оставляя при себе группу эмигрантов, вынудил французское правительство рассеять ее, а необходимость действовать быстро и секретно не позволяла предварительно снестись с баденским правительством.
Нечего говорить, что, отдавая приказания офицерам, избранным для исполнения, Первый консул не трудился объяснять, с каким намерением похищает принца и что думает с ним сделать. Он приказывал как генерал, они повиновались как солдаты. Один полковник Коленкур, привязанный семейными отношениями к бывшей королевской фамилии, к роду Конде, оставался глубоко опечаленным, хотя его делом было только отвезти письмо, и он отнюдь не предвидел страшной катастрофы, которая последовала. Первый консул, по-видимому, не обратил внимания на его скорбь и повторил свое приказание отправляться в путь немедленно по выходе из Тюильри.
Отданные им приказания были исполнены в точности. Через пять дней, то есть 15 марта, отряд драгун со всеми предписанными предосторожностями выступил из Ше-лештадта, перешел Рейн и окружил городок Эттенгейм прежде, чем туда дошла какая-нибудь весть об этих передвижениях. Принц, который был предупрежден, но не имел конкретного уведомления об экспедиции, находился в своем доме. Он хотел было обороняться, но вскоре понял невозможность сопротивления, сдался, объявил свое имя людям, которые искали его, не зная в лицо, и с горьким сожалением о потере свободы, ибо еще не знал всей грозящей ему опасности, дал отвезти себя в Страсбург и заключить в крепость.
Не нашли ни важных бумаг, ни генерала Дюмурье, ни одного из тех доказательств заговора, которые выставлялись главным поводом экспедиции. Вместо Дюмурье взяли маркиза Тюмери и еще несколько незначительных эмигрантов. Донесение о подробностях ареста немедленно отправили в Париж.
Результат экспедиции мог бы объяснить Первому консулу и его советникам неосновательность их догадок. Особенно много значила ошибка по поводу генерала Дюмурье. К несчастью, вот какие мысли овладели Первым консулом и теми, кто думал так же, как он. Взяли одного из тех принцев, которым заговоры нипочем и которые находят безумцев или дураков, всегда готовых губить себя по их желанию. Надлежит показать грозный пример — иначе навлечешь на себя насмешки со стороны роялистов, отпустив захваченного принца. Они станут непременно говорить, что правительство сделало глупость, послав в Эттенгейм за принцем, а потом испугалось общественного мнения и Европы; что, одним словом, у правительства достало воли желать преступления, но не достало твердости его совершить. Вместо того чтобы давать им повод к насмешкам, лучше привести их в трепет. Ведь принц находился в Эттенгейме, подле самой границы, при таких обстоятельствах, очевидно, не без причины. Возможно ли, чтобы он оставался так близко от опасности без всякой цели и не являлся до какой-либо степени соучастником заговора? Во всяком случае, он проживал в Эттенгейме для поощрения происков эмигрантов внутри Франции, для возбуждения междоусобной войны с намерением опять поднять оружие против отечества. Преступления того и другого рода строго наказывались законами всех времен, и надлежало применить эти законы к пленнику.
Такие рассуждения Первый консул составлял сам себе и часто слышал от других. Восемнадцатого марта принца взяли из Страсбургской крепости и повезли под стражей в Париж.
Когда наступила пора страшной жертвы, Первый консул захотел уединиться.
В тот же день, в Вербное воскресенье, он уехал в Мальмезон, убежище, где мог, наверное больше, чем где-нибудь, найти уединение и покой. Там он не принимал никого, кроме консулов, министров и своих братьев, расхаживал один часами, демонстрируя внешнее спокойствие, которого не имел в сердце. Доказательством его беспокойства служит само бездействие его, потому что он не продиктовал ни одного письма за неделю своего пребывания в Мальмезоне — единственный пример праздности в его жизни. Жозефина, знавшая, как и все родные, об аресте принца, со своей невольной симпатией к Бурбонам пребывала в ужасе от перспективы пролития царственной крови, и с дальновидностью сердца, свойственной женщинам, несколько раз со слезами говорила ему о принце, еще не веря, но опасаясь, что его погибель предрешена. Первый консул противился этим слезам, боясь их действия на самого себя. С простотой, которой старался придать вид суровости, он отвечал Жозефине: «Ты женщина и ничего не смыслишь в моей политике; твое дело молчать».
Несчастный принц прибыл в Париж 20-го числа в полдень. До пяти часов его держали у Шарантонской заставы в карете, под конвоем.
По военному закону дивизионному командиру следовало созвать комиссию и распорядиться исполнением приговора. Комендантом Парижа и начальником дивизии являлся Мюрат. Получив приказание консулов, генерал опечалился. Он был, как мы сказали, человек храбрый, иногда легкомысленный, но предобрый. С отчаянием сказал он одному из приближенных, указывая на свой мундир, что Первый консул хочет замарать его кровью. Мюрат поскакал в Сен-Клу выразить своему грозному шурину чувства, которыми был переполнен. Первый консул сам больше склонен был разделять их, нежели хотел бы, и скрыл под наружной твердостью свое тайное волнение. Он сурово обошелся с Мюратом, выговорил ему за малодушие в резких выражениях и в заключение горделиво сказал, что готов пощадить его трусость и подписать сам, своей консульской рукой, необходимые приказы.
Первый консул отозвал Савари с бивильского берега, где тщетно ожидали принцев, принимавших участие в заговоре, и поручил ему принести в жертву принца, не имевшего никакого отношения к заговору. Полковник Савари готов был отдать Первому консулу свою жизнь и честь. Первый консул велел Савари доставить приказы Мюрату и отправиться в Венсен наблюдать за их исполнением. Надлежало составить комиссию, назначить гарнизонных полковников ее членами, генерала Гюллена — председателем и собраться немедленно, чтобы все закончить в ту же ночь. Если бы последовал приговор о смертной казни (в чем не было и сомнений), то казнить пленника следовало так же без отлагательства.
По закону эти приказы исполнялись от имени Мю-рата, на деле Мюрат не участвовал в них нисколько.
Впрочем, нельзя сказать, чтоб эти приказания звучали совершенно необратимо: еще оставалось средство спасти несчастного принца. Реаль собирался ехать в Венсен, подробно допросить пленника и выяснить все, что он знал о заговоре. Увидевшись с пленником, услышав от него чистосердечное объяснение, Реаль мог бы передать свои впечатления тому, в чьих руках находилась жизнь принца. Следовательно, даже по произнесении приговора еще существовала возможность сойти с ужасной дороги, оставить герцогу Энгиенскому жизнь.
Таково было последнее средство спасения молодого принца и удержания Первого консула от важной ошибки. Первый консул думал об этом средстве даже после приказов, которые отдал. В печальный вечер 20 марта он затворился в Мальмезоне с женой, секретарем, несколькими дамами и офицерами. Рассеянный, притворяясь спокойным, он расхаживал по залу, наконец сел играть в шахматы с одной из дам, которая, зная о прибытии принца, содрогалась от ужаса при мысли о возможных последствиях рокового дня59. Она не смела взглянуть на Первого консула, который в рассеянии несколько раз бормотал известнейшие стихи французских поэтов о милосердии: сперва те, которые Корнель приписывал Августу, а потом те, что Вольтер заставил произносить Альзиру.
Это с его стороны не могло оказаться бесчеловечной шуткой: она была бы слишком презренна и бесполезна. Но твердый человек явно волновался и по временам задумывался о величии, о благородстве прощения. Дама подумала, что принц спасен, и обрадовалась. К несчастью, случилось не так.
Наскоро собралась комиссия, члены ее по большей части и не знали, кто будет подсудимым. Им сказали, что нужно осудить одного эмигранта за нарушение законов Республики, затем объявили его имя. Некоторые из этих республиканских солдат, будучи во время падения престола
детьми, едва знали, что имя герцога Энгиенского принадлежит прямому наследнику фамилии Конде. Однако сердца их все же болели от подобного поручения, потому что уже несколько лет, как миновали суды над эмигрантами.
Наконец привели герцога. Он был спокоен, даже горд и ничего не знал об ожидавшей его участи. На вопросы о его имени и действиях отвечал твердо, отказался от всякого участия в заговоре, но признался, может быть, несколько хвастливо, что некогда служил против Франции и находится ныне на берегах Рейна, чтобы служить против нее опять точно таким же образом. Когда председатель суда стал упирать на этот пункт с намерением показать ему опасность подобного признания, принц повторил свои слова еще раз, с отвагой, которую опасность облагораживала, но которая оскорбила солдат, привыкших проливать кровь, защищая родную землю. Это впечатление оказалось роковым.
Принц несколько раз настоятельно потребовал свидания с Первым консулом. Его отвели назад в камеру и начали собирать голоса. Хотя неоднократные признания обличали в арестованном заклятого врага революции, однако судьи были тронуты молодостью и мужеством принца. Законы Республики и всех времен карали уголовной казнью преступления против отечества. Но много законов оказалось нарушено и против принца: например, его схватили на иностранной земле, лишили защитника, и эти обстоятельства должны были тоже подействовать на приговор судей.
Продолжая пребывать в некоторой неуверенности, скорбя о своей роли, злосчастные судьи произнесли смертный приговор. Впрочем, большая половина их выразила желание представить приговор на милосердие Первого консула, особенно же привезти к нему принца, который требовал свидания. Но утренние приказы, предписывавшие покончить дело в ту же ночь, звучали очень точно. Один только Реаль, приехав и допросив принца, мог получить отсрочку. Но Реаль не приезжал. Ночь минула, настал день. Принца отвели в ров замка, и там, с твердостью, достойной его происхождения, он встретил залп солдат, против которых столько раз сражался в рядах австрийской армии. Горькое возмездие междоусобной войны!
Его погребли на том самом месте, где он пал.
Полковник Савари немедленно отправился к Первому консулу с отчетом об исполнении его приказаний. Дорогой он повстречал Реаля, который ехал допрашивать пленника. Государственный советник, изнуренный усталостью от занятий в течение нескольких дней и ночей, запретил своей прислуге будить его. Приказ Первого консула вручили ему только в пять часов утра, он немедленно выехал, но было уже поздно.
Полковник Савари прибыл в Мальмезон очень расстроенный. Его приезд подал повод к печальной сцене. Госпожа Бонапарт, увидев его, поняла, что все кончено, и залилась слезами. Коленкур в ужасе твердил, что его обесчестили. Савари прошел в кабинет Первого консула, рассказал ему о том, что произошло в Венсене. Первый консул тотчас же спросил его: «Виделся ли Реаль с пленником?» Не успел полковник договорить, как вошел сам Реаль и, трепеща, стал извиняться за неисполнение полученных приказаний. Не обнаружив ни одобрения, ни порицания, Первый консул отпустил всех, заперся в своей библиотеке и пробыл там несколько часов один.
Вечером в Мальмезоне обедали некоторые члены семьи, все были молчаливы и грустны. Говорить не смели, Первый консул также не говорил ни слова. Наконец такое безмолвие стало тягостным, и он сам прервал его. Первый консул говорил почти без умолку, стараясь заполнить пустоту, образовавшуюся по причине безмолвия присутствующих: он рассуждал о государях разных времен, о римских императорах, французских королях, Таците, о жестокостях, которые иногда приписывают главам государств, между тем как они только повинуются неизбежной необходимости. Наконец, отдаленными намеками приблизившись к трагическому предмету того дня, Наполеон сказал: «Хотят уничтожить революцию в моем лице. Я буду защищать ее, потому что я и есть революция, именно я... С нынешнего дня уймутся, увидят, на что мы способны».
Страх, внушенный Первым консулом, и в самом деле повлиял на принцев Бурбонского дома и на эмигрантов. Они разуверились в своей безопасности, обнаружив, что даже германские владения не защитили несчастного герцога Энгиенского. Заговоры с тех пор прекратились. Но такая печальная польза не в силах оправдать подобные меры! Лучше бы оставалась лишняя опасность для особы Первого консула, так часто подвергавшейся риску на поле битвы, нежели безопасность, купленная такой ценой.
Защищать общественный порядок, согласуясь со строгими правилами правосудия и не увлекаясь ни малейшим мщением, — вот урок, какой должны извлечь мы из этих трагических событий. Извлечем из них и другой урок: судить снисходительно о людях, которые, находясь задолго до нас на сцене переворотов, среди лукавых смут междоусобных войн, не питали к чужой жизни того уважения, которое, слава Богу, вселили в нас время, размышление и продолжительный мир.
Именной указатель
Аберкромби Ральф (1734— 1801) — 410,421, 423 Аддингтон Генри (1757 — 1844) - 358, 359, 373, 374, 386, 385,447,448,561,562,618,621— 626,706,707,716,731,732,735— 737, 757, 758, 762, 839, 840 Азара Феликс де (1742—1821) — 445, 540, 751,816-819 Александр I (1777—1825), император Российской империи — 369, 379-382,464,554,618,652, 653,657-660,662,669,717,723, 755,791,792, 808 Альбини Франц Иосиф (1748— 1861) — 128, 666, 668,672 Алькье Шарль Жан Мари (1752-1826)-22,47,345 Андреосси Антуан Франсуа (1761-1828) - 198,739,740,743, 762-764
Андриё Франсуа Гийом Жан Станислав (1759—1833) — 41, 49, 524, 526
Бартелеми Франсуа (1747— 1830) — 75, 610,725 Беллуа Жан Батист де (1709— 1808) — 491, 571, 613, 631 Бельяр Огюстен Даниэль (1769-1832) - 223,229,424-429, 433,454
Бенезеш Пьер (1745—1802) — 81,501,774
Бернонвиль Пьер Рюэль де (1752-1821) - 22,47, 243, 245, 310,627,651,786,816-818 Бернье Этьен Александр (1762-1806) - 70, 71, 74, 268, 475, 477, 478, 482,484,485,487, 568, 569,571,573,631,632
Берри Шарль Фердинанд (1778-1820) - 842,844,853,865, 866,873
Бертье Луи Александр (1753—
1815) — 10, 11,78,92, 121, 132, 138,141-143,161, 163,179, 198, 251-253,319, 876 Бессьер Жан Батист (1768— 1813) — 80, 176, 188 Биго Преамене Феликс-Жюльен-Жан де (1747—1825) — 342,499,519, 595,598 Бонапарт Жером (1784—1860) — 279, 433, 503
Бонапарт Жозеф (1768— 1844) — 188,279,283-286,304,306,310-312, 388,462,487, 503,538,541, 543, 561,564, 591,597,599,612, 613,674, 759
Бонапарт Жозефина (урожд. Богарне) (1763-1814) - 280, 503,611,878,879 Бонапарт Луи (1778—1846) — 279, 503,611,750 Бонапарт Люсьен (1775—1840) — 30, 264, 279, 347, 388, 390, 442, 452-454,462,503, 539,558, 591, 597,599, 603,611-613,703 Брюи Этьен (1759-1805) -351, 434, 799-801, 804, 821, 826, 827, 831
Брюн Гийом-Мари-Анн (1763— 1815) — 41,45, 72, 259, 260, 272, 286, 287, 296, 299-303, 306, 344, 701, 742
Буде Жан (1769-1809) - 175, 300, 692, 693, 696, 697, 773 Буле де Ла Мерт Антон-Жак-Клод-Иосиф (1761—1840) — 24, 25,29,31,32,41
Бурбон-Конде Луи-Антуан-Анри де (1772—1804), герцог Энгиенский — 78, 79, 844, 873, 875, 880, 881,883 Бурмон Луи Огюст Виктор Ген де (1773-1846)- 72, 74 Бурьен Луи-Антуан Фовеле де (1769-1834) - 82, 134, 144, 177, 188,276
Вандам Жозеф Доминик Рене (1770-1830)- 109, 115, 298 Ватрен Пьер Жозеф (1772— 1802) — 160, 164, 171,300, 301 Вернинак Сент-Мор Раймонд (1762-1822)-635, 709, 711 Вилларэ Жуайез Луи Тома де (1750-1812)-537, 687-691 Витворт Чарльз (1760—1824) — 249, 739, 740, 744-746, 748, 750, 752, 758,760, 761,763,764 Воронцов Семен Романович (1744-1832) - 370,654, 790,791 Вукасович Йосип Филип (1755-1809)- 147, 149, 298
Годой Мануэль (1767—1851), князь Мира — 47, 250—252, 347, 348, 388-390,441,442,452- 454, 539, 540, 628, 790,816-820 Гомпеш Фердинанд (1744—
1805) — 560, 563,718 Гранжан Шарль Луи Дьёдоне (1768-1828)-289, 291,292 Граф д’Артуа (1757—1836), с 1824 года король Франции Карл X - 70, 842-844, 852, 853, 865,866, 869-871,873,875 Грегуар Анри (1750—1831) — 519, 520, 529,533 Гренвиль Уильям (1759—1834) — 62, 63, 258, 562, 639, 706, 716, 732, 733, 735-737, 739, 743, 758, 764,834
Гренье Поль (1768—1827) — 128, 191,289, 293 Густав IV Адольф (1778—1837), король Швеции — 79, 308, 361,362, 752
Гюден ла Саблонье де (1768—
1812) — 191, 192
Галло Марцио Мастритти (1753-1833)- 344, 345, 377 Гантом Оноре Жозеф Антуан (1755-1818) - 41, 198, 236, 350-353, 391-397,409,413,421, 422, 432-434, 688, 694, 799, 800 Гассенди Жан-Жак-Базильен (1748-1828)-92, 132, 136 Гаугвиц Христиан-Август (1752-1832) - 243,245,618,658, 674,717,731,807-810,812 Гедувиль Габриэль Мария Жозеф Теодор (1755-1825) -19, 45, 73,657,791,792 Георг III (1738—1820), король Великобритании — 358, 372, 373, 618, 654, 740, 755, 757,794 Годен М.М.Ш. (1756-1841) -11, 13, 14, 60, 507
ДавуЛуи Николя (1770—1823) — 200,214,215,217, 804, 822, 832 Дальберг Карл Теодор фон (1744—1817), курфюрст Майнцский — 84, 655, 669, 672, 673
Дама Шарль-Сезар де (1758— 1829) — 402, 429, 430 Дандас Генри (1742—1811) — 563,706,716, 743 Д’Андинье де Ла Бланшэ (1765-1857)- 19, 70 Д’Аффри Луи Огюст-Филипп-Фредерик (1743-1810) - 725,730 Дезе Луи Шарль Антуан (1768— 1800) - 165-167, 171-174, 177, 181, 200, 205, 207-209, 212-215, 217, 233-235, 237, 263, 264, 400, 435
Декан Шарль Матье Исидор (1769-1832) - 289,290,292,293, 295, 430, 679, 680 Дессалин Жан-Жак (1758—
1806) - 689, 692, 696-699, 772-774
Дессоль Жан Жозеф Поль Огюстен (1767—1828) — 95, 104, 119
Дефермон Жозеф (1752—1831) — 24, 41, 326
Джеззар-паша Ахмед (1735—
1804) — 201, 203, 210, 700 Долдер Иоганн Рудольф (1753—
1807) — 636, 637, 708,711,712 Дону Пьер Клод Франсуа (1761-1840) - 49, 519, 529, 530, 533, 534, 558
Д’Опуль Жан-Жозеф-Анж (1754-1807)- 111,112,192,293, 426,429
Д’Отрив Александр Морис Бланк Ланёттде (1754—1830) — 478,486
Дюко Пьер Роже (1747—1816) — 6, 8, 17,24, 29, 38,40,41 Дюмануар Пьер (1770—1829) — 352, 391,437
Дюмурье Шарль Франсуа (1739-1823)- 874, 875,877 Дюпон Пьер-Антуан л’Этан де (1765-1840)-300, 301 Дюпюи Шарль Франсуа (1742-1809)-516 Дюрок Жерар Кристоф Мишель (1772-1813) - 21, 23, 45, 81, 134, 144, 188, 242, 243, 255, 369, 376, 381,383,464, 501,503, 754
Журдан Жан-Батист (1762— 1833) — 184, 520, 534
Ибрагим-бей (1735-1817) -201, 203, 221, 223, 225-227, 229
Иоанн Баптист Иосиф (1782— 1859), эрцгерцог Австрийский — 261,287, 288,290, 291,295, 297, 307, 642
Кабанис Пьер Жан Жорж (1757-1808)-41,49, 511 Кадудаль Жорж (1771 — 1804) — 70, 72, 74, 267, 274,492, 709, 841, 842, 845, 848-851, 853-862, 865,867-871,874 Кайм Конрад Валентин фон (1737-1801)-168-170,172,173,176 Како Франсуа (1742—1805) — 479_484,488,492 Калонн Шарль Александр де (1734-1802)-505-508 Камбасерес Жан-Жак Режи де (1753-1824)-9, 10, 37, 38, 40, 41, 55, 79, 133, 278, 279, 282, 283, 326, 335, 445, 446, 460, 486, 499, 500, 504, 512, 515, 520, 529, 531— 533,536,554-556,571,591,593— 599,607,609,617,631,701,703, 705, 740, 741, 768, 807, 863, 872, 875,876
Капрара Иоганн-Баттист (1753-1810) - 489,490,493,503, 567-571,573-575,797, 807 Карл IV (1748—1819), король Испании — 250, 251, 253, 346, 453,627,679, 786,814,818,819 Карл Людвиг (1771 — 1847), эрцгерцог Австрийский — 83, 295,304,619, 640, 666, 670 Карл Фридрих (1728—1811), курфюрст Баденский — 464, 662, 655, 875
Карл Эммануил IV (1751 — 1819), король Сардинии, князь Пьемонта — 184, 313, 346, 379, 382, 463, 563, 679, 682, 733, 737, 760, 791,812,814 Карно Лазар (1753—1823) — 42, 75, 120, 122, 132, 188, 189, 263, 272,558
Кейт Элфинсон Джордж (1746-1823) - 216, 217,235, 394, 396, 406,410,411,836 Келлерман Франсуа-Этьен (1770-1835}-41, 169, 174, 175, 181,530
Кларк Анри-Жак-Гийом (1765-1818)-447, 627 Клебер Жан-Батист (1753— 1800) - 165, 198-209, 211-224, 226-235, 237, 263, 264, 397, 398, 400-402, 406, 426, 587 Кленау Яновиц фон (1758— 1819) — 287, 297 Кобенцель Иоганн Людвиг (1753-1809) - 262, 283-286, 304-307, 310-312, 344, 674, 792 Коленкур Арман Огюстен Луи де (1773-1827) - 464, 875-879, 882
Колычев Степан Алексеевич (1746-1805) - 310, 343, 376— 378,381,443
Консальви Эркюль (1757—
1824) - 185, 186, 475, 480, 482-485, 487, 488 Констан Ребек Анри-Бенжа-мен де (1767—1830) — 41, 49, 50, 334, 340, 522,523,557, 861 Корнуоллис Чарльз (1738—
1805) - 462, 464, 465, 538, 560, 562-564,836
Край Пауль (1735-1804) - 83, 85, 87, 94, 95, 105-113, 115— 128, 130, 152, 159, 190, 193-196, 255,261
Криденер [Крюденер] Алексей Иванович (1744—1802) — 21, 245, 246,310
Кристоф Анри (1767—1820) — 689-692, 695, 698, 699, 772, 774, 775
Лагранж Жозеф Луи (1736—
1813) - 222, 225,417, 423,424, 427,468
Лажоле Фредерик Мишель (1765-1809) - 852, 862, 863, 867 Ламартильер Жан-Фабр (1732-1819) - 520, 529, 533, 534 Ланн Жан (1769—1809) — 18, 77, 78, 80, 138-141, 143,146, 147, 151, 160,163-165, 167,169-176, 198,272,319,513,572, 778 Ланюс Пьер (1768—1847) — 200, 224, 238, 403,410,414-419, 421 Лаплас Пьер-Симон (1749— 1827) - 10,41,468, 556, 591, 704 Латуш-Тревиль Луи Рене Меделин (1745—1804) — 455, 456, 687, 688, 692, 693, 696, 799,800
Лафоре Антуан-Рене-Шарль-Матюрен (1756—1846) — 660, 667, 668, 670, 672 Лебрен Шарль Франсуа Антуан (1739-1824) - 37, 38,40,41, 79, 133, 279, 283, 335, 486, 507, 594, 596, 704, 705,740, 741,872, 875 Легран Клод Жюст Александр (1762-1815) - 124, 125, 289, 293 Леклерк Шарль Виктор Эммануэль (1772—1802) — 348, 502, 537, 687, 688, 690-699, 770-772, 774
Лекурб Клод Жак (1759-1815) — 105-107, 109, ПО, 114, 121, 122, 126-128, 190-194,259,290, 294, 295, 302
Лимоэлан Жозеф-Пьер Пи ко (1768-1826) - 318, 319, 329, 332 Линуа Шарль-Александр Леон Дюран (1761-1848) - 393, 433-437, 439, 440, 688, 694 Ломбард Иоганн Вильгельм (1767-1812)- 807-812 Лорж Жан Тома Жульен (1767-1826)- ПО, 114, 115, 122
Лористон Жак Александр Ло де (1768-1828) - 319,498, 502,664 Луккезини Джилорамо (1751 —
1825) — 443, 651,664
Макдональд Этьен Жак Александр (1765—1840) — 259, 286, 287, 296-299, 302, 303, 306 Марескальки Фердинанд (1764-1816) - 547,549,551,552 Мария Луиза (1751 — 1819), королева Испании — 250, 251, 627
Мармон Огюст Фредерик Луи Виесс де (1774-1852) - 41,92, 132, 136, 174, 198, 299, 801 Массена Андрэ (1758—1817) — 12, 13, 86, 88, 89, 95-103, 121, 130-132, 778
Мелас Михаэль Фридрих Бенедикт (1729-1806) - 84,87, 93,95-97,99, 130, 133, 134,138, 143,145,147-151,154,155,157— 161, 163, 165-170, 172, 175, 176, 178-180,188,261 Мельци Франческо (1753—
1816) — 547, 549, 553,705 Мену Жак-Франсуа де (1750— 1810) - 198, 200, 204, 215, 232, 234,238,398,400-410,413-417, 420-427,429,430,433,443,455 Монришар Анри-Рене (1756— 1822) — 109, 115, 192 Монсей Жанно Бон Андриен (1754-1842) - 159, 302 Морков Аркадий Иванович (1747-1827) - 381,463,653,654, 656-658,664,674, 716, 751,791 Моро Жан Виктор Мари (1763-1813) - 12, 86, 87,89,90, 93-95, 103-124, 126-130, 165, 190, 193-197, 259-261, 272, 286-297,302,303,306,307,514— 516, 615, 616, 739, 846-848, 850-855, 858, 860-863, 865— 867, 869, 872
Мортье Эдуард-Адольф-Каз и мир Жозеф (1768—1835) — 754,793,795
Мурад-бей (1750—1801) — 201, 203, 205, 222, 227, 229, 397, 407, 416, 422, 588
Мюрат Иоахим (1767—1815) — 80, 160, 161, 163, 167, 198, 260, 276, 286, 303, 344, 345, 473, 488, 489, 502, 503, 551, 552, 846, 858, 879, 880
Невилль Жан Ги де (1776— 1857) - 19, 74
Ней Мишель (1769—1815) — 111, 117, 119, 123, 289, 291-293, 715,719, 724, 778, 804, 822 Нельсон Горацио (1758—1805) — 184, 261,355, 359, 360, 363-371, 435,455-458,616, 836 Новосильцов [Новосильцев] Николай Николаевич (1761 — 1836) - 379, 380, 790
Ожеро Пьер-Франсуа-Шарль (1757-1816) - 44, 90, 259, 286, 287, 296, 297, 303, 306, 513, 572, 573,815,818,819, 832 О’Рейли Андреас Балпинлоу фон (1742-1832) - 160,161,163,164, 168-170, 173, 176
Павел I (1754—1801), император Российской империи — 20, 67, 68, 245, 246, 355, 360, 361, 368, 373,376,443,444, 560,615 Паркер Хайд (младший) (1739-1807) - 359,363-368,456 Пельтье Жан-Габриэль (1765— 1825) — 625, 706, 707 Петье Опосг-Луи (1784—1858) — 549-552
Пий VII (1749-1823), папа римский - 186, 472, 473, 480, 481,487-489, 630,632
Питт-младший Уильям (1759—
1806) - 45, 62-64, 66, 67, 354, 356-359, 373, 374,447,448,450, 562,616,621,623-625,639, 705, 706, 732, 735-737, 739, 759, 837-839
Пишегрю Жан-Шарль (1761 — 1804) - 577, 847, 848, 851-856, 858,860-862,865,867-870,872, 873, 875
Полиньяк Огюст Жюль (1780— 1847) — 491,853,860,865,870,871 Порталис Жозеф Мари (1778— 1858) - 42, 323, 342, 499, 517, 524, 527, 567-569, 574, 586, 598 Пусьельг Жан Батист (1764— 1845) — 201, 202, 207,212
Рампон Антонии Гийом (1759— 1842) — 224,410,416,418,421 Рапп Жан (1771-1821) -715,723 Реаль Пьер Франсуа (1757— 1834) —24,41,612,856, 860,861, 873, 875, 880-882 Редерер Пьер Луи (1754—1835) — 9, 24, 31, 32, 41, 468, 586, 591, 598,613,725
Рединг Алоис Биберег фон (1765-1818) - 636-638, 708— 710,712, 724
Рейнгардт Шарль-Фредерик (1761-1837)-9, 10 Ренье Клод-Амбруаз (1746—
1814) - 218-220, 223, 224, 226, 227, 229, 237, 401, 402,409,410, 417,418,420,429,430, 569, 586, 595,612,856,863,866, 867 Реньо Сен-Жан д’Анжели де (1794-1870) - 24, 41, 569, 591,598
Ривьер Шарль-Франсуа (1763— 1828) - 853, 855, 860, 865, 869-871
Ришпанс Антуан (1770— 1802) — 111, 112, 116, 119, 120, 123,128,
191, 194, 195,289, 290, 292, 293, 773, 774
Роган-Рошфор Шарлотта Луиза (1767-1841) - 491,844,873 Рошамбо Жан-Батист Донасьен (1725-1807) - 690, 692, 695-697, 773-775
Савари Анн-Жан Мари-Рене (1774-1833)- 174,177,188,213-
215, 276, 351, 352, 393,456,498, 857, 865, 866, 868, 873, 879, 882 Себастиани де Ла Порта, Орас Франсуа Бастьен (1772—1851) — 700, 742-744, 749, 825 Сен-Жюльен Франц Ксавье Иоганн Непомук (1756— 1836) — 156,183,197,239-242,255,256,305 Сен-Режан Пьер Робино (1772— 1801) — 318,319, 328,329, 332 Сен-Сир Лоран Гувьон (1764— 1830)- 104-107, 111, 112, 116— 126,128,190,348,390,430,539,792 Сент-Оэн Ив Мари Габриэль де (1756-1820)-826-828 Сент-Сюзанн Жиль Жозеф (1760-1830) - 105-107, 124— 128, 190, 191,259, 290, 294 Сийес Эммануэяь-Жозеф (1748—
1836) — 6—11,17,24-34, 36-41, 53,55,189,272,510-512,530,547, 548,557,596,603,604,609, 615 Симеон Жозеф-Жером (1749— 1842) - 526, 595, 596 Сканзен Жозеф Матье (1750—
1837) — 798, 801
Смит Уильям Сидней (1764— 1840) - 205-209,211-213,215,
216, 235, 834, 836
Сомарес Джеймс (1757—1836) — 434-439
Спина Джузеппе Мария (1756— 1828) - 43, 254, 255, 268, 473-479,482,484,487
Спренгпортен Георг Магнус (1741-1819) - 245,246, 310, 343 Строганов Павел Александрович (1772-1817)-379, 380, 790 Сульт Никола Жан Дьё де (1769-1851)-97, 99, 100, 102, 131, 156, 803,804, 822 Сюше Луи-Габриэль (1770—
1826) - 97-99, 147, 157, 158, 178, 300, 301
Талейран-Перигор Шарль Морис де (1754—1838) — 9, 10, 24,31,32, 62,65, 181,189,240-243, 255, 256, 276, 277, 282, 327, 345, 377, 378,446, 454,462,463, 468,477,478,482,486, 507, 543, 544, 549, 551,552, 591,592,614, 624,714,717,719, 721,725,734, 740, 743,744,750,752,757-764, 791,792,810,816, 872, 873 Тибодо Антуан (1765—1854) — 330, 528, 586, 595 Тронше Франсуа-Дени (1726— 1806) — 342,499, 528,555,617 Трюге Лоран-Жан-Франс де (1752-1839)- 325, 326, 586 Тугут Иоанн-Амадей-Франц Паула де (1734-1818) - 65, 66, 159, 181,238,256, 261,262,616 Туссен-Лувертюр Франсуа-Доминик (1743—1803) — 536, 537,681-689,693-699,770-774
Уиндхем Вильям (1750—1810) — 450, 562, 706, 716, 732, 739, 743, 758, 834, 838, 839 Уркихо Мариано Луис (1768—
1817) — 346, 347
Фердинанд III (1769—1824), великий герцог Тосканский, курфюрст Зальцбурга — 184, 645,674,717
Фердинанд Карл (1754—1806), эрцгерцог Австрийский — 105, 108, 111, 116, 261,640, 652,662 Фокс Чарльз Джеймс (1749— 1806) — 356, 505,506, 706,731, 735, 739, 743, 757, 758 Фонтан Луи Марселей (1757— 1806) — 75, 78, 502, 703,768 Франц I (1768—1835), император Австрии — 80, 239 Фредерик VI (1768—1839), принц-регент Дании и Норвегии — 361,362, 366
Фриан Луи (1758-1829) - 218, 220,223, 226-229,403,409-416 Фридрих-Вильгельм III (1770— 1840), король Пруссии — 243, 372, 652, 657-659, 754, 795, 796, 807-810, 812 Фротте Луи де (1755—1800) — 70, 72, 73
Фуркруа Антуан Франсуа (1755-1809) -41, 587, 591, 614 Фуше Жозеф (1759-1820) - 9, 10, 189,272, 274-282,317,318, 320, 322, 327, 329, 331-333, 591, 593, 597, 612, 725, 852, 856, 861, 867, 872, 873, 875
Хаддик Карл Йозеф фон (1756— 1800)—146,168-170,173,176,177 Хоксбери Чарльз Дженкинсон (1727-1808) - 358,359,374,375, 383, 385, 386,447-449,459, 563, 707, 716, 719, 721, 731, 735-737, 739, 758, 762
Цах Антон фон (1747— 1826) — 174, 175, 178, 179
Чарторижский Адам Ежи (1770-1861)- 379, 794
Шабо д’Алье Жорж Антуан (1758-1819)-72, 595
Шамберлак Жан -Жак-Антон и де (1754-1826)- 140,164, 170, 174 Шампаньи Жан-Батист Нон-пер (1756-1834) -41, 619, 661, 717,788
Шатобриан Франсуа Рене де (1768-1848)-575 Шенье Мари-Жозеф (1764— 1811) — 41,49, 522, 523, 556, 575
Эльсниц Антон фон (1746— 1825) - 147, 152, 157
Юсуф Караманли (1766—1838), паша Триполи — 205, 209, 217, 219, 224
Содержание
Луи-Адольф Тьер
ИСТОРИЯ КОНСУЛЬСТВА И ИМПЕРИИ КОНСУЛЬСТВО
Редактор Анна Алавердян
Корректор Анна Танчарова
Верстка
Вероника Рямова Валерий Кечкин
Художественное оформление Игорь Сакуров Григорий Златогоров
Подготовка иллюстраций Тимофей Струков
Издатель Ирина Евг. Богат Свидетельство о регистрации 77 № 006722212 от 12.10.2004 121069, Москва, Столовый переулок, 4, офис 9 (рядом с Никитскими Воротами, отдельный вход в арке)
Тел.: (495) 697-12-35, 258-69-10. Факс: 691-12-17 Наш сайт: \у\у\у.гак11агоу.ги Е-таП: тГо@2акЬагоу.ги
Подписано в печать 29.10.2012. Формат 84x108 732. Бумага писчая. Уел. печ. л. 47,04.
Тираж 1500 экз. Заказ № 728.
Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного оригинал-макета в ОАО «ИПП «Уральский рабочий» 620990, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13. Ьир://\у\т.ига1рлп1.ги е-таП: Ьоок@ига1рпт.ги
ЛУИ-АДОЛЬФ
ЛУИ-АДОЛЬФТЬЕРЗАХАРОВ
й.
Ш;АГС_
И®®
Л г
V . " % . г
ЧЙ19ЙГ/ “
М-У
л;с;
У' X*
'^Гск.
у~ А^—> ^(/1-Л
"2
...Одно из величайших исторических сочинений Тьера, которое по множеству содержащихся в нем достоверных фактов, по исторической живописи, по мастерству изложения и важности своего предмета должно быть причислено к величайшим творениям нашего века.
/
Ту
Ф.А.Кони,
писатель,
драматург,
переводчик
у
Хг
АА/9 785815 911192
У
/
1
Республиканский календарь был введен во Франции в период Великой французской революции декретом Конвента от 5 октября 1793 года. Этот декрет отменял летоисчисление «от рождества Христова» и начало года с 1 января и вводил новое летоисчисление — со дня провозглашения во Франции республики — 22 сентября 1792 года. Республиканский календарь просуществовал до 1 января 1806 года, когда был отменен Наполеоном, который вернул григорианский календарь.
В своем труде Тьер использует республиканский календарь, когда пишет о финансах, статистике, официальных документах и т.п. — Здесь и далее — прим. ред. (если не указано иное).
(обратно)2
Фуше обвел вокруг пальца директоров Гойе и Мулена, а также сумел сохранить во время переворота спокойствие и порядок в Париже.
(обратно)3
Речь идет об отстранении Моро от руководства армией после отступления в битве при Адде в апреле 1799 года.
(обратно)4
В 1771 году в результате конфликта королевской власти с парламентом последний был распущен; новый получил название «парламента Мопу» — по имени инициатора и автора радикальной судебной реформы канцлера Рене Николя Мопу (1714—1792).
(обратно)5
Первый консул хотел дать законодателю Франции свидетельство народной признательности: он подарил ему имение в Кроне. Сийес был сильно обрадован, ибо, несмотря на неподкупную честность, чувствовал цену богатства. Кроме того, он был тронут возвышенной формой и деликатностью, с которой ему назначили эту народную награду. — Прим, автора.
(обратно)6
Ревностный легитимист и католик, Дюси отказался не только от звания сенатора, но и от ордена Почетного легиона, предложенного ему Наполеоном.
(обратно)7
Генерал Брюн особо отличился во время подавления роялистского восстания 13-го вандемьера.
(обратно)8
Речь идет о протестах по поводу размещения Трибуната во дворце Пале-Рояль как месте, менее достойном таких важных особ, чем Люксембургский или Бурбонский дворцы.
(обратно)9
Бенжамен Констан — философ и писатель, либерал, постоянный оппонент Наполеона, многолетний друг госпожи де Сталь.
(обратно)10
Префекту назначалось от двенадцати до двадцати четырех тысяч франков годового оклада, что по тогдашнему курсу составляло почти вдвое больше денег против нынешнего. — Прим, автора.
(обратно)11
Карл Людвиг Австрийский, герцог Тешенский (1771 — 1847) — знаменитый полководец.
(обратно)12
Солдаты, обслуживающие обозные фуры, носили форменную одежду серого цвета.
(обратно)13
Речь идет о заговоре Пишегрю — Кадудаля, к которому сочли причастным не только Моро, но и его друга Лагори, имевшего на него большое влияние.
(обратно)14
Заключив Эль-Аришский договор, Дезе отправился во Францию, но в дороге был неожиданно задержан англичанами: несмотря на то, что по условиям договора Дезе имел право проезда во Францию, его объявили военнопленным, а адмирал Кейт назначил ему унизительное содержание в размере одного франка в день.
(обратно)15
Здесь был заложен известный укрепленный четырехугольник австрийцев (Пескьера — Мантуя, Верона — Леньяно) и происходили частые битвы.
(обратно)16
Бонапарт велел воздать Дезе великолепные почести и позаботился о его военном семействе, взяв к себе двух его адъютантов, Раппа и Савари, которые, по смерти своего генерала, оставались без назначения. — Прим, автора.
(обратно)17
Первый консул намекает тут на Голландию, Швейцарию, Пьемонт, Папскую область, Тоскану и Неаполь, в которых Директория Разожгла революции. — Прим, автора.
(обратно)18
Жан-Батист Журдан — республиканец по политическим взглядам, участник Войны за независимость США, неоякобинец и член Совета пятисот, притом храбрый и талантливый военачальник. Был во времена 18-го брюмера противником Бонапарта и примкнул к нему позже.
(обратно)19
Фланкировка (воен.) — перестрелка между кавалеристами, построившимися в одну линию.
(обратно)20
Речь идет о поражении французов в сражении с австрийцами 13 августа 1704 года, в ходе войны за Испанское наследство.
(обратно)21
Гибралтар находился в состоянии осады и блокады с 1779-го по 1782 год и так и не был отвоеван Испанией у Великобритании.
(обратно)22
Этот странный способ сообщения полномочий подробно занесен в протокол переговоров, существующий и поныне. — Прим, автора.
(обратно)23
Речь идет о шестнадцатитомном труде «Курс занятий по обучению принца Пармского», в котором содержались обширные сведения по языкознанию, литературе, истории и философии.
(обратно)24
Бонапарт разделял общую слабость своих современников: желал оставить по себе хоть что-нибудь, напоминающее о колониальном величии Франции. Луизиана, превосходная провинция, которая прежде принадлежала Франции, во времена унижения была уступлена Людовиком XV Карлу III и теперь, в бессильных руках испанцев, подвергалась нападкам англичан и американцев. — Прим, автора.
(обратно)25
Сначала тело было принесено в Ботанический сад, потом вверено Александру Ленуару, человеку, благочестивая ревность которого, достойная уважения истории, сохранила Франции множество древних памятников, собранных им в музее монастыря Малых Августинцев. Там находился и прах Тюренна. — Прим, автора.
(обратно)26
Местное начальство иногда не позволяло священникам служить по воскресеньям, признавая как праздник лишь декадии. — Прим, автора.
(обратно)27
Этих якобинцев задержали в Опере 10 октября 1800 года с кинжалами при попытке заколоть Первого консула.
(обратно)28
Имеются в виду события Французской революции: «сентябрьские убийства» 1792 года и массовые аресты жирондистов 31 мая 1793 года.
(обратно)29
Речь идет о массовом убийстве заключенных в аббатстве Сен-Жермен 2 сентября 1792 года. Читайте об этих событиях подробнее в труде Ламартина «Французская революция» (скоро в «Захарове»).
(обратно)30
Это именно Брюи в марте 1799 года, с флотом из двадцати пяти кораблей, прорвав блокаду, прошел в Средиземное море, принял в Тулоне припасы и снабдил ими армию Массена, запертую в Генуе.
(обратно)31
Напомним, что по условиям договора, заключенного в марте 1801 года, Франция оккупировала Тарентский залив, где планировала создать базу для следующего египетского похода.
(обратно)32
О князе Чарторижском и Неофициальном комитете Александра I читайте в книге «Князь Адам Чарторижский. Воспоминания и письма», изданной в «Захарове» в 2010 году.
(обратно)33
Речь идет о бегстве штатгальтера Виллема V в Англию в 1795 году, сразу после начала Батавской революции.
(обратно)34
Во время битвы при Флерюсе, 26 июня 1794 года, с помощью первого в истории разведывательного аэростата «Отважный» генерал Журдан оперативно управлял французскими войсками и наголову разбил австрийцев.
(обратно)35
Брандер — корабль, нагруженный легкогорючими либо взрывчатыми веществами, используемый для поджога и уничтожения вражеских судов.
(обратно)36
В результате заключения торгового договора между Францией и Англией французская промышленность потерпела поражение в конкурентной борьбе с британцами и пошлины на товары из Англии были существенно снижены.
(обратно)37
Григорий VII, в миру Гильдебранд (1010/1025—1085) — папа римский с 1073-го по 1085 год. В его правление укрепилась слабая до того папская власть, он добился верховенства пап над светскими государями.
(обратно)38
Карла Великого короновали именно в соборе Святого Петра, 25 декабря 800 года.
(обратно)39
В ночь с 4-го на 5 августа 1789 года на заседании Учредительного собрания французское дворянство вынуждено было пожертвовать одними привилегиями ради сохранения других: признать равенство всех перед законом ради сохранения земли и земельных податей.
(обратно)40
Дестют де Траси принадлежал к «идеологам», философской школе, ставшей связующей нитью между философией XVIII века и позитивизмом.
(обратно)41
Жан Домат (1625—1696) — юрист и философ.
(обратно)42
Реми Потье (1727—1812) — французский богослов, каноник в Лане.
(обратно)43
Сборник оснований римского права, составленный по велению императора Юстиниана (533 год).
(обратно)44
В январе 1802 года Цизальпинская республика была переименована в Итальянскую.
(обратно)45
Второго августа 1714 года Людовик XIV составил завещание, в котором ограничил власть Филиппа II Орлеанского учреждением регентского совета. Но на следующий день после смерти короля парламент объявил завещание недействительным.
(обратно)46
Косвенный налог устанавливается в виде надбавки к цене, в отличие от прямого налога, определяемого доходом налогоплательщика.
(обратно)47
Этот налог взимался во Франции с 1798-го по 1926 год.
(обратно)48
Шарль Этьен Кокбер де Монбрэ (1755—1831) — чиновник по административно-финансовой части морского министерства, генеральный консул при ганзейских городах, агент флота и торговли, главный комиссар торговых связей Французской республики. Такой обширный опыт, несомненно, должен был пригодиться в решении столь непростых задач.
(обратно)49
Напомним, что Вильгельм V был женат на племяннице прусского короля Фридриха Великого.
(обратно)50
Две из дочерей принца Людовика Баденского: Елизавета Алексеевна (1779—1826), жена Александра I, и Фредерика Доротея (1781—1826), жена Густава IV Адольфа соответственно.
(обратно)51
Пётр Фридрих Людвиг Ольденбургский (1755—1829) был женат на Фридерике Вюртембергской, сестре императрицы Марии Федоровны.
(обратно)52
Римский месяц, или римский поход — денежный сбор, единица разнообразных имперских налогов.
2352
(обратно)53
Военная гавань в порту Шербурга была снесена и построена в западной части бухты. Проект закончили только при Наполеоне III.
(обратно)54
В 1386 году произошла битва швейцарцев с бургундским войском при Земпахе, а в 1476-м — битва при Муртене (Морате) с австрийцами. В обоих сражениях убедительную победу одержали швейцарцы.
(обратно)55
Провинция Франш-Конте граничит со Швейцарией.
(обратно)56
Луи-Жозеф де Бурбон-Конде (1736—1818) и его сын Луи-Анри-Жозеф (1756-1830).
(обратно)57
После битвы у Ноймаркта (1797 год) в одном из фургонов, отбитых у генерала Клинглина, нашли всю переписку Пишегрю с принцем Конде, о которой Моро не известил Директорию. «В деле столь важном молчанье есть сообщничество», — сказал по этому поводу Наполеон. А когда после 18-го фрюктидора Пишегрю отправили в ссылку, Моро дал против него показания. Тут Наполеон выразился следующим образом: «Не донося на Пишегрю ранее, Моро изменял отечеству, а делая это теперь, он только бьет лежачего».
(обратно)58
Генерал Шарль Франсуа Дюмурье в это время участвовал, по слухам, во множестве заговоров — международных и внутренних.
(обратно)59
Эта сцена подробно описана в «Мемуарах» госпожи Ремюза, которые вышли в «Захарове» в 2011 году.
(обратно)



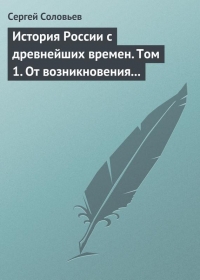
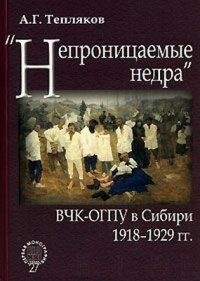
Комментарии к книге «История Консульства и Империи. Книга I. Консульство», Луи Адольф Тьер
Всего 0 комментариев